Лучано Паваротти Я, Лучано Паваротти, или Восхождение к славе
Предисловие
Когда все переговоры о создании этой книги практически завершились и нам с Лучано Паваротти оставалось лишь подписать контракт о сотрудничестве, он неожиданно изумил всех заявлением, что не хочет быть соавтором. Он готов принять самое активное участие в работе над книгой только как третье лицо, но автором книги должен значиться только я, Уильям Райт.
Такое решение повергло в немалое замешательство главного редактора и литературных агентов, которые целый год готовили наш контракт.
Моя первая реакция была вполне естественная, какую и следует ожидать от писателя, — никаких дуэтов, конечно, лучше соло. Но при более спокойном размышлении пришлось умерить свое тщеславие.
Поклонники Лучано Паваротти хотят познакомиться с ЕГО видением событий, составляющих неповторимый жизненный опыт, узнать его взгляд на них, изложенный им самим, а не другим человеком.
Думаю, они правы. И в самом деле, автобиографии великих людей обычно отличаются такой убедительностью, какой не обладают даже самые скрупулезные и дотошные исследования специалистов. Помимо всего, Паваротти предлагал выпустить книгу, вовсе не похожую на ту, какую хотели получить издатели.
Всеобщая растерянность вылилась в дружный хор: «Но почему?»
— Так вот, — задумчиво проговорил Паваротти, — я считаю, что в биографии должны быть отражены не только положительные, но и отрицательные эпизоды моей жизни.
В этом весьма примечательном ответе весь Лучано Паваротти. Он скромен, склонен к самокритике и нечасто доволен собой. Но, в то же время, он гордится своими успехами и благодарен судьбе за то, что она одарила его столь редким талантом. Поэтому при всей своей чрезмерной скромности он не хотел бы впасть и в другую крайность — свести на нет все положительное и слишком выпятить негативные моменты.
Паваротти знает, чего хочет, и в то же время понимает, что некоторые особенности его характера могли бы помочь ему победить в споре с издателями.
Однако, едва заметив растерянность, вызванную его предложением, он сразу же согласился оставить все так, как условились поначалу. И эта книга с ее личностной основой, дополненной другими голосами, — компромисс, к которому мы пришли. Тогда же я заверил певца, что как соавтор не позволю ему вынести на обозрение публики чересчур самокритичный автопортрет.
После года совместной работы берусь со всей определенностью утверждать, что только «негативная» книга и в самом деле получилась бы совсем тоненькой.
В подробном изложении событий его жизни положительные моменты определенно превалируют. Начав с весьма незаметных первых шагов, Паваротти пришел к тому, что стал одним из величайших певцов века.
Он упорно трудился в течение многих лет, совершенствуя свой вокал, и еще больше приложил усилий для карьерного роста. Достиг вершины в профессии певца, заслужив любовь и уважение коллег и огромнейшего числа поклонников во всем мире. Он стал лучшим в своем искусстве, где требования особенно велики и своеобразны, хотя и сохранил другие, отнюдь не музыкальные увлечения, такие, например, как живопись, теннис, автомобили, кулинария. И наконец, он — глава большой и очень дружной семьи, и одно из его самых сильных желаний — упрочить ее.
Так где же тут хоть какие-то отрицательные моменты? Для соавтора, который ни на минуту не забывает о коммерческом успехе книги, эта нескончаемая череда всего самого лучшего создает другую, противоположную, проблему: вдруг обнаруживается, что слишком мало в его жизни чего-то «отрицательного». А возможно ли написать интересно и увлекательно о сорока годах одних только побед? Как говорят в Беверли-Хиллз[1], «где же тут драматургия?».
Неповторимая улыбка Лучано Паваротти
Конечно, Паваротти тоже досталась неизбежная доля неприятностей. Но очень скоро я понял: трудные времена — не самое главное, что может вызывать интерес в жизнеописании, когда его героем и, в то же время, гидом, ведущим по счастью, оказывается умный, твердо стоящий на земле человек, который не только погружает нас в атмосферу оперного театра, но и немало помогает нам своим жизненным опытом, приобретенным от рождения по сей день.
И то, что мой герой-ведущий — один из самых великих теноров века, лишь вызывает еще большее уважение к нему, его душевному миру, остроте ума и восприимчивости и, самое главное, — позволяет лучше понять, с какой необыкновенной ясностью он видит собственное, столь сокровенное искусство и понимает, насколько уникально его положение в нем.
Излишнее подчеркивание негативных моментов — не единственное опасение Паваротти. Певец не хотел допускать и другого — чтобы его биография, подобно жизнеописаниям многих коллег, превратилась в реестр сценических триумфов. Как он сам говорил мне, подобное встречается настолько часто, что можно подумать, будто эти великие певцы, фиксируя каждый свой успех на бумаге, надеются обессмертить все полученные ими овации. Это было бы, заметил Паваротти, все равно, что просить читателей слышать одни только аплодисменты без самого исполнения.
С другой стороны, в жизни певца происходило очень много интересного, о чем можно вспомнить, не тратя времени на описание восторгов публики и пересказы восхвалений критиков по всему миру.
Вот почему мы пришли к единодушному мнению, что в книге необходим наиболее полный рассказ о личной и артистической судьбе певца, дабы порадовать самых пылких его поклонников, и, в то же время, должно быть уделено внимание и многим другим, чисто творческим вопросам, таким, например, как феномен тенора, размышлениям о пении, о жизни современной оперы, ее представителях, об искусственном «создании» крупных талантов, характерном для второй половины двадцатого века.
Но более всего, как я убедился вскоре, книга должна представить читателям живой образ певца — необыкновенную личность Лучано Паваротти. Разумеется, такую задачу ставит перед собой автор любой биографии, но, когда речь идет о Паваротти, я убежден, ключ ко всему повествованию — в еще большей мере даже, чем фантастический голос, — это личность певца.
Наблюдая великих певцов нашего времени, небезынтересно отметить, что многих обладателей великолепных голосов широкая публика, хоть и любящая оперу и всегда жаждущая встречи с гигантами и героями, не слишком жаловала. Так Кирстен Флагштадт, Аурелиано Пертиле, Лауриц Мельхиор, Зинка Миланова, Элен Траубле — и это лишь некоторые имена, — несомненно, вокальные феномены первой величины, все же не нашли у широкой публики достаточного признания.
Это, разумеется, больше говорит о публике, чем о таланте названных певцов, хотя, я уверен, кое-что сообщает и о них, особенно, если сравнивать их с теми, чья известность вышла за пределы оперного круга и получила признание миллионов людей, не являющихся страстными любителями оперы. К этой категории принадлежат Энрико Карузо, Джон Маккормик, Марион Андерсон, Мария Каллас и… как никто из них — Лучано Паваротти.
Очевидный факт, что некоторые великие певцы не пользовались особой любовью широкой публики, наводит на мысль, что сам по себе исключительный голос имеет успех только у знатоков и любителей оперы.
В то же время всемирная известность других выдающихся исполнителей свидетельствует о том, что публика — даже та, что предпочитает слушать Боба Дилана и Джейн Джолейн, — отнюдь не глуха и к голосам бельканто, она лишь нуждается в чем-то еще.
Я убежден, это «что-то еще» и есть достойная восхищения, легко узнаваемая личность исполнителя. Мало того, подозреваю, что чем более могуч талант великого певца, тем чаще часть слушателей жаждет получить от него нечто большее, чем то, что вложил в свой художественный замысел композитор.
Иными словами, если безупречный, не лишенный обаяния голос трогает далеко не всех слушателей, то, очевидно, существует некое волшебство, благодаря которому возникает настоящий контакт между великими, яркой индивидуальности певцами и самой широкой публикой. Именно он, этот контакт, и рождает восторг перед таким почти сверхчеловеческим чудом, как редкостный вокальный дар.
Это наиболее глубокий уровень общения, возникающий в самом сердце великого вокального искусства.
В книге «Великие певцы» Анри Плезан пишет об Энрико Карузо:
«Его секрет заключается не только в голосе и не в том необыкновенном, возможно, интуитивном чувстве формы, с каким певец моделирует каждую фразу, исполняя любой романс и арию, а скорее в том, что у Энрико Карузо изумительный голос соединяется с замечательной натурой».
Возможно ли, чтобы широкая публика гораздо лучше знатоков и любителей оперы улавливала то, что является самой сутью великого искусства?
Одна из тайн вокального искусства состоит в его, так сказать, «независимости». Талант певца не нуждается ни в клавиатуре, ни в струнах, ни в полотне, ни в глыбах мрамора. Певец может без какого-либо антуража стоять на вершине горы и дарить миру подлинную красоту, нечто прекрасное, что созидает культуру и творит историю.
Подобно супермену, умеющему без каких-либо приспособлений летать в фантастических фильмах, певцу не нужна никакая экипировка, никакая особая обстановка: всякий раз, когда
у него возникает необходимость или желание петь, голос и вокальный талант в полном его распоряжении.
Но и эта своеобразная особенность, похоже, лишь усиливает у слушателей потребность видеть в человеке, обладающем ею, яркую, завораживающую личность. Встретившись со столь редким и выразительным даром, слушатель становится более восприимчивым не только к тому, что несет ему исполнитель — к музыкальному произведению, — но и к самому певцу, творящему эту музыку.
Понимая, как важно для певца быть личностью, надо ли удивляться, что многие современные великие голоса столь редко обладают яркой, неповторимой индивидуальностью — не в пример тому, как бывало прежде.
В истории оперы сколько угодно личностей — от «темпераментного» Энрико Карузо (до боли сжимавшего ладонь сопрано во время дуэта) и остроумного Лео Слезака («Когда уходит вдаль последний лебедь?») до экстравагантного Луиджи Равелли, который мог отменить спектакль, если его собака Ниагара рычала в то время, когда он пел вокализы перед выходом на сцену.
Современные оперные певцы в основной своей массе — профессионалы, работающие много и упорно, не позволяющие себе капризов и причуд. Даже звезды вокала ведут себя теперь уже не столь развязно и вызывающе, как некоторые их коллеги, сияющие в других сферах искусства, где по достижении ими астрономических высот приходится вводить самую суровую дисциплину.
Для успешной карьеры и решения экономических проблем великому певцу требуется помощь немалого числа сотрудников. Это театральные агенты, импресарио, критики, вокальные педагоги, секретари, отоларингологи, другие врачи, астрологи. Одних только трудностей, связанных с финансированием и организацией их работы, уже достаточно, чтобы лишить радости даже самого жизнестойкого и энергичного человека.
Немаловажно, что у современных певцов в отличие от вокалистов былых времен есть возможность благодаря самолетам в кратчайшие сроки перелетать с одного конца Земли на другой. Великие певцы прошлого обычно довольно продолжительное время — несколько недель или месяцев — выступали в одном оперном театре, а затем обязательно отправлялись куда-нибудь отдохнуть, прежде чем начать столь же длительные гастроли на новой, не менее значимой престижной сцене.
Сегодня же, едва спев один спектакль, тенор или сопрано с мировой славой вскакивают в машину, ожидающую у театра, и мчатся в аэропорт, на ходу подписывая контракты с еще несколькими импресарио на одно-два представления, нередко даже не запоминая, в каком именно городе, где тоже будет очень мало времени на репетиции перед выходом на сцену.
Возможно, дело вовсе не в том, что современным певцам недостает сил, просто они слишком часто подвержены стрессам.
Даже те из них, кто отличается живым характером, нередко стараются скрыть это качество, как бы опасаясь принизить свое артистическое достоинство.
И действительно, интервью с этими звездами вокала обычно походят скорее на отвлеченные диалоги с неким абстрактным Духом искусства, нежели на разговор с живыми, реальными людьми, имеющими такой же аппетит и те же неприятности, что и простые смертные.
В контрасте с этими августейшими персонами жизнерадостность и непосредственность Паваротти подобна порыву веселого и достаточно сильного ветра, который и позволяет ему вырваться за пределы оперного театра и объять весь мир.
Каждый, кто беседовал с ним, не мог не заметить, что Паваротти — необыкновенно яркая личность, обладающая неповторимой индивидуальностью. А именно это и означает «соединять изумительный голос с замечательной натурой».
Так стоит ли беспокоиться о равновесии положительных и отрицательных моментов в нашей книге? Проблема совсем не в этом. И не в том, чтобы подробно рассказать, как складывалась его фантастическая карьера, — это получится само собой.
Нет, прежде всего, мы хотим раскрыть именно необыкновенную личность певца, которая неотделима от его искусства — именно она дарит радость нашему времени, точно так же как голос певца делает его прекраснее.
Рассказать о сорока четырех годах жизни человека — это всегда нелегкая задача, а когда имеешь дело с Лучано Паваротти, трудностей становится еще больше.
Он достиг вершины славы, сделав одну из самых необыкновенных за всю историю нашего столетия карьер, причем, пожалуй, в самой сложной сфере человеческой деятельности.
Лучано по натуре человек, который очень бурно и активно проживает каждое мгновение жизни. Поэтому и все, что не имеет прямого отношения к его профессии, тоже совершенно необходимо ему, особенно когда нужно принимать сложные решения, касающиеся будущего.
Как соавтор певца в работе над этой книгой, я очень скоро понял, что бесед только с ним недостаточно. Поэтому, чтобы поменьше терзать его память, я старался встретиться со многими людьми, которые играли более или менее важную роль в его жизни. Я разговаривал с его близкими, друзьями, коллегами и весьма быстро обнаружил, как много любви и уважения сумел завоевать Паваротти за годы своей карьеры.
Примечательно — и это еще одна дань ему как человеку, — что люди, столь близкие певцу, без колебаний сочетали некоторую критику или сетования с признанием в любви. Артисты с такой славой, как у Паваротти, рискуют оказаться в окружении льстецов либо клеветников. К счастью для книги и для Паваротти, это не тот случай.
Первая, кого в числе многих я должен благодарить, это его необыкновенная супруга Адуа, выполнявшая роль семейного архивариуса, которую я подверг поистине тяжкому испытанию и которая неизменно с усердием отвечала на все мои просьбы.
Горячо благодарю также родителей певца Аделе и Фернандо Паваротти, его сестру Габриеллу и трех его дочерей — Лоренцу, Кристину и Джулиану. Все они превзошли известное своей теплотой итальянское гостеприимство, приняв вторгшегося в их дом незнакомца и проявив бесконечное терпение к его ужасному итальянскому языку.
В завершение перечислю всех, кого хочу поблагодарить за помощь в работе над этой книгой. Хотя степень их участия весьма различна, все они выражали одинаковый восторг объектом разговора и такую горячую готовность помочь, о какой биограф может только мечтать.
Назову их имена: Эдвин Бахер, Катрин Байер, Марияроза Беттелли, Умберто Боери, Ричард Бонинг, Боон, Стенли А. Боукер, Герберт Бреслин, Кирк Броунинг, Марио и Соня Буццолини, Антонио Кальярини, Боб и Джон Кахен, Моран Капла, Чезаре Кастеллани, Микеле Честоне, Джордж Кристи, Роберт Конноли, Джон Копленд, Джулия Корнуэлл-Ли, Вильям и Эйлисон де Фриз, Артуро Ди Филиппи, Джильдо Ди Нунцио, Мак де Шонси, Джузеппе Ди Стефано, Джуди Дракер, Мирелла Френи, Джон Гоберман, Кетлин Харгрейве, Роберт Герман, Мирли Хьюбард, Джон Хард, Джоан Ингпен, Роберт Якобсон, Натан Кроль, Ричард Маникелло, Стефен Маркус, Вальтер Палевода, Арриго Пола, Джудит Раскин, Мадлен Рене, покойный Френсис Робинсон, Ричард Роллефсон, Сусанна Стивенс, Алан Стоун, Сусанна Сусман, Джоан Сазерленд, Аннамария Верде, Петер Вейнберг, Джон Хьюстман.
Уильям Райт
Популярность Паваротти вышла за пределы оперного круга — среди миллионов его поклонников далеко не одни страстные любители оперы.
Лучано Паваротти
Детство в Модене
Детство мое помню очень счастливым. Наша семья отнюдь не отличалась богатством, но я и представить себе не мог, что можно быть богаче. Жили мы в большом здании на окраине Модены, где насчитывалось тогда примерно сто десять тысяч жителей. Из окон нашего дома виднелись только поля и лес — великолепное место для раздолья ребенку. В доме жило еще шестнадцать семей. И все — друзья или родственники.
Наша квартира находилась на втором этаже и состояла всего из двух комнат для папы с мамой и меня. Сестра Габриелла родилась, когда мне исполнилось уже пять лет. С тех пор мне ставили на ночь раскладную кровать на кухне, утром убирали ее и вечером опять раскладывали. Если б я мог отыскать сейчас эту раскладушку, заплатил бы за нее на вес золота. Сколько воспоминаний она вернула бы мне!
В двух квартирах нашего дома — в одиннадцатой и тринадцатой — вместе с нами жили еще две мои тетушки и бабушка по материнской линии, так что я находился в окружении обожавших меня родственников.
В том далеком детстве, куда добирается моя память, я неизменно вижу себя объектом любви и бесконечного внимания. Среди всех, кто любил меня, главная фигура, конечно, бабушка Джулия. Чудесная женщина, и я тоже обожал ее. Бабушка потеряла дочь Лючию, сестру моей матери, вскоре после моего рождения. Меня назвали Лучано в память об умершей тетушке, и, думаю, именно тем, что я появился на свет как раз тогда, когда дочь бабушки покинула этот мир, и объясняется ее особая любовь ко мне.
Бабушку помню волевой женщиной, которую все очень уважали и любили и к мнению которой весьма прислушивались. А мужа ее, дедушку, помню милейшим человеком, который, пожалуй, чересчур любил развлечения.
За бабушкой Джулией всегда оставалось решающее слово почти во всех семейных делах. Я слыл ее любимцем, а она — самым главным человеком в моей жизни.
Возможно, из-за ее волевого характера так вышло бы и при любых других обстоятельствах, но в ту пору моя мать работала, а присматривала за мной именно бабушка Джулия. Она редко сердилась на меня, почти никогда не заставляла и уж тем более не запрещала что-либо делать. Она всегда обращалась со мной как с маленькой зверюшкой, с дорогой зверюшкой, наделенной душой.
Бабушка не училась в школе, но отличалась недюжинным умом и склонностью к философствованию. Типичная мамаша семейства: дом, дети и внуки составляли всю ее жизнь. Однако она нисколько не беспокоилась из-за того, что вытворял ее муж — а вытворял он ой-ой-ой! — но даже если бы и беспокоилась, все равно ничего не изменилось бы. Она никогда не упрашивала его остаться вечером дома. Он был, полагаю, большим донжуаном.
Феминистки сочли бы ее глупой. Но она сохраняла свою семью и была по-своему счастлива — гораздо счастливее, думаю я, многих свободных женщин. С бабушкой я чувствовал себя словно в раю. Она понимала меня и всегда защищала.
Словом, не только бабушка, но родители и тетушки тоже сделали мое детство таким счастливым.
Когда я появился на свет — 12 октября 1935 года, — то стал первым мальчиком, родившимся в этом доме за последние десять лет. Одно это уже превращало меня в маленького кумира. В округе подрастало еще около сотни ребятишек, но среди них я оказался самым маленьким ребенком, к тому же, еще и мальчиком. Все занимались мною, становясь на мою сторону всякий раз, когда возникала какая-нибудь размолвка. И позволяли мне делать все что угодно.
Думаю, именно потому, что все любили меня и без конца захваливали, я и вырос таким открытым, общительным человеком. Разумеется, в подобной обстановке я просто не мог расти робким и замкнутым. Мне нравилось вызывать у людей расположение, и я всячески старался сохранить доброжелательное отношение к себе.
Еще совсем малюткой я любил шутить, придумывать разные веселые сюрпризы или что-нибудь еще, чтобы оживить обстановку. Думаю, это нравилось многим в нашем доме, потому что соседи неизменно зазывали меня к себе за стол.
Мои родители даже жаловались иногда: «Вот уже четыре дня как Лучано не ужинает с нами, надо же ему, наконец, поесть и у себя дома!»
Мать долгие часы проводила на работе — на табачной фабрике, поэтому иногда становилось даже неловко оттого, что о моем питании заботились другие. Но и в те дни, когда мама оставалась дома, бабушка часто звала меня, вынуждая отказываться от приглашений соседей. Как сейчас слышу громкий зов на лестнице: «Лучано, иди к нам обедать!»
Моя мать всегда очень любила музыку. Она до сих пор воспринимает ее с необычайным волнением и по этой причине никогда не приходит в театр послушать меня. Опасается, что расплачется, услышав мой голос со сцены, и не выдержит такого волнения — от меня и от музыки.
Мама любит рассказывать, что, когда я родился и меня положили возле нее на кровать, врач воскликнул: «Мамма миа, какие верха!» Матери всегда припоминают подобного рода истории, если жизнь вынуждает их становиться прорицательницами. Мама говорит также, что голос я взял от отца, а чувство — от нее.
Моего отца зовут Фернандо. Он всю жизнь проработал пекарем. Я никогда не задумывался, богатая наша семья или бедная. Во всем необходимом у нас никогда не ощущалось недостатка. Конечно, я припоминаю, что радиоприемник мы купили спустя много времени после того, как он звучал уже у всех соседей, и у нас никто никогда даже не мечтал об автомобиле. Отцовский мотоцикл всегда служил нам семейным транспортом. Но я нисколько не думал о том, чего у нас недоставало, впрочем, как не забочусь об этом и сегодня. А вокруг вижу немало людей, которые портят себе кровь подобными заботами.
О будущем я и не задумывался. Какой ребенок размышляет о нем? Я жил себе день за днем и считал, что жизнь моя великолепна.
Самое главное, самое яркое мое воспоминание о детстве — это игры. Я постоянно играл. Ни один ребенок, думается мне, никогда не играл так много и с таким увлечением, как я.
Вокруг необыкновенный простор и столько приятелей! Каждую минуту, свободную от занятий в школе, мы проводили на воздухе в самых разных развлечениях, но чаще всего играли в… футбол. Я с ума сходил — да и сейчас схожу — по спорту.
Родители предоставляли мне полную свободу. Я мог, например, целый день гонять мяч, а вечером, когда они, садясь ужинать, звали меня из окна: «Луча-а-но!», я кричал им: «Иду, иду! Начинайте без меня!» Потом взлетал по лестнице в столовую, в один миг расправлялся с едой и снова уносился играть.
Не припомню каких-либо особо близких приятелей, не знал я и той великой детской дружбы, когда друзья готовы умереть друг за друга. В очень большой компании обычно все становятся товарищами, и они же — потенциальные враги. Я умел завоевывать расположение сверстников, но в то же время мог и сдачу дать.
Когда ты самый младший среди ребят постарше, нужно всегда быть готовым защищаться, и не только крепкими выражениями, но и кулаками. Никогда ведь не знаешь, от кого и когда ждать подножку. Всегда нужно быть начеку.
В том возрасте мы часто ссорились. Как самый младший, я немного побаивался «больших» ребят, но знал также, как вести себя с ними, чтобы не нарваться на неприятности.
С жильцами нашего дома я немного хитрил. Они старались держать меня подальше от своих «взрослых» дел, но у меня же имелись глаза и уши, поэтому я всегда прекрасно знал, что происходит в доме. Знал, какая девушка с кем гуляет. Какая-нибудь влюбленная парочка, к примеру, нисколько не стеснялась меня, полагая, будто я ничего не смыслю, но я-то все понимал, да еще как!
Правда, порой мне доводилось слышать нечто такое, чего я и в самом деле не разумел. Помню, мне исполнилось лет пять, когда я услышал, как кто-то произнес слово «аборт». По тому, как это прозвучало, я понял, что речь идет о чем-то важном, очень-очень взрослом. И умирал от желания узнать, что же это означает, но в таком небольшом сообществе, как наше, следовало вести себя очень осторожно. Я не знал, у кого спросить. А ошибись я, обратившись к кому-нибудь необдуманно, так ведь тот мог и закричать на весь дом: «Эй, послушайте! Этот дурак Паваротти не знает, что такое аборт!»
Любое событие становилось достоянием гласности буквально через три секунды. Наконец, в двенадцать лет я нашел это слово в словаре. Но еще очень долго ломал над ним голову, не отваживаясь спросить объяснений.
Мир, в котором я жил, оставался очень ограниченным в размерах. Главная проезжая дорога находилась недалеко — за несколькими зданиями, но мы редко ходили туда. Там собиралось много телег, лошадей и каких-то странных типов. В то время с незнакомыми людьми я держался застенчиво, может быть, поэтому мне и жилось так хорошо в моем маленьком мирке радиусом в пятьсот метров от дома.
С тех пор как помню себя, меня обуревала идея построить собственный аэроплан. Один наш сосед, работавший на фабрике, где изготовляли какие-то детали для самолетов, пообещал принести все необходимое для того, чтобы собрать дома летательную машину, настоящий самолет, который мог бы подниматься в воздух. Лет до восьми или десяти я не переставал верить его обещаниям и очень терпеливо корпел над проектом. Не знаю, куда я собирался лететь, но мечтал.
Сейчас, если бы кто-то предложил моим дочерям построить дома аэроплан, они и в пятилетием возрасте рассмеялись бы этому человеку в лицо, так как отлично знают, что сделать такое невозможно. Но я отставал на целое поколение. Не то чтобы был глупее, просто наивнее и доверчивее. Думаю, я и до сих пор такой же.
Еще нам очень нравилось в детстве ловить лягушек и ящериц. Мы целые дни проводили в небольшой рощице неподалеку от дома. В Италии лягушки не поют, как в Америке. И это очень странно, потому что в Италии вообще все поет.
Мне исполнилось всего лет пять или шесть, когда я обнаружил у себя голос. Это оказалось довольно красивое контральто, но самое обычное, не более того. Меня не считали чудо-ребенком, но мне нравилось петь.
У отца моего изумительный тенор — голос его до сих пор еще необыкновенно красив, — и папа даже одно время подумывал о профессиональной сцене. Но вскоре отказался, опасаясь прежде всего, что у него не хватит для этого нервов. И сейчас еще, когда его приглашают петь соло в церкви, он начинает невероятно волноваться за целую неделю до этого события.
Вокальная музыка оставалась для него самым святым в жизни. Он приносил домой пластинки с записями всех великих теноров своего времени — Джильи, Мартинелли, Скипы, Карузо — и крутил диски до тех пор, пока они не приходили в негодность. Постоянно слушая эти великие голоса, я, конечно же, не мог не подражать им. Выходит, мне почти что пришлось стать тенором.
Я уходил в свою комнату, закрывал дверь и пел «Сердце красавиц…» во всю мощь своих легких — естественно, белым голосом. Из четырнадцати квартир — а всего их в доме шестнадцать — незамедлительно раздавалось: «Хватит! Замолчи!»
Это, конечно, странно, потому что, когда я был совсем маленьким — лет пяти — и выходил со своей игрушечной мандолиной к небольшому фонтану во дворе, садился возле него на скамеечку и пел жильцам серенады, никто не возражал. Они ценили мои короткие концерты — может быть, тогда я не так вопил — и бросали мне из окон карамельки или орехи. Так что же, значит, в пять лет я уже оказался профессионалом?
А вот когда через несколько лет я начал исполнять арии из опер, все вокруг дружно восстали. Вообще-то говоря, не так уж и все. Один человек сказал мне, что я стану певцом. Он не сомневается в этом, пояснил сосед, потому что у меня правильное дыхание.
В Модене все жители — знатоки бельканто, абсолютно все, мой отец, мой дед, мой парикмахер. У каждого свое совершенно четкое представление о вокальной технике. По крайней мере, один из соседей по дому услышал в моем детском голосе задатки для оперного пения.
Так или иначе, но тогда, в те далекие годы, мысль серьезно заняться пением мне еще не приходила в голову. Семья, друзья, спорт слишком заполняли мою жизнь, чтобы у меня появилась необходимость думать о будущем. А кошмар войны не сразу проник в этот мой идиллический мир.
Конечно, Вторая мировая война стала самым главным жизненным опытом в моем детстве, но на первых порах я даже не сразу и заметил, что она началась. Я был слишком мал, и до наших краев долетали лишь отголоски сражений.
Первое страшное впечатление я получил от боевых действий, когда на нас посыпались бомбы — вот это оказалось ужасно. В Модене находились металлургические и металлообрабатывающие заводы, и наш город оказался важным военным объектом.
Бомбардировки стали такими частыми, что нам пришлось покинуть родные места. Однако я хорошо помню первый налет. За час до него несколько самолетов сбросили дымовые шашки. Они послужили сигналом к тому, что вскоре разверзнется ад. У жителей оставалось шестьдесят минут, чтобы покинуть дома. Конечно, я безумно перепугался. Во второй налет нас и не подумали предупредить. Гул самолетов и разрывы бомб мы услышали почти одновременно.
Когда бомбардировки стали регулярными, отец решил, что нужно уехать из города, и мы сняли комнату у одного крестьянина поблизости от Карпи. Точнее, неподалеку от селения Гаргалло. Это произошло в 1943 году, когда мне исполнилось восемь лет.
С мамой и сестрой Габриеллой
Настоящая война шла далеко, на юге страны, а в наших краях действовало много партизанских отрядов, которые по ночам вели подпольную борьбу с немцами и итальянскими фашистами. Каждый вечер я засыпал под звуки автоматных очередей. Тра-та-та-та. И моим хорошим чувством ритма я обязан именно этим автоматным очередям, которые в детстве сверлили мне голову.
Война породила не только опасность, она принесла катастрофу почти всем итальянцам. Недоставало продуктов, и цены на них выросли неимоверно. Тут нам повезло больше, чем другим семьям, потому что отец мой — пекарь. Ему всегда удавалось принести что-нибудь домой, так что мы никогда не страдали от голода.
У нас имелись хлеб и соль, два самых важных продукта. Соли ужасно не хватало. Ее обменивали на все, что угодно. За полкило соли давали литр оливкового масла или два килограмма сахара. Посчастливилось нам и в том, что отца из-за его ремесла не призвали в армию.
А дедушка мой работал в Военной академии, и это тоже оказалось большим преимуществом, потому что он приносил домой то, что не съедали солдаты. Но самое главное, мой отец выпекал хлеб и для немцев, не только для местного населения. Нацистам требовался пекарь, они ценили его, и поэтому мы чувствовали себя в несколько меньшей опасности, чем остальные жители, не приносившие им никакой пользы.
Тем не менее, однажды вечером не помог и этот крохотный запас прочности. Немецкий патруль задержал отца, когда тот возвращался на велосипеде с работы. Поскольку в документах значилось, что он пекарь, его всегда пропускали беспрепятственно, однако на этот раз почему-то не поверили записи и отправили в тюрьму.
Ожидая отца, моя мать едва не умерла от волнения. Да мы все просто чуть с ума не сошли от тревоги. Вскоре кто-то сообщил нам, что немцы упрятали отца в камеру. После налета партизан нацисты собирались учинить расправу. Можете себе представить наш ужас!
Незадолго до этого мой дед приютил у себя одного беженца с юга, которого знал еще с Первой мировой войны. Обосновавшись неподалеку от Модены, тот сделался важной фигурой фашистской партии в нашем крае. Этот человек сохранил признательность моему деду.
Прежде чем начинать расправу, немцы всегда предоставляли последнее слово местным фашистам, тем, кто лучше знал политические пристрастия задержанных.
И тогда важный чин, знавший моего деда, тоже получил право решать судьбу пленных. Едва завидев среди заключенных моего отца, этот человек сразу же освободил его. Все произошло на другой день после ареста, но та ночь стала для нашей семьи самой жуткой за всю войну.
В те военные годы я получил, как ни странно, и позитивный опыт. Хоть я и был совсем маленьким, меня посылали работать на поле крестьянина, у которого наша семья нашла приют. Как мне это нравилось! Такой привольный, такой здоровый труд! В десять лет я очень пристрастился к работе на земле! Я не мог себе представить, что можно заниматься в жизни чем-то другим.
Да и в Модене, мы ведь жили, хоть и в городской квартире, все же на окраине, поблизости от деревенских домов, так что я рос среди людей, занимавшихся земледелием. С той поры у меня уже появилась склонность к нему. И возможность работать на земле как раз в том возрасте, когда впечатления особенно сильны, оказалась исключительно важна для меня.
Мои моденские друзья рассеялись по свету. Я не представлял, куда они подевались. Но у «нашего» крестьянина росло четверо детей, а в соседнем деревенском доме еще четверо мальчиков и две девочки. Тогда я легко завязывал дружбу со всеми. Думаю, что на всю жизнь сохранил это свойство характера.
Другая сторона сельской жизни, которая невероятно нравилась мне, это общение с животными. В девять лет я видел, как все они спариваются — быки, петухи, кабаны, кролики, кони… Я мог бы описать брачный ритуал каждого из домашних животных. Ребенку все это представляется просто очаровательным.
Сейчас детям многое объясняют о сексе, еще в детском саду, так что в мои девять лет, пожалуй, было бы уже поздновато приобретать первые сведения в подобной области. Вполне возможно, что мое половое воспитание оказалось несколько запоздалым, зато оно, несомненно, прошло вполне естественно и без всяких нравоучений.
Думаю, деревенская жизнь, к тому же, в возрасте, особенно важном для развития ребенка, определенно повлияла на мой характер.
Бесспорно, я очень привязан к земле. Как бы мне ни удавалось раскрыть характеры вердиевских героев или удачно исполнить полутоновые гаммы Россини, сколько бы ни встречался я с самыми образованными и интересными людьми во всех концах света, «деревенская» основа неотделима от меня. Это главное, что привязывает меня к жизни, это основа, которая не имеет ничего общего со всеми «напластованиями» цивилизации. Конечно, я надеюсь, что меня можно назвать человеком цивилизованным, но я ни в коей мере не хочу утрачивать приобретенное во время войны в Карпи.
Недавно я купил и привел в порядок большой дом на окраине Модены на участке в пять акров — это хорошая, обработанная земля. И предвкушаю то время, когда смогу трудиться на ней. В более или менее отдаленном будущем, когда не придется чересчур заботиться о верхнем «до» или когда вообще уже не смогу взять его, утешу себя тем, что люблю больше всего, — буду трудиться на земле.
Время, когда мы жили в деревне, прошло удивительно спокойно, лишь по ночам ни у кого из нас не возникало сомнения, что вокруг бушует война. И не только потому, что в темноте постоянно звучали автоматные очереди.
К нам в дом часто приходили за продуктами и лекарствами партизаны. Мы помогали им, и они тотчас исчезали в ночи, а поутру являлись немцы и спрашивали, не видели ли мы «бандитов»… Конечно, обращались они с нами не самым галантным образом. Шла опасная, изматывающая нервы игра.
Чем ближе к концу войны, тем сложнее складывалась обстановка на севере Италии, и для нас все оборачивалось весьма скверно. В августе 1944 года союзники вошли во Флоренцию, но десять месяцев, которые еще оставались до окончательного разгрома немцев, оказались самыми тяжелыми для всех, кто жил при оккупационном режиме.
Партизаны набирались опыта и действовали все активнее. В некоторых провинциях они полностью контролировали положение. Зато там, где еще хозяйничали немцы, населению доставалось от нацистов все больше и больше.
Немцы не знали чувства жалости. Самые страшные репрессии выпали на долю нашей провинции Марцаботто, где они расстреляли тысячу восемьсот тридцать мирных жителей. Это произошло всего в сорока километрах от Модены.
Никогда в жизни я не видел ничего более ужасного, а ведь и раньше судьба не щадила меня, и мне довелось видеть немало страшных картин: трупы зверски убитых людей, которых я знал… Никого из родственников, слава Богу, среди них не оказалось, но это были люди, чьи лица так хорошо знакомы мне. Однажды я наткнулся на мертвого соседа, лежавшего посреди улицы. Многих других несчастных я видел повешенными на фонарях и оградах. Это далеко не отрадный опыт, когда тебе всего девять лет.
Совсем маленький ребенок практически не понимает, что такое смерть. Он играет со своим игрушечным пистолетом: «Бах, бах, ты убит!» — но не сознает того, что говорит. И только подрастая, он начинает понимать, что это означает. Но его представление о смерти все равно сильно отличается от знания взрослого человека. В каком-то смысле, я думаю, у него оно более философское. Ребенок воспринимает смерть и другие жизненные катастрофы спокойнее. Он способен рассматривать гибель чужих людей как проявление судьбы.
Подобное происходит, наверное, потому, что мир детства, тот, который для него действительно важен, очень узок и состоит из неизменных величин — родители, бабушка с дедушкой, братья и сестры… И даже массовые убийства во время войны могут произвести на ребенка не столь страшное впечатление, как на взрослого.
Я понял, что такое смерть, когда впервые увидел трупы на улицах Модены. Мне исполнилось девять или десять лет, возраст, когда я начинал, видимо, приобретать более реальное представление о действительности.
Это оказалось настолько ужасно, что мне стало плохо. Я внезапно повзрослел. Я понял, с какой легкостью может быть уничтожена жизнь, как быстро она может оборваться. Вот отсюда, я думаю, и произрастает мое безграничное жизнелюбие.
Это самый глубокий след, какой война оставила в моем сознании. Сам я дважды находился очень близко от смерти. И оба случая — первый, когда я тяжело заболел в двенадцать лет, и второй — авиакатастрофа в декабре 1975 года — усилили мое уважение к жизни и упрочили понимание, сколь она драгоценна. Но главное отношение к ней возникло и сложилось именно тогда, в те последние, ужасные месяцы Второй мировой войны.
В последние дни войны, когда фашисты уже потерпели полный крах, партизаны стали еще сильнее и взяли власть в свои руки. Мстили ужасно. Люди дали волю своим страстям, и город охватил террор, который грозил принести больше жертв и разрушений, чем собственно война. Вот почему Модена с такой радостью встретила американцев.
Прекрасно помню этот день. Когда грузовики и танки США появились на улицах нашего города, все едва с ума не посходили от радости. Никогда больше не видел я такого всеобщего ликования. Мы были счастливы, что нас освободили не только от немцев, но и от самих себя — одних от других.
Так или иначе, но еще до прибытия американцев Фронт национального освобождения прекрасно управлял городом, обеспечивая жителей самым необходимым. Разумеется, недостаток ощущался во многом, но при общем чувстве облегчения — война ведь кончилась! — небольшие неудобства не в тягость.
Мне едва исполнилось девять лет, когда освободили север Италии, так что мое детство еще не окончилось. Я не замедлил с головой уйти в свои любимые занятия: прежде всего, конечно, в футбол, гоняя мяч во дворах и на площадках возле домов.
Школа никогда не доставляла мне проблем. Учился я хорошо, хотя и прилагал для этого минимум усилий. Я был очень внимателен на уроках, потом немного занимался дома, а большего мне и не требовалось, чтобы получать хорошие отметки. И в старших классах я тоже придерживался такой методы и не испытывал никаких трудностей. А начальная школа — это вообще пустяк.
Вскоре я начал участвовать в нашем церковном хоре. Вечером мы отправлялись туда вместе с отцом петь вечерню, духовные сочинения старинных композиторов — Вивальди, Палестрины и других. Голос у меня звучал красиво, но солистом, маленькой звездой стал другой мальчик. Хочется думать, что причина здесь только в том, что у меня оказалось контральто, а у него — сопрано. Все сольные партии в церковной службе, как известно, пишутся для сопрано.
Тем не менее, я тоже добился успеха. Мальчик-сопрано как-то заболел, и меня попросили спеть партию солиста. Наверное, тогда и состоялось мое первое публичное выступление. Регистр оказался слишком высоким для моего голоса. Я едва не задохнулся. Чувствовал себя ужасно. И если бы кто-нибудь сказал тогда, что мне предстоит всю жизнь брать верха, думаю, я набросился бы на него с кулаками.
Наша небольшая церковь носила имя святого покровителя Модены Сан-Джеминьяно. Я храню чудесные воспоминания о ней и о том времени. Иногда, приезжая в Модену после гастролей в разных концах света, заглядываю в это святилище, чтобы осмотреться и вспомнить былое.
Подрастая, я все чаще стал посещать центр города и полюбил его так же, как и свой квартал Сан-Фаустино. Каждому итальянцу знакомо это чувство. У родного города всегда есть свои особенности, каких не найдешь ни в каком другом месте на земле.
У моденцев — это наша необыкновенная кухня, например, или наше вино — ламбруско, изумительный романский собор с его столь же изящной, сколь и величественной колокольней, возвышающейся над центром города, или бесчисленные портики, под которыми так приятно прогуливаться в дождливую погоду.
Все родное становится дорогим, сливается со всей твоей жизнью. Если воспоминания о детстве счастливые, как у меня, тогда любовь к своему прошлому связывается с улочками, портиками, древними камнями твоего города.
Некоторые ругают климат Модены — слишком холодно и дождливо зимой, чересчур жарко летом — или недовольны тем, что город находится вдали от моря и гор, на равнине с сельскохозяйственными землями.
Да-да, возможно, и есть у Модены свои недостатки. Но если вы настоящий моденец, как и я, то любите этот город, как любят дорогого человека, — безоглядно, без осуждений, без сравнений.
Мне исполнилось лет двенадцать, когда в наш город приехал выступать в театре «Комунале» Беньямино Джильи. Он тогда по праву считался самым знаменитым тенором на свете. Я многие годы слушал его пластинки, не раз игранные и заигранные моим отцом, поэтому меня особенно взволновало столь выдающееся событие. Я отправился в театр и узнал, когда Джильи приедет на репетицию. В названное мне время я снова пришел в театр, и меня пропустили в зал, поняв, очевидно, по моему виду, что я не собираюсь мешать певцу.
Джильи исполнилось тогда почти шестьдесят лет, но пел он бесподобно. Я слушал целый час его вокализы, а потом, когда он закончил, переполненный восхищением, бросился к нему и сообщил великую новость — я тоже хочу стать тенором!
Город Модена на севере Италии — родина великого тенора.
…если вы настоящей моденец, как и я, то любите этот город, как любят дорогого человека, ~ безоглядно, без осу ведений, без сравнений.
Джильи отнесся ко мне очень приветливо, ласково потрепал по голове и сказал:
— Молодец, молодец, мальчик. Похвальное желание. Только придется много работать.
— А вы долго учились? — спросил я, стараясь продлить беседу.
— Ты слышал, я упражнялся и сейчас. Только что закончил… на сегодня. Так что учусь до сих пор, понимаешь?
Не могу передать впечатление, какое произвели на меня его слова. Это же был тенор с мировой славой, и, тем не менее, он продолжал совершенствовать свое искусство. Я думаю об этом и сегодня и надеюсь, что тоже, как и он, никогда не утрачу желания стремиться к лучшему.
Действительно ли я хотел стать тенором тогда, в двенадцать лет? Нет, должен признаться, я не думал об этом серьезно. Просто увлекся, восхитился столь сказочным голосом, восторгался оттого, что видел так близко соотечественника, прославившегося на весь мир.
Но если говорить о пылком желании посвятить себя его искусству, то должен признаться, что будь Джильи футболистом и мне представился бы случай поговорить с ним, я с таким же порывом заявил бы ему о своем самом большом желании — стать профессиональным игроком в футбол. И точно так же глубоко верил бы в свои слова.
Конечно, дома я без конца слушал пластинки с записями великих теноров, но в таком юном возрасте как мог я всерьез думать о соперничестве с ними? Помимо того, Господь Бог мог ведь сделать меня и басом?
А несколько месяцев спустя случилось ужасное. Я сидел за ужином вместе со всей семьей, как вдруг почувствовал, что у меня отнялись ноги. Меня уложили в постель — поднялась очень высокая температура, а через некоторое время я впал в кому.
Никто так никогда и не смог понять, что же произошло. Говорили, будто меня сразила какая-то инфекция, попавшая в кровь. Это случилось в 1947 году, и мне раздобыли только что открытый пенициллин, но и это чудо науки не помогло. Все сильно сомневались, что я выживу. Кто-то стоявший у изголовья спросил у моей матери, как дела.
— Ничего больше сделать не возможно, — услышал я ее ответ.
Позвали священника, и тот причастил меня. Я лежал недвижно, почти без сознания, но понимая, что происходит.
— Маленький мой, — сказал священник, — настал момент, когда тебе следует приготовиться к дороге в рай.
Кто-то проговорил:
— Ему осталось жить не больше недели.
Не хочу слишком драматизировать, а то люди решат, будто после стольких лет исполнения великих оперных партий я несколько заразился трагедийностью собственных героев. Но факт есть факт: в свои двенадцать лет я оказался лицом к лицу со смертью. Я знал, что умираю, и все остальные не сомневались в этом. Но каким-то образом я все-таки выкарабкался. Болезнь ушла точно так же загадочно, как и возникла. Я считал свое выздоровление чудом.
Важно, что встреча со своей смертью заставила меня невероятно высоко ценить жизнь. Раз мне суждено жить, я хочу быть живым, хочу прожить свою жизнь как можно полнее.
Изведав на собственном опыте, что такое смерть, я знаю, что жизнь — это драгоценный дар… даже когда у тебя тьма забот, когда не все складывается как хотелось бы. Вот почему я оптимист, жизнелюб, вот почему вкладываю всего себя в любое дело. Именно такое отношение к жизни пытаюсь передать и своим пением.
Умберто Боэри
Воспоминания друга
Сейчас, когда мы с Лучано такие добрые друзья, кажется смешным, что мы совсем не знали друг друга, когда оба жили в Модене. Теперь я — врач, практикую в Нью-Йорке, и мы видимся с ним довольно часто — каждый раз, когда он гастролирует здесь.
Но четверть века назад, когда я учился в Моденском университете, мы не были знакомы. Во-первых, Лучано моложе меня. Кроме того, в те времена существовал некий снобистский антагонизм между студентами и остальной молодежью города. Приезжая в Модену из разных краев Италии учиться в университете, мы считали себя выше местных ребят и не хотели иметь с ними ничего общего.
Странно другое — при всем этом я все же приметил его, потому что нередко встречал под портиками во время вечерних прогулок. Как в любом небольшом итальянском городе, когда магазины закрывались, а служащие покидали свои конторы, почти все жители Модены высыпали на две-три центральные улицы и прогуливались по ним, делая круг на Большой площади.
Ритуал вечерней прогулки особенно аккуратно соблюдали юноши и девушки, потому что он давал им возможность встречаться. Так или иначе, и молодые люди, и пожилые хотели одного — себя показать и людей посмотреть. А в Модене с ее километрами портиков прогуливаться можно было в любую погоду.
Местом встречи молодых людей служил последний портик у колледжа, напротив кафе «Молинари». Там они собирались, чтобы поглазеть на проходивших мимо девушек, обменяться впечатлениями о них, так же как и о любом другом человеке, привлекшем внимание.
Лучано всегда находился среди местной молодежи и, конечно, не оставался незамеченным. Высокий, как и сейчас, но стройный, необыкновенно привлекательный. Думаю, учился он тогда в последнем классе.
Не только внешностью выделялся Лучано среди ребят и, конечно, запоминался. Он явно был лидером, парнем, на которого смотрели остальные, чье имя произносилось особенно часто. Почти все моденские юноши отличались жизнелюбием и весельем, но Лучано и тут выделялся больше всех.
В те дни я подружился с Миреллой Френи. Много лет спустя в Нью-Йорке, когда Мирелла пела в Метрополитен, она и познакомила меня с Лучано Паваротти. Мы стали с ним друзьями задолго до того момента, как я связал в своей памяти знаменитого тенора и подростка, которого приметил тогда в Модене. А связь эту я установил для себя, когда увидел однажды его старую фотографию.
У меня сохранилось еще одно примечательное воспоминание о юном Лучано в Модене. Нередко группы любителей оперы нанимали открытый автобус и отправлялись куда-нибудь в другой город посетить какой-либо особенно интересный спектакль. Однажды летом мы поехали в Верону, где давали «Джоконду» с Джузеппе Ди Стефано.
Спектакль оказался восхитительным, и на обратном пути в Модену нас не покидало особенно прекрасное настроение. Естественно, все без конца пели не только хоры, но и некоторые сольные партии. Откровенно говоря, но Лучано оказался в нашем автобусе далеко не единственным юношей с хорошим голосом. И все же его верхнее «си» поражало совершенно необыкновенной силой, и меня немало удивило, что этот прекрасный юноша так чудесно поет.
Лучано и Ди Стефано впоследствии стали друзьями. Не думаю, что нашелся бы тенор, которым Паваротти восхищался больше. Однажды, много лет спустя, Лучано приехал в Нью-Йорк петь в Метрополитен и попросил меня отправиться в Карнеги-холл вместе с Джузеппе Ди Стефано и Линией Альбанезе. Незадолго до этого Ди Стефано сказал Лучано, что он не в голосе. Но организаторы концерта все же уговорили его петь.
Перед началом концерта Лучано решил пройти в гримуборную друга. Зная, что певец очень волнуется, он хотел успокоить его. Там мы встретили Марию Каллас, которая взяла на себя такую же миссию. Лучано был знаком с Каллас, но я видел, как он разволновался, встретившись с нею.
Он обращался к диве с огромным уважением, как к королеве. Очень часто Лучано говорил мне, что глубоко сожалеет, что ему так никогда и не довелось петь с нею. Он считает ее непревзойденной артисткой, необычайно много сделавшей, чтобы привлечь к опере внимание самой широкой публики.
Ди Стефано нервничал, и когда концерт начался, я обнаружил, что певец волновался не напрасно. У него совершенно пропал голос. Он просто не походил на Ди Стефано… а что может быть ужаснее для вокалиста его уровня.
Сидя рядом с Лучано, я видел, что он страдает не меньше, чем тенор на сцене. Под конец он не выдержал, оставил свое место в зале, поспешил за кулисы и пробыл там до самого окончания концерта, стараясь морально поддержать Ди Стефано.
Лучано уже довольно хорошо знали в Нью-Йорке, главным образом в музыкальных кругах. Я нередко задавался вопросом, что подумала бы публика, увидев, как один из начинающих и самых многообещающих теноров выбегает из зала во время неудачного выступления титана старой гвардии, тенора, чье место Паваротти в каком-то смысле собирался занять.
Дружба имеет огромное значение для Лучано. У него много друзей не только среди оперных звезд — Каррерас, Френи, Гяуров, — но и в других сферах. Возьмите хотя бы меня, к примеру, врача.
У него есть приятели-спортсмены, деятели кино и телевидения. Я знаком со многими великими оперными певцами, и это в общем-то для врача редкость. У них настолько своеобразная, странная жизнь, со своими особыми проблемами, что почти все они замыкаются в небольшом мире и видятся только с людьми, которые работают непосредственно на них либо так или иначе нужны для карьеры: дирижеры, режиссеры, менеджеры. Лучано совсем иной человек. Он интересуется всеми сторонами жизни, а это значит — самыми разными людьми.
Быть другом Лучано чрезвычайно приятно, но никогда не знаешь, что тебя ожидает. Он не станет долго раздумывать перед тем, как позвонить тебе в половине второго ночи только потому, что ему хочется поболтать с тобой полчасика.
Лучано любит после концерта вести машину на большой скорости: это помогает ему снять напряжение. Однажды по окончании спектакля в Нью-Хэйвене, он вез меня и еще нескольких друзей в Нью-Йорк на чьей-то машине. Лучано развил такую скорость, что его секретарша Аннамария Верде предупредила: если полиция остановит, у него отберут права.
— Не смогут, — ответил Лучано.
— Почему же?
— Потому что у меня их нет.
Лучано Паваротти
Становлюсь тенором
Но вот я добрался до выпускного класса средней школы, и настало время принимать важное решение. Выбрать карьеру тенора? Задача оказалось сложной и, как всегда бывает в небольших городах, ее решали всей семьей, проводя за обеденным столом долгие дискуссии.
Если бы я выбрал другую дорогу, более нормальную, мне следовало продолжить учебу. Сегодня иной раз приходится слышать, как молодые люди говорят: «Я еще не знаю, чем хотелось бы заняться. Поступлю в университет, а там посмотрим».
Но наша семья не купалась в золоте. Если бы я стал продолжать учебу, то лишь с точно определенной целью. Моим родным пришлось бы потратить немало денег на обучение, на книги, питание, на все прочее, что мне понадобится. Но еще важнее, что такое решение отодвинуло бы время, когда я смогу наконец сам зарабатывать и вносить свой вклад в семейный бюджет.
Обдумали все варианты. Мне легко давалась математика, и наука эта настолько нравилась мне, что я вполне готов был преподавать ее всю жизнь. Это значит, предстояло проучиться четыре или пять лет в университете. Зато потом я смог бы сразу найти работу, которая позволит возместить родителям расходы за те годы, пока они меня содержали.
Но я так же безумно любил спорт, увлекался футболом, волейболом, баскетболом, занимался тяжелой атлетикой — по крайней мере, шесть или семь часов ежедневно. Я стал тогда ловким, с развитой мускулатурой и в самом деле хорошим спортсменом. Моя мама узнала, что в Риме есть школа, где готовят преподавателей гимнастики, а поскольку учиться там пришлось бы гораздо меньше, чем на преподавателя математики, такой вариант тоже оказался одним из возможных решений, и его следовало рассмотреть.
Юный Паваротти в школьной футбольной команде под номером 13
Тут я должен признаться вот в чем. Меня считали не то чтобы уж совсем лентяем, но довольно инертным человеком. Мне нравилась жизнь в Модене, и я не хотел переезжать в Рим. Вот тут-то и зарыта собака, почему я проголосовал за карьеру оперного певца.
Мать с оптимизмом отнеслась к такому решению и поддержала меня:
— Когда поешь, твой голос волнует меня. Пробуй!
Но отец возражал. Из тысячи человек, которые пытаются достичь успеха на этом поприще, повторял он, только одному удается пением зарабатывать на жизнь. Риск очень велик. У него самого прекрасный голос, а что получилось? У отца были все основания для подобного скептицизма. Он лучше кого бы то ни было понимал, что здесь нет никакой гарантии успеха.
Моей сестре Габриелле тогда исполнилось только четырнадцать лет, и она еще не имела права решать. Я предложил родителям: пусть они содержат меня до тридцати лет. Если к этому времени я не стану на ноги, тогда откажусь от карьеры певца и начну зарабатывать на жизнь любым другим способом.
Когда я говорил «содержать», то имел в виду, что буду жить вместе с родителями и питаться за общим столом. Деньги мне не нужны. Почти все свободное время я проводил в занятиях спортом, а вечером резался в карты с друзьями.
Когда мне исполнилось двадцать лет, отец стал выделять тысячу лир в неделю на карманные расходы. Этого вполне хватало. Раз в году, обычно летом, он отдавал мне на целый день свой мотоцикл. Тогда мы с Адуа, моей невестой, садились на него и отправлялись к морю, в Визербу.
Современным молодым людям, у которых в восемнадцать лет уже есть собственная машина, наверное, трудно представить, какое удовольствие доставлял нам единственный день на пляже.
Не в моем характере расстраиваться из-за того, чего у меня нет, и все же я огорчался, что родители еще вынуждены содержать меня. Они, однако, охотно шли на это. Отец возражал против карьеры певца только из опасения, как бы она не принесла мне слишком большого разочарования.
Так что в подобной ситуации, когда отец говорил «нет», а мама — «да», решение, естественно, принималось положительное.
В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году, в девятнадцать лет, я начал серьезно заниматься пением у жившего тогда в Модене тенора-профессионала Арриго Полы. Еще раньше я взял несколько уроков у некоего профессора Донди, вернее, у его жены, которая познакомила меня с азами вокала. Донди счел, что у меня неплохие данные для тенора, и посоветовал обратиться к Арриго Поле, имевшему репутацию хорошего певца. Мой отец знал Полу, он и привел меня к нему. Помню, я спел «Прощание с матерью» из «Сельской чести» и еще два оперных фрагмента. Пола сразу же согласился заниматься со мной и, зная финансовое положение семьи Паваротти, заявил, что будет учить меня бесплатно.
Он пришел в восторг от моего голоса. Сейчас он утверждает, будто мгновенно понял, что из меня выйдет толк, и я обладаю всеми другими качествами, необходимыми для того, чтобы стать артистом. Если это так, значит, ему виднее, чем мне. Так или иначе, я занялся пением со всей серьезностью и прежде всего потому, что всегда все делаю с полной отдачей.
Нет, я вовсе не был фанатиком, отнюдь. Просто я выполнял все, что требовал Пола изо дня в день, можно сказать, вслепую. Шесть месяцев мы занимались исключительно вокализами и работали над гласными, а также делали упражнения для раскрытия рта и форсирования звука, стараясь довести все это до автоматизма и добиться предельно четкой и ясной дикции. И вокализы… час за часом, день за днем… Никаких арий, только гаммы и упражнения. А ведь было немало других увлечений, какими предпочел бы заниматься девятнадцатилетний повеса вместо обязанности часами тянуть гаммы и без конца повторять гласные А, Е, И, О, У.
Во всяком случае, я считаю, мне везет, раз я всегда горячо увлекаюсь делом, за которое берусь. На занятиях с Полой меня покорили возможности голоса, восхитила его способность формировать звук с помощью различных вокальных приемов. Многие певцы находят занятия — сольфеджио, бесконечные вокализы, упражнения — очень скучными.
Я же, напротив, глубоко заинтересовался самим процессом звуковедения как экспериментатор, а не просто как ученик, желающий извлечь максимум пользы из практических уроков.
Пола сразу обнаружил у меня идеальный музыкальный слух. Я же вовсе не знал этого, как и не подозревал, что иметь такой слух — большая удача. Многие дивные голоса пропадают только из-за отсутствия абсолютного слуха у их обладателя. А нет слуха, ничего не поделаешь: научиться этому или обрести каким-либо иным способом невозможно. У отца моего не все ладно со слухом. Иной раз он поет не ту ноту и не чувствует, что фальшивит. А если вы не понимаете, что допускаете ошибку, разве сможете исправить ее?
Я подозреваю, если три мои дочери не поют, то вовсе не потому, что лишены голоса, а потому только, что унаследовали слух своей матери. Но ничего страшного в этом нет. Они взяли от нее многое другое хорошее.
Примерно тогда же, когда начал заниматься с Полой, однажды я попал на какой-то праздник к друзьям. Придумывали много разных развлечений. Кому-то пришло в голову попросить гостей исполнить любую оперную арию. Одна красивая девушка, мне незнакомая, начала петь что-то из «Риголетто». Пела она ужасно. «Эта девушка нуждается в моей помощи», — подумал я.
Звали ее Адуа Верони. Родилась она в Модене и вскоре должна была получить диплом учительницы. Жизнерадостная и хорошенькая. Мы начали встречаться и, недолго думая, обручились. Для меня это событие стало необыкновенным, совершенно новым жизненным опытом, так как до тех пор я еще ни с кем не обручался. Но в Модене считалось неприличным, если молодые люди бывают где-то одни, без взрослых, и не обручены, то есть не имеют серьезных намерений создать семью. Разорвать подобное обручение не составляло труда, что и делалось довольно часто. Но мы с Адуа сразу поняли, что у нас все вполне серьезно.
Пока мои друзья учились в университете или начинали работать, я только занимался вокалом у маэстро Полы. Спустя некоторое время я получил место помощника учителя в начальной школе с потрясающим окладом — пять тысяч лир в месяц. В мои обязанности входило в основном присматривать за учениками, когда многие выбегали на перемене на улицу. Иногда мне приходилось вести и уроки в классе — заниматься музыкой, законом Божьим, итальянским языком и гимнастикой. Особенно радовала меня гимнастика, ведь я всегда оставался неравнодушным к спорту.
Мне хотелось бы сказать, что я очень любил своих учеников, а они были без ума от меня. Но увы, получилось все наоборот. Дети оставались совершенными дикарями, только и делали, что орали. Мне же недоставало авторитета настоящего учителя, и маленькие чудовища этим пользовались. Иногда я готов был убить их.
Однако думаю, что я с удовольствием преподавал бы в школе, правда, при условии, если бы эта работа была регулярной и упорядоченной, а не время от времени. Помощником учителя я пробыл все два года, пока занимался с Полой. Кошмарный опыт.
Школа помогла мне найти другой, более простой способ зарабатывать деньги. Я начал продавать страховые полисы одной компании, которая заключила договор с моей школой. Начальство предупреждало родителей учеников о моем визите к ним, так что мое появление в их доме выглядело совсем иначе, нежели бы к ним приходил какой-то совсем незнакомый человек. Меня рекомендовала школа, где учились их дети.
Я всегда являлся в обеденный час. Чтобы наверняка застать взрослых дома, я подкарауливал их и, когда они вооружались вилкой, начинал всегда такими словами: «О, нет, нет, нет, есть я ничего не хочу…» И после моей тирады чаще всего подписывали бумагу — иногда, правда, обещали подумать.
Убеждал я очень настойчиво и твердо, потому что и сам верил в полисы страхования жизни, которые продавал. Условия полиса и в самом деле выглядели неплохо: они не охватывали все возможные несчастные случаи, а подразумевали нечто среднее. Когда истекал срок страховки, семья получала весьма приличную сумму, независимо от того, умер ли застрахованный или благополучно здравствовал.
Все чаще случалось, что в школе ко мне подходил какой-нибудь ученик и просил зайти к отцу, так как тот передумал и хочет приобрести полис. Я стал прилично зарабатывать, настолько хорошо, что оставил работу в школе и занялся только продажей страховок.
Хотя я и делал большие успехи в занятиях с маэстро Полой, о моем вокальном таланте не очень-то знали. Лишь однажды я продемонстрировал его — во всяком случае, это было единственное событие, которое запомнилось мне, когда я помог своему соседу по дому ухаживать за девушкой.
Натура романтическая, она очень любила бельканто, поэтому мой друг попросил меня спрятаться где-нибудь под ее окном, а сам изображал, будто поет серенаду совсем как Дон Жуан или Сирано. Помню, я спел «Пламя ужасное…» из «Трубадура». Не знаю, почему, он решил, что девушку тронет именно ария Манрико. Может, потому, что музыка эта романтична, как и увертюра к «Вильгельму Теллю». Кабалетта была у всех на слуху — каждый школьник пытался спеть ее, — и моему соседу хотелось сразить свою возлюбленную.
Когда Арриго Пола уехал преподавать вокал в Японию, я стал ездить из Модены в Мантую, чтобы завершить учебу с маэстро Этторе Кампогаллиани. Пола сам выбрал мне этого замечательного педагога. По счастливому совпадению, моя подруга детства, которая известна как одна из самых великих сопрано в мире, Мирелла Френи, тоже училась у Кампогаллиани. В последние годы я редко видел ее, потому что ее семья переехала на другой конец города, еще когда мы были детьми, кроме того, Мирелла рано вышла замуж. Теперь же мы вместе ездили поездом в Мантую или же она брала машину своего мужа. Мы непрестанно обсуждали наши успехи в пении и мечтали об успешной карьере, какую сделаем. Мы продолжаем делать ее и сейчас.
Начав заниматься пением, я определил для себя срок в десять лет, чтобы добиться цели, но в душе, конечно, надеялся, что это произойдет раньше. На самом деле, я рассчитывал за два года понять, чего стою как певец. Я с огромным усердием занимался с Полой два с половиной года, а потом еще пять лет с Кампогаллиани, но за это время не произошло ровным счетом ничего значимого.
Наконец, я выступил с двумя концертами, вернее, даже в спектаклях в небольших городах, но безвозмездно. Занимался и пел очень много, но оптимизм мой стал заметно убывать. И в самом деле, я учился петь уже почти семь лет, но до сих пор еще даже не начал профессиональную карьеру. Все мои друзья обзавелись семьями и шли своей уже определившейся дорогой. Я тоже хотел жениться, но материальное положение абсолютно исключало это.
Самым же огорчительным во всей ситуации оказалась полная неопределенность: я даже не представлял себе, когда это может произойти. Если вы изучаете юриспруденцию или медицину, то можете потратить немало лет на получение диплома, но зато, по крайней мере, твердо знаете, что потом начнете зарабатывать и жить спокойно. А принимаясь за такое ненадежное дело, как пение, вы не имеете никакого представления о том, сколько лет пройдет, пока сможете утвердиться в нем… да и вообще, сможете ли.
Разумеется, я понимал все сложности, когда решил попробовать карьеру тенора. Все это очень понятно, так сказать, теоретически, а если говорить конкретно, то в глубине души всегда хочется верить, что у тебя все сложится иначе, чем у других, и очень быстро придет успех. Но более шести лет — и никакого результата! Мой оптимизм иссяк.
Возможно, именно из-за такой полной безнадежности у меня образовался нарыв на связках. Я выступил с концертом в Ферраре, и это обернулось для меня полным провалом. Я выглядел как баритон, которого душат. Я оказался не только безвестным, но и просто безголосым певцом.
В тот вечер я сказал Адуа:
— Все напрасно. Мне предстоит еще концерт в Сальсомаджоре. Спою его и больше никогда не буду выступать.
И тут произошло нечто загадочное. Мое решение, казалось, высвободило во мне какую-то скрытую силу. Не знаю, как это случилось. Может, потому, что я собирался в свои двадцать четыре года навсегда распрощаться с вокалом, спев последний концерт, и не столь уж мучительно переживал, как прозвучит мой голос. А может, оттого, что в глубине души мне хотелось доказать самому себе ошибочность своего решения. Так или иначе, я пел как никогда прежде.
Публика пришла в восторг, хотя и не в такой же, как я сам. Как будто все, чему я научился у Полы и Кампогаллиани, все мои труды, все шестилетние занятия слились с моим природным голосом, и он зазвучал именно так, как я всеми силами добивался прежде. От воспаления в горле не осталось и следа.
— Приехали! — сказал я Адуа. — Наверное, я нашел верную форму.
Я выступил еще с несколькими концертами вместе с другими певцами в соседних с Моденой городах. Голос держался, и я стал обретать уверенность. Но примерно тогда же произошло событие, которое подвергло мои нервы жестокому испытанию. Мне предстояло петь в зале «Ариосто» в Реджо Эмилии, и я выбрал для исполнения «Вижу голубку милую со слезами в нежном взоре…» из «Риголетто» — одну из самых трудных теноровых арий, когда-либо сочиненных композиторами. Едва я вышел на сцену, как сразу же увидел в первом ряду великого Ферруччо Тальявини.
В период дебюта в Реджо Эмилии. 1961 г.
Тальявини родом из Реджо Эмилии, в то время всемирно известный тенор, один из моих кумиров. Тогда ему было, наверное, лет сорок. Трудно передать чувство, какое испытываешь, когда собираешься заявить о себе как об оперном певце и при этом видишь прямо перед собой одного из самых выдающихся теноров мира.
Я едва не потерял сознание от волнения. Перед выступлением всегда волнуешься, но если к обычным переживаниям добавляется еще какая-то дополнительная нервозность, то все вместе может оказаться просто выше твоих сил.
Такого рода сюрпризы либо полностью выбивают из равновесия, либо учат владеть своими нервами. Нужно уметь управлять своими чувствами и, если возможно, пользоваться энергией, которую они освобождают. Для оперного певца это не менее важно, чем умение правильно дышать.
Мой большой друг Биндо Верини, который тоже учился у Кампогаллиани, юноша замечательный, обожавший свой мотоцикл, но всегда немного болезненный, обладал изумительным баритоном. Все говорили, что у него, как и у меня, большие возможности сделать карьеру. Но его судьба сложилась иначе. Сейчас Биндо поет в хоре театра «Комунале» во Флоренции. Мы и по сей день большие друзья, а недавно он признался мне, что еще тогда, когда мы учились, понял, что, кроме голоса, у меня есть и все прочее, необходимое, чтобы стать профессионалом — и прежде всего умение управлять своими нервами, а он был лишен этого. Он говорил без зависти и сожаления, просто как о конкретном факте.
Думаю, что присутствие Тальявини на том концерте послужило основанием для утверждений, будто он присутствовал в театре «Реджо» на моем дебюте в «Богеме», который состоялся некоторое время спустя. Возможно, он и находился в зале, но уверяю вас, я так волновался, так сосредоточился, что если бы даже в первом ряду сидели все двенадцать апостолов, то наверняка не заметил бы и их.
Концерт в Сальсомаджоре стал решающим психологическим переломом в моей карьере. Потом произошло еще одно важное, определяющее событие.
В начале тысяча девятьсот шестьдесят первого года я участвовал в Международном конкурсе оперных певцов имени Акилле Пери и победил в нем. В награду получил партию Рудольфа на представлении «Богемы», которое намечалось в «Реджо Эмили» в апреле.
Арриго Пола
Как я учил Паваротти
Когда в 1955 году Фернандо Паваротти привел ко мне своего сына, я сразу понял, что у того необыкновенный голос, и согласился взять юношу в ученики. В течение двух с половиной лет он каждый день, иногда даже в воскресенье, приходил ко мне заниматься.
Я считал, главное, что ему нужно в его возрасте, — это правильно освоить вокальную технику, потому что верная постановка голоса и точное правильное дыхание — основа всякого пения. Долгое время мы работали только над дикцией и занимались вокализами, чтобы довести до автоматизма четкое произношение и безошибочную технику пения. Наконец, после нескольких месяцев таких занятий мы начали работать над партитурами «Риголетто», «Богемы», над всеми главными партиями тенорового репертуара.
Паваротти трудился с огромным увлечением. Я сам считался тенором достаточно известным, и Лучано оставался одним из моих поклонников. Возможно, это повышало его усердие. В любом случае, он оказался превосходным учеником. Занимался упорно и с большим увлечением. Помимо голоса, второе его важное качество как певца — ум. Когда я объяснял что-нибудь или показывал, как воспроизвести звук, он сразу улавливал самую суть. Учить его не составляло труда: он все схватывал на лету.
Я старался выработать у него певческую технику, которая отличалась бы чистотой, естественностью, непосредственностью… ту самую, какая имеется у него сегодня, какая радует и доставляет удовольствие.
Сейчас существует некоторая путаница в вокальной педагогике. Есть множество различных учителей, и у каждого своя система. Это плохо. Единственный правильный метод — тот, который отвечает индивидуальности ученика.
Невозможно заставить голос совершать то, чего не пожелала дать ему природа. Надо стараться подобрать такой прием пения, какой был бы подобен тому, как этот человек говорит. Когда Лучано разговаривает, вы ясно слышите каждое слово. То же самое происходит, когда он поет. Он произносит каждый звук очень отчетливо, и это чрезвычайно важно для публики.
Одна из основных задач педагогов — добиться, чтобы ученик сам умел оценить свои способности и верно понять, что в его силах, а что — нет.
С Лучано в этом плане я почти не знал никаких проблем. Нередко случается, что ученик приходит к тебе уже со множеством плохих привычек и неверных установок. Даже если он никогда прежде ни у кого не занимался, то, несомненно, слушал других певцов и невольно перенял какую-нибудь манеру пения. И если она оказалась для него неверной и к тому же упрочилась, то исправить что-либо крайне трудно… порой невозможно.
Многие голоса с прекрасными возможностями пропадают именно из-за этого. У Лучано было очень мало плохих привычек, к тому же ни одна из них не стала губительной. Поэтому я и не начинал «строить» его технику с нуля. У него не нашлось неустранимых недостатков, и занимался он с увлечением.
После усердных занятий в течение года Лучано прекрасно владел двумя октавами. Его голос усиливался постепенно — как вверх, так и вниз и с одинаковой чистотой звучал на низких, на высоких нотах и в среднем регистре.
Сегодня он полновластный хозяин своего вокального аппарата. Никто не может упрекнуть в чем-либо технику Лучано, его дыхание, дикцию, фразировку. Очень помогло и то обстоятельство, что певец наделен идеальным слухом и врожденной музыкальностью. Без этих данных невозможно было бы научиться всему, что он освоил. Если бы все сводилось только к памяти и умению запомнить то, чему тебя учат, музыка омертвела бы. В гораздо большей степени необходимы природные способности.
Но самый главный учитель артиста — это сцена. Перед публикой ты один. Нет рядом твоего старого учителя, который вел бы тебя. Только ты сам в силах понять, что тебе следует делать, а чего надо избегать. Кроме того, на сцене многому можно научиться, если выступаешь рядом с опытными, великолепными певцами.
После того, как будет освоена правильная техника, вернее, техника, подходящая именно для твоих природных голосовых данных, она станет автоматической, и твой голос сохранится дольше. Помню, когда я пел в «Богеме» в театре Сан-Карло в Неаполе, там гастролировал и Беньямино Джильи. Ему исполнилось шестьдесят лет, но он спел в один вечер «Сельскую честь» и «Паяцев», причем без малейших следов утомления, изумительно. Лучано может рассчитывать на столь же длительную вокальную жизнь. Если ты освоил правильную технику, голос всегда в твоем распоряжении, всегда, когда тебе это нужно.
Лучано занимался у меня два с половиной года, а потом я подписал контракт, по которому мне пришлось надолго уехать в Японию, и я отвел его к лучшему педагогу, какого знал в наших краях — к маэстро Кампогаллиани из Мантуи. Он продолжал заниматься с ним с того этапа, на котором остановились мы. Многие педагоги способны подготовить с певцом ту или иную партию, но очень мало таких маэстро, которые могут научить петь. Кампогаллиани один из них. Он действительно знает, как это сделать.
С самого начала у меня не было ни малейшего сомнения относительно будущего Лучано. Я знал, что он станет величайшим тенором. И убеждали меня в этом не только его голосовые данные, но и отношение к работе: полнейшая отдача, серьезнейший подход, сосредоточенное внимание. Он приходил ко мне не просто так, от нечего делать, лишь бы позаниматься немного, а с твердым намерением усовершенствовать свой голос.
Адуа Паваротти
Жена тенора
Странно, что именно мне судьба уготовила стать женой знаменитого тенора. Я никогда не сходила с ума по оперной музыке, и это обстоятельство превращало меня в белую ворону в нашей семье. Помню, когда в детстве я долго болела, очень любила читать либретто оперных спектаклей. Я их перечитала тогда великое множество и запомнила сюжеты, но музыка меня не очень-то интересовала.
Сейчас, разумеется, все не так. Если что-то прекрасно само по себе, а потом становится близким тебе, то ты, конечно же, еще полнее воспринимаешь эту красоту. Теперь я очень люблю оперу… И стала еще придирчивее. Этот вид искусства в какой-то мере старомоден. И чтобы в наши дни поддержать интерес к бельканто, оперные спектакли нужно создавать на высочайшем уровне, на лучших сценах, с лучшими дирижерами, лучшими певцами и лучшей режиссурой. Иначе надо оставить оперу в прошлом веке. Знаю, что мой муж думает так же.
Конечно, поначалу у Лучано не было возможности особенно тщательно заботиться о качестве исполнения. Мы радовались и тому, что ему разрешали выступать перед публикой и платили за это какие-то деньги.
Хотя мы и переживали тогда трудные времена, я никогда особенно не тревожилась за карьеру мужа. Считала, что у него есть большие возможности оказаться на самом высоком уровне, но не мучилась в ожидании, когда же придет успех и придет ли вообще. Я знала, что в любом случае Лучано всегда сумеет заработать на жизнь каким-нибудь иным способом. Я тогда тоже работала. Одно время в той же школе, где Лучано работал помощником учителя, а потом стала служащей.
Первые два года мы жили только на мой скромный заработок. Я продолжала служить, пока не родилась наша вторая дочь Кристина. Когда пришлось растить двух маленьких детей, я решила, что не могу больше работать. К счастью, в то время Лучано уже начал зарабатывать неплохие деньги, и я могла оставить место служащей.
Бывали и трудные времена, но случались и поистине замечательные. Однажды Лучано несколько недель выступал с какой-то небольшой труппой в Голландии. У антрепризы возникли финансовые затруднения, и она смогла рассчитаться с певцами только по окончании гастролей. Лучано не получал, как обычно, каждую неделю какую-то скромную сумму, ему выдали под конец сразу весь гонорар — и довольно много.
Он вернулся в Модену, когда я еще находилась в школе. Придя вечером домой, я увидела, что наш дом буквально усыпан банкнотами. Лучано разложил их повсюду — на кровати, на комоде, на стульях… даже приколол булавками к обоям.
Помню и другой, особенно счастливый момент. Это когда Лучано подписал контракт с Ла Скала. К тому времени он уже с огромным успехом выступал в Ковент-Гарден и в других крупнейших театрах Европы. С Ла Скала переговоры у него шли давно, но театр предлагал ему либо роль запасного дублера, либо партии, которые он считал неподходящими для своего голоса. Хотя его карьера летела на всех парусах, с Ла Скала у нас, итальянцев, почему-то всегда складываются совершенно особые отношения.
Однажды я услышала, как Лучано зовет меня, и выглянула в окно. Он стоял под балконом и размахивал розовым листом бумаги. По хорошо известному розовому цвету бумаги контракт с Ла Скала я узнала бы и с более дальнего расстояния. В другой руке Лучано держал соковыжималку, наподобие тех, что встречаются в барах. Ему давно хотелось купить такую, но он считал, что мы не можем себе это позволить. С тех пор, благодаря контракту с Ла Скала, у семьи Паваротти в доме всегда есть свежие соки.
Адуа и Лучано в день бракосочетания. 30 сентября 1961 г.
Известность Лучано не очень изменила мою жизнь. Я веду домашнее хозяйство, то есть поддерживаю порядок в наших домах — в Модене и в Пезаро, а также занимаюсь некоторыми делами, связанными с карьерой Лучано. Читаю все итальянские письма и отвечаю на них. Обычно люди просят фотографию с автографом, какие-нибудь биографические материалы.
Это занятие стало отнимать у меня все больше времени. Теперь Лучано получает почту со всего света. К нему обращаются разные люди: женщины (а также мужчины), которые присылают свои соблазнительные фотографии. Пишут старики, больные, инвалиды, заверяя, что пение Паваротти — единственная радость в их жизни. Многие сообщают, что его голос спас их от отчаяния. Лучано хочет, чтобы ни одно из посланий не осталось без ответа. В последнее время он получает очень много писем и от детей, в основном из Америки. Некоторые из них невероятно трогательны.
Другая забота, которую я взяла на себя, — собирать вырезки из газет и журналов — все фотографии Лучано и все публикации о нем. Поэтому я стала именовать себя официальным архивариусом Лучано Паваротти. Мне нравится это занятие, хотя оно и отнимает уйму времени. Кроме того, я записываю, где и когда он выступал. Как правило, такие подробности легко забываются, потому что во время спектакля или концерта все обычно взволнованы, а потом какому-нибудь журналисту или автору театральной программы срочно требуется какая-то дата или информация, а никто ничего не помнит.
Мой муж превратил меня в деловую женщину. Полагая, что его гонорары не вечно будут такими же высокими, как сейчас, он старается как можно лучше инвестировать деньги. Просто невероятно, какие огромные расходы у артистической знаменитости. И, несмотря на то что Лучано довольно бережлив, отложить какую-то сумму на черный день ему удается с трудом.
Большая часть наших доходов вложена в недвижимость недалеко от Модены, и я занимаюсь ею.
Одно время мы владели виноградниками, но потом продали их и вложили деньги в другое имущество. Теперь у нас есть собственность и в городе. Управление всем хозяйством требует много времени. Но я с удовольствием веду наши финансовые дела. Мы, уроженки Эмилии, очень хорошо умеем распоряжаться деньгами.
Наши дочери выросли красивыми и здоровыми. Старшая, Лоренца, родилась в 1962 году, Кристина появилась через два года, когда Лучано пел «Идоменея»[2]в Глиндебурне. Тремя годами позже родилась Джулиана.
Сейчас пока лишь Лоренца подросла настолько, чтобы думать о профессии. Она собирается стать художником-модельером.
Ни у одной из дочерей нет особого пристрастия к опере. Они бывают на спектаклях Лучано, но подозреваю, только чтобы доставить ему удовольствие, а не ради Верди или Пуччини.
Долгое время успехи Лучано не производили на наших дочерей какого-либо впечатления. Кроме того, герои нового поколения — отнюдь не оперные певцы. Очень немногие из молодых друзей наших дочек знали, кто такой Лучано Паваротти, вернее, что Лучано Паваротти — это нечто необыкновенное.
Однако недавно я заметила проявление более живого интереса к опере. Оказывается, девочки пригласили большую группу своих друзей в Ла Скала послушать Лучано в «Богеме».
Наверное, только такой неосведомленностью и объясняется отчасти тот факт, что Лучано прославился сначала в Америке, а уже потом в Италии.
Сейчас, когда он признан и в нашей стране, дочери тоже по-другому воспринимают его. Ведь их друзья знают теперь, что папа Лоренцы, Кристины и Джулианы — знаменитый на весь мир тенор. Многие расспрашивают девочек об отце, а иные относятся к ним с особым вниманием. Мне кажется, что дочери порой бывают циничными. Говорят, что всегда понимают, если кто-то «заигрывает» с ними из-за отца. Думаю, однако, что от этого они не станут чересчур подозрительными к окружающим.
Поскольку Лучано много работает за рубежом, да и в Италии политическая ситуация сейчас очень сложная, наши зарубежные друзья часто спрашивают, отчего бы нам не перебраться за границу. На это я всегда со смехом отвечаю: не уезжаем потому, что мы «сентиментальные идиоты», но на самом деле все, конечно, гораздо сложнее.
Прежде всего, нас держат на родине семейные узы. Наши родители — и мои, и мужа — столь дружны между собой, и их отношения настолько прочны, что уже и не разберешь, где кончаются семейные симпатии и начинается по-настоящему близкая дружба. Главное, что все наши связи сосредоточены в Модене.
Немало и других, весьма житейских причин: дочерям нужно учиться, трудно перевести деньги за границу. Но главное все же — мы оба очень любим родную Модену. Этот город — наша жизнь, любовь к нему у нас, как говорится, в крови. Мы хорошо знаем его, знакомы со всеми согражданами и не боимся их. Жуткие вещи происходят в Милане или Турине… Там какой-то иной мир. В Модене совсем другая атмосфера.
Лучано — сложный человек. Он относится к себе, как к машине, которую необходимо постоянно держать под неусыпным контролем. Очень заботится о своем здоровье. Например, купил себе аппарат для измерения артериального давления и часто обращается к нему и тут же охотно проверяет давление у любого, кто оказывается рядом. Он хочет, чтобы все и всегда благополучно здравствовали.
Всякий раз, вернувшись в Италию, Лучано отправляется на пару дней к горячим источникам, чтобы очистить организм. У него множество всяких теорий, касающихся здоровья. Иногда мне жаль врачей, которые лечат его или кого-нибудь из близких. Лучано они находят несколько деспотичным, но очевидно, что он поступает так лишь ради пользы.
Когда мой отец едва не скончался от сердечного приступа, Лучано привез ему лекарство, только что выпущенное в Соединенных Штатах. Он слышал о нем, но в Италии оно пока еще не продавалось. Это лекарство спасло жизнь моему отцу.
Лучано очень консервативен в своих привычках. Он не любит перемен ни в чем: ни при переездах с одного конца света на другой, ни в домашней обстановке, ни в делах, ни в нашей семейной жизни.
Например, если возвращается в какой-либо город, где уже выступал, то останавливается, если возможно, в той же гостинице, даже в том же номере, что и прежде. Консерватизм этот с годами в нем усиливается. Думаю, именно потому, что Лучано постоянно приходится колесить по свету, ему хочется чувствовать себя как дома везде — в Милане, в Лондоне, в Нью-Йорке или Бостоне.
Он не любит зависеть от кого-либо даже в мелочах. Никогда не спрашивает, например, где находится лифт… Машину предпочитает водить сам, даже если садится в чужую. В городах, где часто дает концерты, в Чикаго или Нью-Йорке, если друзья предлагают отвезти в театр или на светский раут, он почти всегда просит разрешения самому сесть за руль. Лучано не из тех, кто позволяет возить себя на заднем сиденье.
Еще одна отличительная черта моего мужа — необычайная потребность в друзьях. Он постоянно должен видеть вокруг себя близких людей: не только дома, но всюду, где бы ни оказался. Это просто счастье, что он так легко обзаводится друзьями, потому что без них он и в самом деле не может жить.
Люди, с которыми он встречался всего один раз, нередко очень удивляются, как Лучано, даже спустя немало времени, помнит какие-то подробности их жизни. Например, приходит кто-то к нему в гримуборную после спектакля в Филадельфии или Сан-Франциско, и Лучано вдруг интересуется, как поживает его рыжеволосая красавица жена, поправилась ли его сломанная рука, или еще чем-то ему запомнившимся…
У него невероятная память, благодаря которой он постоянно превращает своих поклонников в друзей. У него это прекрасно получается, и кажется, будто всегда и на всех хватает времени. Даже если он лично не знаком со своими фанатами, все равно очень дорожит ими. Он чувствует себя связанным с ними, благодарен им за преданность.
Некоторые считают это всего лишь позой, но музыкальные менеджеры одного американского города на собственном опыте убедились, насколько Лучано искренен в своих поступках.
Как-то после концерта в этом городе Лучано сказал, что хочет попрощаться со своими поклонниками, как делает всегда. Но менеджеры возразили: нет, невозможно, он уже опаздывает на официальный прием, устроенный в его честь, на котором будут присутствовать дирижеры… Лучано отправился на прием, но поклялся, что никогда больше не будет петь в этом городе… И действительно, никогда больше там не пел.
Эпизод имел любопытное продолжение. Когда Лучано, спустя несколько часов, освободился наконец от своих амфитрионов, то обнаружил, что несколько фанатов все еще ждут его. Его тронула такая преданность: ведь они прождали его столько времени, и он бросился им навстречу, как к дорогим друзьям, с необыкновенным волнением.
Лучано бесконечно обрадовался, что смог объяснить этим людям, почему не вышел к ним раньше. Казалось, будто он опоздал на встречу с самыми близкими друзьями и теперь не находил слов для извинения. Сам факт, что поклонники, терпеливо ждавшие его, все поняли, простили, взволновал его невероятно.
Иногда Лучано позволяет себе поозорничать. Однажды вечером после спектакля, когда его гримуборную, как всегда, заполнял народ, вдруг появилась какая-то женщина в сопровождении солидного мужчины, очевидно, своего мужа. Женщина выглядела застенчивой и была очень вежлива.
— Синьор Паваротти, — проговорила она, — может быть, вы не помните меня…
— Ну, конечно же, помню, моя дорогая! — воскликнул Лучано, обнимая ее. — Столько ночей провели вместе в постели, как же я могу забыть тебя!
Несчастную чуть удар не хватил. Ее спутник рассмеялся, и тогда она тоже поняла, что это была шутка.
Но иногда юмор Лучано бывает и не совсем удачным. Думаю, чаще всего он прибегает к нему, чтобы поскорее покончить с формальностями…
Лучано весьма неравнодушен к противоположному полу, полагаю, даже чуть больше, чем следовало бы. Впрочем, это понятно, ведь он рос в окружении женщин. В детстве, помимо матери, мальчика воспитывали бабушка, очень много значившая для него, и две тетушки. Он все время находился в их обществе, и они одаряли его своей любовью.
Отец почти постоянно находился на работе, а дед чуть ли не всегда отсутствовал. Позже у Лучано появилась сестра, а братьев так и не оказалось. Когда же он создал свою семью, то опять родились три девочки. На протяжении всей своей жизни любовь, поддержку и заботу он получал прежде всего от женщин. Этим, несомненно, и объясняется то, почему он так неравнодушен к слабому полу. Конечно, ему нравятся красивые девушки, но, самое любопытное, — он живо интересуется ВСЕМИ женщинами.
Я могла наблюдать подобное бесчисленное множество раз. Не успеет Лучано сойти со сцены, как люди набиваются в его гримуборную. Лучано мил, любезен и дружелюбен со всеми, но стоит появиться какой-нибудь женщине, он тут же прямо-таки воодушевляется. Лицо буквально светится радостью. И все внимание целиком обращено к ней, и неважно, молодая она или старая, худая или толстая, красивая или уродливая.
— Приветствую вас, вы… — и начинает обнимать ее и ласкаться, словно котенок, частенько изумляя своим пылом. И это вовсе не притворство, просто он таков. Не секрет, что он любит людей, но к женщинам он относится, я бы сказала, с каким-то особым почтением.
Для меня очень волнительно называться женой Лучано, быть постоянно с ним и наблюдать, как он восходит к славе, о которой мы не смели даже мечтать. Единственное огорчение, какое приносит семье его слава: нам приходится часто расставаться.
Пока дочери подрастали, я не могла сопровождать Лучано в гастрольных поездках. А по мере того как его карьера набирала высоту, он все больше нуждался в помощнике, который занимался бы гостиницами, отвечал на письма, словом, освободил бы его от мелких повседневных забот.
В конце шестидесятых годов его успех стал уже бесспорным, и ему понадобилась такая помощь, но он все еще не мог позволить себе оплачивать подобную работу. Поэтому я оставляла девочек своей сестре Джованне, живущей с нами, и сопровождала мужа в поездках по всему свету.
Теперь же, я думаю, мне следует оставаться с дочерьми. Особенно важно это сейчас, когда они подросли. Не хочу сказать, будто девочкам требуется дома надзиратель. Просто они вступают в такой трудный возраст, когда с ними происходят перемены исключительной важности и им непременно нужен рядом кто-нибудь из родителей, даже если сами они не осознают этого.
В общем, я полагаю, мне следует оставаться с ними, и Лучано со мной согласен. Вот и приходится большую часть года жить с ним в разлуке. Иногда мне хотелось бы оказаться женой какого-нибудь банковского служащего, который никогда не покидает свой город. Но ради столь чудесного дара Лучано, который он отдает миру, стоит потерпеть и разлуку[3].
Молодой отец с дочерьми Лоренцой, Кристиной и Джулианой
Лучано Паваротти
Тенор за работой
Реджо Эмилия находится всего лишь в двадцати с небольшим километрах от Модены. Как почти во всех городах нашей провинции, ее жители обожают оперу. Они относятся к ней очень серьезно, прекрасно разбираются в музыке, и обо всем у них свое весьма определенное мнение. Гастрономия и опера… — вот две самые главные страсти эмилианцев.
Как я радовался, когда занял первое место в конкурсе вокалистов имени Акилле Пери! Не имело ни малейшего значения, что я не получил вознаграждения. Зато получил возможность спеть в оперном спектакле… и не какую-нибудь второстепенную партию, а Рудольфа — одну из величайших партий для лирического тенора и как нельзя лучше подходящую для моего голоса. Я словно одержимый окунулся в работу.
Труппа состояла в основном из молодежи, еще не имевшей большого опыта или, как и я, совсем без него. Администрация поселила нас в очень скромной гостинице, где я делил номер с другими певцами, а девушки занимали отдельную комнату на том же этаже, где имелась одна ванная на всех, в конце коридора.
Каждый из нас пребывал на пределе возбуждения и радости — мы молоды и занимаемся именно тем, чем хотим. Живем в этой простенькой гостинице совсем как персонажи «Богемы» — молодые люди без гроша в кармане, с творческими надеждами, полные энтузиазма, в восторге от происходящего.
Подготовка спектакля нисколько не обременяла нас: три дня репетиций, неделя отдыха и снова три дня работы на сцене, и опять неделя передышки. Однако перед премьерой мы репетировали подряд несколько дней.
Режиссером пригласили Мафальду Фаверо, прославленное сопрано, недавно покинувшую сцену. Это замечательная женщина и очень хороший режиссер, даже если, думается, наша «Богема» и оказалась единственным спектаклем, который она поставила за свою жизнь. Я очень усердно выполнял все ее указания.
Основного дирижера мы увидели только в самые последние дни, а до этого с нами работал Ренато Саббионе. В отношениях с нами он тоже проявил доброту и терпение. Понимая, что все мы выступаем на сцене впервые в жизни, он всячески помогал нам.
До премьеры оставалось всего две репетиции, когда появился, наконец, «настоящий» дирижер — Франческо Молинари-Праделли, громкое имя в мире итальянской оперы. До двух последних репетиций он никогда не слышал никого из нас.
Накануне премьеры я пребывал в таком возбуждении, что мне казалось, будто все, что со мной происходит, это какой-то сон. Одно волновало больше всего — предстояло впервые петь с полным оркестром. Учишься столько лет, воображаешь себя оперным певцом… и в твоем сознании всегда существует оркестр. Но когда он действительно звучит для тебя впервые… Это ощущение невозможно объяснить человеку, не мечтавшему многие годы о карьере певца.
На генеральной репетиции маэстро Молинари-Праделли остановил оркестр после моей арии в первом акте и обратился ко мне:
— Молодой человек, если будете так же петь завтра вечером, вас ждет большой успех.
У меня едва не подкосились ноги. Как мне сказала потом Мафальда Фаверо, Молинари-Праделли слыл человеком с очень трудным характером, из тех, кто и собственной матери не сделает комплимента. Его слова меня очень поддержали.
Во время премьеры я так сосредоточился на исполнении, что с трудом воспринимал происходящее вокруг. Я боялся дирижера. И публики боялся. Модена и Реджо Эмилия всегда соперничали между собой. Я знал: ничто так не обрадует жителей Эмилии, как провал певца из Модены. Но после арии «Холодная ручонка» я почувствовал, что публика на моей стороне.
Не только по силе аплодисментов можно судить, нравишься ли слушателям. Я всегда понимаю, хорошо ли пою, еще до аплодисментов. И моденские друзья, приехавшие поддержать меня, если бы им не понравилось мое исполнение, не стали бы, разумеется, кривить душой. Но в тот вечер все как один только хвалили, значит, я и в самом деле пел хорошо.
Выходит, я действительно имел именно тот успех, предсказанный маэстро Молинари-Праделли. Но может быть, вы думаете, дирижер остался доволен мною? Напротив, он был вне себя от гнева. Я сразу же ощутил на себе, что такое зависть, омрачающая мир оперы.
Однако испортить мне настроение в тот вечер он не смог. Хоть и другие участники спектакля пели тоже хорошо, это был мой вечер. Кроме дирижера, все радовались за меня. После спектакля мы устроили грандиозный праздничный вечер, и я оставался в ударе как никогда в жизни.
На следующий день «Нуова гадзетта ди Реджо Эмилия» писала:
«Тенор Лучано Паваротти пел с достойным похвалы вкусом и живой музыкальностью, а также продемонстрировал вокальный аппарат столь же проникновенный, как и гибкий. Он понравился, наверное, больше, чем его коллеги».
Все другие рецензии тоже оказались хвалебными.
Счастливый случай играет немалую роль во всех успешных карьерах, и один из самых счастливых выпал на мою долю в тот памятный вечер: на моем дебюте присутствовал очень солидный агент — Алессандро Цилиани. Он работал в миланском агентстве, но обладал в оперном мире огромной личной репутацией. Он приехал на спектакль в Реджо Эмилии послушать вовсе не Лучано Паваротти, а баса Димитрия Набокова, сына великого писателя.
Цилиани сам был тенором, возможно, именно потому и переключил свое внимание с Набокова на меня. После спектакля он пришел на сцену и представился. Я же находился в таком возбуждении, что теперь просто удивляюсь, как мне удалось запомнить эту встречу и вообще, каким чудом я смог тогда поговорить с ним.
Человек я очень горячий, но, тем не менее, всегда трезво оцениваю обстоятельства. Цилиани интересовало, что я собираюсь делать дальше. Я ответил, что думаю подготовить как следует четыре или пять партий, прежде чем начну выступать профессионально. Тогда он сказал, чтобы я связался с ним, как только почувствую себя готовым к этому, и он представит меня в лучшем виде.
Помощь Цилиани оказалась крайне важной для меня, потому что его хорошо знали не только в мире итальянской оперы, но и во всей Европе.
Интересно проследить, как много значит для любой карьеры поддержка других профессионалов, кого-то, кто уже имеет авторитет в своей области — агент, критик, известный дирижер — и кто говорит тебе, что ты молодец, подтверждая твои собственные надежды, которые ты лелеял все годы учебы. Такая поддержка неоценима в особенно трудные минуты, когда, например, никто не звонит с предложениями работы или когда тебе кажется, что ты пел хорошо, а публика замыкается в ледяном молчании.
Если такой поддержки слишком мало или она слаба, ничто не поможет преодолеть неудачи, и ты невольно отступаешь. Нередко приходится слышать об артистах, которые боролись за успех, полагаясь только на себя. Так вот, я тоже верил в себя. Я упорно трудился шесть лет, не зарабатывая при этом ни гроша. Но гораздо легче сохранить крепкую веру в свои возможности, когда ее поддерживает еще кто-то, хорошо владеющий профессией, которую хочешь освоить.
А Цилиани, естественно, мог поддержать не только морально. Этот человек мог найти мне работу в любом оперном театре Европы.
Какого артиста ни взять — хорошего или плохого, — вы никогда не узнаете, насколько бесценной оказывалась для него поддержка, даже простое похлопывание по плечу либо газетная рецензия и слова надежды, высказанные педагогами. Полагаю, что вера в себя — это основа нашего таланта, но убежден также, что такая поддержка — цемент, скрепляющий его.
Меня настолько обнадежил собственный дебют в Реджо Эмилии — прием публики, рецензии, важный агент, пришедший поговорить со мной, — что будущее рисовалось мне в самом розовом свете, и я решил: могу жениться.
Мы с Адуа не очень-то верили, по правде говоря, что я смогу зарабатывать на жизнь своим голосом. Когда отзвучало эхо аплодисментов и поздравлений, мы подумали о том, сколько еще певцов имело такой же скромный успех, как я, а потом их никто никогда больше не слышал.
Но Адуа больше меня верила в завтрашний день. Думаю, у женщин какая-то особая интуиция в таких вопросах.
Но и мне тоже будущее рисовалось теперь более привлекательным, чем до победы на конкурсе, и мы решили рискнуть. Адуа работала в школе, а я, если вдруг все обернется полным провалом, смогу снова продавать страховки. Вот почему 30 сентября 1961 года, через пять месяцев после моего дебюта, мы с Адуа обвенчались.
Поначалу, и в самом деле, показалось, будто и меня никто больше никогда не услышит. Я пришел к Цилиани и сказал, что готов работать в театре. Он сдержал слово и начал подыскивать мне ангажемент. Но сделать это оказалось нелегко. Успех в Реджо Эмилии еще не делает из певца козырную карту.
Все администраторы оперных театров в Италии, как, впрочем, и в целом мире, всегда охотнее приглашают на работу уже известных солистов, даже если это певцы второй категории. Ну а когда их потом упрекнут, что такой-то тенор или такая-то сопрано оказались не бог весть кем, они только пожмут плечами:
— А что вы хотите, кого я мог пригласить с моим бюджетом? Я не в силах пригласить Корелли или Тебальди.
Однако всегда находятся молодые Корелли и молодые Тебальди, готовые петь за самое скромное вознаграждение. И художественным руководителям надо бы следовать единственному правилу — полагаться на свой слух.
Но в мире оперы немало других важных людей, которые отличают хорошее исполнение от плохого, лишь узнав имя певца.
Телефон Цилиани, конечно же, не дымился от звонков, требующих подать «того самого молодого тенора из Модены». Вскоре стало очевидно, что он будет продавать меня, как кота в мешке. Приходит, например, к нему какой-нибудь художественный руководитель или администратор и говорит:
— Мне нужен Марио Дель Монако для нашей постановки «Тоски».
И агент отвечает:
— Хорошо, дам вам Марио Дель Монако, если возьмете у меня некоего Паваротти на один спектакль.
Думаю, именно так Цилиани и смог устроить мне выступление.
При всей нерешительности театральных администраторов очень важно иметь агента, обладающего чутьем. Цилиани славился своей необыкновенной требовательностью в выборе певцов, особенно теноров, поскольку сам обладал этим голосом. Когда он приходил к администратору и предлагал незаурядного тенора, тот, как правило, прислушивался к нему.
Вот так благодаря Цилиани я и заключил свой первый контракт: получил роль в «Богеме», которая ставилась в родном городе Пуччини — Лукке. Я понимал, что обязан этим лишь силе убеждения Цилиани. И в самом деле, когда я пришел на репетицию, дирижер заметил:
— Цилиани утверждает, будто вы хорошо поете… и должно быть, очень хорошо, я еще никогда не слышал, чтобы он с таким восторгом отзывался о каком-нибудь другом теноре.
Другой любопытный эпизод в моей карьере связан с печальным опытом общения с моими партнерами, который я приобрел в самом начале.
Почти двадцать лет я беспрестанно пел в оперных театрах всего мира и обычно устанавливал самые сердечные и теплые отношения с певцами, режиссерами и дирижерами. Но маэстро Молинари-Праделли весьма недружелюбно отнесся ко мне в Реджо, а в Лукке немалые трудности возникли у меня с сопрано. Она уже много лет выступала на сцене, и ее довольно хорошо знали в Италии. В 1961 году, когда карьера ее, можно сказать, завершалась, пела она неважно. Думаю, она и сама понимала это. Вот почему, как сказали мне другие певцы, партнерша опасалась, что моя «Холодная ручонка» получит больше аплодисментов, чем ее ария «Зовут меня Мими». Так или иначе, она злилась на меня и, что бы я ни делал, все встречала в штыки.
Несколько лет спустя мы снова выступали вместе в Модене, и голос ее звучал еще хуже. Она спела так плохо, что публика освистала ее. Тогда она сразу же прислала ко мне своего мужа, обвинившего нас с Миреллой Френи в том, что это мы подстроили ее провал.
Поскольку мы с Миреллой оба родом из Модены, она, очевидно, думала, будто мы не хотим позволить другим певцам выступать в нашем городе. Бывает, некоторые сопрано изводят себя подобными химерами.
Все это выглядело смешно, но, тем не менее, я расстроился. Тяжело было сознавать, что они с мужем убеждены в таких кознях с нашей стороны. Потом на одном из спектаклей что-то произошло с ее голосом: она вдруг спела свою партию превосходно, и публика не только не освистала ее, но горячо аплодировала.
Казалось, словно провидение подарило певице это единственное хорошее исполнение, чтобы доказать ей и мужу, что мы с Миреллой не оплачивали клаку. Публика отзывалась непосредственно на качество исполнения. Когда вокалистка пела плохо, ее освистали, когда хорошо — одобрили.
Но вернемся к «Богеме» в Лукке. В ту пору я оставался еще настолько неопытным, что очень расстроился из-за недовольства сопрано. Впрочем, вряд ли и долгий опыт общения со звездами помог бы мне. Когда какая-нибудь дива сердится на тебя, не остается ничего другого как вооружиться терпением и ожидать, пока буря утихнет. Но тогда я отнесся к ней не так спокойно-прежде всего, потому, что вообще не люблю доставлять кому бы то ни было огорчений. Однако я все же постарался, чтобы эти неприятности не помешали моему исполнению. А она, я думаю, очень обрадовалась бы моим промахам.
Во время репетиции с Миреллой Френи — подругой детства и любимой партнершей — одним из самых великих сопрано в мире.
Какая публика способна остаться равнодушной перед Френи?
Одного её облика достаточно, чтобы покорить всех.
А то, что она великая певица, сопрано самой высокой пробы, становится очевидным во время исполнения первой же арии…
Впрочем, сопрано напрасно тревожилась, потому что мои выступления в «Богеме» в Лукке не имели особого успеха. Мне очень мешал сценический парик, певцы и дирижер оказались совсем не те, что в Реджо Эмилии. К тому же, возможно, я опасался, что задену самолюбие певицы, если спою слишком хорошо. Впрочем, не думаю. Однако мои верха в этом спектакле оказались менее уверенными, а голос звучал не столь чисто, как в Реджо.
Размышляя обо всем этом, я совсем расстроился, как вдруг после премьеры ко мне в грим-уборную пришел великий Тито Скипа. Он выразил восторг от моего исполнения.
— У вас прекраснейший голос! Пойте и дальше, как сегодня, и не слушайте ничьих советов, не форсируйте звук и никому не подражайте.
Надо ли говорить, что я, как и все, невероятно восхищался Тито Скипой и многие годы слушал его записи, а потому добрые слова великого певца несказанно обрадовали меня. Кроме того, какой совет может быть приятнее рекомендации не слушать ничьих советов?
При всех осложнениях с сопрано и при том, что я пел не так хорошо, как хотелось бы, спектакли «Богемы» в Лукке прошли успешно и оказались для меня полезным опытом. Кроме того, я впервые получил вознаграждение за исполнение оперы — 80 тысяч лир за два вечера.
В последующие месяцы благодаря Цилиани я два раза выступал в Ирландии — пел в «Мадам Баттерфляй» и «Богеме» с одной оперной труппой в Дублине. Потом пел в «Риголетто» в Карпи, поблизости от того самого деревенского дома, где мы жили во время войны. Карпи — совсем небольшой городок, тогда еще меньше, чем сейчас, но в нем есть красивейший оперный театр.
Еще до моих выступлений в Карпи произошло одно очень важное событие. Цилиани, узнав, что великий маэстро Туллио Серафин ищет тенора для партии Герцога Мантуанского в «Риголетто» на сцене театра Массимо в Палермо, устроил мне прослушивание на следующий день после второго, последнего спектакля в Лукке.
В свои восемьдесят три года Серафин считался богом в оперном мире. Кроме того, что он работал во всех крупнейших театрах Европы и Америки, он был также музыкальным директором сначала Римской Оперы, а затем и миланского театра Ла Скала. Мне впервые предстояло явиться на суд музыканта такого высокого уровня.
Можете представить, как я волновался, когда сел в поезд, направлявшийся в Рим. Встречу Серафин назначил на четыре часа, но я стоял возле его дома уже в два и, невероятно нервничая, ходил взад и вперед по тротуару. Потом зашел в кафе что-нибудь выпить, чтобы смягчить горло. Наконец, ровно в четыре я позвонил в дверь.
Мне открыла горничная.
— Вы тенор из Модены, которого ожидает маэстро?
Я ответил утвердительно, и она провела меня в гостиную, где стоял рояль.
— Сейчас доложу, — сказала горничная.
Спустя минуту вошел Серафин. Он приветствовал меня очень сухо и коротко, как деловой человек. Потом обернулся к девушке.
— Розина, принеси стакан воды этому молодому человеку.
— Не беспокойтесь, маэстро, — возразил я. — Я заглянул в бар, прежде чем подняться к вам. Я не хочу пить.
Серафин словно не услышал моих слов.
— Розина, воду! — твердо повторил он.
Наконец, маэстро сел за рояль. Я думал, он попросит меня спеть «Сердце красавиц». Но он начал с первой страницы клавира и пожелал, чтобы я пропел ему всю партию. В конце второго акта я оставался уже без сил.
— Пить! — взмолился я.
— Вот видите! Я знал, что вам понадобится вода, — он указал на стакан и впервые улыбнулся.
Когда я начал последний акт, то уже понимал, что маэстро доволен мною. Не то чтобы он прямо заявил: «Хорошо, партия ваша», но в какой-то момент остановил меня и заметил:
— Теперь вы догадались, что Маддалена — девица легкого поведения. Герцог знает это. Когда приедете в Палермо, я хочу, чтобы вы пели «О, красавица младая» так, как пел Карузо — подчеркнуто, с иронией, неискренне…
«Когда приедете в Палермо!..» Так я и узнал, что получил партию. Не помню уж, как допел оперу до конца. Радость переполняла меня, я ликовал.
В тот вечер, когда я уезжал в Модену, в моем кармане лежало десять тысяч лир, которые остались от гонорара за два спектакля «Богемы» в Лукке. Пришлось ехать во втором классе в грязнущем вагоне, но зато я точно знал, что во всей Италии нет человека счастливее меня.
Работа с Серафином подарила мне замечательный опыт. В своем уже весьма преклонном возрасте — силы, казалось, на исходе, он проявлял поразительный музыкальный ум! Все относились к нему с величайшим почтением. Я тоже исполнился огромного уважения к маэстро, но в свои двадцать семь лет я еще целиком был поглощен самим собой.
В одной из моих арий я слегка изменил финал… то ли взял более высокую ноту, то ли дольше продержал ее, не помню точно. Серафин запретил мне это делать. Однако на генеральной репетиции разрешил повторить, если захочу. Обычно он бывал очень строг к музыкальному тексту и настолько непреклонен, что я удивился и спросил, почему же он передумал.
— Похоже, это подходит для вашего голоса, — ответил он. И резко добавил: — Не забудьте — половина оваций моя.
Партию героини оперы исполняла Джанна Д’Анджело. Со своим прекраснейшим голосом она оказалась великолепной Джильдой. Насколько мне известно, сейчас она преподает в каком-то американском университете.
Однако в нашей труппе сложилась довольно неприятная атмосфера. Дело в том, что партию Риголетто пел знаменитый баритон Этторе Бастианини. Пел он плохо, и Серафин очень резко обращался с ним. Уже одно это создавало сильное напряжение. Кроме того, Бастианини странно вел себя со всеми партнерами — разговаривал раздраженно, злобно. Вскоре мы узнали, что он болен раком, причем знал об этом, бедняга. Он выступал еще год или два, но его карьера по сути уже завершилась.
И премьера, и второй спектакль прошли превосходно. Серафин остался весьма доволен мною, и палермская публика тоже. А я и в самом деле начал ощущать себя оперным певцом.
Джоан Ингпен
Открытие тенора
В начале шестидесятых я служила в Ковент-Гарден и отвечала за репертуар театра, а еще точнее — за подбор певцов для будущих спектаклей. Впоследствии я занималась тем же в парижской Гранд-опера, а сейчас делаю это в Метрополитен.
В 1963 году у нас в Ковент-Гарден ставили «Богему» с Джузеппе Ди Стефано. Ведущий тенор нашей труппы находился в отпуске, и участие Ди Стефано весьма заботило меня, потому что он мог запросто не явиться на спектакль.
В Европе не всегда удается быстро найти певца, как в Соединенных Штатах, где за несколько часов по телефону можно отыскать замену кому угодно. Но не всегда. И я чувствовала, что приближается катастрофа.
Я сказала руководителю Ковент-Гарден, сэру Дэвиду Вебстеру, что необходимо найти какого-нибудь молодого итальянского певца, подходящего по уровню для нашей труппы, но еще не достаточно маститого, который согласился бы приехать в Лондон в качестве дублера, без какой-либо гарантии выступления, и сэр Дэвид разрешил мне поискать такую замену.
В Дублине есть интересное учреждение — Большое дублинское оперное общество. Оно организует ежегодно два двухнедельных оперных сезона. Осенью обычно выступали англичане, а на весенний сезон почти всегда приглашали какую-нибудь итальянскую труппу, собранную ad hoc[4]. Как раз предстояло открытие весеннего сезона 1963 года. Я родилась в Ирландии и люблю время от времени посещать родные места. «Почему бы не съездить туда, — подумала я, — и не узнать, нет ли там случайно хорошего тенора?»
Приехав в Дублин, я сразу же отправилась в театр на спектакль «Риголетто», в котором пел какой-то огромный молодой итальянец — не такой толстый, как сейчас, но в общем-то… Тогда он выглядел на сцене очень нелепо, пел для галерки и так долго держал верха, будто ни за что не хотел с ними расставаться… Но, боже милостивый, какой у него оказался голос!
Другая интересная подробность — в том же спектакле партию «Риголетто» исполнял молодой, неизвестный баритон Пьеро Каппуччилли.
Я объявила друзьям, что нашла того, кого искала, и они спросили:
— Уж не про этого ли тенора ты говоришь? Он ведь даже не умеет держаться на сцене!
Я ответила, что прекрасно вижу его недостатки, но думаю, их перекроет его действительно поразительный голос.
С этим спектаклем «Риголетто» связана интересная история. Папа Иоанн XXIII в то время тяжело болел, и все ожидали, что он вот-вот отойдет в мир иной. Директор труппы сидел как на иголках, ибо в Ирландии принято, если папа умер днем, сразу же отменять все представления, но если он отойдет в мир иной после первого антракта, спектакль может продолжаться, и все зрелища отменяют лишь на другой день.
Директор крайне озаботился: если «Риголетто» не состоится сегодня, ему придется не только возвращать деньги зрителям, но и оплачивать всех участников спектакля. Папа скончался до начала представления, но администратору удалось сохранить это втайне до поднятия занавеса. И только в конце первого антракта он сообщил о кончине Его Святейшества.
Много лет спустя Лучано сказал мне, что труппа давно знала о кончине папы, и за кулисами недоумевали, почему директор не объявил об этом до спектакля.
Лучано еще не стал знаменитостью и охотно согласился приехать в Лондон в качестве скромного дублера в «Богеме». Желая сделать ему приятное, я пообещала, что он непременно споет на последнем представлении оперы, если согласится оставаться запасным на предыдущих спектаклях. Он примчался в Лондон заблаговременно, и мы смогли перед репетицией дать ему несколько уроков актерского мастерства.
А потом получилось так, что Ди Стефано спел премьеру и половину следующего спектакля, и уехал. Так что Лучано выступал во всех остальных представлениях… с огромным успехом.
Он произвел на публику такое сильное впечатление, что мы снова пригласили его, уже осенью 1963 года.
В те времена солистов не приглашали заблаговременно, как приходится делать это теперь. Сегодня, когда появляется многообещающий исполнитель, нет никакой возможности предложить ему — или ей — ту или иную партию раньше, чем через три года.
Мы все с большой симпатией отнеслись к Паваротти: он оказался не только прекрасным тенором, но и чудесным человеком. Лучано почти не говорил по-английски, но какое это могло иметь значение, когда речь шла о таком человеке, как он. Помню, мы прозвали его Счастливчиком. Я, правда, недолго называла его так, хотя и сомневаюсь, что он смог бы рассердиться. Мы в Ковент-Гарден всегда с особой теплотой вспоминаем Лучано и его выступление у нас, когда он, заменив солиста в последнюю минуту, внезапно стал знаменитостью.
Вскоре после успешного дебюта в нашей «Богеме» Паваротти заключил очень важный для него контракт в Глиндебурне. Руководители театра узнали о его успешном выступлении вместо Джузеппе Ди Стефано и приехали послушать молодого певца. В итоге они предложили ему партию Идаманта в «Идоменее» Моцарта.
Подготовка оперного спектакля в Глиндебурне проходила совсем не так, как в итальянской провинции, где начинал выступать Лучано. Кроме того, петь Моцарта означало для него выйти за рамки своего обычного репертуара.
Джузеппе Ди Стефано. Выдающийся тенор, которым особенно восхищался Паваротти. К тому же, они были друзьями.
Очень забавно было смотреть, как искусные, утонченные музыканты Глиндебурна обучали певца исполнению Моцарта, а они прекрасно знали свое дело и с необыкновенным трепетом относились к композитору, и Лучано вскоре оценил это.
К тому же в те годы, когда музыкальным руководителем театра была Джейн Стрессер, Глиндебурн признавали своего рода музыкальным оазисом, где певцы могли отшлифовать свою вокальную технику. Несомненно, работа над оперой Моцарта стала важным этапом в художественном развитии Лучано.
Но самое главное, после дебюта в Ковент-Гарден, Паваротти познакомился с Джоан Сазерленд и ее мужем Ричардом Бонингом. Перед тем как начать работу в Ковент-Гарден, я работала агентом у Джоан Сазерленд (еще задолго до 1959 года, когда она стала всемирно известной), и с тех пор мы с нею большие друзья.
В 1963 году после моего «открытия» Лучано я позвонила Ричарду Бонингу и сообщила:
— Я нашла отличного тенора. Уверена, он может петь с Джоан, и держись, не падай… он ВЫСОКОГО РОСТА!
Партнеры Сазерленд всегда переживали из-за своего роста. Их всегда подстерегала опасность, что рядом с ней они будут выглядеть коротышками. Но Лучано оказался выше Джоан. Разумеется, молодой итальянский тенор понравился супругам Бонинг, и они подписали с ним контракт на «Лючию»[5] в Майами, а дальше — на выступления в Австралии. Обе поездки прошли с самым замечательным результатом для обоих. Сейчас голос Лучано начал «темнеть», он перешел к другому репертуару и поэтому уже не может петь с Джоан.
Когда я работала в парижской Гранд-опера, мне довелось встретиться с Паваротти лишь однажды. Мы пригласили его петь «Богему», и он согласился.
Снова мы увиделись, только когда он приехал в Метрополитен-опера. К тому времени он уже стал великой звездой и, не стесняясь, выражал недовольство нью-йоркской оперой. Ему казалось, будто в Мет включают в репертуар те или иные оперы только для того, чтобы угодить другим певцам, и вовсе не думают о нем.
Сейчас, когда в сезон выпускают лишь четыре новые постановки, их выбирают не в угоду тому или иному певцу. Но великие голоса видят только одно: кто-то получил новую партию, а ему она не досталась. Так происходит всегда, когда в театре сталкиваются одновременно две или три звезды. Вспомните Тебальди и Каллас. Всегда кто-то из них считал, что администрация благоволит к сопернице.
Лучано почему-то не ощущал себя… как бы это сказать… любимым, желанным в Метрополитен. Но он ошибался — думаю, вряд ли кого еще могли любить там, как его. Он восхищал и как артист, и как человек.
Я решила, что мне следует вмешаться. Я позвонила Паваротти и спросила, не могу ли приехать к нему в отель «Наварро». Лучано пригласил меня позавтракать: он сам приготовит спагетти — и к черту диету! За стол мы сели лишь в два тридцать.
Когда покончили с едой, я попыталась поговорить с Лучано, но он все время уклонялся от разговора — то вставал ответить на телефонный звонок, то выходил куда-то под разными предлогами. А я упрямо ждала, пока он вернется. Позднее один его добрый друг объяснил мне, что Лучано нарочно хотел «помучить» меня. Но я выдержала испытание.
Я не сомневалась, что Паваротти должен петь в Метрополитен и что сердится он, когда сердится, совершенно напрасно. Поговорили и о том, какие партии ему хотелось бы спеть больше всего.
В наши дни Лучано — ярчайшая звезда вокала. Человек неглупый, он отлично осознает свое положение и вполне естественно настаивает на желании петь то, что хочет, как это делают и другие, не менее знаменитые певцы.
Лучано доброжелательно относится к коллегам, и я знаю, что он пытался помочь многим молодым исполнителям. Паваротти никогда не стремится затмить певцов, с которыми поет в спектакле. Напротив, он хочет, чтобы каждый проявил себя как можно лучше. Но боюсь, далеко не всегда можно сказать то же самое о его партнерах.
С той памятной премьеры «Богемы» в Ковент-Гарден актерское мастерство Лучано необыкновенно возросло. Он совершенствовал свое сценическое искусство постепенно, работая с разными режиссерами. Лучано пришел из итальянского театра, где актерской игре и режиссуре спектакля никогда не уделяли особого внимания. В Палермо не придают значения многому, что в Лондоне считается очень важным. Любителям итальянской оперы достаточно одного: чтобы певец хорошо пел.
Особенно большие успехи Лучано я заметила с тех пор, как он выступал в спектаклях, поставленных Жан-Пьером Поннелем.
У Лучано отличный слух, и он все схватывает на лету. Бывает, дважды ошибется в каком-нибудь пассаже, и приходится деликатно указать ему на это, но чаще всего он и сам замечает: «Это место лучше повторить. Знаю, что всегда ошибаюсь тут». Он очень сосредоточен в работе, необыкновенно строг и всегда является на премьеру великолепно подготовленным.
Несмотря на свою массивную, необъятную фигуру, Лучано неизменно обаятелен на сцене. Думаю, что привлекает прежде всего его лицо, такое открытое и искреннее. Но как бы ни сияли его глаза, свет этот появился не сразу, а лишь по мере роста его популярности.
В начале карьеры подобного сияния я не замечала. Может быть, это как-то отражает его внутреннюю убежденность, как-то связано с обретением веры в себя, с необыкновенной любовью к своему искусству. Так или иначе, это «что-то» в лице певца заставляет совершенно забыть о его фигуре.
От многих других теноров Паваротти, на мой взгляд, отличается тем, что очень умно распоряжается своим голосом. Это поразительно, но артист до сорока лет воздерживался от некоторых партий. Единственное, о чем сожалею, что он больше не поет «Дочь полка».
Паваротти все еще выступает в «Любовном напитке», но, боже милостивый, как бесподобно он пел в «Дочери полка»! Эту оперу в исполнении Лучано и Джоан Сазерленд показали в Лондоне, но английским критикам не понравилась режиссура Сандро Секуи. Тогда Метрополитен пригласил всех участников спектакля на свою сцену, в Америку, и в Нью-Йорке постановка прошла с грандиозным успехом.
Разумеется, безумные овации сопровождали Лучано и в Лондоне. Как же могло быть иначе? Эта невероятная ария с девятью грудными «до»… и каждый вечер, сидя в зале, ты нисколько не волнуешься, потому что уверена: Лучано не сорвется. Публика сходила с ума от восторга.
Мне известно, что некоторые театры так стремятся заполучить Лучано, что предлагают ему самому выбирать исполнителей на остальные главные партии в спектакле, в котором он поет.
Метрополитен не может позволить себе ничего подобного. Разумеется, мы ни в коем случае не станем принуждать выступать вместе певцов, если они не терпят друг друга. Мне понятно и желание Лучано, прежде чем согласиться на новую роль, узнать, кто будет дирижировать.
Но Метрополитен не может допустить заявления какого-нибудь тенора или какой-нибудь сопрано: «Буду петь только с X, Y и Z». И Лучано никогда не выступал с такими требованиями.
Однако поразительно, что почти все звезды стараются взять на себя и обязанности художественного руководителя! Каллас, например, всегда желала сама выбирать себе в партнеры тенора и дирижера. Но в серьезном театре невозможно потакать подобным капризам… особенно если при этом заставляют согласиться на участие певцов, которые, как вы считаете, здесь не годятся.
Нужно признать, что, несмотря на огромную популярность Лучано, у него почти не заметна звездная болезнь. Помню, после одного из его первых концертов в Нью-Йорке я отправилась на большой прием в его честь.
Это произошло еще до моего перехода в Метрополитен, где мы снова стали работать вместе. Лучано тогда уже слыл всеобщим кумиром, и длиннющая очередь молоденьких девочек выстроилась в ожидании, пока их представят певцу. А он, едва увидев меня, бросился навстречу и сказал:
— Хотя столько людей уверяет теперь, будто именно они открыли меня, я не забываю, что на самом деле это сделали вы.
Спустя столько лет, находясь на вершине славы, он сумел так горячо выразить мне свою благодарность! Это меня очень тронуло.
Сколько певцов не проявляют ни малейшей признательности тем, кто помогал им добиться успеха! Наверное, нимб славы мешает им вспомнить, что когда-то и они нуждались в чьей-то помощи. Сколь ни велик талант, на его пути к Олимпу всегда оказывался кто-то, чья поддержка становилась главной, но большинство звезд предпочитают об этом не вспоминать. Возможно, благодарность, которую Лучано питает ко мне, и помогла тогда «помирить» его с Метрополитен.
Джудит Раскин
Паваротти в Глиндебурне
В 1964 году мне предложили петь в «Идоменее» в Глиндебурне вместе с Лучано, но это приглашение совпало по времени с другим, более привлекательным. Меня пригласили выступить в «Карьере мота»[6]под управлением самого Стравинского. Я не могла участвовать сразу в двух спектаклях. Но хотя бы оказалась в Глиндебурне одновременно с Лучано.
Я очень сожалела, что не смогла петь вместе с ним, и сейчас жалею об этом еще больше. Все в Глиндебурне знали, что Паваротти — нечто необыкновенное. Его коллеги приходили к нам после репетиций и в один голос уверяли:
— Вы должны послушать молодого итальянца! Это фантастично!
Ему поручили партию Идаманта, которую обычно пела меццо-сопрано. Я думала, что тесситура слишком высока для тенора, но Паваротти с ней справился без труда. И, конечно же, изумляла невероятная чистота его звука!
Я познакомилась с Лучано на приемах, которые супруги Кристи давали в честь артистов. Глиндебурнским оперным фестивалем руководил Георг Кристи. Спектакли шли в имении его предков «Льюис» в Восточном Эссексе. С хозяевами дома жили их дети, и Лучано охотно играл с ними. Когда он появлялся в комнате, все взгляды сразу устремлялись на него, настолько он привлекал внимание. Немного полноват, но выглядел скорее могучим, нежели тучным — этаким необыкновенным атлетом.
Что меня сразу же поразило — невероятное усердие, с каким Лучано старался освоить новый для него язык. Тогда он еще плохо говорил по-английски, но всячески стремился совершенствовать его. Например, задавал сразу несколько трудных вопросов и просил нас поправлять ошибки.
Многие из моих знакомых итальянских певцов и не думают учить английский. Уверяют, будто он повредит их дикции, их легато или, не знаю, чему там еще. Но я подозреваю, они просто ленятся.
Лучано серьезно относился к изучению другого языка. Когда мы встречались на приемах, он делал невероятные усилия, стараясь разговаривать со мной по-английски. Я знала многих немецких певцов, которые целеустремленно постигали другие языки, но почти не встречала ни одного итальянца, который поступал бы так же.
Другая яркая особенность Лучано — его ум. Это становится очевидным сразу же, даже когда на каком-нибудь приеме он беседует о простых вещах на своем ломаном английском.
Певец необыкновенно любознателен, но прежде всего его интересует все, что хоть как-то связано с его работой. Он всячески старается развить свои актерские способности. Музыка Моцарта не столь идеально подходила ему, как музыка Верди и Пуччини. Над партией в «Идоменее» ему пришлось изрядно потрудиться, и видно было, что он хочет работать.
Георг Кристи также обратил внимание на эту особенность. Он отмечал величие его личности и интуицию — качества, которые нечасто встречаются у других итальянских вокалистов. Именно они позволяли Лучано впитывать все, чему его учили.
Как и многие в Глиндебурне, семья Кристи прониклась огромной симпатией к Лучано. Георг называл его «феноменом природы». А неизменное внимание певца ко всем красивым девушкам, которые слетались за кулисы оперного театра, принесло ему прозвища «Цветок любви».
В опере Моцарта «Идоменей»
Тогда голос Паваротти был чуть легче и необычайно красив. Теперь ему нравится брать верха, и голос звучит удивительно проникновенно. Это производит очень яркое впечатление, но поступать так несколько рискованно, поскольку есть опасность, что звук треснет.
Лучано использует термин «стретто» для определения способа, каким он берет свои верха. Некоторые критики осуждают его за пристрастие к ним, но только не публика. Кто из них прав, по-моему, не существенно, так как верха не главное в его поразительной вокальной кантилене. Только одна фразировка могла бы сделать Лучано одним из самых великих теноров нашего времени, если не самым великим.
Лучано Паваротти
Становлюсь известным
После первых успехов в удивительном мире оперы обычно следует вереница разочарований. Обезумевшая от восторга публика устраивает тебе десятиминутную овацию, критики целуют кончики собственных пальцев, восклицая: «Никогда еще со времен такого-то или такого-то тенора мы не слышали…», директора театров бросаются к твоим ногам и осыпают похвалами. А когда возвращаешься домой, то ожидаешь, что телефон будет разрываться от звонков и одну за другой понесут телеграммы с предложениями выступить там-то и там-то. Но ничего подобного не происходит.
Это тоже одна из вех в том загадочном процессе, который называется обретение известности. В оперном театре, как и на любой другой сцене, чтобы добиться устойчивого интереса к себе и получать приличный гонорар, нужно хорошо знать свое дело, это естественно, но ты должен еще быть знаменитым. Однако нередко слава так и не приходит к артисту, несмотря на талант (случается, правда, крайне редко, она достается и бесталанным).
Иногда даже хорошие голоса не скоро становятся известными, бывает, что певец, став наконец знаменитостью, уже не так хорошо поет или, во всяком случае, не так хорошо, как прежде.
Это, мне кажется, можно отнести и к великой Марии Каллас. Когда Нью-Йорк, вернее нью-йоркские любители оперы, узнали, что существует некая удивительная сопрано по имени Мария Каллас, настоящий феномен, который они непременно должны услышать, ее голос звучал уже не так чудесно, как в блистательные годы, проведенные в Ла Скала.
Возможно, в опере, чтобы добиться известности, артисту требуется больше времени, чем в других сферах искусства. Я имею в виду не ту известность, которая выходит за пределы оперного мира… такое происходит крайне редко, и подобную славу приобретают, как правило, лишь очень немногие певцы. Я говорю о признании в сравнительно небольшом кругу любителей оперы. Но и тут все происходит мучительно медленно.
В более популярных зрелищных видах искусства, таких, как кино или эстрада, все иначе. Актер снимается в фильме, эстрадный певец записывает грампластинку или выступает по телевидению — и публика сразу может оценить его, тут же вынося суждение: «да» или «нет».
В опере можешь добиться огромного успеха в таком, например, солидном театре как Ковент-Гарден, но вполне вероятно, что нью-йоркские любители оперы об этом даже не узнают, а если и дойдет до них слух, так скажут: «Да, но это, наверное, оказался просто особенно удачный вечер» либо: «Кто знает, может, успех пришел к нему благодаря соседству хорошей сопрано» или даже: «Должно быть, там просто соскучились по приличному тенору». Легко пренебречь любой похвалой певцу, если не слышал его лично.
А директора театров в большинстве своем слишком заняты. Летать за границу и слушать каждый вновь появившийся, вроде бы необычный голос они не в силах. К тому же певцов нередко выбирают дирижеры или режиссеры, а их профессиональная жизнь еще более сумбурна.
Если только какой-нибудь Джеймс Ливайн или Клаудио Аббадо не попадут случайно в те края, где ты успешно выступаешь, и кто-нибудь не уговорит их пойти послушать тебя, возможно, о тебе так никто и не узнает, и ты еще многие годы будешь совершенно неизвестен этим властителям оперного мира.
Конечно, существует определенная система связи, в основном межличностная, с помощью которой распространяются сведения о певцах. У импресарио Рудольфа Бинга имелся свой человек в Европе — Роберт Бауэр, чьему мнению он доверял полностью, и я знаю, что некоторых певцов пригласили петь в Метрополитен или, по крайней мере, на прослушивание туда только потому, что их рекомендовал Бауэр.
Курт Герберт Адлер, директор оперного театра в Сан-Франциско, тоже весьма прислушивался к мнению одного европейца по имени Отто Гот, когда тот рекомендовал начинающих певцов. Думаю, и другие директора полагаются на своих агентов, но главные партии они поручают молодым исполнителям только после личного знакомства с ними. А для того чтобы ваш голос стал известен тем, кто обладает решающей властью в мире оперы, могут понадобиться годы.
Так или иначе, нельзя всегда рассчитывать на подобную систему связи. Например, когда Джоан Ингпен пригласила меня в Ковент-Гарден, то решилась на это лишь потому, что случайно услышала меня в Дублине, и мой голос ей понравился. Не сомневаюсь, что до этой минуты мое имя ей совершенно ничего не говорило. А ведь я неплохо дебютировал в Италии, пел во многих наших театрах, и меня весьма ценил дирижер Туллио Серафин в Палермо.
Но Джоан, которой надлежало отыскивать новых певцов для одного из важнейших театров мира, ничего обо всем этом не знала. Да и не могла знать. Как и в других сферах искусства, в оперном театре тоже необходимо не однажды блеснуть на сцене, а два, три, даже четыре раза, чтобы закрепиться на ней.
Еще больше времени требуется, чтобы стать известным публике, посещающей оперные спектакли. Если первые успехи ты приобрел в Европе, то американцы, пожалуй, хотя бы прочитают рецензию в «Опера-ньюс» и еще пару публикаций о событиях в оперных театрах других стран.
Но если любители оперы даже и потрудятся прочитать подобные заметки, то самое большее запомнят, что стоит послушать тебя, если ты вдруг будешь петь в местном театре.
Ну а уж если тебе невероятно повезет и администрация местного театра решит заключить с тобой контракт, то тебе, чтобы произвести впечатление, надлежит петь, как Карузо и Джильи, вместе взятым.
Просто хорошо петь недостаточно. Я выступал в Метрополитен еще задолго до того, как нью-йоркская публика узнала о моем существовании. Мало брать прекраснейшие «до» в «Богеме» или «Лючии». Мне пришлось взять девять «до» подряд в «Дочери полка», чтобы публика заметила меня.
В 1962 году, спустя год после моего дебюта, Цилиани устроил мне множество контрактов по всей Италии. В моем репертуаре имелись три оперы: «Богема», «Риголетто» и «Травиата», которые я пел в крупных итальянских городах — Болонье, Генуе, и в маленьких, например, в Ровиго, Форли.
Мое первое выступление за рубежом состоялось в Амстердаме в начале 1963 года, когда я выступил в новой для меня партии — Эдгара в «Лючии». Этот спектакль стал очень важным этапом в моей карьере за границей.
Я пел «Богему» в Венской государственной опере и «Риголетто» в Дублине, где Джоан Ингпен меня слышала и пригласила в Ковент-Гарден на замену Ди Стефано. (Еще раньше Дублина я выступал в «Баттерфляй» в Белфасте.)
Все это произошло в 1963 году. Разумеется, среди столь заметных выступлений имели место и самые обычные — в Палермо, Реджо Эмилии, Неаполе… даже «Травиата» в Барселоне.
Меня иногда спрашивают, волнуюсь ли я как-то особенно, когда выступаю за границей. Обычно я настолько поглощен работой, что мне бывало совершенно безразлично, где нахожусь, — в Амстердаме, Белфасте или у черта на куличках.
Я и сейчас себя чувствую относительно спокойно, когда пою на новом месте, и с трудом припоминаю, где нахожусь только после спектакля. А в молодые годы у меня не хватало денег задержаться где-то подольше и пожить просто туристом. Едва заканчивался концерт, я сразу спешил в Модену побыть немного с Адуа и дочерью. К тому же, очень скоро появилась и вторая дочь.
Хотя выступления во всех европейских театрах всегда проходили с успехом, когда меня спрашивают, где же конкретно меня «открыли», я неизменно отвечаю: «В Англии». Все началось, когда Джоан Ингпен пригласила меня в качестве подстраховки моего кумира Джузеппе Ди Стефано, которого пригласили петь «Богему» в Ковент-Гарден. Тогда ему часто нездоровилось, и он отменял свои выступления. Произошло то, чего все и опасались, — мне пришлось заменить его с середины второго спектакля и спеть все остальные. Удивительная лондонская публика заставила меня почувствовать себя новой восходящей звездой.
Первые недели в Англии я жил в гостинице и почти все время проводил в одиночестве. Я четыре года учил английский язык в школе и считал себя его знатоком. Помнится, однажды я ездил с хором из Модены в Галль, где с ужасом обнаружил, что не понимаю ни слова; правда, кто-то объяснил мне, что здесь говорят не на английском языке, а на галльском диалекте. Тогда я облегченно вздохнул.
Но когда я приехал в Лондон петь в Ковент-Гарден, мне показалось, будто я опять попал в Галль. Люди обращались ко мне по-английски, но когда произносили уже третье слово, я еще с трудом соображал, что же означает первое. Я стал носить с собой учебник грамматики и решил как следует изучить язык Шекспира.
Специально, чтобы освоить язык, я немало времени проводил в своем номере у телевизора. Ничего не понимал, но заставлял себя слушать. Думаю, эти «занятия» у телеэкрана все-таки помогли мне. Мало-помалу мое ухо привыкало к английскому произношению.
У меня появился круг знакомых и приятелей. Вообще, когда я работаю в каком-нибудь незнакомом городе, мне обычно всегда удается установить добрые отношения с окружающими… Ну, если мы не становились друзьями, то, во всяком случае, товарищами по застолью и досугу. В ту пору стоило только кому-нибудь из них хоть немного заговорить по-итальянски, как я бросался к нему словно ко вновь обретенному родственнику.
У сэра Георга Солти, художественного руководителя Ковент-Гарден, работала секретарем замечательный человек — Энид Блех. Недавно ее не стало, и это для меня большая утрата. Несмотря на троих детей, она прекрасно вела все дела сэра Георга.
Энид свободно говорила на многих языках и управляла собственным самолетом. На южной окраине Лондона, в Сассексе, у Энид был коттедж, куда она приглашала меня на уик-энд.
Во время одного из таких вечеров за городом я впервые в жизни прокатился верхом на лошади. Оказалось, дело нелегкое. Думал, что целую неделю потом не смогу сесть на стул. Мне не терпелось дождаться, когда вернусь в дом, приму горячую ванну и смогу насладиться ужином в обществе Энид и ее друзей. Я нуждался в хорошем отдыхе, чтобы прийти в себя после первого знакомства с конским хребтом.
Однако когда я вернулся в коттедж, то нашел всех в невероятном возбуждении.
— Скорее, Лучано! — заговорили друзья. — Ди Стефано отказался выступать в «Субботнем вечере в Палладиуме», и хотят, чтобы ты заменил его.
Я ответил, что это исключено. У меня слишком болело то, что находится пониже спины, и я смертельно устал.
— Нет, нет, ты ничего не понимаешь! — зашумели они. — «Субботний вечер в Палладиуме» — это самая популярная телепередача в Англии. Как шоу Эдда Салливана в Соединенных Штатах. Вся страна смотрит! Давай, поторопись!
Я поторопился. Когда меня вталкивали в машину, чтобы доехать до вокзала, кто-то сунул мне в руки сэндвич с мясом. «Для поддержания сил», сказали. А я предпочел бы посидеть на нем. На телевидение я примчался чуть ли не в последнюю минуту перед выходом в эфир и едва успел хоть немного порепетировать.
Я никогда не пел лучше. Должно быть, повлияла безумная гонка… Какое счастье: наконец-то могу никуда не спешить, а стоять спокойно и петь… а может, от волнения, что участвую в таком важном шоу. Так или иначе, я старался изо всех сил, и публика в студии буквально обезумела от восторга.
Герцог Мантуанский в опере Верди «Риголетто»
Думаю, она более искренна в проявлении своих чувств, чем любители оперы, заполняющие залы театров, и уж тем более горячее некоторых профессионалов. Эта публика прежде не слышала моего имени. Тут не оказалось страстных любителей оперы, но все пришли буквально в экстаз. Потом я узнал, что так же воспринимали меня и тысячи телезрителей, которые смотрели передачу у себя дома.
Это первое тогда мое выступление по телевидению сразу же принесло мне международную известность. Так что можно считать, меня «открыли» в Англии дважды — сначала в Ковент-Гарден, а потом на телеэкране. Счастливейшие продюсеры наперебой приглашали меня, как только снова приеду в Лондон, непременно прийти в студию… но не для того, чтобы заменить кого-то, а уже в качестве почетного гостя. Так что первый вечер на телевидении прошел совершенно замечательно.
Мое появление в Ковент-Гарден принесло и другие отрадные для меня результаты. Карьера моя, можно сказать, взяла старт. Руководители знаменитого Глиндебурнского оперного фестиваля узнали, что мой Рудольф заслуживает того, чтобы съездить послушать его в Лондон, и предложили мне партию Идаманта в «Идоменее» Моцарта.
Музыка эта очень отличалась от привычной мне, и благодаря ей, выступление в Глиндебурне обогатило меня прекрасным художественным опытом. Я научился петь в стиле Моцарта — пиано и легато. Кроме того, певцы в Глиндебурне относились к подготовке оперного спектакля очень строго, почти с отрешенной педантичностью. И это неплохо уравновешивало мою итальянскую экспрессивность.
Теперь-то я понимаю, что поначалу был неуправляемым. Из-за безудержного восторга собственным голосом я расходовал его слишком пылко. Англичане — люди прямые и не устраивают из своей профессиональной работы церемоний. Они не постеснялись, конечно, указать мне на недостатки…, за что я премного благодарен им.
Именно тогда я и познакомился с Джоан Сазерленд и ее мужем Ричардом Бонингом. Это, наверное, самая важная для меня встреча за всю мою артистическую карьеру. Они пожелали прослушать меня и, придя в восторг от моего голоса, немедленно предложили контракт на совместное турне в 1965 году, то есть почти через два года.
С той поры как после дебюта в Реджо Эмилии я оказался в упряжке Цилиани, он все время старался вывести меня на сцену Ид Скдлд. Руководство театра знало мой голос и заинтересовалось мною, однако не настолько, чтобы предложить мне какую-нибудь партию.
Мои слова могут показаться не слишком лестными для мира итальянской оперы. Но итальянцы не допускают и мысли, что музыканты, особенно певцы, могут со временем петь лучше, чем в начале карьеры. То есть своими первыми оценками они сковывают певца и во многом ограничивают его, не давая простора для развития таланта. Когда дебютируешь в Италии, тебя либо тотчас признают новым Карузо, либо сразу теряют всякий интерес и отвергают.
Есть и другая, хорошо известная у нас проблема. Возможно, из-за длительного иностранного владычества в Италии с большим сомнением относятся ко всему отечественному, особенно к певцам, в то время как все зарубежное сразу же начинают уважать, независимо от того, зубная паста это или тенор.
Весьма печально, что многие наши певцы вынуждены покидать свою страну, чтобы за границей добиться заслуженного успеха, в котором им отказывают на родине.
При помощи Цилиани Ла Скала заключил со мной контракт, но это произошло лишь после моего успеха в Ковент-Гарден. Руководители театра рассуждали примерно так: «Цилиани говорит, будто вы хорошо поете, критики Эмилии пишут, что вы хороший певец, Туллио Серафин хвалит вас… но все они — итальянцы. Теперь Ковент-Гарден заявляет, что вы хороший певец! Значит, так оно и есть'.»
Я вовсе не хочу преуменьшить значение успеха в Ковент-Гарден. Это мое первое выступление в одном из крупнейших театров Европы. Но примечательно, что речь шла не о нашем итальянском крупнейшем театре с мировой славой.
Американские коллеги уверяют, будто то же самое происходит и у них. И там тоже молодые певцы должны добиться успеха сначала в Европе, прежде чем их заметят у себя дома. По-моему, очень смешно. Но поездку за славой из США в Европу можно хоть как-то объяснить, ибо опера родилась все-таки в Старом Свете. Однако неприятие собственных молодых певцов в Италии мне кажется верхом глупости.
Раз уж я в таком духе заговорил об этом, скажу два слова и о моей любимой Модене. Город, где я родился и вырос, никогда ни в малейшей степени не поддерживал меня. Однажды я предложил свои услуги для участия в опере, которая ставилась в театре Комунале. Речь шла о партии, прекрасно подходившей моему голосу, тем более что я уже с успехом исполнял ее и на других, куда более значительных итальянских сценах и за рубежом.
В наших провинциальных театрах существует непреложное правило нанимать только местных певцов, а со стороны приглашают кого-либо, если «аборигены» уж совсем никуда не годятся. И в тот раз, когда мне захотелось спеть в театре Комунале в Модене, мне ответили письмом, в котором сообщалось, что не могут поручить мне партию, так как не считают меня столь же талантливым тенором, как тот, другой, которого собираются пригласить.
Конечно, когда я начинал свою карьеру, мир знал много теноров, которые пели лучше меня. Но тот певец, упомянутый в письме, оказался не из их числа. Думаю здесь я прав, потому что никто никогда больше не услышал его имени.
Вообще-то я не люблю делать сравнения, иначе до сих пор философствовал бы о том, кто поет лучше, а кто хуже меня, и моя собственная карьера оказалась бы весьма короткой, но когда тебя так унижают, просто невозможно промолчать.
Как-то один журналист поинтересовался у моего отца, что в успехах сына порадовало его больше всего. Ни минуты не раздумывая, папа Фернандо ответил:
— Он показал всем моим моденским друзьям, как они неправы. Они всегда утверждали, что у Лучано голос красивый, но не настолько, чтобы он стал профессионалом.
Мои отношения с Моденой не такие плохие, как у Карузо с Неаполем. Его однажды встретили там весьма прохладно, и он в отместку никогда больше не выступал в родном городе, заявив, что неаполитанцы только и способны, что поглощать спагетти.
Мои чувства к Модене совсем иные. После того неприятного отказа я выступал в родном городе много раз и надеюсь петь еще. Тем не менее, почти всегда существует какое-то необъяснимое чувство взаимного недовольства между городом и тем из его сыновей, кто пытается достичь международной известности и добивается ее. Это чувство возникает, я уверен, с обеих сторон.
Я уже упоминал, что, когда начал свою карьеру, по меньшей мере, тридцать теноров в мире пели лучше меня. Наверное, я мог бы перечислить всех, если бы понадобилось. Самые великие из них — Марио Дель Монако, Ди Стефано, Корелли, Бергонци, Джанни Раймонди, Гедда, Виккерс, Таккер.
Но существовало еще много других певцов, и если бы они начали петь сегодня, возможно, сделали бы блестящую карьеру… лучше той, что сложилась. Сейчас известно несколько великих теноров, но на высшей ступени не так тесно, как прежде…
И это мне кажется странным, потому что ступенькой ниже сегодня находится множество превосходных голосов. Когда я начинал петь, в театрах пело больше теноров высочайшего уровня и меньше — второго. А вот теперь среди совсем не известных публике исполнителей немало таких, которые весьма достойно могли бы выступать в первоклассных спектаклях.
Дирекция театра Ла Скала предложила мне, наконец, контракт, но — больно признаться — вовсе не потому, что особенно восхищалась мною. Хотя я прежде никогда не выступал на миланской сцене, руководители театра знали меня и мой голос.
В ту пору у Ла Скала действовало соглашение с Венской государственной оперой об обмене молодыми, подающими надежды певцами в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. Именно поэтому меня часто посылали в Вену заменить какого-нибудь тенора. Руководство Ла Скала не спешило выпускать меня на свою сцену, но охотно «одалживало» меня венской опере.
В столице Австрии с большим успехом пел тогда выдающийся тенор Джузеппе Дзампьери, который много работал с Гербертом фон Караяном, уже далеко не молодой и настолько богатый, что не нуждался в регулярных выступлениях. В Венской государственной опере ему поручали множество партий, однако здоровье не позволяло ему петь много, и он часто отменял свои выступления.
Я несколько раз заменил его, и таким образом фон Караян познакомился с моим голосом. Благодаря тому же соглашению между двумя театрами мне довелось с огромным успехом выступить на одном концерте в Москве. Не странно ли, что вернее удалось заявить о себе в Москве, нежели в Милане!
В течение двух сезонов в Ла Скала шла «Богема» под управлением фон Караяна. Многие тенора сменяли друг друга в партии Рудольфа, и в конце второго сезона дирижер уже не знал, кого еще пригласить. Фон Караян предложил мне спеть в двух последних спектаклях. Вот почему за мои первые выступления на сцене Ла Скала я должен благодарить дирижера, но не руководство театра.
Миланская публика, а она не из легких, осталась в восторге от моего Рудольфа, и администрация, слава богу, тоже была довольна. Мы начали обсуждать дальнейшие планы, и мне предложили спеть в «Вильгельме Телле» Россини, пообещав гонорар, который по тем временам казался мне фантастическим.
Можете представить, как я мечтал о настоящем дебюте в Ла Скала. Но я отказался, объяснив, что исполнение этой партии испортит мой голос, и моя карьера окажется самой короткой за всю историю оперы. Мне ответили, что им важно выпустить меня только в «Вильгельме Телле», а больше их ничто не волнует.
Цилиани, более понимающий, что к чему, поинтересовался, в какой опере я действительно хотел бы спеть. Я ответил — в «Сомнамбуле». Цилиани удивился:
— Почему?
— Чтобы доказать вам и себе самому, что меня не пугает никакая партия, лишь бы только она подходила моему голосу. Но я не собираюсь рисковать, не хочу губить голос, взявшись за слишком трудную для меня партию, даже ради того, чтобы петь в Ла Скала.
Руководство миланского театра поручило мне партию Герцога Мантуанского в опере «Риголетто», которая уже давно входила в его репертуар. Я спел ее много раз. Наконец, мне предложили… нет, не «Сомнамбулу», а более позднюю оперу Беллини — «Капулетти и Монтекки». Таким образом, мой дебют в Ла Скала состоялся в партии Тебальда в новой постановке оперы Беллини.
Итак, ирландке я обязан своим первым появлением на сцене прославленного на весь мир театра Ковент-Гарден и австрийцу — дебютом в Ла Скала. Я подчеркиваю это лишь потому, что я — итальянец и, хорошо зная наши недостатки, думаю, полезно обратить на них общее внимание.
Хотя я и считал фон Караяна своим доброжелателем, но и он пригласил меня только для того, чтобы заменить другого тенора. Конечно, это лучше, чем вообще никогда не быть ангажированным столь великим дирижером, но все же лучше бы меня сразу выбрали на определенную партию.
Наконец, произошло и такое событие в моей карьере.
В следующем сезоне фон Караян готовил в Ла Скала «Реквием» Верди. Исполнение намечалось на январь 1967 года в концерте памяти Артуро Тосканини, по случаю десятилетия со дня смерти великого маэстро. Нужно быть оперным певцом, чтобы понять, какое счастье, когда великий дирижер выбирает тебя для такого музыкального события. Он бесконечно осчастливил меня.
Этим последним весьма важным событием завершился шестилетний период моей карьеры, который начался премьерой «Богемы» в Реджо Эмилии. Я неплохо дебютировал в Ковент-Гарден и Ла Скала. На следующий год пел с Джоан Сазерленд в «Сомнамбуле» и «Травиате» — обе оперы в Ковент-Гарден. — с большим личным успехом.
И вот теперь самый прославленный музыкант Европы для концерта, посвященного памяти одного из величайших дирижеров всех времен, выбрал из всех теноров мира меня!
Я мог считать, что стал профессионалом и достиг цели. Но чтобы по-настоящему называться тенором с мировой славой, оставалось завоевать еще одну «площадку» — Америку.
Герберт фон Караян — один из величайших дирижеров всех времен
Джоан Сазерленд, Ричард Бонинг
Интервью газете «Авант»
БОНИНГ:
С Паваротти я впервые познакомился на прослушивании в Ковент-Гарден в шестьдесят третьем году. Я пришел в полный восторг от его необыкновенного голоса. Звук мощный, неповторимого тембра и взлетает вверх без малейшего усилия. Кроме того, превосходная техника исполнения. После прослушивания я тотчас попросил импресарио Франка Тейта пригласить певца на гастроли в Австралию.
Позже, в шестьдесят пятом году, когда мы репетировали в Майами «Лючию», нашего тенора Чони неожиданно пригласили в Париж выступать с Марией Каллас в «Тоске». Естественно, такое предложение выглядело очень заманчиво. Но мы с Сазерленд оказались в безвыходном положении. До премьеры «Лючии» всего несколько недель, и замену найти не так просто.
Придирчивые администраторы оперного театра в Майами во что бы то ни стало хотели заполучить вместо Чони громкое имя. Кому только они ни звонили, но все напрасно, тогда я посоветовал обратиться к молодому Паваротти. Сначала они и слышать не хотели о нем, но потом все-таки уступили. Вот так и вышло, что Лучано впервые приехал выступать в Соединенные Штаты. Успех он имел, разумеется, огромный. Публика его обожала — она всегда обожает его — так начался его любовный роман с Америкой… — роман, который действительно принес много радостей.
САЗЕРЛЕНД:
Тогда Паваротти был еще совсем неважным актером. Но в опере актерская игра имеет второстепенное значение. При таком прекрасном голосе — остальное уже не столь важно. К тому же Лучано такой обаятельный! Он необычайно искренен во всем. Кроме того, как у бывшего спортсмена, у него хорошая координация, он всегда двигался легко, с какой-то юношеской грацией. Наконец, а для меня это очень важно при выборе тенора в партнеры, — Лучано высокого роста.
БОНИНГ:
Его единственный недостаток в то время — отсутствие сценического опыта. Голос уже тогда звучал великолепно. Это один из тех великих голосов, какие появляются раз в сто лет; голос, который не нужно форсировать, а надо только не мешать ему литься свободно, именно так всегда и поступает Лучано…, неизменно приходя к изумительным результатам. Его отец — тоже прекрасный тенор. Помню, слышал его в Италии. Мы ужинали вместе в одном ресторане, когда Фернандо поднялся из-за стола и запел какой-то романс. Необыкновенный голос… с грудным «до». Можно смело сказать, что способность к пению у Лучано в крови.
Выступления в Австралии, о которых я упомянул выше, организовала солидная фирма Дж. С. Уильямсон. Не знаю уж, сколько лет ею руководили четверо братьев Тейт. Теперь троих давно нет в живых, а последний, Франк, пребывал тогда в весьма преклонном возрасте. В начале своей деятельности, в тысяча девятьсот одиннадцатом году, Франк организовал знаменитое австралийское турне Мельбы, которое стало заметным событием в истории культуры этой страны. И теперь он хотел завершить карьеру, повторив такое турне для Джоан, то есть проехать, как во времена Мельбы, по всей Австралии с большой оперной труппой, с декорациями и костюмами для семи опер.
Разумеется, в наши дни подобное почти неосуществимо, поэтому нам пришлось все несколько упростить. Франк Тейт поначалу сильно упрямился, но переговоры с ним — это фантастика…
САЗЕРЛЕНД:
Франк требовал от нас петь «Богему», «Баттерфляй»… — словом, шедевры, которые, насколько он знал, особенно интересны публике в Австралии. Но он пришел в ужас, когда мы заговорили о «Сомнамбуле» и «Семирамиде». Все же, в конце концов, он позволил нам исполнять то, что мы хотели.
На репетиции у нас оставалось всего три недели. В первые семь дней мы показали четыре оперы, потом каждую неделю добавляли еще по одной. То есть в любую минуту нашего пребывания в Австралии мы либо участвовали в спектакле, либо репетировали следующий. Думаю, что никто из нас никогда столько не работал ни до, ни после этих гастролей.
Поначалу нам тоже казалось, что Франк Тейт прав, когда требует выбирать самые знаменитые оперы. Первые вечера в зале оставались пустые кресла. Но после двух или трех спектаклей вы уже не смогли бы купить билет ни за какие деньги. Зрители не знали «Сомнамбулу», но с таким голосом, как у Лучано… и со мной в партии Амины… они приходили в безумный восторг и рассказывали о своих впечатлениях всем встречным. То же самое произошло и с оперой «Любовный напиток», в которой Паваротти пел с другим сопрано. Поначалу в зале оставались свободные кресла, но Лучано покорил слушателей, те восторженно рассказывали своим знакомым, и очень скоро уже невозможно было достать билеты.
БОНИНГ:
Кроме «Сомнамбулы» и «Любовного напитка», мы показали «Лючию» и «Травиату» тоже с Лучано, потом «Семирамиду», «Фауста» и «Евгения Онегина» уже без его участия.
Думаю, никто из нас никогда не забудет заключительный спектакль в Мельбурне. Мы давали «Сомнамбулу». И Джоан, и Лучано пели прекрасно. Не думаю, чтобы Австралия слышала когда-либо нечто подобное. Франк Тейт заявил тогда, что это турне стало не только завершением, но и пиком его собственной карьеры… Через несколько недель его не стало.
Сэр Франк говорил нам, что не помнит более спокойной труппы, и многие подтверждали его слова. В самом деле, при таком убийственном режиме работы, у нас все шло на редкость гладко, почти без проблем. К тому же гастроли в Австралии оказались единственными, когда действительно выполнили всю намеченную программу. Планировали восемь спектаклей в неделю… и не отменили ни одного! Все чувствовали себя отлично. Кое-кто покинул нас, но большинство осталось до самого последнего дня, работая в удивительно спокойной обстановке. Появились даже новые семейные пары, некоторые из них сохранились и по сей день.
САЗЕРЛЕНД:
Лучано пришел в восторг от нашей поездки. И великолепно развлекался — загорал, играл в футбол, ходил на руках, боролся. Он оказался превосходным спортсменом.
БОНИНГ:
Сначала мы рассчитывали побывать в пяти городах, но затем по финансовым соображениям исключили Перт. Город этот расположен слишком далеко. Так что мы выступали в Сиднее, Мельбурне, Аделаиде и Брисбене. Кроме несомненной пользы для карьеры Паваротти, наше турне интересно и с другой точки зрения: как раз в то время, по сути, рождался Сиднейский национальный оперный театр, ставший сегодня значительным явлением. Хор и оркестр полностью состоял из местных музыкантов, и четыре солиста труппы тоже австралийцы. Многие из них продолжают петь в австралийской опере, другие стали известными во всем мире: Элизабет Хавуд, Альберто Ремедиос, Клиффорд Грант, Джон Александер, Жозеф Руло, Спиро Малас.
И, действительно, оперная труппа Сиднея формировалась именно во время наших гастролей, по мере участия в наших спектаклях. Некоторые из ее солистов пели в нашем хоре. А после гастролей одна из хористок исполняла Брунгильду в лондонском театре «Колизеум». Еще один молодой певец уехал в Германию и сделал там блестящую карьеру.
Лучано сохранял прекрасные отношения со всеми, он оказался отличным товарищем в работе и очень быстро все схватывал.
С самого начала все находили его исполнение просто изумительным, но сам он, как всякий подлинный артист, никогда так не считал и постоянно трудился, совершенствовал мастерство. Он необыкновенно восхищался техникой Джоан. И стоило мне на минутку отвернуться, как он тотчас хватал мою жену за живот, чтобы понять, как она держит звук, как дышит… Лучано исключительно серьезно относился к своему делу. Он работал очень самоотверженно и продолжает упорно трудиться в течение всей своей карьеры.
САЗЕРЛЕНД:
Если я чему-нибудь и научила его, разве только следовать моему примеру. Я никогда в жизни никого ничему специально не учила. Если Лучано и взял что-то у меня, то лишь благодаря своей наблюдательности и нашему постоянному общению. В самом деле, что может быть лучше при обучении, чем пример. Как только мы услышали Лучано, ни я, ни Ричард нисколько не сомневались, что он сделает блестящую карьеру.
БОНИНГ:
Сначала Лучано опасался, что не выдержит убийственного темпа работы, но вскоре успокоился и начал, как и все мы, получать удовольствие от гастролей. Он был буквально на седьмом небе от счастья, когда после арии «Слеза, упавшая украдкой» в «Любовном напитке» «публика потребовала исполнить ее на бис, а потом и в ТРЕТИЙ раз. Кончилось тем, что он стал жутко расстраиваться, если его не просили дважды повторить эту арию.
САЗЕРЛЕНД:
Впрочем, не думаю, чтобы он огорчался по такому поводу теперь… Так или иначе, нас больше всего поразило в голосе Лучано его удивительное своеобразие. Обычно, когда слышишь какой-нибудь красивый голос, не всегда сразу определишь, кто поет. Это всего лишь приятные звуки. А Лучано узнаешь сразу же.
БОНИНГ:
Это верно, и теперь его своеобразие сделалось, мне кажется, еще ярче. Кроме того, нет сомнения, что голос его стал более крепким. Интенсивность звука у него всегда имелась, а сила явно возрастала. Некоторых тревожит весь этот battage[7] который все устраивают вокруг него как «самому великому тенору в мире», но думаю, его это лишь забавляет. А почему бы и нет? Кроме того, ведь это на самом деле так, вполне возможно, что так.
САЗЕРЛЕНД:
Кроме австралийских гастролей вспоминается еще один эпизод в нашей длительной совместной работе. Я имею в виду «Дочь полка», которую мы пели с ним в Лондоне в 1967 году, а потом и в Нью-Йорке в 1972-м. Это оказалось для нас обоих чем-то совершенно невероятным. Лучано любил свою партию и развлекался, исполняя ее. А чего стоят эти его девять грудных «до» в знаменитой арии, которые он брал одно за другим без малейшего усилия!
БОНИНГ:
Ах, спектакль действительно получился великолепный! Она — уже немолодая особа, увивающаяся вокруг него в роли полковой маркитантки, и он — огромный, могучий итальянец, пытающийся изображать юнца. Они забавлялись, как сумасшедшие. Но если говорить серьезно, то Джоан и Лучано блистательно работали вместе… У обоих сильные, крепкие голоса, оба хорошо слышат один другого и превосходно сливаются в звучании. Наконец, они подходят друг другу по росту.
САЗЕРЛЕНД:
Кроме «Дочери полка» можно вспомнить и другие замечательные спектакли. Когда мы первый раз пели вместе в Сан-Франциско, голос Лучано звучал просто фантастически. Его «Пламяужасное…»[8] поистине незабываемо.
БОНИНГ:
И в «Пуританах», которые мы пели в Карнеги-холл в концертном исполнении, Лучано просто потрясал. Не верилось, что современный тенор с полнейшей свободой и легкостью берет верхнее «ре-бемоль» и чистое «ре». О подобном мы прежде только читали — так пели когда-то в далеком прошлом, и мы никак не ожидали когда-либо услышать столь невероятное пение.
Лучано чрезвычайно умно распоряжается своим голосом. Долгое время он исполнял очень высокие партии, создавая себе славу «короля теноровых высот», которой и наслаждается теперь. С годами он начал осторожно и постепенно приближаться к более подходящим для его голоса драматическим партиям. Он ничего не предпринимает, не обдумав все сотню раз, и до сих пор ни разу не ошибся. Так он прибавил к своему репертуару «Джоконду», «Турандот», «Трубадура». Это все очень трудные партии. И в то время как многие другие тенора рано брались петь «Отелло», Лучано воздерживался. Нет сомнения, что он сможет спеть эту партию, но немного погодя… Он мог бы спеть ее и сейчас, но, думаю, правильно делает, что откладывает. Так он будет петь дольше, дольше сбережет голос. Его звук сохраняет прежнюю свежесть, весь свой блеск, и Лучано постарается сберечь свой голос еще на долгое время. Он любит пение и хочет петь хорошо.
Лучано Паваротти и Джоан Сазерленд в опере Доницетти «Дочь полка». Ковент-Гарден
САЗЕРЛЕНД:
И он всегда сам принимает любые решения, касающиеся собственного голоса. Лучано — хозяин своей карьеры… Притом, что его агент Герберт Бреслин дает ему, конечно, немало добрых советов. Кроме того, думаю, его старые итальянские учителя Кампогаллиани и Пола очень хорошо научили его, как пользоваться голосом и как заботиться о нем.
БОНИНГ:
Но Лучано и сам очень умен во всем, что касается собственной карьеры. Он знает, до какого градуса можно довести публику, чего ждать от нее, он «играет» с залом, как на инструменте… в хорошем смысле, разумеется. Думаю, его забавляет такая способность управлять публикой. Он очень заботится о карьере. Любит петь, любит получать отклик публики, любит высокие гонорары, все любит… А почему бы и нет?
САЗЕРЛЕНД:
Он самозабвенно работал, чтобы добиться успеха, и все, что у него есть теперь, вполне заслужено им. Но он умеет и наслаждаться жизнью, используя короткие перерывы для отдыха… чего никак не могу сказать о некоторых других певцах.
БОНИНГ:
Я знаю, кто-то считает, будто это мы помогли ему выйти на широкую дорогу в искусстве. Но Лучано не нуждался в чьей-либо помощи. Мы всего лишь настояли на том, чтобы его ангажировали для «Лючии» в Майами и на австралийские гастроли, больше ничего особенного мы не сделали. Естественно, после Австралии мы часто обращались к нему, через дирекции разных театров, предлагая петь вместе с Сазерленд, но в то время его карьера уже делала такие гигантские шаги, что далеко не всегда, даже, скорее, очень редко нам удавалось работать вместе.
Я говорил о нем с руководителем лондонской фирмы грамзаписи «Рекорд», но там, как и почти во всех подобных фирмах, и слышать не захотели о молодом, подающем надежды певце. Но все же, в конце концов, они договорились с Лучано, и я уверен, сегодня благословляют себя за смелый поступок.
САЗЕРЛЕНД:
Я очень довольна, что он оказался моим партнером во многих операх.
БОНИНГ:
Нас восхищает умение Лучано управлять своей карьерой. Он вполне обеспечен, разумеется, но требует большие гонорары, потому что деньги дают ему ощущение стабильности. Ему нет нужды метаться по всему свету, соглашаться на любые партии, какие ни предложат. Он может позволить себе петь то, что хочет, что ему подходит.
САЗЕРЛЕНД:
Лучано очень правильно делает, что не ездит без конца по всему миру. Мы как раз недавно говорили с ним об этом: сколько карьер не состоялось из-за скоростных авиарейсов. Директора театров всякий раз пытаются представить перелет в ту или иную страну на пару спектаклей пустяковым делом: «Всего два часа полета!» Или же: «Что нужно? Садишься в самолет в Нью-Йорке и через шесть часов ты в Европе!»
Но подобные поездки требуют много сил.
Когда я начинала карьеру, все происходило иначе. Я довольно долго оставалась на одном месте, а если переезжала, то всегда немного отдыхала, чтобы не сразу выходить на сцену. Несколько лет назад в Австралии мы совершили турне по музыкальным клубам.
Конечно, мы выходили из одного зала и входили в другой, но там расстояния небольшие… Это гораздо легче, чем петь, скажем, в Метрополитен, потом лететь на концерт в Лос-Анджелес, а оттуда со всех ног нестись обратно в Нью-Йорк. Или же, находясь в Лондоне, слетать на пару дней в Вену. Эти переезды, такие стремительные и кратковременные, для певца невероятно утомительны.
Первое время я всегда путешествовала морем. Чтобы перебраться из Европы в Америку, садилась на пароход в Соутгемптоне или Генуе. Тогда я возила с собой весь собственный театральный гардероб. Компании далеко не всегда желают брать на себя заботу о моих костюмах для той или иной оперы, поэтому я возила свои. А это значит, что у тебя уйма багажа, только из-за него приходилось плыть морем. И в таком случае у меня возникал вынужденный отдых.
На переезд из Генуи в Нью-Йорк уходило больше недели. И сейчас в век реактивных самолетов стараюсь сохранить разумный ритм работы… Так же поступает и Лучано, мне кажется. Он гастролирует в каком-нибудь городе довольно долго, прежде чем вылетает на другой конец планеты, и не совершает даже половины молниеносных перемещений, какие обычно позволяют себе другие корифеи.
Естественно, молодым певцам выбирать не приходится. Ведь очень мало постоянных трупп, где бы они могли спокойно поработать и поучиться мастерству. Начинающие вокалисты вынуждены соглашаться на любые предложения. Но в чем-то они и сами виноваты. Все хотят прославиться как можно скорее. Но и такие артисты, как Кабалье, Паваротти и я тоже… уверяю вас, славу свою заработали тяжким трудом. Кабалье многие годы выступала в Германии и Швеции, пела, конечно, изумительно, только никто не обращал на нее внимания.
Я семь лет провела в Ковент-Гарден, где училась своей профессии. Паваротти побывал во множестве небольших европейских театров и в Майами приехал, чтобы заменить Чони, а потом отправился в Австралию. Конечно, австралийские гастроли не сделали его знаменитым, зато он получил превосходный опыт, освоив четыре большие партии, которые впоследствии очень пригодились ему для выступлений в крупнейших театрах мира.
БОНИНГ:
Беда молодых певцов в том, что у них, во-первых, не хватает терпения, а во-вторых, — они не умеют отказывать.
САЗЕРЛЕНД:
Но, Ричард, нужно ведь признать, что и труппы теперь не такие, как прежде. Повсюду стараются приглашать певцов из-за границы. Нет настоящих стабильных коллективов, если не считать, наверное, Германии. И в Ковент-Гарден тоже нет. И Метрополитен всегда оставался международным театром.
С некоторыми певцами в Америке обращаются просто ужасно. Я имею в виду хороших певцов, которым надо бы делать карьеру у себя на родине, а за океаном они ничего не добиваются. К тому же сегодня начинающим певцам гораздо труднее расти нормально…
БОНИНГ:
Нет, не думаю, дорогая, что им труднее. Есть хорошие певцы, посредственные и очень плохие. Тот, кто поет хорошо и знает свое дело, непременно сделает блестящую карьеру.
САЗЕРЛЕНД:
Так всегда происходило и всегда будет, согласна. Но ведь верно, что многие хотят добраться до вершины как можно быстрее и, не достигнув тридцати лет, берутся за партии, которые им еще не под силу.
БОНИНГ:
В этом отчасти виноваты и директора театров.
САЗЕРЛЕНД:
Именно в таких ситуациях Лучано и поступал всегда очень разумно — он никогда не боялся сказать «нет». Например, директор театра спрашивает его: «Не кажется ли тебе, что для твоей карьеры было бы весьма престижно спеть вот эту партию или вот эту?» А Лучано отвечает: «Нет, не кажется», и вежливо предлагает взамен что-нибудь свое. И если не получает партию, которая подходит для его голоса, вовсе отказывается от контракта.
Я надеюсь, что скоро снова смогу петь вместе с Лучано в какой-нибудь опере, а в скором времени у нас с ним предвидится только концерт вместе с Мэрилин Хорн, который будут показывать по телевидению.
БОНИНГ:
Нас просили показать вместе с ним «Лючию» на одном телевизионном канале в Хьюстоне, но тогда мы уже подписали контракт на выступления в Голландии, от которых не могли отказаться.
САЗЕРЛЕНД:
На телевидении мы с Лучано впервые появились вместе в 1979 году в Линкольн-центре. Мы все трое очень волновались и нервничали, потому что никто из нас еще никогда не выступал перед телекамерой. Волнение сыграло с нами злую шутку, и все же, думаю, в целом мы выступили неплохо. Потом мне показали фильм «Звук и свет», куда включили кадры, снятые возле здания Линкольн-центра перед началом концерта. Два наших гигантских портрета закрывали весь фасад здания! Помню, я воскликнула: «О боже, будь это снято даже в натуральную величину, мы получились бы толстыми, а тут!..» Но все оказалось действительно очень зрелищно.
БОНИНГ:
Мы не только восхищаемся голосом Лучано, но всегда с большим удовольствием работаем с ним. Он очень славный человек, воспитанный. Отлично знает, чего хочет, далеко не всегда согласится на любое ваше предложение, но, в то же время, в его поведении ощущается и какая-то застенчивость. У него четкое представление о своих возможностях…, и он обладает удивительным обаянием. Работать с ним — одно удовольствие.
САЗЕРЛЕНД:
Конечно, Лучано может заупрямиться, настаивая на чем-то, потому что ему хочется сделать именно так, а не иначе… Но все-таки нам всегда удается найти компромисс.
БОНИНГ:
Я никогда не прошу его изменить что-либо, если на это нет действительно серьезной причины. Обычно же замена оказывается полезна и ему самому, и его голосу. Он всегда готов выслушать советы… И сам тоже, не смущаясь, дает их мне. Например, говорит: «Ричи, почему бы тебе не замедлить немного вот тут…» И часто оказывается прав. Он обладает врожденным музыкальным чутьем.
К сожалению, Джоан и Лучано нечасто доводится петь вместе, потому что лишь очень немногие театры за исключением самых крупных готовы потратить средства, чтобы заполучить их обоих. И даже когда такое случается, все равно трудно скоординировать наши рабочие планы. Если бы все зависело только от нас, дуэт Сазерленд — Паваротти появлялся бы гораздо чаще.
Лучано Паваротти
Из майами в Австралию
Куда бы я ни приезжал петь, всюду встречаю самые различные взгляды на оперное искусство. В начале карьеры я часто слышал вполне справедливое обвинение в мой адрес: я совсем не обращал внимания на актерскую игру и целиком сосредоточивался на пении. Работа в Глиндебурне и Ковент-Гарден помогла мне развить актерские навыки, но все равно мне было еще очень далеко до совершенства.
Постепенно я научился более осмысленно держаться на сцене, но самое главное — росла уверенность в собственном голосе. Когда надежную вокальную технику я довел почти до автоматизма, смог все больше внимания уделять актерской игре. Да и сейчас я по-прежнему должен в первую очередь думать о музыкальной стороне партии, но уже о ее трактовке, а не об извлечении звука.
К тому же повлияли на меня и весьма помогли совершенствоваться многие выдающиеся режиссеры, с которыми я работал. Всякий раз, когда кто-либо из них, репетируя со мной, скажем, роль Рудольфа, подсказывал что-то, находившее в моей душе живой отклик, это что-то уже навсегда оставалось со мною… если, конечно, последующие режиссеры не убеждали отказаться от подобной находки.
В этом и заключена, несомненно, очень странная особенность нашей профессии. Нужны годы тяжелейшего и вдохновеннейшего труда, чтобы отшлифовать голос, если он, разумеется, есть, надо достичь невероятного мастерства, которое необходимо для исполнения партитур Верди, Пуччини, Моцарта… А потом дебютируешь, и публика говорит: «Неплохо. А теперь посмотрим, как справишься с этой оперой или вот еще с этой…»
С Миреллой Френи в опере Пуччини «Богема»
Наконец ты получил международное признание. Годы борьбы и труда теперь должны быть вознаграждены. Ты состоялся как певец-профессионал, утвердился в своем ремесле. Начинаешь рисовать в воображении некое прекрасное будущее, когда сможешь зарабатывать на жизнь, посвятив всего себя тому, чем всегда хотел заниматься. Но тут вдруг слышишь: «Минутку, надо еще стать первоклассным мастером и в другой профессии — ты должен быть хорошим актером».
И дело не в том, что от тебя ожидают каких-то дополнительных способностей, связанных с музыкой: точного чувства гармонии, скажем, или отличного ритма. Напротив, от тебя требуют проявлять талант в искусстве совершенно иного свойства, в искусстве, по-своему не менее трудном и требовательном, чем бельканто.
Многие итальянские певцы считают подобные требования неразумными и не прилагают никаких усилий для их выполнения. Другие считают ниже своего достоинства стремиться к тому, что им все равно не под силу, во всяком случае, не идет в сравнение с их вокальным мастерством. Короче, предпочитают совсем ничего не играть, чем выглядеть на сцене плохими актерами.
Поначалу и я пытался поступать точно так же. Думал, достаточно хорошо петь и лишь приблизительно намечать характер персонажа. К тому же я опасался, что актерская игра повредит моему имиджу вокалиста. Но вскоре изменил свое мнение. Не люблю что-либо делать плохо, если могу сделать лучше. Кроме того, мне не удается долго оставаться равнодушным к какому-то делу, мне непременно хочется по-настоящему заняться им. Я много потрудился над актерской игрой в течение пятнадцати лет и, думаю, кое-чему научился. Сейчас уделяю актерскому исполнению почти столько же внимания, сколько вокалу.
И все-таки я часто думаю вот о чем. Не нужно быть Лоуренсом Оливье, чтобы прилично играть в оперном спектакле. Надо создавать правдоподобие в поведении своего персонажа, но по-настоящему взволновать слушателей, скорее всего, можно только музыкой и блестящим ее исполнением. Тогда как Лоуренс Оливье должен рассчитывать лишь на свою актерскую игру. Кроме того, наблюдая моих коллег, я убедился, что чрезмерные актерские усилия нередко мешают вокальному исполнению.
Режиссером «Лючии ди Ламмермур», первой оперы, которую я пел в Соединенных Штатах, в Майами, оказался симпатичный американец итальянского происхождения Энтони Стиванелло. Времени на репетиции отпустили мало. Когда на постановку такой репертуарной оперы, как «Лючия», не выделяют сотни миллионов, режиссеры заботятся о немногом: лишь бы вокалисты знали свои партии и могли прилично спеть их.
Но Стиванелло не нашел моего Эдгара «приличным». Он поднялся со мной на крышу гостиницы «Макаллистер», где я остановился, и мы целыми часами проходили вдвоем всю оперу сцену за сценой: режиссер пытался снять мою неуклюжесть. Он очень помог мне, и, думаю, его советы повлияли на все мои последующие интерпретации.
Но тогда я не владел актерским мастерством, отнюдь. Некоторые герои, Рудольф и Неморино, например, очень близки мне по характеру, и не так уж трудно оказалось войти в эти образы. Но другие роли я чувствую лишь приблизительно, и работать над ними приходится гораздо больше. Боюсь только, что не всегда с успехом. Как-то один критик написал: «Лучано Паваротти никогда не выходит из своего персонажа. Как это может быть, спросите вы? Он никогда и не входил в него».
В Майами меня пригласил директор местного оперного театра милейший Артуро Ди Филиппи, в прошлом тоже тенор. Прежде он не слышал меня, и, думаю, это Ричард Бонинг и Джоан Сазерленд рассказали ему обо мне, я всегда буду признателен ему, что он пригласил выступить в своем театре, положившись только на рекомендацию других людей. «Лючию» в Майами в феврале шестьдесят пятого года мне предложили в последнюю минуту.
Еще в шестьдесят третьем году Ричард Бонинг послушал меня в Ковент-Гарден и сразу же подписал со мной контракт на турне по Австралии длительностью в три с половиной месяца, которое намечалось на лето шестьдесят пятого года. «Лючия» в Майами шла еще раньше, но приглашение выступить в этой опере я получил после того, как уже подписал с Бонингом австралийский контракт.
Такая далекая перспектива выглядела очень заманчиво, но в Майами ожидался мой дебют в США, и мне хотелось показать себя перед американцами с лучшей стороны. Я счастлив, что могу сказать — премьера прошла с огромным успехом. Критики хвалили меня, и доктор[9] Ди Филиппи, который обращался со мной как с родным сыном, остался так доволен, что даже выдал мне премию. Поскольку большинство оперных трупп держится, так сказать, на финансовом пределе, подобные жесты импресарио позволяют себе не так уж часто.
Естественно, публика Майами пришла в безумный восторг от Сазерленд, но и я тоже понравился. Публике очень легко восхищаться, когда ее заранее предупреждают, что такой-то тенор или такаое-то сопрано — нечто необыкновенное, но любители оперы в Майами никогда ничего не слышали обо мне. И все же они горячо аплодировали мне. Вот почему Майами всегда будет занимать особое место в моем сердце. (На самом деле, есть еще много и других таких же «особых мест», но мне хочется думать, что мое сердце достаточно велико, чтобы объять их все.)
Во время моего дебюта в Америке я познакомился с очень приятной молодой женщиной по имени Джуди Дракер, которая пела в хоре. Мы тогда очень подружились и оставались друзьями все последующие годы. Сейчас Джуди руководит Great Artists Series — циклом концертов. Их спонсирует Temple Beth Sholom, и это, наверное, самое важное культурное событие в каждом сезоне в Майами-Бич, в котором участвуют Владимир Горовиц, Исаак Стерн и… я рад добавить это… Лучано Паваротти.
Поскольку Джуди стала такой важной особой и сейчас часто приглашает меня выступать, я взял за правило впредь быть очень любезным с хористками.
Майами — удивительный город с насыщенной культурной жизнью. Я счастлив приезжать туда не только из-за того, что люблю солнце и теннис, но и потому, что у меня там много, очень много друзей, и я привязан к Майами, ибо это оказался первый в Америке город, который встретил меня так тепло. Несомненно, главными оперными центрами США считаются Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорк. А Майами стал для меня как бы портом прибытия за океан.
А между тем меня ожидало турне по Австралии.
В июне 1965 года, спустя четыре месяца после выступления в «Лючии» в Майами, я встретился с Джоан Сазерленд и Ричардом Бонингом в Австралии, где начал с ними репетировать четыре оперы, которые предстояло исполнять на гастролях: «Травиата», «Сомнамбула», «Лючия» и «Любовный напиток». Кроме того, в репертуар труппы (без моего участия) входили «Фауст», «Евгений Онегин» и «Семирамида» — всего семь опер. Если прежде я мечтал о напряженной работе, то теперь именно это мне и предстояло.
Скажу честно, в столь непосильном для певцов труде я увидел хорошую возможность проявить себя. Несмотря на успехи, какие я снискал в Европе, одна забота продолжала постоянно беспокоить меня — пределы собственных вокальных возможностей. Много вечеров я пел хорошо, но бывали и такие, когда голос звучал хуже. Всем певцам в той или иной мере знакома подобная проблема, и никто не в силах полностью разрешить ее.
Звучание голоса зависит не только от его природных особенностей, но еще и от слишком многих весьма изменчивых обстоятельств. Твое настроение, твое самочувствие, твоя уверенность в себе, твои тревоги… все это может повлиять на качество звука, какой издают твои связки.
Я уже говорил, насколько важно для каждого, кто собирается ступить на стезю оперного певца, уметь управлять своим внутренним состоянием. Столь же необходимо уметь контролировать и все эти изменчивые факторы или хотя бы сводить к минимуму их влияние на голос. В то время я понимал, что пока не удается делать это, как хотелось бы. Очень обидно петь плохо, когда понимаешь, что можешь петь хорошо. Я знал, что у меня есть голос, но еще не чувствовал себя полновластным его хозяином.
Голос Джоан Сазерленд — один из самых выдающихся в наше время, а возможно, во все времена. Меня поражало, что каждый спектакль, день за днем, самую трудную музыку, какую только когда-либо создавали для сопрано, она неизменно исполняла самым идеальным образом. Должно быть, ей известен какой-то секрет.
Мне очень хотелось открыть его и научиться петь прекрасно всегда, несмотря ни на какие помехи. Пока мне не удастся достичь совершенства, я не смогу ручаться за свою карьеру. Иначе половину жизни проведу в опасении потерять голос, а другую половину — в отчаянии, что утратил его.
Я стал внимательно наблюдать за певицей и расспрашивать ее. Джоан отвечала с бесконечной добротой и терпением, но предупредила меня, чтобы я не пытался подражать ей, прежде чем мое тело не будет подготовлено к этому, то есть пока не разовью правильно мускулатуру. Если у тебя нет мускулатуры, позволяющей петь наилучшим образом, говорила мне Джоан, сколько бы ты ни старался, все равно будешь по-прежнему издавать звук горлом и испортишь голос.
Основа ее метода — опора голоса на диафрагму. Джоан — женщина высокая и могучая, исключительно сильная физически. Мышцы ее торса очень активно работают во время пения. Благодаря природной физической силе Джоан, похоже, справляется с этим без особого труда, но не всем же так везет, и тогда нужно тренировкой укреплять необходимые мышцы.
Джоан показала мне целую серию упражнений, и я начал упорно тренироваться. Кроме того, я постоянно наблюдал за ней и часто прикладывал ладони к ее торсу, стараясь понять, что же там происходит, когда она поет (разумеется, не на сцене, ибо сомневаюсь, что наш режиссер нашел бы этот жест отвечающим его концепции «Лючии»).
Каждый, кто учится петь, обычно чувствует, когда нужно опереть голос на диафрагму. Но если ты молод и господь одарил тебя красивым и сильным голосом, обычно не очень-то задумываешься над этим. Зачем столько трудиться над диафрагмой, если твой звук и без того всем нравится? А ответ прост: если не станешь этого делать, голос испортится и может подвести именно в ту минуту, когда особенно будет нужен тебе. И, в конце концов, совсем пропадет.
В течение всего австралийского турне голос мне требовался постоянно. Не успевал я покинуть сцену, как уже снова пора выходить на нее на целых четыре часа убийственной вокальной работы. Джоан выдерживала такой режим. И я твердо решил не отставать от нее.
Это оказалось действительно совершенно замечательное время, когда я упорно старался совершенствоваться во всем: работал не только над вокальной техникой, но и над актерским мастерством, даже если мои успехи не всегда замечал режиссер. Незадолго до премьеры «Любовного напитка» он отвел меня в сторону и сказал:
— Знаешь, Лучано, ведь мало хорошо спеть свою партию, нужно еще сыграть роль.
— Не беспокойся, — ответил я, — на репетициях я работал над вокальной стороной партии, а драматическую часть — как нужно сыграть Неморино — я хорошо обдумал. Роль у меня вот тут, в голове. Дождись премьеры и увидишь.
И премьера превратилась для меня в настоящий триумф. Критика превозносила мое актерское решение образа не меньше, чем пение. Режиссер доверился мне и остался очень доволен моим исполнением. Во всяком случае, ему не пришлось сожалеть о своем доверии.
Все четыре месяца, проведенные в Австралии, я старательно занимался и английским языком. Но поистине титанический труд я вложил в совершенствование вокальной техники. К
концу гастролей моя диафрагма стала заметно сильнее, и я использовал ее больше, а голосовые связки уже не напрягались, как прежде.
Когда я вернулся в Италию, мой ларинголог пришел в радостное изумление. Он постоянно тревожился за меня, потому что после длительной работы мои голосовые связки выглядят обычно бледными и больными. А сейчас они стали розовыми и здоровыми.
— Очевидно, вы теперь правильно поете и дышите, — заметил врач, — сила идет от диафрагмы, а не от горла. Больше не перегружаете связки, судя по тому, в каком они прекрасном состоянии.
Думаю, что столь памятные австралийские гастроли стали последним заключительным этапом в моем формировании как тенора.
С тех пор я научился еще очень и очень многому и надеюсь учиться дальше, как Джильи, упражняясь и совершенствуясь, пока окончательно не перестану петь. Но благодаря тому, что мой голос опирался на диафрагму, чему научила меня Джоан, я мог теперь выходить на сцену подряд вечер за вечером в потрясающей форме, без малейших признаков усталости.
Правда, мой голос и сейчас устает от долгого пения, мне приходится быть осторожным и не перегружать его (или не говорить много), но после австралийского турне мой вокальный аппарат смог работать без переутомления гораздо дольше, чем раньше. Я благодарен Джоан за многое, но прежде всего именно за это.
На завоевание Нью-Йорка
Когда впервые приехал в Сан-Франциско петь «Богему», я считал чрезвычайно важным выступить там очень успешно. В Соединенных Штатах есть три музыкальные сцены международного уровня: Оперный театр в Сан-Франциско, которым руководит Курт Герберт Адлер, Чикагский Оперный и Метрополитен в Нью-Йорке. Подобно тому, как первоклассная скаковая лошадь должна выиграть Дерби, Прикнесс и Белмонт Стейке, чтобы завоевать «Тройную корону», так и оперному певцу необходим успех в Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорке, чтобы завоевать Америку.
С очаровательной Адиной — Кэтлин Бэттл в опере Доницетти «Любовный напиток». Метрополитен
Начнем с того, что все эти три оперных театра постоянно соперничают друг с другом. Если с противоположного конца Соединенных Штатов доносится слух, что какой-то тенор или какое-то сопрано хорошо зарекомендовали себя в каком-нибудь европейском театре, это никого особенно не взволнует. Но если дирекция Метрополитен узнает, что такой-то певец с большим успехом выступил в Сан-Франциско или Чикаго, то немедленно пытается заполучить его.
В Сан-Франциско я спел «Богему» с Миреллой Френи. Петь с нею всегда одно удовольствие, а тем более в опере Пуччини. Естественно, и Сан-Франциско тоже пробуждал радостные чувства. Я сразу же влюбился в блистательный город, приобрел здесь много друзей и с тех пор, возвращаясь туда, всякий раз чувствую себя как дома. К счастью, тогда голос не подвел меня, и публика ответила мне такой же любовью, какою я воспылал к ней.
Оперный театр в Сан-Франциско попросил снова приехать в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году и спеть «Лючию» с Маргеритой Ринальди.
Оставались Чикаго и Нью-Йорк.
Директор Метрополитен сэр Рудольф Бинг пригласил меня дебютировать в «Богеме» — и вновь с Миреллой Френи.
Выступая осенью в Сан-Франциско, я заболел гонконгским гриппом и очень долго не мог поправиться. Чувствовал себя настолько скверно, что даже отменил последнее представление «Лючии». Я отправился в Нью-Йорк, однако там нервозность моя усилилась: день дебюта приближался, а болезнь только обострялась.
С тех пор и начались мои взлеты и падения в Метрополитен. Все же невозможно переоценить значение успеха в Нью-Йоркском театре для карьеры любого певца, который стремится достичь вершины в оперном мире. Другими словами, почти невозможно обрести мировую известность, не покорив Нью-Йорк. Конечно, бывали и исключения. Беверли Силлз, например, стала яркой звездой задолго до дебюта в Метрополитен, но чаще всего без поддержки этого театра нельзя войти в первые ряды американского музыкального истеблишмента.
Вот почему любого певца парализует страх при мысли о дебюте в Метрополитен. Но я знал: отчеты о моих победах в Сан-Франциско уже дошли до Нью-Йорка, и публика хочет оценить, насколько справедлива столь громкая похвала. Так вот, с одной стороны ты доволен, что уже достиг определенного успеха, а с другой, — хотелось бы, оказавшись там, выступить первый раз как можно спокойнее. Потому что, если все пройдет гладко, не замедлишь оказаться в центре внимания, но если споешь хуже обычного, тебя вообще не заметят.
Разумеется, все это лишь чистые химеры. Рудольф Бинг и его сотрудники обязательно заметят, такая уж у них профессия. Точно так же, как и критики. Во всяком случае, после триумфа в Сан-Франциско надежда остаться в Нью-Йорке незамеченным представлялась нереальной, просто немыслимой.
В ноябре 1968 года ньюйоркцы, с недоверием относящиеся к любому артисту, который приобрел известность не в их городе, ожидали моего дебюта в «Богеме».
Я прекрасно понимал, что до сих пор мне очень везло в моей карьере: агент Цилиани, случайно оказавшийся на моем дебюте, приехав послушать другого певца; Джоан Ингпен, отправившаяся в Дублин искать тенора для Ковент-Гарден именно в то время, когда я пел в ирландской столице; Джоан Сазерленд, искавшая тенора высокого роста для гастролей в Австралии.
Теперь мне следовало отблагодарить судьбу за ее подарки. Однако мой дебют в Метрополитен уже назначен, а я заболел страшным гриппом.
Я знаю, что во многих сферах деятельности самая банальная болезнь может обернуться бедой: деловой человек пропускает важную встречу, коммерсант теряет выгодную сделку, спортсмен выбывает из важнейшего соревнования. Но трудно, наверное, представить кого-либо несчастнее оперного певца, заболевшего накануне дебюта в Метрополитен.
Нервное напряжение ужасно нарастает по мере приближения решающего момента, а здоровье и не думает возвращаться. Кроме того, мучает мысль: если все-таки придется отменить дебют, наверняка станут думать, будто ты просто-напросто струсил. Ничто, ну разве только твой труп, лежащий на площади Линкольн-центра, не убедит публику, что это не так.
Сильный кашель не проходил, болело горло, а температура поднималась за тридцать восемь градусов. Моя давняя подруга, совершенно очаровательное создание, Мирелла Френи, которой предстояло исполнять партию Мими, когда меня сразила болезнь, огорчилась не меньше. К тому же она очень опасалась заразиться. Больной певец на сцене — это уже достаточно тяжко, а два больных певца — это уже непосильное испытание для публики. Какая уж тут симпатия!
Несмотря на переполняющий ее страх, Мирелла пыталась лечить меня. Она готовила мне разные супы и другие жидкие блюда. Когда приносила еду, я лишь слегка приоткрывал дверь, чтобы взять тарелку, и даже не видел ее лица, только слышал вздохи: «Бедный мальчик, бедный мальчик!»
Однако я не стал отменять выступление и возвращаться в Италию, что, наверное, следовало бы сделать. Я поступил иначе — просто отложил дебют на неделю. Неделя прошла, но болезнь не отступала.
В день премьеры, 23 ноября 1968 года, я позвонил Бобу Герману, одному из главных помощников Рудольфа Бинга в художественном руководстве Мет, и попросил его о встрече со мной и моим аккомпаниатором в одном из репетиционных помещений театра. Я спел ему несколько основных арий из «Богемы» и хотел узнать, способен ли я, на его взгляд, выйти на сцену. Он ответил, что голос мой звучит прекрасно. Так, может быть, я все-таки могу дебютировать?
Я кое-как загримировался, надел костюм и направился на подмостки, о которых мечтает любой оперный певец — на сцену Метрополитен. Происходило это в субботу днем и, на мою удачу, за несколько дней до первой в сезоне трансляции спектакля по радио. По крайней мере, мой претерпевший стихийное бедствие голос не прозвучал в каждом доме Америки.
Певец, который из-за недомогания звучит хуже своих возможностей, будет понят и прощен публикой, если она уже слышала его прежде и знает, на что тот способен в свои лучшие времена. Но когда выступаешь в городе впервые — зрители знают тебя лишь понаслышке и имеют все основания полагать, что, отважившись выйти на такую сцену, ты, очевидно, покажешь все, на что способен.
Так или иначе, я предстал перед публикой Нью-Йорка. Впоследствии между нами установились отношения, которые можно сравнить лишь с сердечным романом, — лучшего не припомню за всю жизнь, но в тот день мы еще оставались чужими людьми.
Дирижер, итальянец, чье имя не хочу даже упоминать, нисколько не помогал мне. Есть немало таких приемов, к которым маэстро может прибегнуть, чтобы выручить певца: «прикрыть» его чуть-чуть оркестром в каких-то слабых местах, позволить взять дыхание, предвосхитить какую-то чисто техническую сложность и помочь преодолеть ее.
Но еще важнее для певца знать, что дирижер переживает за него, волнуется, заботится о его успехе и всячески хочет содействовать ему.
Многие маэстро так и относятся к певцам, но существует и другой тип дирижера — человек, который думает только о себе и своей трактовке музыки. Он вдохновенно управляет оркестром со своего дирижерского Олимпа и смотрит на певца лишь как на послушнейший инструмент, если вообще замечает его. И ты, конечно, падаешь духом, когда видишь внизу, в оркестровой яме, человека, который мог бы тебя выручить, а он даже не интересуется, жив ты или мертв. На спектакле всегда надеешься на поддержку дирижера, но она особенно важна, когда ты болен и не в голосе.
Мирелла была изумительна, когда отважно бросала вызов вирусу гриппа в любовных сценах и всячески ободряла меня во время моего пения. Кое-как дотянул я до окончания спектакля, и реакция публики оказалась горячей, хотя и не такой, как в других театрах и как в Нью-Йорке в дальнейшем.
Удивительно, но и рецензии появились положительные. Писал бы их я, они, конечно, оказались бы совсем иными. Питер Дж. Девис восхищался в «Нью-Йорк тайме»:
«Лучано Паваротти имел огромный успех, прежде всего благодаря природной красоте голоса: это блистательный, гибкий инструмент с потрясающим металлическим тембром на верхах, который становится теплее в среднем регистре, где поражает своим отшлифованным блеском. Тенор, который с такой непринужденностью берет грудное «до», с такой легкостью преодолевает все оттенки diminuendo и с таким порывом исполняет пуччиниевские мелодии, покорит своей «Богемой» любую публику, как это сделал Лучано Паваротти с публикой Нью-Йорка».
Мило, конечно, ничего не скажешь. Независимо от того, в каких обстоятельствах проходит дебют — плохое самочувствие, нервозное состояние, ужасное настроение, отсутствие «вдохновения» — ты все же не теряешь надежду, что сможешь впоследствии добиться такого успеха, который станет событием в истории оперы, превратится в легенду, мечта о которой шесть лет помогала тебе петь вокализы и упражнения.
Мой дебют в Метрополитен прошел достойно, может быть, немного более, чем достойно, но я знал свои возможности и понимал, что весьма далек от лучшего, на что способен.
В общем, я все же утешил себя тем, что нью-йоркская публика приняла меня милостивее, чем Карузо во время его дебюта в Метрополитен.
Я попытался спеть второй спектакль, но не смог. Дошел до конца второго акта и не смог продолжать. Меня заменил, кажется, Берри Моррел. Я отчаянно мечтал вернуться в Модену и лечь в постель. И мне пришлось отменить все другие обязательства в Нью-Йорке, в том числе еще 20 или 30 спектаклей в Метрополитен. Сэр Рудольф Бинг проявил ко мне истинное сочувствие, за что я ему чрезвычайно благодарен.
За семь лет певческой карьеры я множество раз счастливо возвращался в родные края. Я бесконечно люблю свою семью и вдали от дома очень остро ощущаю, как мне недостает моих близких. Это ощущение настолько сильное, что даже никогда не беру с собой фотографии жены и дочерей, потому что если бы только взглянул на них, то бросил бы все и сел бы в первый же самолет, вылетающий в Италию.
Для меня всегда огромнейшее счастье, когда гастроли заканчиваются и я наконец возвращаюсь домой. Я приезжаю с горой подарков для жены, дочерей, родителей, сестры… И всегда привожу ворох газетных вырезок с хвалебными рецензиями и другие сувениры, связанные с моими успехами.
А в этот раз все прошло по-другому. Как сказала мне потом Адуа, она решила, что ньюйоркцы забросали меня гнилыми помидорами, настолько я оказался измучен и убит, когда появился на пороге. Я прошел прямо к постели, свалился на нее и проболел еще почти три месяца. Некоторые врачи считали, что температура поднялась из-за того, что я слишком волновался перед дебютом в Метрополитен. Но для меня болезнь есть болезнь, и она никак не связана с волнением на сцене. Есть люди, которые подвержены подобным недомоганиям от нервов, но я не из их числа. Я лично думаю, что все дело в каком-то крохотном зловредном вирусе из Сан-Франциско, который хотел помешать мне завоевать Нью-Йорк.
В Нью-Йорке мне впервые довелось побывать еще до столь нелегкого дебюта в Метрополитен. Это случилось двумя годами раньше, когда я ездил в Канаду, где театр Ад Скала показывал на выставке «Экспо-67» оперу Беллини «Капулетти и Монтекки». В конце гастролей меня попросили приехать в Нью-Йорк в качестве дублера Карло Бергонци, который пел «Реквием» Верди под управлением фон Караяна.
Мое первое впечатление о Нью-Йорке ужасное. Погода стояла очень скверная — пасмурно и холодно. Небоскребы давили на меня. Все кругом казалось грязным. Не видно ни неба, ни клочка зелени. Кроме того, я возненавидел гостиницу, где остановился, люди там подобрались какие-то неприятные, хмурые — ни единой улыбки.
Едва фон Караян поднял руку и я убедился, что Бергонци на сцене и в голосе, я тут же поспешил в аэропорт, желая как можно скорее покинуть Нью-Йорк.
Я могу говорить о своем первом впечатлении от Нью-Йорка откровенно, не опасаясь кого-либо обидеть, потому что впоследствии он стал для меня одним из городов, которые нравятся мне больше всех на свете. Думаю, что друзей у меня там как нигде много, за исключением, возможно, Модены. Этот огромный город бесконечно восхищает меня, и, возвращаясь туда, я всегда испытываю радостное возбуждение.
После моего несчастного дебюта я вовсе не надеялся вернуться в Нью-Йорк. Тем не менее, сэр Рудольф Бинг настолько поверил в меня, что вновь пригласил петь в Метрополитен в 1970 году — Альфреда в «Травиате» Верди. Выступление прошло очень удачно, но чтобы добиться настоящего триумфа мне пришлось подождать до 1972 года, когда мы с Джоан Сазерленд привезли в Метрополитен «Дочь полка».
О пении и интерпретации
Проучившись много лет вокалу, овладев искусством бельканто и проработав в театре столь долго, сколько удается немногим, нельзя не приобрести твердые убеждения, как следует петь.
Многие уже отмечали, что методов преподавания столько же, сколько и педагогов. Ведь любой голос чем-то не похож на другой, как и почерк человека или отпечатки пальцев, и всякий раз ставит перед педагогом свои особые проблемы. Однако некоторые положения вокала остаются основополагающими.
Фантастический Франко Корелли — Радамес. «Аида» Верди.
Певец, наделённый всеми необходимыми физическими данными, ~ Франко Корелли. Он вовсе не такой худощавый, каким может показаться на первый взгляд. Мощные голоса, как правило, бывают у людей с внушительной фигурой…
Главное, что лежит в основе искусства пения, — опора голоса на дыхание. Теоретически я знал это давно, но до конца овладел вокальной техникой и в полной мере понял, насколько важна опора голоса на диафрагму для серьезной певческой карьеры, требующей непрестанного выхода на сцену, только на гастролях в Австралии с Джоан Сазерленд в 1965 году.
На мой взгляд, Джоан Сазерленд — идеальная певица еще и потому, что обладает крепким телосложением. У нее весьма солидная, крепкая, отличных пропорций фигура.
Еще один пример: певец, наделенный всеми необходимыми физическими данными, — Франко Корелли. Он вовсе не такой худощавый, каким может показаться на первый взгляд. У этих двух певцов фантастические голоса и невероятная способность опирать звук на диафрагму. Мощные голоса, как правило, бывают у людей с внушительной фигурой (не хочу употреблять одиозное слово «толстый»).
Опора на надежный торс столь важна еще и потому, что благодаря ей снимается напряжение с голосовых связок — с этих невероятно тонких чувствительных мембран — и переносится на диафрагму, которая, по сути, не что иное, как хорошо развитая, сильная мускулатура. Стоит ее натренировать, и она станет исключительно крепкой. Если правильно опираешь голос, то есть верно используешь диафрагму, можешь петь значительно дольше — целый вечер и на протяжении всей жизни — без всяких признаков усталости.
Лучший пример тому — детский плач. Младенец может кричать ночь напролет, ничуть не уменьшая силы звука. Это происходит потому, что он рождает его диафрагмой, а не глоткой. Конечно, у ребенка есть преимущество — он тянет одну-единственную ноту, не заботясь о мелодии. И все же он учит нас кое-чему, что может пригодиться в искусстве пения.
Звук возникает отнюдь не в горле. Это так просто и очевидно, но почему-то очень многие певцы забывают об этой наглядной истине. Нужно упражняться и упражняться до тех пор, пока опора голоса на диафрагму не станет совершенно рефлекторной. Кроме того, необходимо — также с помощью упражнений — устранять любое препятствие, какое может оказаться на пути потока воздуха, поднимающегося от диафрагмы к голосовым связкам.
Разумеется, существует огромное многообразие голосовых связок. Именно поэтому у одних певцов голоса великолепные, а у других нет. Но в остальном же, ниже голосовых связок, все мы устроены примерно одинаково. Практически любой, кто как следует поупражняется, может правильно развить диафрагму и опереть на нее звук.
Но даже самый необыкновенный голосовой аппарат не раскроет полностью все свои возможности до тех пор, пока дыхание и опора голоса не будут доведены до такой степени совершенства, что поток воздуха — а его можно назвать «карбюратором» производимого звука — не станет автоматически беспрепятственно и с нужной силой выталкиваться вверх.
Второе по важности качество певца — умение сосредоточиться. Причем концентрация внимания должна быть полной — и не только на том, как формируете звук, но и на содержании исполняемого произведения. Когда меня волнует чье-либо пение, я смотрю на исполнителя и безошибочно определяю: он действительно целиком растворился в музыке.
Тенор (или сопрано), чье пение по-настоящему волнует меня, не думает о том, правильно ли взята самая верхняя нота и достаточно ли внимательно слушает публика. Он полностью погружен в музыку и занят только исполнением, стараясь петь с наибольшей выразительностью. В таком и только в таком случае артисту удается тронуть сердца людей. Иначе даже самый распрекрасный на свете голос не принесет слушателям полного удовлетворения.
Чрезвычайно важна и четкая дикция. Ведь мы выпеваем какие-то слова, и если они звучат невнятно, не только теряется смысл поэтических строк, положенных на музыку, но слушатель к тому же начинает негативно относиться к певцу. А будь у него хорошая дикция, можно не думать о ней и целиком сосредоточиться на исполнении.
Вот почему необходимо очень много — буквально по-рабски — работать над четкой дикцией, пока она не станет настолько непроизвольной, что певцу уже совершенно не понадобится думать о ней. Тем не менее, если этого не добиться в самом начале обучения, позднее будет намного труднее освоить правильное произношение.
Примером изумительной дикции, по-моему, может служить дикция Джузеппе Ди Стефано. Многое восхищает меня в нем, но прежде всего то, как удивительно четко он доносит до вас каждый слог. Меня часто спрашивают, кого из певцов я взял себе за образец. Никого конкретно. Я восторгаюсь достоинствами многих великих теноров. Что касается дикции, то у Ди Стефано она непревзойденная.
Однако наиболее трудная для вокалиста задача — владение пассажем. Почти у всех певцов не один голос, а три — нижний, средний и верхний. И переход из одного регистра в другой — это и есть пассаж, как бы резкое переключение скорости автомобиля — смена регистра всегда заметна.
Прежде всего, певцу следует разобраться, где именно происходят у него такие «переключения», и контролировать их с тем, чтобы они оставались практически незаметными. В идеале слушатели не должны вовсе чувствовать эти переходы, и твой голос обязан звучать ровно во всех регистрах.
У некоторых певцов только два регистра, и, значит, они делают только один пассаж. Мне говорили, что из множества факторов, которые образуют необыкновенный голос Этель Мирман, главный как раз тот, что у нее нет ни единого пассажа. Она обладает только одним регистром, поэтому может подниматься к самым верхним нотам, не изменяя звучания голоса.
Незаметный пассаж очень важен и при исполнении самых высоких нот. Если переход из среднего регистра к верхнему правильный, то голос раскрывается лучше и верхнее «си» и грудное «до» имеют все шансы прозвучать уверенно и проникновенно.
Я не могу точно объяснить, почему такое случается, но важно, что случается. Происходит нечто похожее на преодоление звукового барьера. Правильное преодоление влияет на все исполнение. Но помимо этого, пассаж очень важен еще и потому, что на высокой ноте голос может треснуть и появятся какие-то неприятные призвуки — еще одна причина, почему эти ноты нужно особенно контролировать. Стоит, пожалуй, даже чуть-чуть прикрыть горло. А потом, когда пассаж будет пройден, можно приоткрыть гортань и уже с гораздо меньшим опасением в полную силу взять те верха, какие так нравятся публике.
Заставив двух моих учеников как следует потрудиться над пассажем, я помог им уверенно брать такие высокие ноты, о каких они прежде и не мечтали.
Все сказанное мною может показаться очень важным лишь специалистам, но я подумал, что, возможно, людям, не имеющим никакого отношения к оперной сцене, тоже интересно получить хоть небольшое представление о трудностях, какие нам приходится преодолевать. И естественно, если бы мы стали думать обо всем этом во время выступления перед публикой, наше исполнение не имело бы ничего общего с музыкой. Нужно необыкновенно много и долго упражняться, чтобы довести вокальную технику до автоматизма и совсем не думать о ней на сцене.
Иногда меня спрашивают, как же это возможно — учиться долгие годы пению и все равно не быть готовым к выступлению перед публикой. Ответ на этот вопрос и заключается во всем, что я сказал выше.
Но вернусь к высоким нотам. Существуют разные способы, позволяющие певцам спеть их. Вот, например, девять грудных «до» в «Дочери полка». Для меня не составляет никакого труда взять их, если осторожно обращаюсь со своим голосом на протяжении всего спектакля.
Тут все сводится к фразировке и контролю, важно не слишком переутомлять верхний регистр. Если используете верные технические приемы на всех уровнях пения, подобный эксперимент, конечно, хоть и дастся нелегко, но все же возможен.
Если же, напротив, станете форсировать звук, нажимать, стараться петь громче, чем это отпущено вам природой, то будете иметь немалые осложнения. Многие тенора допускают такую ошибку.
Я вовсе не хочу сказать, будто, используя правильную технику, запросто, с ходу возьмете девять грудных «до» в «Дочери полка».
Первый раз, когда я спел их в Ковент-Гарден, ужасно перепугался. Я решил, что мне помогли не связки, а какие-то совершенно другие мышцы, доселе мне не известные. По общему мнению, с тех пор, как Доницетти создал эту оперу, еще ни один тенор не попытался исполнить эту арию в тональности оригинала.
Я тоже сомневался, что возьму все эти «до», но на генеральной репетиции попытался спеть арию, как она написана в партитуре, и вдруг оркестр встал и зааплодировал мне. Я почувствовал себя на седьмом небе от счастья и решил впредь всегда петь арию так, как ее хотел слышать Доницетти.
Подобные перипетии с верхними нотами для нас, теноров, всегда досадны и немножко смешны. Ты можешь петь плохо весь вечер, но возьмешь свое грудное «до», и публика простит тебе все. И наоборот, только одна неудачная высокая нота способна моментально перечеркнуть твое превосходнейшее пение на протяжении трех часов. Как сказал кто-то: «Одна фальшивая нота способна убить весь спектакль». Точно так же, как на корриде. Ты не имеешь права позволить себе ни единой ошибки.
Не знаю, отчего оперная публика ведет себя как во время боя быков. Наверное, есть что-то бесспорно волнующее в ожидании момента, когда взрослый человек вложит всю силу своего голоса в труднейшее, неестественно высокое грудное «до». Помимо всего, у слушателя возникает такое же ощущение опасности, какое испытывает матадор, рискуя получить смертельный удар.
Брать предельно высокие ноты в полную силу голоса в оперном театре стали сравнительно недавно. Прежде такие ноты исподнялись фальцетом. Лишь в 1820 году тенор Доменико Дондзелли спел «ля-бемоль» в полный голос. Публика оценила эту смелость.
Спустя некоторое время другой тенор, Луи-Жильбер Дюпре, громко взял грудное «до» в «Вильгельме Телле», что вызвало известное замечание Россини: «Дюпре провизжал эту ноту, словно каплун, которому ножом полоснули по горлу».
Однако оперная публика не согласилась с Россини, и с тех пор тенора постоянно стараются брать эту ноту в полную силу. Я же не знаю, благодарить Дюпре или проклинать его. Придавать такое огромное значение грудному «до» глупо. Карузо его не брал. Тито Скипа тем более. У Скипы вообще голос был небольшой, зато певец отличался изумительной фразировкой, что для исполнения музыки во сто крат важнее.
Фразировка — это способ придать форму исполнению в пределах заданного дирижером темпа. Я думаю, что тут все сводится к интуиции — либо у тебя есть чувство фразы, либо нет.
Что касается меня самого, то, думаю, мое пение наполовину идет от разума, наполовину от интуиции. Но желая подчеркнуть какую-то музыкальную фразу, певец может сознательно нагнетать напряженность.
Например, иной раз можно достичь нужного эффекта, если брать какую-то ноту чуть-чуть раньше, иными словами, начинать петь ее на какую-то долю секунды из-за такта. В других случаях можно поступить наоборот — то есть запеть на долю секунды после вступления оркестра.
Однако всегда нужно быть очень осторожным с такими экспериментами. Лучшим примером неудачного отклонения от партитуры, которое может испортить музыкальный номер, является плохое портаменто. Оно возникает, когда певец, переходя от ноты среднего регистра к более высокой, берет сначала соседнюю ноту и через нее как бы «вплывает» в нужную.
Я никак не могу понять, ради чего некоторые певцы делают это сознательно. Ведь результат просто ужасен! Если композитор указывает, что здесь ты должен взять «до» в среднем регистре, а затем перейти на «ля-бемоль», то именно это и следует сделать, спев ноты точно так, как написано, без каких бы то ни было промежуточных «остановок» в пути.
Вообще-то есть причина, почему подобная слабость так распространена среди певцов. Им постоянно твердят, что они должны искать лучшую мелодическую фразировку легато, вот они и уступают соблазну связать ноты, как бы переходя от одной к другой.
Это еще один пример, показывающий, сколько трудностей нужно преодолеть, чтобы добиться хорошего и, на первый взгляд, такого естественного пения. Да, необходимо развивать текучее легато, но не скользя от одной ноты к другой.
Мой первый учитель пения маэстро Арриго Пола начал вбивать мне в голову этот закон о портаменто с самого первого урока. Он терпеть не мог, когда певец выходил в ноту «с черного входа». Он настаивал, чтобы я научился брать каждую ноту верно, сразу же попадая в яблочко, если не хочу без конца выслушивать в свой адрес упреки и замечания. Сейчас я думаю, что хорошо освоил его урок и готов внушать его требования своим ученикам столь же старательно, как это делал он со мной.
А что касается фразировки, тут очень мало чему можно научить. Конечно, возможно заставить ученика повторять одну и ту же фразу до тех пор, пока она не зазвучит, на ваш взгляд, верно. Но если певец не чувствует ее всем своим нутром, вполне вероятно, что в следующий раз он не сумеет повторить ее так же хорошо.
Фразировка должна вытекать совершенно естественно из понимания музыки и ее выразительности. Вот тут-то очень важна сосредоточенность, о которой я уже говорил, но сама по себе она, конечно, ничего не даст, если в голове и в сердце певца нет ничего, на чем нужно сосредоточиться.
Жизненно важная задача для тенора — выбор партии. Сделать здесь верный шаг необходимо и для творческого успеха, и для долголетней жизни на сцене. Я уже упоминал как-то, что отказался петь в «Вильгельме Телле» Россини, хотя умирал от желания по-настоящему дебютировать в Ла Скала. Но эта партия погубила бы мой голос.
Энрико Карузо.
При всем моем уважении к маэстро фон Караяну, я не согласен с ним, когда он утверждает, будто мой голос лучше. Для меня Карузо ~ идеальный образец, на который все мы, тенора, должны равняться.
Я лишь недавно закончил запись «Вильгельма Телля» для лондонской фирмы «Рекорд», но мы работали над нею целых два года. И хотя сегодня мой голос гораздо крепче, я и сейчас не стал бы выступать в этой опере в театре.
В другой раз я отказался от контракта с Ковент-Гарден и не согласился петь в опере Моцарта «Так поступают все женщины» под управлением сэра Георга Солти, так как почувствовал, что мой голос слишком тяжел для такой музыки (а кроме того, я просто не мог представить себя в белом парике).
Не помню уж, сколько раз я отказывался петь в «Аиде». Импресарио театров всячески стараются хитро подтолкнуть тебя к чему-нибудь, тебе еще недоступному. И не только они. Как-то один мой друг пришел за кулисы, когда я пел в «Тоске», и поинтересовался:
— Когда же ты перестанешь петь подобные партии и перейдешь, наконец, к «Аиде» или Вагнеру?
Мой друг — фанатичный поклонник немецкого композитора, но горе мне, если бы я попытался петь Вагнера. Для исполнения его музыки нужен совсем другой голос и совершенно иная манера пения.
Некоторым солистам удается петь и Вагнера, и одновременно других композиторов, но таких вокалистов очень немного. Джоан Сазерленд начинала как вагнеровское сопрано. А когда поняла, что ее голос лучше подходит для более лирических партий — мне очень повезло, что она пришла к такому убеждению! — то больше уже никогда всерьез не возвращалась к Вагнеру.
Жан де Решке, самый великий тенор до Карузо, уже в зрелые годы решил попытаться выступить в партии Зигфрида. И не имел успеха, но что гораздо обиднее — его певческая жизнь окончилась примерно через два года после этого.
Не случайно многие певцы убеждены, что именно потуги петь Вагнера сократили на несколько лет их вокальную жизнь, и этого не случилось бы, если б они не выходили за пределы доступного им репертуара.
Тенор может повредить свой верхний регистр, если будет заставлять голос осваивать слишком низкие для него партии.
— Голос, — считает мой друг Умберто Боэри, — как резиновая пластинка: потянешь в одну сторону, она становится тоньше с другой.
Мне нравится это сравнение. Если бы я напрягал бы свой голос в трудных драматических партиях, то рисковал бы потерять чистоту звука в верхнем регистре.
Я получил в дар от природы лирический тенор, не «темный», легко берущий верхние ноты. Это голос, которому доступен очень широкий репертуар, и прежде всего бельканто Беллини и Доницетти. Журналисты часто спрашивают меня, какую музыку я больше всего люблю, на что неизменно отвечаю:
— Моему голосу нравится Доницетти.
Некоторые оперы Верди и Пуччини я пою без особого усилия. Но есть теноровые партии даже в итальянском репертуаре, которые всегда будут оставаться за пределами моих возможностей. «Отелло» Верди или «Андре Шенье» Джордано.
По мере того как тенор стареет, его голос вполне естественно начинает «темнеть», приобретать баритональный оттенок. Это не означает, что с годами тенор непременно должен утратить верхний регистр, просто голос приобретает более темную естественную окраску, что исключает какое бы то ни было насилие над ним. Подобные перемены происходят обычно к сорока годам. Поэтому и я дожидался этого возраста, прежде чем взяться за вердиевского Манрико в «Трубадуре» и Энцо в «Джоконде». Я спел их впервые в сорок четыре года.
Верди создал широкий диапазон партий для тенора, и мне кажется, в них есть какое-то логическое развитие, позволяющее певцу переходить от самых прозрачных к самым «темным» партиям. Последний акт «Луизы Миллер», например, такой же трудный, как в «Отелло».
Когда я впервые пел в «Луизе» в 1974 году, я начал думать, что, может быть, вскоре смогу стать и Радамесом в «Аиде».
Действительно, я скоро буду петь эту партию в Сан-Франциско. И публика скажет мне, появились ли у меня необходимые для нее вокальные данные.
С годами мой голос изменился, хотя его окраска осталась прежней. Жена говорит, что у меня всегда сохранялся очень красивый тембр, и мне приятно соглашаться с ней. (Позволительно ли так откровенно говорить о своем голосе? Думаю, да. К тому же, это ведь дар божий, поэтому дело тут не в тщеславии, а в благодарности.) Так или иначе, думаю, что благодаря Небу, и качество звука немного улучшилось. Он приобрел силу и устойчивость, больше опирается на диафрагму. В начале карьеры мой голос немного «качался», звучал излишне горловым, и я не во всем его контролировал. Теперь мне кажется, я стал полновластным его хозяином.
С самых первых шагов я никогда не напрягал голос исполнением не подходящих для него партий. Благодаря такой осторожности он остался лирическим тенором, возможно, несколько порывистым, но все же в основном лирическим. Я способен выступить в «Турандот», но могу петь и «Любовный напиток» и «Сомнамбулу». А партия Манрико в «Трубадуре» — очень тяжелая, слишком эмоциональная. Когда я пел ее в Метрополитен, то показал, что в силах справиться с нею, но она по-прежнему остается за пределами моих возможностей.
Порой меня тревожит, почему мой голос не стал до сих пор жестким, а все еще богат оттенками. И все же это не главная забота. Больше всего мне хочется, чтобы голос мой оставался светлым, с сильным, металлическим, тембром, однако не как у кастрата.
С годами мой голос постепенно и естественно «темнеет», и я приближаюсь к таким операм, как «Бал-маскарад», «Луиза Миллер», «Тоска». А когда-нибудь, возможно, попробую спеть и Хозе в «Кармен». Особенно хочется выступить в роли Вертера, но не стану готовить эту романтическую партию, пока не сброшу лишний вес.
Некоторые партии подвергают мои связки тяжелому испытанию. Исполнять «Пуритан», например, все равно, что ходить по канату без страховки. Почти все время тенор должен петь полным голосом в самом верхнем регистре. В партии есть сверхвысокие ноты — два «ре» и одно «фа».
И «Трубадур», и «Фаворитка», и другие оперы моего репертуара — тоже очень трудные для пения даже при самой прочной опоре на диафрагму. После исполнения одной из этих партий мне нужно на какое-то время дать отдых связкам, чтобы вернуть им силу и свежесть. Мышцы, регулирующие связки, и их кровеносные сосуды нуждаются, по меньшей мере, в двух днях отдыха или даже больше, в зависимости от возраста певца.
Концертные выступления порой еще более изнурительны для голоса. После исполнения двадцати разных произведений — а все они очень различны по стилю — мой голос должен отдыхать несколько дней.
«Сомнамбула» всегда оставалась для меня принципиальной оперой. Я очень рано включил ее в свой репертуар, специально, чтобы овладеть, как я считаю, одной из самых трудных партий бельканто, а также доказать моему агенту, что я отнюдь не ленив и не боюсь трудностей.
В «Сомнамбуле» тенор не может пустить пыль в глаза. В каком-то смысле опера эта труднее «Пуритан». Если у вас нет сложностей в верхнем регистре, не нужно быть великим певцом, чтобы превосходно исполнить «Пуритан». А вот «Сомнамбула» требует умелой, очень умелой фразировки в среднем регистре, а не только в верхнем. Я знал, что если сумею спеть эту оперу как следует, то смогу сказать себе: я овладел бельканто.
В драматическом плане есть две партии, которые мне очень близки по своей сути — Рудольф в «Богеме» и Неморино в «Любовном напитке». Рудольф — поистине романтический образ, и думаю, что по характеру я тоже такой человек. Я придаю романтическую окраску почти всем своим ролям. Может быть, Рудольф мне особенно симпатичен потому, что я дебютировал в этой партии в Реджо Эмилии, а затем пел ее во многих других театрах мира.
Наконец, обожаю «Любовный напиток» Доницетти. Я считаю эту оперу шедевром. Сюжет — вдохновенный, и музыка идеально выражает его. Неморино где-то комичен, чаще патетичен, совсем как сама жизнь. Он простой деревенский парень, но отнюдь не дурак. Преодолевая трудности, он находит верную дорогу и, в конце концов, достигает желанной цели. Мне приятно сознавать, что я такой же.
А мой друг, который обвинял меня в том, что я пою легкие оперы, возможно, отчасти прав, когда говорил о «Тоске» — партия Каварадосси не многого требует от тенора — но совсем не прав, когда утверждал то же о «Любовном напитке». Неморино находится на сцене от начала до конца оперы, и вся партия буквально пересыпана трудностями.
Кроме Рудольфа и Неморино, очень подходящих моему голосу и моему характеру, есть немало других партий, к которым питаю особо теплые чувства, но если бы всю оставшуюся жизнь мне пришлось петь только одну какую-то партию, то я выбрал бы Ричарда в опере Верди «Бал-маскарад». Эта партия необычайно нравится мне. Несомненно, опера держится на теноре, и потрясающая музыка, которую Верди написал для него, дает возможность певцу показать различные манеры пения.
Впервые услышав «Бал-маскарад», я испытал ужасное разочарование. Не от самой оперы, разумеется, нет, и даже не от ее постановки. Я пришел в Ла Скала послушать своего кумира Джузеппе Ди Стефано, а он не смог петь, и тенор, заменивший его, — не помню кто — пел прекрасно, и все же спектакль этот оказался для меня сплошным разочарованием.
Более глубокое знакомство с этой оперой произошло в Дублине в 1963 году. Та же труппа, с которой я пел «Риголетто», ставила и «Бал-маскарад». Я ходил на все репетиции и, думаю, на большинство спектаклей. Я очень внимательно изучил оперу и, разумеется, в конце концов полюбил ее. И отлично понимал, что еще не время браться за партию Ричарда, слишком тяжелую для меня. Однако знал, что рано или поздно спою ее, и полагал, это произойдет, по-видимому, в конце моей карьеры.
Однако к 1970 году мой голос уже изменился, и я решил не откладывать дальше заветное желание (надеясь, конечно, что это не приведет к завершению карьеры). Не скажу, что партия далась мне легко, потому что слово это — легко — вообще неприменимо к опере. Но я чувствовал себя на сцене вполне комфортно и, надеюсь, спел Ричарда так, что все — и любители этой оперы, и я сам — остались довольны. Критики пришли в восторг — даже тот из них, кто всегда находил возможность придраться ко мне. Я был несказанно счастлив.
Как пример одной из множества трудностей для тенора в «Бале-маскараде» — вторая сцена первого акта, в хижине колдуньи Ульрики. Здесь у Ричарда, по сути, три разнообразных сольных номера и сложное трио; причем все в разных стилях, требующих совершенно различного звучания, фразировки и драматического состояния души. И это всего лишь одна из многих сцен.
Любовный дуэт второго акта — невероятно трудный. По напряжению с ним можно сравнить разве только дуэт в «Тристане и Изольде» Вагнера. Дуэт в «Отелло», конечно, шедевр, но в нем выражена совсем иная любовь. По непосредственности страсти я не знаю в итальянской музыке ничего подобного дуэту в «Бале-маскараде».
Дуэт заканчивается грудным «до» тенора. Обычно, когда подхожу к этой ноте, уже не думаю ни о чем другом, а в дуэте «Бала-маскарада» музыка настолько чувственная и возбуждающая и настолько захватывает меня, что я совсем забываю про грудное «до», а вспоминаю о нем, только когда уже нужно брать его. Наверное, Верди тут позаботился о певцах, потому что он дает здесь тенору и сопрано несколько секунд, чтобы прийти в себя, прежде чем взять высокую финальную ноту.
Есть еще один интересный момент в этом дуэте. Некоторые критикуют «Бал-маскарад», утверждая, будто герой оперы Ричард слишком безответственный человек, слишком поглощен своею любовью и становится виновником чересчур многих бед. Это тот самый случай, когда Верди рядом с безумной страстью, вложенной в дуэт, придает событиям и какую-то внутреннюю логику, которая не выражена словами в либретто. Верди заставляет нас почувствовать, насколько неразумна в своей стихийности любовь Ричарда к Амелии.
В конце любовной сцены во втором акте Верди удачно выбрал момент, чтобы ввести в действие мужа, иначе я не уверен, был ли бы Ричард столь благороден с Амелией.
Однажды я участвовал в превосходной постановке «Бала-маскарада» в Гамбурге. Режиссер Джон Декстер перенес действие оперы в Соединенные Штаты времен окончания Гражданской войны. Ричард стал северянином, а Ренато — южанином. Паж Оскар выведен негритянским мальчиком, и Ричард, как противник рабства, относился к нему по-дружески. Конспираторы превратились в куклуксклановцев. Все оказалось очень талантливо.
Финальная сцена — сцена бала — происходила в Нью-Орлеане, и дамы появлялись в кринолинах. Постановка производила грандиозное, сенсационное впечатление. Можете себе представить, как аплодировала публика Гамбурга, когда поднялся занавес.
Спектакль в Метрополитен, появившийся в 1980 году, многое позаимствовал из постановки в Гамбурге, но не повторил главного — события происходят не в гражданскую войну, а как первоначально, в колониальном Бостоне. Поскольку спектакль намечали транслировать по телевидению, режиссер особенно много внимания уделил актерской игре. И действительно, благодаря крупным планам, широкая публика смогла получить самое верное впечатление от постановки.
Выбирая партию, я первым делом обращаю внимание на то, подходит ли она моему голосу, иными словами — могу ли спеть ее, не повредив голосовые связки. Кроме того, стараюсь понять, интересна ли она в музыкальном и драматическом отношении. Наиболее трудны те оперы, где герой обрисован расплывчато. Сложно заинтересовать публику неправдоподобным, неопределенным характером.
Граф Ричард в опере Верди «Бал-маскарад».
Метрополитен
Одна из самых великих драматических теноровых партий — Отелло в опере Верди. Герой выведен и в музыке, и в действии так четко, что мы нисколько не сомневаемся в мотивах его поступков. Это облегчает задачу исполнителя.
У Отелло цельная, но вспыльчивая натура, и Яго пользуется этим, задумав погубить его. Точно так же в «Любовном напитке» характер Неморино выписан предельно ясно. В «Богеме», напротив, характер Рудольфа обрисован схематично. Но, в то же время, герой охвачен всепоглощающим чувством любви, и певец должен суметь передать это своим исполнением. Если сможет, успех ему обеспечен. А чтобы в спектакле Мими затмила Рудольфа, либо сопрано должна быть действительно необыкновенной, либо тенор уж совсем плох.
Есть две роли, сыгранные мною, которые создают тенору большие трудности из-за недостаточной отчетливости характеров: это Рудольф в «Луизе Миллер» Верди и Фернандо в «Фаворитке» Доницетти. Не говоря уже о недостатках либретто этих опер, роли здесь довольно туманные. Но музыка настолько прекрасна, что не жалко вложить много усилий, добиваясь, чтобы персонажи выглядели убедительными.
Когда неоднократно исполняешь какую-нибудь партию на протяжении многих лет, в ее интерпретации неизбежно возникают некоторые изменения. Порой они появляются постепенно, по мере того, как меняется твое видение персонажа и событий. В другом случае перемены происходят резко и объясняются неожиданной концепцией режиссера.
Я уже не говорю о самой постановке, которая всегда изменяется в зависимости от дирижера или режиссера. Например, «Богема», в которой я пел в Милане с Карлом Клайбером в 1979 году, нисколько не похожа на «Богему» под управлением фон Караяна. Как в драматическом, так и в музыкальном плане они оказались совершенно разными.
Работая с Клайбером, я воспринял некоторые его новые идеи, очень понравившиеся мне. Это поразительный музыкант, чувствующий невероятно тонко, он подсказал мне кое-какие действительно важные нюансы в интерпретации роли.
Иногда сам экспериментирую и по-другому исполняю ту или иную арию или же фразу, и эти изменения составляют мое собственное видение роли. Подобные перемены либо совсем незначительны, например, чуть короче спою где-то пианиссимо; либо более существенны, когда изменяется настроение арии или характер чувства, которое она выражает.
Такая возможность постоянно улучшать что-то, изменять целое или детали и делает девяносто пятое исполнение «Богемы» столь же значительным для меня, как и первое.
Когда певец достигает в собственной карьере такого положения, что может самостоятельно выбирать среди огромного разнообразия партий, то его решение объясняется уже не только музыкальными соображениями. Например, гораздо интереснее петь в опере, в которой находишься в центре событий, чем в спектакле, где оказываешься несколько в стороне от них.
Возьмите «Дона Паскуале», великую комическую оперу Доницетти. Главные действующие лица в ней — дон Паскуале, доктор Малатеста и Норина. Все они постоянно заняты в блистательных, полных юмора ансамблях. А Эрнесто, напротив, хоть у него и есть несколько действительно прекрасных арий, очень подходящих для моего голоса, пребывает на втором плане. Он не герой, как Неморино в «Любовном напитке», который приковывает к себе внимание зрительного зала.
Примерно то же самое могу сказать и о партии Альфреда в «Травиате». Верди написал для него несколько великолепных арий, но независимо от того, насколько хорош тенор, опера принадлежит Виолетте и Жермону. Я много пел Альфреда в начале своей карьеры, но тогда я радовался любой возможности, лишь бы меня слышали.
Есть еще одно немаловажное соображение, которое имеет значение при выборе оперы. По мере того как растет твой престиж, тебя побуждают исполнять все классические теноровые партии. Словом, совершить все подвиги Геракла. Поклонники и критики говорят: «Ну что ж, ты неплохо справился с «Балом-маскарадом». А с «Трубадуром»?» И у тебя не исчезает ощущение, будто еще предстоит преодолеть множество препятствий, прежде чем доберешься до заветной цели.
Причина подобных намеков, возможно, самая простая — желание услышать тебя во всех любимых партиях, и все постоянно давят на тебя, вынуждая браться за новые и новые партии. И если только они не выходят за границы моего голоса, я непременно постараюсь спеть их. Мне кажется, я выглядел бы просто ничтожеством или лентяем, если бы поступил иначе.
Я стремился освоить все основные партии, подходящие для моего голоса, это одна из причин, почему я взялся за Энцо в «Джоконде» в Сан-Франциско в 1979 году. Энцо — не самый интересный персонаж на свете, более того, даже в чем-то неестественный. И сюжет оперы тоже не очень-то волнующий. Даже при самом снисходительном отношении все равно можно сказать, что либретто оперы высосано из пальца.
Зато по вокальному богатству партия эта, на мой взгляд, очень интересна. Как и в роли Рудольфа, тенор может здесь сделать героя правдоподобным с помощью выразительности своего голоса. Мне нравится такой вызов. Вагнер однажды прекрасно парировал, когда кто-то обратил его внимание на алогичность финала «Кольца нибелунга». Некоторые эпизоды в сюжете показались критику лишенными смысла. Но вместо того чтобы защитить собственную оперу, маэстро признал, что его оппонент прав…, но лишь отчасти. Ибо музыка все делает совершенно логичным.
Думаю, я понимаю, что он имел в виду. Певец тоже способен ввести в оперу существенные акценты, не выписанные черным по белому в либретто.
Одна из самых трудных для тенора партий — Герцог Мантуанский в «Риголетто». Партия трудна, так как Верди требует от тенора петь в нескольких разных стилях: лирическом, лирическо-импульсивном и речитативном.
Полагаю, я уже немало сказал о том, насколько важно для тенора — и для любого другого голоса — не браться за партии, которые ему не подходят. С другой стороны, считаю, что иной раз бывает необходимо бросить вызов самому себе. Такой подход не кажется мне противоречием. Даже среди партий, вполне посильных для певца, одни слишком трудны для него в какой-то определенный период карьеры, другие требуют техники, фразировки или просто физической выносливости, какой у него еще нет. Вот тут-то я и бываю особенно безрассуден — всегда готов броситься в глубокую воду, чтобы посмотреть, удержусь на плаву или утону. Нередко, бросив такой вызов, можно достичь большого успеха всего за несколько часов, а не за годы работы в безопасном убежище музыкального класса своего педагога.
И наконец, хочу сказать: я очень полагаюсь на такое решение — на вызов самому себе, но только при этом не следует выходить за пределы собственных вокальных границ, очерченных природой. Лирическим тенорам, похожим на меня, которые находятся в самом начале карьеры, я хотел бы посоветовать спеть прежде всего «Риголетто» или «Сомнамбулу» — эту задачу можно решать всю сценическую жизнь. Нет нужды хвататься преждевременно за «Отелло» или Зигфрида, стараясь доказать, чего вы стоите.
Меня нередко спрашивают, почему я решился спеть партию Итальянского певца в «Кавалере розы» для пластинки лондонской фирмы «Рекорд», когда сэр Георг Солти пожелал, чтобы я записал эту арию. За исполнение такой небольшой партии — всего одна ария — я запросил свой обычный гонорар, как за всю оперу, полагая, что мне откажут. Но, должно быть, они оказались в очень большом затруднении с исполнителем, потому что приняли мои требования, впрочем, не такие уж чрезмерные, как может показаться: понадобилось шесть часов — две полных смены — чтобы записать ее. Рихард Штраус однажды попросил Карузо спеть эту арию, но великий неаполитанский тенор, насколько мне известно, так никогда и не исполнил ее.
Мои планы на ближайшие годы включают одну оперу, которая наглядно покажет, какого рода вызов самому себе привлекает меня, хотя она и входит в мою, так сказать, природную вокальную шкалу. Я бесконечно счастлив, что Метрополитен предложил мне партию в «Идоменее» Моцарта в сезоне 1983 года. Хотя я пел партию Идаманте в Глиндебурне в 1964 году, но еще никогда не исполнял Моцарта в Америке, и это очень привлекает меня. Неизменно ощущаешь радость, если можешь показать публике, к тому же любящей тебя публике, что ты способен превзойти ее ожидания.
Так или иначе, мне кажется, я уже исчерпал в основном весь лирический теноровый репертуар, доступный моему голосу. Поэтому, думаю, мне позволительно выбрать в каком-то спектакле партию несколько полегче. Поначалу, на заре своей карьеры, я постоянно брался за самое трудное. Стремлюсь к этому и теперь, так как всегда хочу выйти за пределы достигнутого… быть в форме. Но сейчас, выбирая новую партию, я не рвусь каждый раз к самой трудной.
Мир оперы
Теперь, когда я подошел к рассказу о моем дебюте в Метрополитен, я пою в оперных театрах всего мира, поэтому позволю себе высказать несколько соображений о моей странной профессии, которая заставила меня так много страдать, прежде чем я овладел ею.
Сам по себе тот факт, что опера все еще жива, представляется невероятным. Родившаяся как эстетический эксперимент для избранной интеллектуальной публики, драма на музыке очень быстро превратилась в одно из самых изысканных и дорогостоящих зрелищ, какое могли себе позволить лишь монархи.
А мы живем в эпоху, когда, по мнению специалистов, всякий спектакль, исполненный непосредственно перед публикой, превращается в анахронизм. Телевидение, доставляющее на
дом любое зрелище, все возрастающая стоимость постановок и относительная малочисленность любителей, посещающих театры, — все это как бы обрекает оперу на гибель.
Популярный драматический театр также движется в ту же сторону — здесь все чаще делают постановки либо попроще — монологи, спектакли без декораций, — либо создают масштабные зрелища, рассчитанные на привлечение всеобщего внимания. Суперзвезды если и появляются вживую перед публикой, то на столь огромных площадках — парки, стадионы, — что их выступления можно назвать непосредственными только условно — за них работает техника.
И это поистине чудо, что, несмотря на эту жесткую реальность, все еще существует такая дорогая и громоздкая форма зрелища, как опера. Вы только представьте, что для ее постановки необходим полный симфонический оркестр с выдающимся дирижером, искусно выполненные дорогие декорации и костюмы, нередко нужна и балетная труппа, не говоря уже об отлично срепетированном хоре и множестве солистов с великолепными голосами и необыкновенно широким диапазоном пения, которые потратили многие годы на совершенствование своего вокального аппарата.
Добавьте к этому огромные расходы, связанные с постановкой спектакля, и сложность его подготовки. К тому же самые знаменитые оперы живут уже десятки, даже сотни лет — и, значит, далеки от реальных интересов наших современников.
Сопоставьте все это с выступлением какого-нибудь одного певца в стиле «рок» под микрофон, с несколькими инструменталистами, удерживающими целый вечер внимание публики, которой собирается в пять раз больше, нежели может вместить самый крупный оперный театр. Так стоит ли тратить столько сил и средств на постановку опер Верди и Пуччини?
Мне чрезвычайно повезло — я получаю самые высокие гонорары, какие только платят в оперном мире. Не все театры могут позволить себе такие расходы, а мне пришлось бы разорваться на пять частей, чтобы удовлетворить все серьезные предложения, какие получаю. Кто-то сказал мне, что только в Соединенных Штатах существует более полутора тысяч театров, ставящих оперные спектакли. Некоторые из них находятся, скажем так, на любительском уровне, но на многих сценах показывают вполне достойные постановки с полным оркестром и профессиональными певцами. Явление поразительное!
Опера как вид искусства переживает в наши дни беспрецедентный в своей истории расцвет: не только по количеству спектаклей и их уровню, но и по неизменному росту посещаемости. Сейчас в музыкальных театрах встретите немало молодежи, особенно в Америке.
Конечно, опера давно перестала быть достоянием исключительно богатых людей, элиты. В Соединенных Штатах уже многие годы работает радиостанция, которая каждую субботу днем передает на всю страну оперы на высочайшем исполнительском уровне. А теперь ведутся и телевизионные трансляции из Метрополитен и других крупных музыкальных театров, приобщающие к опере все новую и новую аудиторию. И я с радостью участвую в этом процессе, имеющем поистине историческое значение.
И все же, несмотря на все возрастающий интерес и требовательность публики, я знаю: лишь небольшая часть населения любит оперу, наверное, процентов десять, а может, и меньше. Скорее всего, именно потому, что будущее оперы в опасности или до недавнего времени находилось в опасности, ее поклонники так преданы ей, а люди, работающие над музыкальным спектаклем, постоянно трудятся с полной отдачей.
Сейчас классическая музыка развивается в Америке активнее, чем где-либо в другом месте. Здесь в нее вкладывают много сил, и от каждого музыканта ожидают самого высокого уровня мастерства. Мы, итальянцы, несколько отстаем в этом плане, как и в музыкальном образовании. В Италии не встретишь так много, как в США, молодых людей с самой тщательной вокальной подготовкой. Однако, я думаю, что мы, итальянцы, в большей мере наделены природной музыкальностью. Музыка, что называется, у нас в крови.
С женой Адуа
А вот о руководстве крупнейшими оперными театрами подробнее поговорю, когда перестану петь. Думаю, так будет лучше. Однако кое-какие соображения могу высказать и сейчас. В Америке работают два превосходных художественных руководителя — Кэрол Фокс в Чикагской Опере и Курт Герберт Адлер в оперном театре в Сан-Франциско.
Меня уверяли, будто с Адлером очень трудно найти общий язык, но я немало работал с ним и не замечал этого. С другой стороны, любого маэстро, добившегося каких-то успехов в искусстве, вполне возможно, кто-то и назовет человеком с «трудным характером», но чаще всего подобное определение больше характеризует лишь того, кто его высказывает.
Адлер наделен живым чувством юмора, и мы с ним часто обнаруживаем немало поводов для шуток. Когда я приехал в Сан-Франциско петь в «Джоконде» в 1979 году, Адлер попросил меня исполнить в концерте арию Радамеса из «Аиды». Я ответил, что подумаю.
— И не пытайся, — сказал он. — Ведь известно, что у теноров нет мозгов.
Это типичный пример наших шутливых перепалок.
Однажды мне довелось петь «Богему» в Сан-Франциско — в день моего рождения — 12 октября, и Адлер в сцене в кафе «Момус» велел подать нам настоящее шампанское, а сам вышел на сцену в роли официанта. Но эта сторона его характера весьма отлична от деловых качеств Адлера как художественного руководителя, создающего оперные спектакли, которые по праву считаются одними из лучших в мире.
Что касается Кэрол Фокс, то в наших отношениях с нею случались, что называется, взлеты и падения, но это сильная личность, которая знает, что делает, хорошо разбирается в опере и тонкостях вокала. Я восхищаюсь и Фокс, и Адлером, потому что они стремятся достичь в спектаклях наилучшего результата и требуют от певцов самого высокого уровня исполнения. Оба энергичны и обладают характерами, какие необходимыми для руководства большими театрами. Кроме того, они умеют устанавливать отличные взаимоотношения с артистами.
Когда знаешь оперу так хорошо, как я, крайне трудно терпеть небрежности в подготовке спектакля. Вот почему я так редко бываю в театре зрителем. Великолепный оперный спектакль — очень большая редкость. А если он отнюдь не великолепен, то ужасно мучаюсь. Адлер и Фокс, повторяю, неизменно стремятся к совершенству, и это меня всегда восхищает в них.
Есть немало и других очень знающих, весьма опытных людей, которые работают в мире американской оперы, но не стану называть имена. Некоторые из них мои друзья, и если забуду упомянуть кого-нибудь, наша дружба пострадает.
Певцы и руководство театров пребывают в состоянии постоянной войны между собой из-за новых постановок. Когда в труппах есть такие певцы, как Джоан Сазерленд, Мерилин Хорн, Пласидо Доминго, театр не смеет считать, будто делает им одолжение, готовя новый спектакль. Одолжение он делает самому себе и великому искусству оперы.
Я уверен, что подобное расхождение во взглядах будет продолжаться, пока существуют певцы и оперные театры. Разумеется, сама по себе новая постановка никак не гарантирует непременный успех — сегодня нетрудно найти режиссера или кого-нибудь из нас, певцов, кто способен загубить самую лучшую оперу, но поиски совершенства необходимы.
Мне, например, было бы куда проще из года в год петь Герцога или Рудольфа, ничего не меняя, в одних и тех же насквозь пропыленных декорациях. Я продолжал бы оставаться знаменитым и зарабатывать кучу денег, но я более чем серьезно отношусь к профессии, которую выбрал для себя.
Самый верный способ сохранить жизнеспособность оперы среди искусств двадцатого века — создавать оригинальные сценические версии оперных шедевров, выпускать спектакли, обогащенные свежими идеями, искать новый подход, который приблизил бы классическую оперу к современной публике. Естественно, что я тоже хочу хотя бы от случая к случаю вносить свой вклад в это благородное дело.
В Италии положение оперы не столь безоблачно, как кажется. Печально, что многие из самых великих певцов мира не хотят работать в наших театрах, во всех, кроме Ла Скала. Но и в крупнейшем миланском театре есть свои политические сложности… вернее, сложности музыкальной политики.
Как итальянец, я горжусь Ла Скала. Это все еще один из лучших музыкальных организмов мира с превосходным оркестром и хором. Но театру необходимо постоянно решать свои проблемы, художественные, иначе он недолго продержится на вершине славы.
Одно недавнее событие ярко демонстрирует, до какой степени мы, итальянцы, можем быть глупыми. Я имею в виду изгнание театральных агентов, людей вроде Цилиани, который так помог мне в начале карьеры. Если б не он, я не пел бы в Палермо с Серафином, меня не узнали бы в Ла Скала и не было бы, как следствие, «командировок» в Вену. Многое произошло только благодаря его желанию помочь мне сделать карьеру, его деловому интересу. Какой вред приносили агенты? Изгонять их — просто идиотизм.
А Ла Скала правильно поступил бы, если б поостерегся. В наши дни уже нет страны, которая обладает монополией на высочайший уровень оперных спектаклей, нет театров, пользующихся наивысшей репутацией. Новая система контрактов — на один или несколько спектаклей, а также скоростные авиалинии все изменили. Лучшие певцы летают с одного края планеты на другой.
Теперь уже все не так, как в старые добрые времена, когда Карузо пел только в Ла Скала, Метрополитен, ну, еще в Буэнос-Айресе и Ковент-Гарден и никогда нигде больше не появлялся. Сегодня первоклассные спектакли с самыми прекрасными голосами идут в Гамбурге, Хельсинки или в Майами.
Работая в разных оперных театрах мира, я, случалось, расходился во мнениях с режиссерами и дирижерами. Подобное неизбежно. Музыкальная интерпретация — всегда вопрос восприимчивости. Очень легко может оказаться, что дирижер и певец совершенно по-разному понимают одну и ту же фразу, причем у каждого свое, глубоко прочувствованное восприятие и в равной мере весомое.
То же самое можно сказать и об актерском исполнении. Среди профессионалов разногласия бывают только в области творческой. Когда же певец ведет себя непрофессионально, поводов для конфликтов возникает превеликое множество. Если же все добиваются одной цели — сделать спектакль как можно лучше, — разногласия всегда преодолимы. Иногда говорят о «трудных» режиссерах и дирижерах, что означает, как правило, — требовательных. На мой взгляд, это отнюдь не порок.
Время от времени в театрах происходит столкновение характеров, и начинается борьба самолюбий. Много лет назад я готовил «Любовный напиток» с одной крупной американской труппой. Мы еще только репетировали, а режиссер уже созвал пресс-конференцию и журналистам, которые интересовались, доволен ли он работой и как она продвигается, заявил: «Мы стараемся изо всех сил, чтобы как-то компенсировать слабую игру синьора Паваротти».
Я вскипел от возмущения. Я пел партию Неморино во всех театрах мира, и мое актерское исполнение роли получило немало похвал. В каком-то смысле режиссер как бы заранее подсказывал, как именно нужно оценить мою игру. Это выглядело чрезвычайно некорректно, прямо-таки предательством, и я выразил руководству театра свой протест. Потом успокоился, и конфликт погасили, но в первую минуту я действительно хотел послать все к черту.
Сейчас в оперном театре работает очень много талантливых режиссеров. К примеру, Жан-Пьер Поннель. Как правило, это художники со своеобразным, интересным видением, хорошо представляющие пути развития оперы и умеющие оригинально решить музыкальный спектакль. Но тут я, пожалуй, склонен к консерватизму. Изменения и добавления в классических операх нередко настолько далеко уводят текст от оригинала, что речь идет уже не об интерпретации, а о переписывании партитуры. Будто режиссера смущает, что опера создана в позапрошлом столетии, и он всеми силами старается завуалировать это обстоятельство.
Нередко подобные «революционные» постановки имеют только одну подоплеку — самолюбование. Режиссеры стремятся представить нам не Верди или Пуччини, а самих себя.
У меня не возникает особого желания заняться оперной режиссурой, но если б я когда-нибудь взялся за нее, то постарался бы самым тщательным образом выполнить все указания партитуры, стараясь как можно полнее передать замысел композитора. И не дождетесь от меня, что я стану превращать «Пеллеаса и Мелизанду» или «Риголетто» в представление вроде «Человека-слона».
Кроме того, я думаю, что режиссеры, ставящие авангардистские спектакли, должны вести себя более скромно и не искать аплодисментов до премьеры.
Слишком часто в Нью-Йорке, да и в других городах, видишь на телеэкране постановщика и дирижера, иной раз и певцов вместе с ними, которые поздравляют самих себя со своим новым творением. Они пространно рассуждают, как им удалось выявить какие-то скрытые пружины в опере или отыскать нюансы, каких никто никогда не замечал в очень хорошо известной музыке. В конце концов, все вокруг тоже начинают восхищаться, как и они сами. Потом выходит премьера, и что же мы видим? Всего-навсего еще одну «Травиату» или еще одного «Риголетто»… и, пожалуй, даже не очень удачных.
Мне недолго понадобилось пробыть в оперном театре, чтобы усвоить истину: тут нередко встречаются коллеги, которые не желают тебе добра. Подобный поучительный опыт я приобрел с первым дирижером, с которым довелось работать, и сразу после него с сопрано в Лукке. Полагаю, что для такого отношения к артистам существует немало причин. И прежде всего обостренное самолюбие у певцов — взвинченные нервы. У нас столько поводов для нервотрепки! Но как же грустно, что наши обиды так часто направлены на коллег. У всех в театре одинаковые проблемы, и никому еще не удавалось петь лучше, если рядом кто-то поет плохо.
Не только фанаты, но и люди, работающие в театре, нередко бывают страстными ревнителями своих кумиров. Они обожают, скажем, Сопрано Номер Один и ненавидят всех остальных певиц, кто смеет называть себя сопрано.
Бывают весьма странные привязанности и антипатии, которые ощутимо сказываются на закулисной атмосфере.
Я нередко сталкивался с подобным скверным отношением в труппах к моим коллегам, да и к себе тоже. И очень скоро понял, что на это просто не следует обращать внимания. Я отдаю всего себя сцене и помогаю моим партнерам, чтобы у них все получалось как можно лучше. Глубоко убежден, что мы все выигрываем в равной мере, когда великолепен спектакль в целом, а не только кто-то один из нас.
Но хватит жаловаться и ворчать. Я мог бы всю жизнь продавать страховки, и тогда у меня не возникало бы подобных трудностей.
Герберт Бреслин
Что значит быть театральным агентом паваротти
Меня представил Паваротти в 1968 году Терри МакИвен, руководитель отдела классической музыки лондонской фирмы «Рекорд». Я тогда занимался в Лондоне рекламой Джоан Сазерленд и Мэрилин Хорн, а значит, тесно сотрудничал с МакИвеном.
В то время Паваротти дебютировал в Метрополитен, и Терри решил, что именно сейчас Лучано понадобится рекламный агент. Тогда певец еще не имел помощника в Соединенных Штатах, кто занимался бы его рекламой и вообще его карьерой. Он выступал в самых лучших театрах Европы и Америки, но еще не слыл звездой в полном смысле слова.
Джоан Сазерленд в опере Доницетти «Лючия ди Ламмермур».
Метрополитен
МакИвен полагал, что мы с Лучано могли бы хорошо сотрудничать, и, как выяснилось, не ошибся. Лучано родился двенадцатого октября, а я первого числа этого же месяца, то есть мы оба появились на свет под одним знаком зодиака — Весами — и у нас много общего. Мы оба любим посмеяться и пошутить, но когда дело касается работы, становимся воплощением серьезности. Оба обладаем изрядным запасом энергии и не терпим, если что-то плетется по старинке, кое-как, а дело можно улучшить. С самого начала я понял, что Лучано со своим талантом мог бы сделать гораздо более удачную карьеру. Так же считал и он.
На первых порах я делал для Паваротти, как и для других артистов, только рекламу. Спустя примерно год стал его театральным агентом, и в то время, когда начал работать с ним, он уже три года выступал в Соединенных Штатах, но еще ни разу не пел в Чикаго. Поэтому можете судить, сколь неудачно спланировали его карьеру. Мне казалось просто нелепостью, что такой талант должен выходить на сцену где попало — по воле случая, а не по строго продуманному плану. Кроме того, если не считать страстных любителей оперы, то ведь никто даже не слышал его имени… что представлялось мне вообще полным бредом.
Лучано никогда не подписывал со мной никаких контрактов. Хотя прошло уже столько лет нашего сотрудничества, у нас нет никакого формального соглашения. Наши деловые отношения строятся лишь на взаимопонимании. Только Юрок тоже никогда не подписывал контракта с Артуром Рубинштейном. А сколько времени они работали вместе? Полвека, если не ошибаюсь.
Я излагал Лучано свои соображения, на какие контракты соглашаться, какие новые «площадки» завоевывать — и мы долго и подробно обсуждали все аспекты. Мы и сейчас работаем точно так же. Я советую ему то, что, на мой взгляд, для него более выгодно. Но окончательное решение Лучано всегда принимает сам.
Когда я начал рекламировать Паваротти, он уже выступал в Майами и Сан-Франциско и однажды в Метрополитен. Во время дебюта в Нью-Йорке он болел, поэтому не имел там сенсационного успеха, какого мог бы добиться при других обстоятельствах. Он еще ни разу не выступал в Соединенных Штатах с концертом, так что его деятельность в Америке оказалась ограниченной. Это пел совсем не тот Паваротти, какой известен нам сегодня.
По-настоящему карьера оперной звезды началась, когда он выступил в «Дочери полка» в Метрополитен в 1972 году. Это событие запомнилось как поистине грандиозный успех, давший колоссальный импульс его художественному росту.
Нью-йоркская публика не могла не признать, что перед нею великолепный артистический феномен. Печать, как в Нью-Йорке, так и в других городах США, уделила ему исключительно много места на своих страницах. Важно отметить, что появление Паваротти как звезды стало возможно в первую очередь благодаря его необыкновенному вокальному мастерству. Лишь позднее публика открыла в нем и другие качества, но в самом начале славу ему принесло именно необычайно виртуозное владение прекрасным голосом.
Ньюйоркцев трудно поразить чем-либо. Тем не менее, не представляю себе аудиторию, которая осталась бы равнодушной к Паваротти в «Дочери полка». Партия тенора в этой опере чрезвычайно трудна, и Лучано пел ее, как бог. На каждом выступлении он доводил публику до бешеного восторга и вынуждал ее аплодировать при открытом занавесе после того, как брал девять грудных «до» в одной арии. И не только пение приводило слушателей в экстаз. Он и актерски замечательно исполнял эту партию, создавая невероятно комичный образ своего героя.
Благодаря вниманию, вызванному потрясающим выступлением в «Дочери полка» — интервью в печати, на телевидении и так далее, — все начали понимать, что Паваротти не только великолепный певец, но и обаятельный человек. Так начался его роман с публикой, который с тех пор становился все более пылким и страстным.
Любят многих артистов, но Лучано производит такое чарующее впечатление и держится столь подкупающе просто, что все сразу же сердцем воспринимают его человечность и отвечают искренней симпатией. Не знаю, в чем тут дело. Может быть, в его улыбке… она действительно всех покоряет.
Артист и сам реагирует на теплое отношение к нему людей очень открыто и естественно — будь то театральная публика или известный журналист, как Джонни Керсон, либо таксист, который везет его в аэропорт. В любой аудитории он не скрывает того, что восторг публики делает его счастливым. Беседуя с Джонни Керсоном или с любым другим представителем прессы, он очень внимательно выслушивает вопросы и отвечает на них совершенно непринужденно.
Певец не старается кого-то изобразить из себя, обязательно проявить остроумие, во что бы то ни стало произвести неотразимое впечатление. Его ответы лишены какой бы то ни было аффектации и очень просты: он обычный человек среди обычных людей. Публика мгновенно понимает это… и обожает его!
Представляю, как приятно общаться с таким человеком после стольких фальшивых поз, какие мы обычно наблюдаем у многих звезд.
С таксистом, например, Паваротти ведет себя как равный с равным, потому что их и в самом деле ничто не разделяет. Он говорит с ним тепло, с уважением к ближнему, что вообще свойственно итальянцам, только у него это качество проявляется еще сильнее.
Лучано испытал бедность и знает, что значит задаваться вопросом, можешь ли содержать свою семью. Ему знакомы заботы простых людей. И он понимает также, что голос и такие личные качества, как юмор, ум, знание жизни, — все это было у него и прежде, в бедности и безвестности. Так почему же не допустить, что таких же качеств не лишены и таксист, и парикмахер, и театральный электрик? Симпатия к людям проявляется у него очень естественно и выражается в любом поступке.
Поразительно, насколько ясно эта черта проявляется и в искусстве Паваротти. Неважно, выходит ли он на эстраду в смокинге, выступая с сольным концертом, или впервые встречается с незнакомой аудиторией. Стоит ему выйти не сцену, как между ним и публикой сразу же возникает живейший обмен эмоциями. Когда Паваротти поет, он словно ласкает слушателей. Впечатление потрясающее! Происходит что-то такое, что нельзя объяснить только воздействием пения.
Другими тенорами восхищаются за те или иные качества их голосов. Всем известно, какой великий певец, например, Джон Виккерс. Но Паваротти — это нечто другое…
Когда я начал способствовать карьере Паваротти, то решил, что прежде всего надо познакомить с ним публику. Мне требовалось, чтобы люди поначалу хотя бы заметили его, обратили внимание на нового певца, и ничего больше. Талант и личность вокалиста были, как говорится, налицо — тут Лучано, разумеется, во мне не нуждался.
Сейчас я получаю со всех концов света обращения к Паваротти — его просят принять участие в операх, концертах, в телевизионных и благотворительных спектаклях. Все эти предложения проходят через меня.
Очень часто предлагают выступить в больших шоу, таких, как «Сегодняшнее шоу» или «Том Снайдер Шоу» на Си-би-эс. Фотографы и журналисты хотят поместить его портрет на обложке «Тайм» или подготовить интервью на Си-би-эс в передаче «Шестьдесят минут». Сколько в результате длилось его интервью? Минут восемь или десять? Но Морлей Сефер и его команда несколько недель сопровождали Лучано в поездках по театрам, побывали вместе с ним в Израиле, Майами, Техасе. Моей конторе пришлось провести огромную работу по организации и координации их действий.
Наконец, поступают предложения рекламировать тот или иной товар. Возможно, подобное занятие считается не очень престижным для нашей культуры, но реклама, которую Паваротти сделал для «Амэрикен экспресс», познакомила с ним и его обликом гораздо больше людей, нежели восемнадцать лет блистательных выступлений на сценах крупнейших театров мира. Так что и подобные слабости приносят немалую пользу.
Некоторые говорят, будто я очень повлиял на Лучано, изменил его, «слепил» ему карьеру, словно волшебник Свенгали[10]. Не знаю. Хотя, конечно, какое-то воздействие, надо полагать, оказал.
На чем я настаивал, когда мы начали с ним сотрудничать? Только на необходимости быть верным обязательствам, которые он берет на себя. Ты можешь сто раз поменять свои решения и сколько угодно ломать над ними голову, прежде чем дать окончательный ответ, говорил я ему, но если уж возложил на себя какое-то обязательство, то непременно должен держать свое слово…, кроме тех случаев, разумеется, когда обстоятельства сильнее тебя.
А на его вокальные и актерские данные мне, разумеется, влиять не пришлось. Не следует забывать, что в начале карьеры Лучано пел главным образом за пределами Италии, в таких местах, как Глиндебурн и Ковент-Гарден, где дисциплина и профессионализм более строгие, нежели в итальянских театрах.
Поначалу Лучано возненавидел Глиндебурн — слишком уж все здесь серьезно, чересчур педантично и никаких развлечений. К тому же его заставили петь в «Идоменее», а не в какой-нибудь темпераментной опере Верди. Но постепенно он проникся уважением к подобному отношению к спектаклю и по завершении контракта понял, что получил хороший сценический опыт, принесший ему как профессионалу немалую пользу.
Первое время он пел чуточку для галерки, желая сорвать аплодисменты молодежи. Сейчас ему и в голову не придет делать нечто подобное, к тому же, теперь и нужды нет — публика сходит с ума, едва только он появляется на сцене.
После невероятного успеха в Метрополитен в «Дочери полка» я посоветовал Лучано выступать с концертами. Это позволило бы ему продемонстрировать свое искусство перед более широкой аудиторией, упрочило бы известность, не говоря уже о том, что концерты могли бы принести немалый доход. Звезды оперы, даже самые яркие, не так уж много получают денег, работая в театрах. Их гонорары кажутся крупными лишь по обычным меркам, а в сравнении с тем, что получают светила в других видах сценического искусства, их, безусловно, никак нельзя назвать астрономическими.
Для оперных певцов переход в концертный зал иной раз оборачивается немалым риском. Поклонники восхищаются ими, когда те блистают на сцене в театральных костюмах, участвуя в драматических событиях оперы, но могут и утратить к певцу всякий интерес, увидев его на эстраде в одиночестве, без сценических аксессуаров. Лишь очень и очень немногие исполнители в состоянии собрать полный концертный зал: Джоан Сазерленд, Леонтина Прайс, Мэрилин Хорн, Беверли Силлз… Может быть, еще кто-то из певцов мог бы иметь аншлаг в Нью-Йорке… Но их действительно можно пересчитать по пальцам.
К тому же, выступать с концертом гораздо труднее, чем петь в оперном спектакле. Тенора отдыхают, пока сопрано поют свое соло. А в концерте вместо двух-трех больших арий за весь вечер приходится исполнять 15–20 номеров, причем почти все в разных стилях. Многие крупные певцы просто не в состоянии удерживать внимание публики на протяжении нескольких часов сценического антуража оперного спектакля.
В 1973 году, спустя год после дебюта в Метрополитен в «Дочери полка», я решил подвергнуть Лучано испытанию концертом и устроил ему выступление в «Уильям Уэвелл Колледже». Это небольшой баптистский университет в Либерти, штат Миссури. Туда каждый год приглашают самых известных музыкантов за счет доверительного фонда, учрежденного одним местным филантропом. Ну, разве не потрясающий подарок сделал тот своему городу? Благодаря ему, жители Либерти могут восхищаться звездами вокала, которые обычно выступают лишь в крупных городах.
Лучано выбрал невероятно смелую программу, как будто выступал с концертами всю жизнь. И публика, разумеется, обезумела от восторга. Второй раз он вышел на эстраду в Далласе и опять с таким же грандиозным успехом. Лучано и публика просто очаровали друг друга. И тут у меня уже не оставалось никаких сомнений: певец созрел для Карнеги-холл.
Объявление о первом сольном концерте Лучано в Нью-Йорке появилось в воскресном номере «Нью-Йорк тайме». В среду билетов в кассе уже не осталось.
Сегодня Паваротти — концертный исполнитель, которому платят очень высокий гонорар… что делает его певцом, получающим самое большое в истории вокала вознаграждение. Недавно он собрал аншлаг в «Робин Гуд Делл Вест», где более пяти тысяч мест расположены под тентом и еще около двух тысяч на лугу. А ведь речь шла о концерте только в сопровождении фортепиано, без оркестра. В «Медина Темпл», в Чикаго, где Лучано тоже без труда получил полный сбор, собрались четыре тысячи зрителей.
Суммы гонораров бывают разными, но деньги — далеко не единственное обстоятельство, которое учитывает Лучано, когда решает, где ему петь. Он стремится предложить публике хорошую программу и старается дарить свое искусство наибольшему числу людей и, по возможности, в самых разных местах. Недавно он дал сольный концерт в Рио-де-Жанейро. Его желание выступить в Бразилии объясняется просто: он еще никогда не пел в Южной Америке. А когда Лучано приехал в Израиль на концерт памяти Ричарда Таккера летом 1979 года, то ему заплатили намного меньше, чем он заработал бы где-либо в другом месте.
Пластинки Паваротти тоже необыкновенно популярны. Например, альбом с неаполитанскими песнями «О, мое солнце» побил все рекорды, когда-либо установленные певцами — исполнителями классики. Число проданных дисков превосходило тиражи пластинок с записями легкой музыки. А совсем недавний диск «Паваротти грейте хите», несомненно, превзойдет и все мыслимые величины.
На протяжении прошлого года имя Паваротти восемь раз появлялось в списке сорока самых популярных грамзаписей классической музыки. А это значит, что его пластинки составили двадцать процентов всех бестселлеров года по разделу классики — среди записей симфонических оркестров, пианистов, хоров и всего остального.
Уже в самом начале нашего сотрудничества я понял, что сделать Паваротти невероятно знаменитым не составит особого труда. Прежде всего, благодаря его голосу и таланту, а также чрезвычайной открытости его характера. Он весь обращен к людям, и все, что исходит от него, это он и есть.
Вот вам один пример. Когда Лучано пел «Джоконду» по национальному телеканалу, в антракте у него взяла интервью Пиа Линдстрем, а она, как известно, дочь Ингрид Бергман, необыкновенно красивая женщина. Пиа привела реплику музыкального критика «Нью-Йорк тайме» Гарольда Шенберга, по мнению которого, голосовые связки Паваротти поцеловал Господь Бог. На что Лучано, ни минуты не задумываясь, ответил: «Я думаю, что вас Господь Бог оцеловал с головы до ног!»
Наверное, каждый мужчина в Америке хотел бы придумать нечто подобное. Между прочим, таким ответом Паваротти еще и смягчил впечатление от комплимента, адресованного ему самому (я знаю, что Лучано всегда неловко выслушивать похвалы). Но главное, я ночь напролет ломал бы голову, придумывая остроту, которая расположила бы публику к Лучано, но так и не изобрел бы ничего столь же удачного. Остроумный ответ, это верно, но вполне искренний и довольно смелый… словом, целиком в духе Лучано.
Пластинки Паваротти по своей популярности побили все рекорды, когда-либо установленные исполнителями классики.
Другая черта Паваротти — он всегда интересен для любого собеседника. Он и сам интересуется множеством вещей…, по сути дела, всем на свете. Лучано очень разносторонний человек и умеет передать свою увлеченность другим. А чем он только не увлекается — пением, живописью, теннисом, кулинарией… Он может говорить о своих прогулках, обо всем, что думает, во что верит, что чувствует… Постоянно находится что-то, о чем он хочет рассказать, причем так, что и тебя непременно увлечет, захватит без остатка. Это один из самых умных людей, каких я когда-либо встречал, но дело не только в его интеллекте…
В основе всего лежит, я думаю, любовь к людям. Лучано испытывает огромную потребность поделиться с ними собственными мыслями и чувствами, и делает это, не только находясь на сцене, но и когда беседует с вами наедине. И то и другое вызвано все тем же стремлением адресоваться к людям, желанием дойти до их сердец.
Сейчас мы являемся свидетелями «бума Паваротти». Достаточно привести один только факт: во время единственного выступления Лучано по национальной телесети его слушало одновременно столько же народу, сколько слушало Карузо за всю долгую карьеру великого певца.
И это если говорить об операх и концертах по телевидению. Добавьте участие в таких программах, как «Тунайт шоу» Джонни Керсона, и всякие сравнения бледнеют окончательно. Естественно, Карузо и другие замечательные певцы прошлого не имели в своем распоряжении современного электронного чуда, и я вовсе не собираюсь умалять их славу.
Но все же интересно отметить, что хотя средства массовой коммуникации существуют давно, Паваротти стал первым великим певцом, который начал по-настоящему использовать их возможности для пропаганды оперы и хорошей музыки.
Выходит, «бум Паваротти» только в какой-то мере объясняется появлением телевидения, но в гораздо более значительной степени — его голосом, искусством и личностью. Паваротти оказывает на телезрителей невероятное воздействие. Судите сами: после трансляции его концерта «Лайв фром Линкольн центр» с Зубином Мета в редакцию «Паблик бродкаст» пришло более ста тысяч писем. Случай беспримерный! Прежде этот телеканал уже не раз обращался к зрителям с просьбой присылать свои отзывы после концертов других певцов (следует ли повторить программу?), но еще никогда не получал такой массы откликов.
За три недели, прошедшие со дня показа концерта с Зубином Мета, я получил для Паваротти шесть предложений сниматься в кино. Один драматург даже открыл на Бродвее собственный театр и задумал написать пьесу специально для Лучано. Целый ряд телевизионных сценариев уже находится в работе.
Знаю, что кое-кто в оперной среде объясняет, вернее, пытается принизить необыкновенную популярность Лучано, утверждая, будто это я придумал столь удачную программу маркетинга, стараясь подороже «продать Паваротти», и что злая воля коммерсанта губит его искусство.
Такое суждение ложно в обеих своих посылах. Подобные утверждения продиктованы завистью тех — обычно певцов-соперников и их почитателей, — кто не хочет признать, что Паваротти — необыкновенное явление в искусстве, величайший певец, самой судьбой предназначенный побеждать.
Подумайте, мог ли я один создать «бум Паваротти»? Чтобы опровергнуть подобную глупость, достаточно напомнить, что я уже достаточно долго являюсь агентом и многих других выдающихся исполнителей. Если бы я проявлял к Лучано какое-то особое благоволение, планируя только его выступления, то остальные мои клиенты не замедлили бы расстаться со мной. Впрочем, невозможно искусственно организовать такую реакцию публики, какую неизменно вызывает Лучано. Чтобы суметь
это сделать, мне надо быть в десятки раз изворотливее, чем я на то способен.
Паваротти присуща еще одна черта, которая отличает его от большинства коллег. Он всегда готов браться за новое. Я много лет представлял Пласидо Доминго. Это первоклассный тенор, но он упрямо отказывается выступать с концертами или предпринять что-то еще по моему совету для расширения своей аудитории. Большинство певцов очень осторожничает во всем, касающемся собственной карьеры, а Лучано готов попробовать все, что ему кажется разумным.
Он позволяет средствам массовой информации эксплуатировать себя, так как уверен, что это делается на благо не только ему лично, но и опере в целом. Если как можно больше людей увидят, что прославленный оперный певец — просто симпатичный человек, а не августейший Артист, замкнувшийся в башне из слоновой кости, — это же великолепно!
Разумеется, реклама и популярность позволяют Паваротти больше зарабатывать, и он ищет различные возможности увеличивать доходы. Покажите мне артиста, который так не действует. Хейфиц запрашивает астрономические суммы. А почему, собственно, великие музыканты не должны зарабатывать максимум возможного? Никто из них не поет, не играет только из бескорыстной любви к искусству. Все певцы афишируют свое грудное «до», словно зазывалы на площади.
Что же касается не музыкальных «выступлений» — появление в журналистских программах, участие в интервью и тому подобное, — опять же, укажите мне музыканта, который отказался бы выступить в «Тунайт шоу» Джонни Керсона. И неправда, что подобная, так сказать, сопутствующая деятельность Лучано губит его искусство. Его искусство может погибнуть только в одном-единственном случае — если он позволит себе петь плохо, а такого никогда не будет.
Возьмите хотя бы его выступление с Лореттой Лайн в передаче «Омнибус» Эй-би-си. Обмениваясь шутливыми колкостями, Лучано ни на йоту не уронил собственного достоинства, но и не проявил снисходительности к своей собеседнице. Музыка кантри вестерн прекрасна, но все-таки не идет ни в какое сравнение с оперой, гордящейся вековыми традициями, величайшими шедеврами, какие когда-либо создавались композиторами и множеством гениальных исполнителей.
Представ перед широкой аудиторией простым и доступным человеком, Лучано и свое искусство сделал доступным и человечным. И к этому он стремится постоянно. Он входит в мир поп-культуры не для того, чтобы сделаться его составной частью, а в надежде увлечь кого-то из слушателей за собой — обратить к опере.
Если я в какой-то мере и содействовал подобному начинанию, то сделал все лишь потому, что разделяю взгляды певца. Лучано любит оперу. Вернее было бы сказать, влюблен в нее, и не только потому, что она всегда к нему добра. Он знает, что обладает способностью покорять людей своим искусством. Ему хочется быть активным посредником между любителями оперы и более широкой публикой, еще не приобщившейся к этому жанру. Многое из того, на что он решается — концерты в Центральном парке, например, — не так уж и необходимы ему лично, поскольку его известность в Нью-Йорке и без того велика. Так что же заставляет его делать это?
Многие агентства в оперном мире, по существу, не что иное, как диспетчерский пункт. Такой-то певец нужен вам на две недели в июне? Вы готовы заплатить необходимую сумму? О’кей, он ваш. Они продают таланты, как супермаркеты замороженные продукты. Хороший агент должен всячески стараться побуждать певца реализовать все свои возможности — и как артиста, и как участника рекламы.
С Паваротти мне не пришлось особенно усердствовать. Иногда я подсказываю ему что-то, иной раз он дает мне хороший совет. Но всегда именно он, Лучано, определяет цели…, какие нужно завоевать.
Уильям Райт
Неделя с Паваротти
21 февраля 1980 г.
Обед в нью-йоркском ресторане «Ромео Сальта» с капитаном военно-морских сил США Джеем Коупом, который на аукционе в пользу Вашингтонского оперного общества предложил 800 долларов за право пообедать в обществе Паваротти. Коуп и пятеро его гостей значительно опаздывают, но Паваротти, который всегда пунктуален и обычно терпеть не может кого-то ждать, спокоен. Сорок пять минут на столе нет никакой еды.
Одному другу Джея Паваротти объясняет, что именно из-за постоянных задержек он и не любит бывать в ресторанах: долгие ожидания вызывают искушение опустошить всю хлебницу. Но сегодня даже опоздание капитана не сердит его. Когда подают первое блюдо, Паваротти пробует спагетти у всех присутствующих. Коуп начинает неаполитанскую песню. Паваротти отказывается следовать его примеру, говоря, что он не сторонник импровизированных концертов. Другие гости не удерживаются от искушения поупражнять голосовые связки, и очень скоро весь ресторан собирается вокруг стола Паваротти.
22 февраля
Паваротти проводит день в своих апартаментах в отеле «Наварро», отдыхая перед спектаклем «Бал-маскарад». Пишет картину, часок спит, смотрит телепередачу.
18.00. Отправляется в Метрополитен.
18.30. В гримуборной обращает внимание друзей, ожидавших его, как хорошо убрано помещение, и вспоминает, что однажды, вернувшись в Метрополитен спустя девять месяцев, нашел на обивке мебели оставленные им прежде булавки.
Входит какая-то девушка. Как-то в Зеленой гостиной Метрополитен, где Паваротти обычно встречается со своими поклонниками, он пообещал ей прослушивание. Девушка поет арию из «Травиаты», и Паваротти говорит, что у нее хороший, внушающий надежду голос, но сначала нужно научиться правильно дышать.
19.00. Гримируется с помощью секретаря. Надевает костюм.
20.00. «Бал-маскарад».
От 23.00 до 24.00. Счастливый, что хорошо спел спектакль, приветствует в Зеленой гостиной Метрополитен более сотни поклонников.
23 февраля
Готовит завтрак (спагетти а-ля Паваротти) в своих апартаментах в отеле «Наварро» для друзей из Сан-Франциско — супружеской пары с двумя детишками.
16.00. Приходит концертмейстер, чтобы пройти романс Радамеса, который Паваротти будет исполнять завтра в гала-концерте.
18.00. Визит Ричарда Томаса, героя телесериала «Уолтоне», давнего друга Паваротти.
Вечер. Работает над предисловием, которое обещал написать к «Воспоминаниям» Розы Понселл. Много рассказывает о своей семье, говорит о предстоящем возвращении в Италию.
24 февраля
13.30. Завтрак с Терри МакИвен из лондонской фирмы «Рекорд».
15.30. Встреча с Джеймсом Ливайном в «Наварро» для репетиции программы в гала-концерте, который будет транслироваться этим вечером из Метрополитен по национальному телеканалу «Паблик бродкаст».
17.00. Паваротти репетирует с оркестром на сцене Метрополитен.
18.00. — 21.00 В грим-уборной Метрополитен ожидает своего выступления. Поскольку в театре много звезд, охрана особенно усилена, но какому-то поклоннику все же удается прорваться, и он просит у Паваротти разрешения сфотографировать его. Паваротти что-то обсуждает со своим агентом, но не отказывает любителю фотографии. Тот входит в грим-уборную и делает снимок, потом другой. Когда вспышка срабатывает в пятый раз, Паваротти говорит ему, что тот взял неудачный ракурс. Лучше снимать с другой стороны. У фотографа кончилась пленка, и он обещает Паваротти прислать ко дню рождения в октябре поздравительную открытку. Паваротти благодарит его.
21.00. Танцует с Беверли Силлз на сцене Метрополитен под музыку вальса из «Веселой вдовы», которым дирижирует Ливайн. Поет романс Радамеса из «Аиды». Публика в восторге. Паваротти несколько меньше.
21.30. Покидает Метрополитен незадолго до завершения вечера и отправляется на банкет, устроенный в его честь гастрономом Георгом Лангом.
25 февраля
12.00. Дегустирует вино, которое ему предлагают рекламировать. Вино не нравится, и он отказывается от предложения.
13.00. Завтрак в «Наварро» с секретарем и Гансом Буном из конторы Бреслина для обсуждения некоторых деловых вопросов.
15.00. Встреча в апартаментах «Наварро» с несколькими членами Филадельфийского оперного общества для обсуждения конкурса оперных певцов, который будет носить имя Паваротти.
18.15. Отправляется в Метрополитен, где в 20 часов начнется «Бал-маскарад». До начала спектакля принимает в гримуборной друзей, знакомится с почтой от поклонников.
24.00. После встречи с фанатами в Зеленой гостиной покидает театр и отправляется на ужин, устроенный в его честь Эдмундом Якобсоном из ассоциации «Консерт Мастер» оркестра театра Метрополитен и его женой Иви Бернхард, которая тоже играет в этом оркестре. Паваротти приезжает в обществе шести человек, в том числе двух итальянских журналистов, друзей, заехавших к нему по пути в Италию после Олимпиады в Лейк-Плэсиде. Паваротти очарован сынишкой Якобсона, двухлетним малышом. Это первый американец, говорит Лучано, который правильно произнес его имя. Тенор и ребенок вместе играют на рояле.
В грим-уборной перед выходом на сцену
26 февраля
13.00. Завтрак со старым другом Умберто Боэри и супругами Юлией и Максом Прола. Юлия познакомилась с Паваротти много лет назад в Англии, она вспоминает, как возила его на север страны в гости к своим родителям. В дороге она оставила его одного в купе, когда вышла на станции купить журналы, и вдруг услышала, как на весь перрон гремит знакомый голос: «Юлия! Юлия!» Он испугался, что она не успеет сесть в вагон и он уедет без нее. В свою очередь Паваротти вспоминает, как они вместе зашли в один элегантный магазин мужской одежды в Сэвиль-Роу. «Есть у вас что-нибудь подходящее для меня?» — с порога поинтересовался тенор, на что продавец высокомерно ответил: «Разве что платочек».
16.00. Партия в теннис после Рива Клаб.
Вечер. Смотрит телепередачи и отдыхает перед завтрашним концертом в Бруклине.
27 февраля
12.00. Паваротти и его агент Герберт Бреслин обсуждают в сауне дальнейшие планы, в частности, шесть киносценариев, предложенных тенору после появления его портрета на обложке журнала «Тайм».
17.00. Паваротти подают лимузин. Он, его секретарь Мадлен и концертмейстер Джон Вустмен отправляются в Бруклин-колледж. Паваротти садится рядом с водителем. Мадлен, его секретарша, включает радио и настраивает на станцию, которая передает увертюру к «Севильскому цирюльнику» Россини. Паваротти просит прибавить громкость и принимается дирижировать невидимым оркестром. Под конец спрашивает, а кто же действительно управлял им. Невилл Маринер. «Хорошая работа!» — одобряет тенор.
Въехав на территорию колледжа, шофер не может найти «Уитмен-холл». Паваротти просит его остановиться возле студента, идущего по аллее. Он сам спрашивает у молодого человека, как добраться до зала. Студент объясняет. У артистического входа Паваротти ожидают две женщины с букетом цветов. Они приехали из Детройта послушать его. Паваротти целует обеих.
18.00. Паваротти в кожаном пальто проходит на эстраде с Вустменом всю программу, исполняя каждый номер вполголоса. Электрики устанавливают аппаратуру. Чтобы проверить акустику зала, Паваротти просит секретаря (а она его ученица) спеть что-нибудь.
— Что?
— Casta diva.
— Вы шутите!
— Нет. Спой, пожалуйста. А я сяду вон там внизу.
По окончании арии Паваротти говорит, что доволен исполнением, и идет переодеваться. Два детектива охраняют его грим-уборную. Паваротти ухмыляется, когда видит, что другая грим-уборная предназначена его импресарио Герберту Бреслину. Когда он вновь появляется, теперь уже во фраке, то задерживается в коридоре, рассказывая какую-то длинную смешную историю Бреслину, детективам и всем собравшимся вокруг них.
20.00. Выступает с концертом в зале, вместившем более двух тысяч человек. Концерт благотворительный, и многие билеты проданы по 50 долларов. Как всегда, они шли нарасхват.
22.30. После трех бисов концерт заканчивается, и Паваротти усаживается на сцене за стол, чтобы раздавать автографы. Он подписывает программу концерта.
23.30. Отправляется на прием, устроенный в «Бруклин-центре» организацией артистов и академических сотрудников.
Полночь. Наконец возвращается в грим-уборную снять фрак. Просит своего друга Умберто Боэри принести ему блюдо с какими-то необыкновенными лакомствами, что подавались на приеме.
28 февраля
13.00. Проезжая в лимузине по западной части Манхэттена, обращает внимание своих спутников на большой магазин, где, по его словам, можно сделать хорошие покупки. Он узнал об этом от людей, которые специально прилетают сюда из Италии за покупками и в тот же день возвращаются обратно.
13.15. Лимузин подвозит Паваротти к отелю «Наварро», потом развозит по другим гостиницам его спутников.
Между 11.00 и 13.00.
Важное совещание в офисе Энтони Блисса, генерального директора Метрополитен, в котором участвуют Паваротти, Джоан Ингпен, Джеймс Ливайн и Герберт Бреслин. Обсуждаются дальнейшие планы работы Лучано в Метрополитен.
15.00. Приезжает на телестудию в Манхэттене, где будет записываться для передачи «Омнибус» на телеканале Эй-би-си, — встреча с певицей Лореттой Лайн, чья автобиография под названием «Дочь шахтера» только что вышла. Гример обиделся, когда Паваротти предпочел ему свою секретаршу. Перечитав диалог с Лайн, Паваротти подсказывает, что можно было бы в него добавить. В каком-то месте по сценарию тенор объясняет певице, что ария «Сердце красавицы» исполняется человеком, не способным поверить ни одной женщине.
Лайн говорит, что в ее репертуаре тоже есть такая песня, только ее исполняет женщина, которая не способна поверить ни одному мужчине. На это Паваротти предложил ответить: «Выходит, все правильно — на женщин никак нельзя положиться!» Продюсер одобряет реплику и велит секретарше вписать ее в сценарий, чтобы не забыть.
16.00–19.00. Идет запись передачи — сюжет Паваротти и Лайн длительностью 15 минут. Пришлось сделать много остановок. Во время одной из них Лайн говорит, что чувствует себя неловко в своих джинсах рядом с ним, облаченным во фрак. «У меня уйма всяких костюмов, — сообщает она — но они все в моем прицепном домике на колесах».
19.15. Паваротти покидает телестудию и усаживается на заднее сиденье лимузина. У входа стоит группа фанатов. Какая-то женщина средних лет, получив его автограф, бросается в машину, пытаясь обнять его. Ее без труда извлекают оттуда.
19.30. Теннис в Рива Клаб с профессиональным игроком Билли Тальботом.
22.00. Китайские деликатесы в «Наварро» в обществе двенадцати друзей.
29 февраля
12.30. Завтрак с итальянским консулом в консульстве на Парк-авеню.
14.30. Встреча в «Наварро» с бухгалтером.
15.30. Совещание с представителями РАИ для обсуждения предстоящих выступлений Паваротти на итальянском радио и телевидении.
17.00. «Деловая сауна» с Гербертом Бреслином.
19.00. Обедает в гостинице, вечером укладывает багаж и звонит друзьям, прощаясь с ними.
1 марта
11.00 Завтрак с давней подругой Миреллой Френи, которая приехала в Нью-Йорк как раз вовремя, чтобы увидеть последний спектакль «Бала-маскарада».
12.45. Отправляется в Метрополитен.
13.00–14.00. Принимает в грим-уборной друзей и подписывает стопку фотографий, чтобы Мадлен, его секретарша, имела их про запас для фанатов, которые станут просить их, пока он будет в Италии. Мадлен распечатывает почту от поклонников и читает их письма. Один из них прислал ему как-то бандероль с женской ножкой в натуральную величину, сделанной из шоколада.
В почте непременно оказывается пара галстуков и стеганая куртка ручной работы. Паваротти примеряет ее — она достаточно просторна, но доходит только до середины груди, не до пояса. Кто-то из друзей замечает, что телогрейка похожа на бюстгальтер с рукавами, и Паваротти посылает его к черту.
Другой поклонник оставил для него у входа в театр коробку конфет домашнего приготовления, которые Паваротти находит изумительными. Секретарша прячет коробку подальше.
14.00. Выступление в дневном представлении оперы «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, которое транслируется по национальной радиосети Техаса.
17.15. Паваротти отменяет обычную встречу с фанатами в Зеленой гостиной театра. За кулисы никого не пускают, потому что Лучано нужно быстро переодеться и мчаться в аэропорт Кеннеди в лимузине, который ожидает у входа.
С огорчением узнает, что Джузеппе Ди Стефано решил еще на несколько дней задержаться в Нью-Йорке и не полетит тем же самолетом, как предполагалось раньше. Напоминает секретарше, что она должна сделать за время его отсутствия.
19.00. Поднимается в самолет и улетает в Милан.
Лучано Паваротти
Несколько мыслей о питании
Тут мне хотелось бы открыть скобки и поговорить на тему, которая меня неизменно привлекает, — о еде. Одна из самых прекрасных необходимостей на свете — это потребность время от времени прерывать любые дела и садиться за трапезу. Так почему бы не сделать то же самое в автобиографии?
Думаю, всем известно, что я люблю поесть. Ненавижу лишние килограммы и упрямо борюсь с ними… кое-когда успешно. Я знаю, что мой «тоннаж» немало способствовал моей популярности. В каком-то смысле он выделяет меня среди многих певцов, люди просто скорее запоминают меня. Однако я считаю, что примерно в такой же степени мой вес и вредит карьере.
На сцене внешний вид имеет большое значение даже для оперного певца. Кроме того, немалую долю популярности в наши дни приобретаешь, появившись на экране телевизора — в концерте, интервью или информационных рубриках типа «Шестьдесят минут» Си-би-эс, где, кстати, рассказывалось о моей поездке в Израиль. Для подобных выступлений внешность — главное, и тучность никого не украшает.
Не знаю, как это произошло. Я начал набирать вес в первые годы своей карьеры, когда выступал в театрах Европы — в Венской Государственной опере и в Ковент-Гарден. Отчасти моя полнота объясняется невероятным количеством физических упражнений, которые я проделывал с самого детства. Я как одержимый играл в футбол или еще во что-нибудь подвижное и если опускался на стул, то лишь для того, чтобы поесть.
Когда певческая карьера вынудила меня прервать постоянные занятия спортом, мой организм, очевидно, уже основательно привык к изрядному количеству пищи, какое необходимо поглощать при усиленной и повседневной физической нагрузке.
К этому тотчас прибавилось еще одно обстоятельство. Моя профессия требует строгой дисциплины. Я думаю, что придерживаюсь этого условия как профессионал, но когда сажусь за стол, то невольно протестую против столь изнурительного самоконтроля. Кроме того, оперный певец постоянно испытывает огромное нервное напряжение. Некоторые мои коллеги отводят душу, заходясь гневом. А я — ем.
Я боролся против подобной слабости и впредь буду сражаться. В ходе этой борьбы, то приобретая, то сбрасывая вес, я узнал немало интересного о питании и хотел бы поделиться с вами некоторыми своими открытиями. Мне известна калорийность любого продукта, какой только можно найти в цивилизованном мире. Тут я не уступлю ни одному врачу, но не стану надоедать вам скучной цифирью — ее можете найти в сотнях книжонок, да и где угодно.
Лучше начну с некоторых общих рассуждений о контроле над весом. Я глубоко убежден, что вино, если его пьют за едой, губительно. Я люблю вино. И все-таки, похоже, его калории в сочетании с калориями других продуктов весьма способствуют увеличению веса. Как видите, я выступаю против того, что люблю. Если бы какой-нибудь врач категорически запретил мне употреблять крепкие алкогольные напитки, это не превратилось бы для меня в трагедию. Но если бы он сказал, что мне вообще нельзя пить вино, я бы скончался. И все же, когда серьезно сажусь на диету, то не пью ни капли. Только негазированную минеральную воду.
Если говорить о диетах, то существуют разные хитрые приемы, которые помогают бороться с весом. Один из них — потянуть как можно дольше, прежде чем садиться за стол, помедлить и с подачей очередного блюда. За это время ваш желудок немного успокоится, поскольку понимает, что сейчас его будут питать.
И если вам удастся удержаться от второго блюда после первого, скажем, после чашки бульона сделать паузу, то голод чуточку утихомирится при мысли о следующем блюде, а когда оно наконец появится на столе, вы уже будете не таким голодным, как прежде.
Лучано Паваротти большой ложкой поливает специальным соусом огромные порции пасты.
Если говорить о диетах, то существуют разные хитрые приёмы, которые помогают бороться с весом. Один из них — потянуть как можно дольше, прежде чем садиться за стол, помедлить и с подачей очередного блюда…
В этом случае действует, наверное, другой механизм, который очень полезно знать, чтобы не переедать. Даже когда вы съели уже вполне достаточно, аппетиту требуется примерно четверть часа, чтобы «угаснуть». Вы плотно поели, но все еще испытываете голод, даже ужасный голод. Подождите четверть часа и увидите — ощущение голода пройдет. Иногда это помогает. А если нет, то и не знаю, что вам еще посоветовать…
Прежде чем ухмыляться, почему именно я, толстяк, даю вам советы, как похудеть, подумайте вот о чем — ведь вы не знаете, насколько я стал бы толще, если бы не использовал свои маленькие секреты.
Важно также знать и всегда учитывать собственные слабости. Некоторые люди способны ограничиться лишь кусочком шоколадного торта. Другие, напротив, не могут удержаться и съедают все до последней крошки — подобным сладкоежкам следует бежать без оглядки из дома, где такой торт украшает обеденный стол, и избегать ресторанов, в которых изысканные пирожные демонстрируются как особое фирменное лакомство.
Я, например, обожаю макароны, и мне трудно обходиться без них, поэтому один врач, мой друг, придумал диету, которая позволяет мне не отказываться от макарон полностью. Это великолепная диета и совсем необременительная, потому что удачно учитывает мои слабости. Запрещены ликеры и жиры, а все остальное разрешено в великодушных пределах.
Мой друг знает, что я привык к обильным порциям, поэтому мне позволительно хорошее мясное блюдо с зеленью, а макароны и другие продукты, богатые крахмалом, ограничены до 150 граммов в день. Такая диета меня вполне устраивает, потому что люблю есть все, в том числе мясо и зелень.
Многие годы моим секретарем оставалась совершенно необыкновенная женщина, американка итальянского происхождения Аннамария Верде. Она заботилась обо всех моих делах, рационально выстраивая мой день, и следила, чтобы я вовремя оказывался, где нужно. Одна из обязанностей, которую она взяла на себя, помимо всех прочих забот, — изобретать прелестные китайские лакомства в сочетании с некоторыми дозволенными моей диетой продуктами.
Аннамария — гениальный повар. Как и я, она любила поесть, и ей тоже время от времени приходилось худеть. Пока она состояла моим секретарем, то без конца разнообразила мою диету, и, как правило, с очень удачным результатом. Как-нибудь, надеюсь, соберу все рецепты, какие мы с нею изобретали в рамках диеты, и добавлю к ним те, что сочинил ради удовольствия сам.
Обычно основное мое блюдо состоит из строго определенного количества продуктов, богатых протеином, но с довольно низкой калорийностью — телятина, курица или рыба. Их готовят вместе с овощами с ограниченным содержанием крахмала — кабачки, лук, фасоль, сельдерей, морковь и т. д., а потом остужаются в холодильнике. К этому блюду ежедневно добавляю сто граммов риса.
Есть охлажденную пищу стало для меня правилом, потому что могу взять еду из холодильника в любую минуту и сразу же утолить голод, тем самым избегая ожидания, когда искушение заглотить первое, что попадется под руку, становится совершенно неодолимым. Разумеется, старательно выбираю приправы, чтобы холодные блюда оказались вкуснее горячих.
Я не очень-то могу объяснить, сколько времени то или иное кушанье нужно варить или жарить, и не берусь уточнять какие-то другие технологические подробности приготовления пищи. Я умею стряпать, но не могу научить этому других. Мое истинное призвание — попробовать уже готовое блюдо и понять, что нужно сделать, чтобы улучшить его.
В отношении некоторых частностей в кулинарии бываю очень привередлив. Я убежден, например, что петрушка намного лучше сочетается с любым блюдом, если ее хорошо нарезать. Аннамария часто смеялась надо мной, вспоминая, как однажды, войдя на кухню, увидела на стене плакат: «Пожалуйста, режьте петрушку как можно мельче!»
Мирелла Френи
Двое молодых людей из Модены
Теперь, когда мы с Лучано поем вместе во всех театрах мира, я поражаюсь, как много у нас общих и давних воспоминаний. Интересно, что семьи наши дружили еще до того, как мы появились на свет. Они жили в одном квартале, и наши матери работали вместе на табачной фабрике. От табака портится материнское молоко, и родителям пришлось искать кормилицу. У нас с Лучано оказалась одна и та же кормилица, и, вероятно, правы люди, говоря, что все впитывается с молоком в раннем детстве.
Как я уже сказала, наши семьи дружили. Правда, вместе не ужинали — тогда это было не принято, но виделись каждый день и знали друг о друге очень многое. Потом моя семья переехала на другой конец Модены, и я несколько лет не встречала Лучано. В сущности, у меня мало сохранилось воспоминаний о времени, когда жили рядом, потому что мы были еще слишком маленькими, но, повторяю, семьи хорошо знали друг друга, и мы, дети, как бы ощущали друг друга.
Я начала петь раньше Лучано, и, помню, одна из наших первых встреч после долгого перерыва, когда мы уже стали взрослыми, произошла в театре Комунале, где я исполняла партию Лиу в «Турандот». Лучано пел в хоре, как и его отец. Тогда он и не думал о карьере профессионального певца, но все в оперных кругах повторяли, что с таким красивым голосом ему надо попытаться попробовать. И он последовал этому совету.
Очень скоро мы стали заниматься у одного педагога — маэстро Этторе Кампогаллиани в Мантуе — и часто вместе ездили к нему поездом или на машине моего мужа. Мы без конца обсуждали наши дела, обменивались впечатлениями и мнениями о пении, о вокальной технике… словом, обо всем, что изучали. Мы оба занимались с величайшим усердием.
Странно, как много у нас общего. Я, например, училась в школе вместе с Адуа Верони, с которой Лучано обручился. Правда, в разных классах, но мы знали друг друга и виделись каждый день.
Я считаю Лучано, по существу, своим братом. И наша дружба так радует нас еще и потому, что в певческой карьере очень редко бывает, чтобы встретились настоящие друзья. Кругом столько зависти, столько интриг. А у Лучано я никогда не замечала и намека на что-либо подобное. И каждый раз, когда нам доводилось петь вместе, у нас складывалось полное взаимопонимание и не возникало никаких проблем.
Как в пении, так и в поведении на сцене, каждый из нас сразу понимает трудности другого. Очень часто я обращаюсь к нему за советом или же хочу узнать его мнение о чем-то. И он, в свою очередь, поступает так же.
Когда бываем в различных городах, радостно сознавать, что всегда можешь рассчитывать на друга, который тебя понимает, знает твою работу и все подробности твоей жизни и при этом не испытывает ни тени зависти или ревности.
И всякий раз, когда оказываемся в одном городе, нередко вместе ужинаем. Иногда шутим, что чаще видимся за границей, нежели в Модене. Бывает, одновременно приезжаем в родной город, и тогда ужинаем вчетвером — с его женой и моим мужем. Но обычно, когда Лучано оказывается в Модене, я в это время нахожусь где-нибудь на другом конце света, и наоборот. Так или иначе, всегда большое счастье узнать, что нам предстоит петь вместе на одной сцене.
Откровенно говоря, не могу сравнить Лучано ни с одним из теноров, с которыми я работала, потому что у нас с ним совершенно особые отношения — дружба, какая у меня не возникала ни с кем из певцов.
Меня нисколько не удивил его безграничный успех. Я всегда предполагала, что он сделает большую карьеру. Знаю, что в первые годы работы Лучано как профессионала ему ни разу не предложили выступить в Модене, поэтому он считает, что оперные заправилы в родном городе не поддерживают своих земляков.
Думаю, он ошибается, потому что я дебютировала в Модене в 1955 году в партии Микаэлы в «Кармен» и в начале карьеры часто пела там. Не знаю, может быть, они имеют что-нибудь против теноров… Все, что угодно, бывает.
Но сейчас им восхищаются, несомненно, очень многие. Когда мы выступали вместе в концерте в нашем городе в 1979 году, публика горячо приветствовала нас обоих.
Единственное, в чем изменился Лучано по мере того, как росла его известность, так это в весе. Я слышала уйму толков по этому поводу — от него самого и от других людей, но, на мой взгляд, тут существует только одно простейшее объяснение: он любит поесть.
Успех ни в малой степени не вскружил ему голову. Наша дружба осталась нерушимой, такой же, как во времена, когда мы вместе ездили на занятия к Кампогаллиани. Лучано по-прежнему Лучано.
Не знаю, повредит ли ему безудержная реклама, устраиваемая повсюду. Все зависит от прочности нервов. Я пришла бы в ужас от подобной шумихи. Теперь на каждом выступлении он обязан показывать высший класс. Я, например, не хотела бы подобного ажиотажа. Но если нервы выдерживают такое, тогда, думаю, это очень неплохо.
Лучано Паваротти
Как я пою спектакль
В день спектакля я сплю допоздна, чтобы мое тело отдохнуло как можно полнее, а проснувшись, выпиваю чашку кофе с сахарозаменителем, ничего больше, и так всегда. Ясно, что первая моя мысль, в голосе я сегодня или нет. Могу проверить его звучание в душе, как и любой человек, но делаю это не ради удовольствия услышать себя под аккомпанемент шума воды. Состояние голоса — для певца жизненно важный фактор.
Интересно, почему всех так волнует, какое влияние оказывает на голос половая функция? Может быть, потому что вокалисты всегда ищут для себя оправдание, когда бывают не в голосе, и чрезмерная половая активность выглядит благородной причиной, извиняющей певца. Или же просто потому, что секс невероятно интересует всех, и всегда кстати любой повод, лишь бы поговорить о нем.
Многие певцы, в частности, тенора убеждены: занятие любовью непосредственно перед выступлением в спектакле благотворно влияет на голос. Терри МакИвен, который вскоре станет директором театра в Сан-Франциско, уверяет, что может по звучанию голоса определить, была у певца половая близость ночью в канун спектакля или нет. Один мой коллега настолько убежден в полезном воздействии секса, что нередко организует подобное «мероприятие» на скорую руку в своей грим-уборной.
Мой друг Хосе Каррерас здесь занимает, по-моему, правильную позицию. «Я знаю, что секс идет на пользу моему голосу, — говорит он, — но не берусь судить о моих коллегах. Я никогда не проводил время в постели с тенором».
Это все так нелепо. Как и Хосе, не могу удержаться и не пошутить над этим, когда журналисты задают мне вопросы о сексе… причем постоянно. Авторам репортажа на обложке «Ньюсуик», которые спросили меня, что я думаю на этот счет, я ответил:
— Думаю, что секс настраивает мое тело так же, как вокализы мой голос… а вокализы я пою ежедневно.
Кроме шуток, я думаю, что лучше все-таки воздержаться от половой близости в день, когда нужно петь, и накануне тоже. Считаю более правильным вообще не давать организму никаких нагрузок в этот промежуток времени. Ты можешь петь одинаково плохо спустя пять минут после полового акта и даже через пять дней. Однако не думаю, что взаимосвязь тут может быть столь предсказуемой, как многие хотели бы нас уверить.
Так или иначе, не стоит оказываться во власти подобной проблемы и допускать ее влияния на твою жизнь. Один мой коллега по Метрополитен очень строг в этом отношении. Его жена откровенно жалуется, что муж не выполняет свои супружеские обязанности — как накануне, так и после спектакля: «А ведь он поет, — добавляет она, — два раза в неделю!»
Что касается обычного для меня регламента в день перед выступлением в оперном спектакле, то позвольте, описывая его, набросить на вопрос о сексе покрывало.
После кофе и душа две минуты пою вокализы. Если голос звучит, прекращаю занятия и отдыхаю до завтрака. Если голоса нет, все равно кончаю петь вокализы через две минуты… немного расслабляюсь и только потом сажусь за стол. После завтрака какое-то время провожу за мольбертом или чтением. Стараюсь избегать встреч с людьми — разговоры утомляют голос.
Потом опять отдыхаю несколько часов и снова начинаю петь вокализы. Если голоса по-прежнему нет, форсирую его, даже кричу, если необходимо. Продолжаю упражнения до тех пор, пока не убеждаюсь, что голос вернулся. Еду в театр. И снова вокализы, чтобы проверить, не потерял ли голос по дороге.
Крестьянский парень Неморино из «Любовного напитка» Доницетти — одна из особенно любимых партий Паваротти.
Как считал сам певец, она очень близка ему по характеру, и потому войти в этот образ ему не составляло труда.
Добираюсь до театра на своем старом «Мерседесе», который держу в гараже «Резиденции Марии-Терезы», где останавливаюсь всякий раз, когда выступаю в Ла Скала. Это очень удобная и спокойная гостиница, где я снимаю достаточно просторные апартаменты, чтобы разместить там свои картины, — номер с кухней, где могу приготовить что-нибудь вкусненькое для себя и моих друзей.
Центр Милана — сплошной кошмар, здесь транспорт движется по улицам лишь в одну сторону. Я плохо знаю город, но от гостиницы до театра Ла Скала мог бы доехать с закрытыми глазами. Я люблю управлять машиной и предпочитаю сам сидеть за рулем. Все мои друзья знают о моей страсти и часто, когда бываю за границей, позволяют мне водить их машины в наших совместных поездках.
После спектакля или какого-нибудь другого волнующего события ничто не доставляет мне столько удовольствия, как оказаться за рулем какой-нибудь мощной машины и на большой скорости помчаться по автостраде. Это потрясающий способ снять напряжение, только не говорите дорожной полиции, что советую вам делать то же самое.
Ла Скала разрешает мне парковать машину во дворике за сценой, что очень удобно. Приезжаю всегда за час или полтора до поднятия занавеса.
Сегодня впервые пою в Ла Скала «Любовный напиток» и поэтому волнуюсь намного больше обычного. Я всегда нервничаю перед выходом на сцену. И любой певец, который станет уверять вас, будто совершенно спокоен, скажет неправду.
Но, бывает, переживаю особенно сильно. Например, когда впервые выступал с моим сольным концертом на телевидении по национальному телеканалу США, я так перепугался, что, кажется, уже ничего не соображал.
Миланские критики могут превратиться в настоящих садистов. Невозможно предугадать, когда они решат расправиться с каким-нибудь певцом и чем может обернуться их враждебность.
Подозреваю, что во многих случаях причина чисто эмоциональная, без какой бы то ни было связи с реальным исполнением. Естественно, они знают о моих успехах в США и в других странах, что меня и пугает. Они не любят, когда иностранцы указывают им, каких итальянских теноров надо похвалить или раскритиковать.
Кроме того, что-то не нравится мне собственное горло. Оно вроде бы и не болит, но все же чуточку не такое, каким должно быть… как раз та самая «чуточка», которая и заставляет меня нервничать больше обычного.
Вхожу в свою грим-уборную, где стены отделаны темным деревом. Слышу, как в соседних комнатах мои коллеги поют вокализы — привычная атмосфера за кулисами оперного театра перед началом спектакля. Иду узнать, приехала ли и как себя чувствует моя Адина — Мирелла Френи. Она сидит за гримерным столиком, улыбается мне и шлет воздушный поцелуй.
Моя грим-уборная находится на мужской половине как раз над ее комнатой. Меня встречает костюмерша, женщина средних лет, уже давно работающая в Ла Скала. Мой костюм готов, но сначала я должен настроиться, сесть за пианино и спеть вокализы, затем отправиться в небольшую комнату в конце коридора, где меня ждет гример, с которым на генеральной репетиции мы придумали хороший грим для моего Неморино.
Усаживаюсь перед ярко освещенным зеркалом спиной к двери и, пока мастер работает, обмениваюсь через стекло приветствиями с друзьями, которые приходят навестить меня. Даже если переживаю, как сегодня, мне все равно удается пошутить и посмеяться вместе с ними.
Режиссер Жан-Пьер Поннель приходит напомнить мне о небольших изменениях, о которых мы договорились на генеральной репетиции. Поначалу постановку оперы «Любовный напиток» режиссер осуществил в оперном театре в Гамбурге.
Гример закончил работу над моей физиономией. Теперь я — загорелый деревенский парень, который много времени проводит на солнцепеке, когда пасет овец. (Эту идею — превратить Неморино в пастуха — предложил Поннель.) Парик с короткими курчавыми волосами укреплен на моей голове и, кажется, идет мне. Не всегда возникает такое хорошее ощущение после того, как меня загримируют и оденут. Возвращаюсь в грим-уборную, мне помогают надеть костюм, который в основном состоит из просторной, чрезвычайно удобной деревенской рубашки.
Теперь я готов, и остается только ждать выхода на сцену. Вот тут-то волнение дает себя знать особенно остро. Сажусь за пианино и пробую голос. Все на месте, но горло не в порядке. Оно очень беспокоит меня. Что-то мешает мне, и это «что-то» может сказаться на голосе не сию минуту, а повлиять на него через час. Между тем должно пройти еще три часа, прежде чем прозвучит последняя нота.
Ко мне в грим-уборную заходит преподаватель вокала театра Ла Скала. Он делает это перед каждым спектаклем. Здоровается, садится за пианино и берет аккорд. Пою фразу в мажоре. Идем дальше, постепенно повышая ноты. Когда подходим к «до», маэстро останавливается и оборачивается ко мне.
— Идет? — интересуется он.
Признаюсь, что в горле что-то мне мешает. Он уверяет, что голос в порядке. Уходит.
Наступает самое мучительное время. Ты сделал все, что следовало, но остается еще двадцать минут до поднятия занавеса. Теперь можешь только сидеть и спрашивать себя, как же ты дошел до того, что выбрал себе профессию, которая заставляет тебя, взрослого дядю, напяливать на себя какой-то странный костюм и выходить на сцену перед тысячами людей с риском оказаться посмешищем или вызвать скандал.
Опера — замечательный вид искусства, потому что в ней соединено множество элементов. И каждый из них может погубить певца, даже если он превосходно справится с остальными. Когда занавес уже готов подняться, опера для исполнителя перестает быть старинным драгоценным сокровищем из великого художественного собрания, а превращается в минное поле.
Наконец пришло время занять нужное место на сцене, и я отправляюсь в свой крестный путь. Костюмерша следует за мной с бутылкой минеральной воды, коробкой булавок и всякими другими мелочами.
Подойдя к сцене, принимаюсь искать на полу согнутый гвоздь. Это примета, в которую верю уже давно. Я не могу петь, пока не найду такой гвоздь. Обычно это удается сделать без труда, поскольку столярных и плотницких работ за кулисами всегда бывает немало.
В этой примете соединились два типично итальянских суеверия: металл приносит удачу, а согнутая форма гвоздя напоминает рог, который спасает от невезения.
Все смеются над моей привычкой, и бывали случаи, когда некоторые рабочие сцены, стараясь помочь мне, тоже принимались искать на полу согнутый гвоздь. Неправда, будто посылаю вперед Адуа отыскать такой гвоздь, как мне довелось прочитать где-то. Тот, кто писал подобное, не знает мою жену. Более того, эта моя привычка очень сердит ее, потому что гвоздь я сую, разумеется, в карман, и там образуются дырки, которые ей потом приходится зашивать.
Теперь многим известна эта моя примета, и поклонники со всего света присылают самые невероятные гвозди: некоторые серебряные, а один даже массивный из литого золота. Но мне нужен самый обычный железный гвоздь, найденный за минуту до выхода на сцену, чтобы отвести неудачу.
Прихожу на свое место. В первом акте «Любовного напитка» Поннель придумал сельский пейзаж — с домиком Неморино в ложе просцениума слева. А напротив — домик Адины, девушки, которую любит мой герой. Этими ложами обычно пользуются только администраторы театра, но для нашей постановки они превращены в декорации. Я, правда, редко оказываюсь в своем домике, так как почти все время нахожусь на сцене.
Сажусь на скамейку. Слышу шум в зале: океан, способный обласкать тебя или убить. Мне дают нечто вроде игрушки — соломенного ягненка, его нужно держать на руках, исполняя первую арию. Дирижер поднимается на подиум и раскланивается в ответ на приветствия оркестра. Публика безмолвствует.
Вот они — самые ужасные минуты. Тут уже никак не можешь пойти на попятную. Спектакль начался. Сижу в своем домике, обливаюсь потом, он струйками стекает по шее, а ведь еще целых три часа надо петь. Я согласился бы стать кем угодно, только не солистом оперы. Я готов вернуться в школьный класс к тем маленьким дьяволятам… Куда угодно. Молюсь. Верю в доброго бога. Но и веры недостаточно, чтобы одолеть мучительное волнение. Не думаю, что у меня есть какой-нибудь враг, но если бы он существовал, я и ему не пожелал бы таких ужасных минут, как эти.
Начинается увертюра, поднимается занавес. Вскоре мне предстоит выйти на сцену и начать маленькую пантомиму с девушкой, в которую я влюблен, и которая в свою очередь выйдет из дома с противоположной стороны. Однако за долгие годы карьеры я уже убедился, что наделен каким-то особым свойством, помогающим мне преодолевать паралич от волнения. Когда нужно появиться на сцене, что-то как бы отключается в моем сознании, я превращаюсь в действующее лицо и уже ни о чем постороннем больше не думаю.
Происходит нечто вроде самогипноза, и объяснить «это нечто» трудно. Я становлюсь героем оперного спектакля. Отчасти благодаря полнейшей сосредоточенности, которую считаю совершенно необходимой для любого хорошего исполнения, идет ли речь об опере или о концерте. А отчасти, думаю, потому, что возникает нечто вроде психологической защиты от огромного груза ответственности. Если только позволишь себе думать о том, что тебя ожидает в ближайшие часы — обо всех возможных опасностях, риске и множестве деталей, которые нужно помнить, о технических и музыкальных задачах, о разногласиях с дирижером в прочтении партитуры…, о публике, прежде всего о публике, об этом неподатливом, полном капризов Молохе, — если только станешь сейчас думать хотя бы о малой толике всех волнующих проблем, то просто рухнешь в беспамятстве.
Полнейшая сосредоточенность, исключающая из сознания все, что не касается твоего непосредственного действия в данную конкретную минуту, именно такое состояние совершенно необходимо для достижения высшей степени художественного мастерства, но и отчасти ради самосохранения. Ты — простой деревенский парень, влюбленный в девушку, которая тебя отвергает. И ничего больше. У меня часто бывало, что я надолго забывал о публике. Если что-то и входило в сознание из того мира, который создали Доницетти и Феличе Романи, то это дирижер, машущий в полутьме своей палочкой.
В «Любовном напитке» я сразу же должен начать с большой арии. Неморино стоит возле своего домика в лучах прожекторов, прижимая к груди соломенного ягненка, и поет: «Как прекрасна, как дорога…» Это красивая мелодия, нежное признание моего героя в любви к Адине, но ария не без риска для тенора, особенно потому, что он еще не успел разогреться.
Все идет хорошо, и публика дает мне это понять своими аплодисментами… отнюдь не безумными, но сердечными, почти горячими. Просто поразительно, как я улавливаю настроение зала еще раньше, чем зазвучат аплодисменты. Это нечто на уровне подсознания. Редко случалось, когда реакция слушателей в конце какого-нибудь номера оказывалась для меня неожиданной… своей холодностью, равнодушием или восторгом. Всегда чувствую ее раньше, нежели она проявляется.
Теперь, когда Мирелла поет незамысловатую арию Адины, рассказывая подругам историю Тристана и Изольды, я ощущаю большую теплоту зрительного зала. Какая публика способна остаться равнодушной перед Френи? Одного ее облика достаточно, чтобы покорить всех. А то, что она великая певица, сопрано самой высокой пробы, становится очевидным во время исполнения первой же арии, даже если та проста и незатейлива, и Мирелла не может сразу же показать все свое мастерство.
По роли Неморино должен влюбленными глазами смотреть на Адину с другого конца сцены. А как Лучано Паваротти, я любуюсь ею и думаю: мы родились почти одновременно — наши дни рождения разделяют несколько месяцев, мы выросли в одном квартале небольшого города, а теперь вместе поем в самом знаменитом оперном театре мира, исполняя две великие партии итальянского оперного репертуара. Какая радость работать с Миреллой! И как с певицей, и как с подругой.
Первый акт идет хорошо, чувствую, что публика «оттаивает» и получает все больше удовольствия от певцов. Но я прекрасно знаю: если даже она одобрит именно твое исполнение, зал в любую минуту может восстать против всего спектакля. Дулькамара эффектно появляется на сцене и поет свою арию зазывалы. Теперь я вступаю с ним в дуэт, прося продать напиток, выпив который Адина полюбит Неморино.
Мне очень нравится этот дуэт. Сюжет совершенно ясный и очаровательно комичный: наивный крестьянин, верящий в чудо, и бесстыжий шарлатан, продающий пустышку вместо эликсира.
Музыка замечательно передает радость Неморино, когда ему удается уговорить столь ученого человека помочь ему завоевать любовь девушки, а Дулькамара так счастлив, что нашел наивного простачка, которого легко обмануть. Музыка чудесно подчеркивает веселый характер этой игры: люди могут обманывать друг друга, но каждый имеет прекрасную возможность получить все, что ему необходимо. Здесь, на мой взгляд, итальянская комическая опера достигает своей вершины. А таких эпизодов в «Любовном напитке» достаточно.
В конце первого акта Неморино в отчаянии мечется по сцене, и все смеются над ним, ведь сейчас Адину готовят к свадьбе с его соперником.
Бурная сцена очень утомительна для меня: когда опускается занавес, я совершенно обессилен. Направляюсь в гримуборную, почти не слыша аплодисментов, которые вроде бы и восторженные, но не ошеломительные. Милан еще не покорен. Еле перевожу дух, обливаюсь потом.
Добравшись до своей комнаты, падаю в кресло. Пью немного минеральной воды, потом чашку теплого чая. Мой голос, похоже, пока держится, но впереди еще два акта.
Сольный концерт в Ла Скала. 1983 г.
Входит моя жена. Она говорит, что публика довольна. Но мне нельзя расслабляться, пока не спою большую арию во втором акте «Вижу слезу украдкой я…».
Антракты — это как бы нейтральная полоса, когда на короткий промежуток времени оказываешься вне сражения, но война еще не окончена. Поначалу в перерывах мне не хотелось никого видеть, кроме жены. Теперь я уже не столь строго отношусь к посещениям моей грим-уборной, но только после окончания спектакля вновь становлюсь доступным миру животным.
Вытираю пот, поправляю грим и ожидаю выхода. Кажется, не прошло и двух минут, как я снова на сцене — выторговываю у Дулькамары вторую бутылочку любовного эликсира. В сцене опьянения, когда я уже записался в рекруты, чтобы заплатить за напиток, бутылка вдруг разбивается у меня в руках. Не замечаю крови, пока не выхожу за кулисы. Костюмерша промывает порезы и заклеивает пластырем, чтобы публика ничего не заметила.
На репетициях, и на генеральной тоже, бутылка всегда была пластиковая. Решили, что так будет спокойнее. По каким-то причинам, о которых узнаю позже, реквизитор вздумал заменить ее стеклянной, не предупредив меня. Стою на сцене в полной уверенности, что держу в руках бутылку небьющуюся, и вдруг она внезапно разлетается на куски. Конечно, имелся, наверное, какой-то повод для замены — может, затерялся пластиковый сосуд или произошла еще какая-нибудь подобная глупость, — но обнаружить ее во время спектакля…
Невольно воспринимаешь случившееся как предательство со стороны человека, чей долг, напротив, помогать тебе. Такого рода неприятности происходят, к сожалению, довольно часто, вынуждая сильно нервничать, а порой и взрываться гневом.
В сравнении со многими певцами, среди которых есть люди, просто склонные к скандалам, у меня, к счастью, мало случалось неприятностей на сцене. Однажды, когда я выступал в Сан-Франциско, вдруг почувствовал, как подо мной заходил пол. Это началось сильное землетрясение. Признаться, кроме тех случаев, когда поднимаюсь по трапу в самолет, обычно я достаточно храбр. И тогда тоже вел себя совершенно Спокойно-Потом мне говорили, что мое поведение предотвратило в театре панику.
Во время спектакля могут произойти и другие мелкие события, которых даже не замечаю. На сцене я целиком погружаюсь в действие оперы. Помню все же один случай, когда по рассеянности едва не испортил всю свою роль. Пел «Богему» в Анкаре. Поскольку не знаю турецкого языка, то исполнял партию Рудольфа по-итальянски, а остальные певцы отвечали мне на своем языке. Очень странно оказалось слышать столь знакомую музыку в сочетании с какими-то совершенно непонятными словами! Мне стало невероятно смешно. И в самом деле, кто не отвлекся бы, если б, играя роль парижского поэта прошлого века, вдруг услышал, что ему отвечают по-марсиански?
Но вернемся к «Любовному напитку» в Ла Скала. Наконец все партнеры покидают сцену и оставляют тебя одного. Выхожу в центр огромного сценического пространства и пою одну из самых великих теноровых арий, когда-либо написанных — «Una furtiva lacrima» — «Вижу слезу украдкой я…». Ария изумительная и очень загадочная, потому что до нее музыка в опере звучала живая и веселая… А тут вдруг эмоциональный настрой совершенно меняется, и Доницетти включает в партитуру единственный номер непостижимой серьезности и красоты, как бы говоря слушателям: «Вы достаточно повеселились, а теперь хочу напомнить вам, что я — великий композитор и вы слушаете замечательных певцов».
Но пока оркестр исполняет светлую, печальную интродукцию, могу лишь надеяться, что публика Ла Скала готова послушать просто хорошего певца.
Очень трудно объяснить людям другой национальности, что происходит, когда итальянский тенор исполняет перед итальянской публикой одну из величайших арий нашего оперного репертуара.
Нужно чувствовать сердцем, как много значит для нас опера, сколь глубоко чтим мы наших композиторов, как близка нам их музыка, как важна она для нашего национального престижа.
Когда начинаю петь «Unafurtiva lacrima», то не знаю точно, но могу себе представить, какие изумительные воспоминания возникают у меломанов, сидящих в зале. Возможно, они помнят, как пели эту арию Джильи, Скипа, Ди Стефано, Тальявини или еще какой-нибудь великий тенор, выступавший на этой же сцене, чье исполнение стало для слушателей одним из самых волнующих моментов в жизни. А теперь вот и я набрался нахальства соперничать с ними. Когда пою первые ноты — нежно, мягко, — непередаваемое волнение охватывает всех — и меня, и публику.
Ария необычна не только потому, что это единственный печальный номер во всей комической опере. Большинство великих теноровых арий итальянского репертуара, как правило, заканчивается высокой нотой, и если возьмешь ее как следует, то можешь привести публику в безумный восторг.
В арии «Una furtiva lacrima» нет ничего привычного… Это просто отчаянно прекрасная музыка, которая может выявить малейшие недостатки плохо поставленного голоса.
Я пою начальную изумительную по красоте мелодию с ее драматической и неожиданной переменой тональности в самом волнующем месте. С незначительными вариациями мелодия повторяется в конце арии. С точки зрения технических трудностей «Una furtiva lacrima» несложна. Но певцу надо извлечь из музыки весь ее огромный эмоциональный накал, поэтому ария невероятно трудна для исполнения.
Полагаю, что это самая коварная ария из всего великого тенорового репертуара: она сразу же показывает достоинства и недостатки певца.
Вот я взял последнюю ноту, держу ее. Наступает мгновение тишины. Думаю: ария прошла хорошо. И тут раздаются аплодисменты, оглушительные, невероятные. Театр Ла Скала обезумел. Стою недвижно, опустив руки, стараясь не выходить из образа. Тысячи мыслей проносятся в голове. Естественно, я доволен, что ария уже спета, счастлив, что Ла Скала аплодирует мне, и критики, надеюсь, похвалят. Я победил.
Но возникает и другая мысль, которая может показаться наглой. Я считаю, что музыкальный номер, даже самый прекрасный, сам по себе не является законченным произведением. Замысел композитора еще должен быть раскрыт исполнителем в пении, и если чувствуешь, что тебе удалось это сделать, ощущаешь себя как бы частичкой маэстро, создавшего музыку.
Овация продолжается, и я по-прежнему стараюсь не выходить из образа. Одно время я раскланивался на аплодисменты в середине акта, если мне казалось, что им нет конца. Я думал, что подобным поведением успокою публику, не перестающую отбивать себе ладони, даю ей знать, что отвечаю на ее восторг.
Но потом понял: если зал безумствует, как сейчас в Ла Скала, то отвечать на аплодисменты, выходить из образа и благодарить слушателей от себя лично просто нельзя — это еще больше возбуждает их.
Если хочешь получить хоть какую-то надежду двинуться дальше, чтобы потом вернуться домой и поужинать, должен стоять как манекен — сияющий благодарностью манекен, пока публика не отведет душу.
На другой день газеты писали, что овация после «Unafurtiva lacrima» длилась десять минут. Очень долго. Я благодарен залу даже за минуту. Один друг сказал мне, что в этот вечер я совершил чудо — высокомерная публика Ла Скала уподобилась горячим неаполитанцам, обожающим свой Сан-Карло.
А я тем временем стою недвижно, безмерно счастливый, бесконечно благодарный и немного смущенный.
Наконец спектакль можно продолжить. Еще немного пою вместе с Миреллой и затем начинаю финальную сцену. Когда опускается занавес, восторг, который публика выразила после моей знаменитой арии, с невероятной силой вспыхивает вновь, но теперь овация адресована только Мирелле Френи и спектаклю в целом. А когда вызовы следуют один за другим, чувствуешь себя вознагражденным за ужасные минуты, что пережил в начале оперы. Признаюсь, люблю аплодисменты. Они необходимы мне как воздух.
Как человек любвеобильный, я и сам нуждаюсь в ответной любви, и есть нечто волшебное в чувствах, какими заражает тебя публика. Это действительно не похоже ни на что на свете. С друзьями и близкими ты никогда не можешь быть уверен, любят ли они тебя по-настоящему и сколь долговечны их привязанности. А в отношениях между певцом и публикой все как на ладони — если обожают тебя, то говорят об этом прямо. А не любят, притворяться не станут… И самое замечательное — пока можешь давать им то, чего ждут от тебя, они постоянно, каждый вечер будут готовы выражать тебе свои горячие чувства.
Наконец, спектакль действительно окончился, и я сижу в своей грим-уборной. Здесь же мой отец, приехавший на машине из Модены. Он тепло обнимает меня. Множество друзей и незнакомых людей толпятся у двери, протискиваются вперед и окружают меня. Кто угодно может прийти ко мне в гримуборную после спектакля.
Подходит Адуа и крепко целует в губы, а между тем вокруг так много других красивых женщин. Какой-то журналист из Рима интересуется:
— Кто же из них ваша жена?
Все смеются.
Дочери тоже обнимают меня, за ними подходят сестра и тетушки. Мамы, разумеется, нет. Она ни разу не посетила театр, когда пою я. Она может слишком разволноваться и опасается, что сердце не выдержит слишком сильного переживания. Однако мы с Миреллой через неделю будем выступать с концертом в Модене, и мама обещала, что, может быть, придет. Посмотрим.
Грим-уборная заполнена друзьями, родственниками. Все один за другим подходят ко мне. Целую каждую женщину, которая пришла поприветствовать меня… каждую — от восьми до восьмидесяти лет. Очень люблю такие минуты — шучу со всеми.
Какой-то старик хватает мои руки и целует их, кто-то другой говорит:
— Нет слов!
Я отвечаю:
— Вижу, вам понравилось, дорогой друг?
Подходят все новые и новые люди.
Спустя какое-то время замечаю, что мои близкие, с которыми должен отправиться ужинать, уже проявляют нетерпение, но они знают, я буду оставаться в грим-уборной до тех пор, пока не уйдет последний посетитель.
Наконец, мы сидим за столом в ресторане, который я предпочитаю в Милане всем другим. Никогда не бываю настолько счастлив, как после успешного выступления, тут я могу расслабиться в обществе дорогих мне людей. Разумеется, ем я много. За время спектакля я теряю в весе до пяти килограммов, но сразу же набираю их, особенно если поглощаю пищу так усердно, как сегодня вечером, но кто способен думать о диете в столь счастливые минуты?
Более того, можно ли вообще о чем-то думать сейчас? Следует только благодарить Бога за возможность делать именно то, что хочешь делать, и именно так, как тебе хочется.
Джон Вустман
Концертмейстер Паваротти
Лучано — не первый великий певец, с которым я работал в качестве концертмейстера. Я занимаюсь этим уже двадцать семь лет и сотрудничал со многими выдающимися исполнителями: Нильсон, Френи, Симионато, Гедда, Тальявини…
Я люблю аккомпанировать певцам, но это вовсе не главное мое занятие. Основная моя профессия — преподаватель. Я — доцент музыкального факультета в Иллинойском университете, в Урбане, где веду курс вокала и фортепиано. В начале каждого сезона встречаюсь с Паваротти и его менеджером Гербертом Бреслином, и мы составляем расписание концертов, которые Лучано хотел бы дать в этом году, а я стараюсь найти возможность принять участие во всех его выступлениях.
Аккомпанируя вокалистам, не разбогатеешь. Я занимаюсь этим, так как люблю певцов, а Лучано не похож ни на кого. Вполне естественно, что подобную карьеру, как у него, не сделаешь, если не будешь отличаться от других артистов. Необходим ярко выраженный индивидуальный стиль и нечто такое помимо голоса, что выделяло бы тебя среди всех.
У Лучано яркая индивидуальность проявляется и в артистическом даровании, и в чисто человеческих качествах. У него совершенно особая манера обращения к залу, и каждый слушатель, в каком бы огромном помещении ни выступал певец, убежден, что Лучано поет именно для него и только для него одного. Лучано умеет устанавливать связь непосредственно с каждым зрителем. Это просто поразительно!
Манрико. «Трубадур» Верди
Кроме того, он удивительно музыкален. В сравнении с другими вокалистами, с которыми мне доводилось работать, Лучано не только очень хороший музыкант. Под этим понятием подразумеваю технически подготовленного артиста, например, умеющего бегло читать с листа. А Лучано сверх-сверх-сверхмузыкален! Многие могут быть первоклассными музыкантами, не будучи музыкальными.
Говоря проще, быть музыкальным еще не означает, что можешь выучить какую-то партию, а потом просто открывать рот, чтобы спеть ее — нет, надо уметь каждый звук, исходящий из твоего горла, превращать в музыку. Тут и проблема фразировки, и умение почувствовать, что хотел сказать композитор…, а также способность передать слушателю намерения творца. У Лучано это получается необыкновенно. У него неподдельные чувства — у него есть душа… И он умеет вкладывать ее в музыку, которую исполняет.
Я слышал, как он говорил кому-то, будто не очень быстро выучивает нужный нотный материал. Я много работал с ним и не согласен с его утверждением. Проблема времени у него действительно есть, только совсем другого свойства. Когда готовишь с Лучано новый номер, время, которое требуется для серьезной работы, исчисляется минутами, а не часами. И в течение этих четырех или пяти минут он действительно предельно сосредоточен и мгновенно осваивает все, что нужно выучить, чтобы точно спеть ноты. Кроме того — и это гораздо важнее, — он превращает верно усвоенные ноты непосредственно в музыку.
Такую способность не приобретешь даже за годы упорных занятий. То же самое можно сказать о других его качествах, каких я не встречал больше ни у кого из певцов. Когда он выходит на сцену, перед началом концерта даже в каком-нибудь совершенно незнакомом городе, я чувствую, как из зрительного зала наплывает на него волна любви еще прежде, чем он взял первую ноту. Подобный феномен трудно объяснить, это какое-то почти мистическое наваждение.
Когда я говорю с ним об этом, он пожимает плечами: «Может быть, они уже слышали меня». Или же: «Наверное, читали какую-нибудь хвалебную рецензию».
Возможно, его слова были бы справедливы, если б речь шла о какой-то особенно восторженной и сердечной публике, но я чувствую именно горячую волну любви, которая всякий раз исходит от огромной массы людей… Почти осязаемо ощущаю этот накал эмоций.
Во время наших выступлений происходили иногда разные необъяснимые события. Помню, однажды мы исполняли несколько песен Тости. Едва Лучано спел одну из них, живую и веселую, я уже начал вступление для следующего номера, такого же по характеру, как вдруг ужасно испугался, обнаружив, что Лучано снова запел только что исполненную вещь. Я сразу же перестроился, и номер прозвучал дважды. Если подумать, то просто удивительно, что подобное случалось не так уж часто.
Выступать в концертах вместе с Лучано для меня огромная радость. Прежде всего, чувствую, что мы превосходно исполняем музыку, и такое исполнение волнует, завораживает публику. Кроме того, сотрудничать с ним, да и просто находиться рядом — настолько интересно и волнующе, что само по себе концертное выступление — а это серьезная и трудная работа — превращается в удовольствие.
Уильям Райт
Обед в Пезаро
Раз в году Паваротти прерывает нескончаемую череду спектаклей, концертов, грамзаписей и уезжает отдохнуть на собственной вилле в Пезаро. Эти каникулы, которые поначалу длились не один месяц, а теперь исчисляются только днями, — единственное время за весь год, когда Лучано перестает быть оперным певцом и вновь делается мужем, отцом, другом, гостеприимным хозяином, спортсменом, живописцем, лентяем.
Только здесь, в Пезаро, Паваротти удается расслабиться и действительно отдохнуть, делать лишь то, что ему хочется. Главное событие дня в жизни обитателей виллы — обед, на который обычно собирается не менее двенадцати человек. Родственники, друзья, сотрудники проводят застолье, наслаждаясь беседой и четырьмя или пятью превосходными блюдами. Обеды эти — для Паваротти нечто вроде ежедневного ритуала, который позволяет ему не оторваться от мира, который создал его и вскормил.
Приобретение виллы произошло совсем «по-павароттиевски», при обстоятельствах, когда переплелись тоска по собственному дому, опера, дружба и увлечение. В январе 1969 года Лучано пел «Пуритан»[11] в Болонье вместе с Миреллой Френи, и среди поклонников, пришедших в грим-уборную поприветствовать его после спектакля, оказался некий синьор Чезаре Кастеллани, приехавший в театр на автобусе, который
«Друзья оперы» в Пезаро наняли специально для поездки в Болонью. Его товарищи хотели послушать Миреллу Френи — она в отличие от Паваротти уже тогда прославилась в Италии. А Кастеллани больше интересовал молодой тенор: голос его, услышанный по радио, поразил этого синьора.
Выступление Паваротти в партии Артура превзошло ожидания Кастеллани, и он, оказавшись лицом к лицу с тенором, принялся рассыпаться в похвалах. Паваротти заговорил с этим пожилым человеком, как всегда поступает со своими поклонниками, не только из дружеских чувств, но и для того, чтобы снять налет обожествления, какой возникает при подобных встречах. Когда Лучано узнал, что Кастеллани из Пезаро, то пришел буквально в восторг.
— Я очень хорошо знаю ваш город, — воскликнул он. — Родители часто возили меня туда в детстве. Но уже много лет, как не бывал там.
В ответ на эти слова Кастеллани предложил ему возобновить знакомство с Пезаро, уверяя, если тот с семьей захочет посетить его, он предпримет все возможное и сделает их пребывание в городе приятным.
Последовав его совету, Паваротти на следующее лето повез Адуа и детей в Пезаро, где они остановились в одной из гостиниц на берегу моря. Разумеется, Лучано сразу же разыскал Кастеллани, и дружба их стала крепнуть.
Все знают Пезаро — старинный город, несколько отодвинутый от пляжа внушительным строем гостиниц и жилых домов на набережной. Здесь в 1792 году родился Россини, и сюда каждое лето наезжают целые орды немецких и скандинавских семей.
Для Паваротти и его близких каникулы в Пезаро очень скоро вошли в привычку. Лучано так полюбил этот адриатический город, что попросил своего друга Чезаре сообщить ему, не продается ли где-нибудь хороший дом. Случай представился почти сразу же: старый деревенский дом на склоне холма в северной части города, где берег освобождается от высоких бетонных надстроек, а зеленые холмы плавно спускаются почти к самой воде.
От побережья грунтовая дорога ведет сквозь густые заросли к ограде, делает за нею крутой поворот и поднимается прямо к дому — крепкому, удобному строению, прочно стоящему на высоком фундаменте.
Паваротти купил этот дом в 1974 году и тотчас же начал ремонт, оставив по возможности нетронутым фасад, но основательно все перестроив внутри. Теперь, когда подъезжаешь к зданию со стороны моря, видишь новую ограду с надписью «Вилла Джулия». Это имя дали в честь бабушки по материнской линии, которую Паваротти обожал в детстве и для которой всегда оставался любимым внуком.
Если вход заперт, гость должен позвонить в колокольчик, связаться по переговорному устройству с обитателями, после чего с ним познакомятся с помощью телекамеры… Продуманы меры предосторожности, которые, впрочем, находятся в разительном контрасте с летним настроением моденского тенора.
Паваротти велел заасфальтировать крутой подъем к дому. Дорога огибает стоящее фасадом к морю здание, и каждый, кто приезжает сюда, появляется на машине, как правило, на виду у гостей, располагающихся на террасе, в саду, либо возле бассейна.
Сейчас здание сияет белизной, жалюзи и оконные рамы выкрашены в приятный синий цвет, а на крыше — красная черепица. Голубой простор Адриатики довершает панораму, но если пройти подальше, к краю сада, который террасами спускается к побережью, то можно увидеть внизу городской пляж, а правее, несколько современных шестиэтажных зданий. Зато слева простираются только море и холмы до горизонта.
В части дома, обращенной к морю, находится просторная гостиная, в ней рояль, восемь мягких кресел, стол для игры в карты и какие-то сверхсовременные флюоресцентные светильники на потолке. Стеклянные двери ведут на большую крытую террасу с обеденным столом, за которым могут свободно расположиться двадцать четыре сотрапезника.
Возле дома между террасой и местом для парковки машин находится фонтан, сооруженный по рисунку самого Паваротти — с четырьмя конями, поддерживающими чашу, из которой стекает вода. Дальше разбито несколько клумб, а рядом — бассейн с невысоким трамплином и плавающими на светло-зеленой воде двумя синими надувными матрасами. Вокруг бассейна растут белые олеандры, календула, красная герань, трава, которую надо бы подстригать, а также немало всяких сорняков.
Общее впечатление — здесь царят комфорт, красота, достаток. Несколько запущенный сад — свидетельство того, что если в нем и поддерживают порядок, то для себя, а не напоказ.
На вилле постоянно обитает экономка Анна Антонелли, которая жила здесь еще до того, как Паваротти приобрел дом. По счастью, она оказалась превосходной кухаркой, даже лучше многих других в этой части Италии, где почти все женщины прекрасно готовят. Компанию ей круглый год составляют три пса и целое кошачье племя, насчитывающее примерно двадцать две особи.
С тех пор как закончен ремонт, Паваротти каждое лето приезжает на «Виллу Джулия» с женой и дочерьми на отдых, который с годами становится все короче и короче из-за очень важных предложений, настолько важных, что их невозможно отклонить. К примеру: в июле 1979 года он отправился в Израиль как почетный участник концерта, посвященного памяти Ричарда Таккера, который проходил в «Аудиториум Фредерикман» в Тель-Авиве. 22 августа Лучано согласился петь в честь Марион Андерсон в Филадельфии в открытом амфитеатре «Робин Гуд делл», сбор от концерта предназначался для фонда ее имени в Пенсильванском университете.
Выходит, в этом году каникулы Паваротти продлятся не больше месяца, причем на «отдыхе» он обязан завершить подготовку двух партий: ужасную партию тенора в «Вильгельме Телле» Россини и партию Энцо в «Джоконде». Этой оперой в сентябре откроется театральный сезон в Сан-Франциско.
Он должен работать и над своей автобиографией, подготовить с журналистами и фотографами материал для обложки «Тайм», прослушать запланированных и незапланированных начинающих певцов, съездить на машине в Модену, чтобы разобраться в своих финансовых делах, принять на «Вилле Джулия» множество друзей и родственников. Вот каковы его каникулы.
Но главное, чем занят Паваротти в дни отпуска, это общение с дочерьми, а они уже совсем выросли, почти не видя отца. Именно здесь, в Пезаро, Паваротти может вникнуть в поведение девочек и дать свои отцовские указания.
Именно поэтому в отличие от отца девочки не любят бывать на «Вилле Джулия». Бассейн, пляж, возможность спастись от жары, которая мучает в Модене, — все это не привлекает их. Они огорчены вынужденным расставанием с подругами по школе и знакомыми молодыми людьми. Кроме того, гости, каждый день приезжающие на виллу, это же люди взрослые, друзья, сотрудники или поклонники отца, а красивые девушки, как известно, предпочитают сами быть в центре внимания.
Стоит жаркий августовский день 1979 года, Паваротти любит подниматься поздно. Около десяти часов он «выплывает» из спальни и выпивает чашечку кофе. На нем кроссовки, белая полотняная шапочка, светлые шорты и оранжевая футболка.
Ярко светит солнце, жарко. Море усеяно парусниками. Паваротти разговаривает о том, о сем с дочерьми, с тестем Гвидо Верони, веселым и сердечным человеком, перенесшим три инфаркта. Отец и мать Паваротти только что покинули виллу, пробыв тут неделю. Осталась сестра жены Лоредана с мужем и двумя детьми — мальчиком и девочкой.
Приехали погостить ненадолго и несколько сотрудников тенора, проделавших долгий путь, чтобы провести с ним каникулы. Один из них, ассистент дирижера из Метрополитен, Джильдо Ди Нунцио. Лондонская фирма «Рекорд» приняла его на службу специально для того, чтобы он помог Паваротти подготовить партию в «Вильгельме Телле», которую ему нужно записать в конце августа прежде, чем отправиться в Филадельфию.
Ди Нунцио и другие сотрудники разместились в соседней гостинице, но на «Вилле Джулия» их неизменно ждут к обеду.
На вилле в Пезаро.
Приобретение виллы произошло совсем «по-павароттиевски», при обстоятельствах, когда переплелись тоска по собственному дому, опера, дружба и увлечение…
Так заведено раз и навсегда, это даже не дискутируется, разве только кто-нибудь не вздумает вдруг отсутствовать. На пустое место за столом в Италии смотрят с предубеждением.
Куда бы ни пошел тенор, рядом всегда оказывается тот, с кем можно перекинуться парой слов: на террасе, в гостиной, возле бассейна, на крытой веранде, где стоит его мольберт. Сегодня утром он задержался возле него минут на двадцать, накладывая яркие мазки на венецианский пейзаж с видом на канал. Некоторые друзья, приехавшие из Модены, смотрят на полотно из-за его плеча.
— Что это, Лучано? — спрашивает один из них. — Нью-Йорк?
— Конечно, — объясняет другой, — вид подземки.
— Вы, провинциалы, не понимаете искусство, даже когда тычетесь в него носом, — ворчит Паваротти, не отрывая взгляда от картины. Белая шапочка низко надвинута на лоб.
Ди Нунцио уже и не пытается зазвать его к роялю. Присутствие здесь аккомпаниатора — немой укор. Внезапно Паваротти спохватывается:
— Джильдо, пошли работать!
Не успел он договорить свою фразу, как Нунцио уже проигрывает вступление к одному из трех пассажей, над которыми еще нужно как следует поработать. Паваротти садится на ручку мягкого кресла возле инструмента так, чтобы читать ноты из-за плеча Ди Нунцио. Они проходят все три пассажа. Паваротти поет в полный голос и грудное «до» и все остальные ноты. Возникли кое-какие трудности с последним пассажем, и они повторяют его четыре раза.
Ровно через шесть минут после начала работы Паваротти объявляет:
— А теперь я пошел плавать!
Около одиннадцати приезжает фотограф из «Тайм» — Энрико Ферорелли, который снимает тенора в бассейне и во многих других местах возле дома — сначала одного, потом с тремя дочерьми. По мере приближения обеда все больше гостей заполняет террасу, собираясь группами там и тут, о чем-то беседуя — кто сидит в кресле-качалке, кто за большим обеденным столом, пока экономка и молодая служанка не начинают накрывать стол. Среди вновь прибывших Чезаре Кастеллани, тот самый пезарский друг, что помог приобрести дом для моденского тенора. Кастеллани служит в банке и всегда старается приурочить свой отпуск ко времени, когда Паваротти отдыхает на «Вилле Джулия».
Недалеко от стола находится металлический холодильник, открывающийся сверху, такие когда-то стояли на каждой станции обслуживания в США. Холодильник всегда полон минеральной воды, пива и безалкогольных напитков, главным образом, без сахара, которые привык пить Паваротти. Время от времени кто-нибудь из гостей поднимает крышку, обслуживая сам себя.
У американского гостя однажды спросили, как он провел время на «Вилле Джулия». Тот, подумав немного, ответил:
— Мы целыми днями занимались пустой болтовней в ожидании следующего застолья.
Фотограф Ферорелли заставил певца надеть точную копию костюма эпохи Возрождения, в нем он будет петь в «Джоконде». На голове Лучано высится черный вышитый золотой toque[12], а могучий торс облачен в длинное черное одеяние. Ферорелли использует для съемки металлический отражатель лучей солнца. Под таким ярким светом кажется, будто находишься в киностудии.
Джильдо Ди Нунцио подходит к позирующему Паваротти. Лучано насвистывает ему три такта из Россини, с которыми у них нелады. Ди Нунцио в ответ напевает их, слегка поправляя ритм, а фотограф продолжает снимать свою модель.
Ферорелли объявляет, что они достаточно поработали, продолжат после обеда. Паваротти снимает toque, но остается в кафтане. Из кухни, которая тоже выходит на террасу, доносятся аппетитные ароматы. Лучано направляется туда, его приветливо встречает экономка.
— Добрый день, синьор тенор!
— Добрый день, Анна. Что сегодня на обед?
Он запускает деревянную ложку в дымящуюся кастрюлю и пробует. Адуа, экономка и молодая служанка замирают в ожидании приговора.
— Прекрасно! Может быть, стоит добавить чуточку перца…
Сияя от счастья, Анна трясет над кастрюлей перечницу.
Кто-то зовет Лучано: возле ограды остановилась незнакомая машина. Приехала молодая женщина из Виченцы, начинающая сопрано, которая утром, отыскав в телефонном справочнике номер Паваротти, позвонила и попросила прослушать ее. С этой целью она специально приехала сюда, в Пезаро. Может ли она попасть на его виллу? Конечно, немедля приезжайте, ответил он. И она прибыла с мужем и двумя друзьями. Паваротти тепло встречает их и ведет в гостиную к пианино. Под аккомпанемент одного из приехавших молодая женщина отважно принимается петь арию Леоноры «Тасеа la notte placida» из «Трубадура» Верди. Материал, вне всякого сомнения, выше ее возможностей.
Когда женщина умолкает, остальные гости, незаметно собравшиеся в гостиной, вопросительно смотрят на Паваротти.
— Очень жаль, но мне трудно оценить ваш голос, — произносит Лучано, — звук не опирается на диафрагму, весь идет вот отсюда… — объясняет он, показывая на горло. — Возможно, у вас очень красивый голос, но вы еще не нашли способ, который помог бы высвободить его.
Молодая женщина благодарит Паваротти за внимание. Поговорив еще немного о пении, Лучано приносит свои извинения. Незадачливые гости пожимают руки всем присутствующим и удаляются восвояси.
Наконец, вся компания, а набралось уже семнадцать человек, приглашается к столу. Паваротти все еще облаченный в черный кафтан, садится на том конце стола, откуда открывается вид на море. Адуа занимает место слева от него, остальные
располагаются по своему усмотрению, кроме нескольких особо почетных гостей, иностранцев, которых тенор просит сесть справа от себя.
Среди постоянных посетителей установилось нечто вроде правила, согласно которому самые близкие друзья и родные скромно удаляются на противоположный конец стола. Это делается с единственной целью — так Паваротти легче общаться с людьми, не владеющими итальянским языком. Царит обстановка превосходного дружеского застолья.
Экономка подает большую фарфоровую супницу с клецками. Лучано, не церемонясь, принимается за еду — перед ним уже давно стоит тарелка с диетическим блюдом, состоящим из холодной курицы и овощей. В то время как многие щедро подливают себе белое и красное вино из стоящих на столе бутылок, Паваротти наливает в свой большой бокал совсем капельку ламбруско и разбавляет его минеральной водой.
— От вина ужасно толстеешь, — объясняет он соседу справа.
Остальные хвалят клецки и продолжают разговоры, начатые еще до обеда. Явно довольный, что за столом у него столько друзей, Паваротти широко раскидывает руки и поет, как на пиру, далеко не профессиональным голосом: «Смейся, паяц, над разбитой любовью», но не на музыку Леонкавалло, а на мелодию куплетов тореадора Бизе.
Общий разговор заходит о главной новости дня — ходят слухи, будто семь марок виски оказались канцерогенными. И сотрапезники — итальянцы и американцы — начинают гадать, что же окажется следующим канцерогеном. Большинство убеждено, что это будут, вне всякого сомнения, витамины в таблетках.
Все, кроме Лучано, с удовольствием опустошают свои тарелки с клецками. Тенор передает хлебницу Ди Нунцио, но тот отказывается:
— Нет, благодарю тебя, я стараюсь обходиться без хлеба.
— Без хлеба? — изумляется Паваротти. — Как же тогда вкушаешь причастие? Пьешь одно вино без просвирки? — и решительно сбрасывает на тарелку маэстро кусок хлеба. Сам же он не взял в рот ни крошки.
Отсмеявшись, они снова возвращаются к пассажу из «Вильгельма Телля», который еще недостаточно прочувствован тенором. Паваротти негромко напевает мелодию. Кто-то из американских гостей возражает:
— Нет, Лучано, это место надо петь вот так… — ив свою очередь выпевает пассаж, изменив лишь последнюю ноту.
— Вот бесстыжий! — восклицает Паваротти, обращаясь к присутствующим. — Ведь даже не музыкант… Нет, дорогой мой, ты поешь пассаж так, как он звучит поначалу, а он-то ведь в партитуре повторяется ДВАЖДЫ.
И Лучано снова воспроизводит мелодию, но уже с закрытым ртом только для себя и сразу же отвлекается на разговор, который доносится с другого конца стола — о ките-убийце.
— «Орка, орка»… Что бы это значило? Неужели тоже кит? Я не знаю такого итальянского слова…
Никто толком не знает. Высказываются разные соображения, кит это или еще кто-то. Конец спорам решительно кладет Адуа, которая своим красивым контральто вдруг заявляет:
— Орка мадонна![13]
Каждый старается внести свою лепту в беседу. Кто-то замечает, что накануне прошел небольшой дождь. А еще кто-то добавляет, что в конце июля такое весьма необычно для Пезаро. Один друг Паваротти из Модены сердито заявляет, что во всем виноваты атомные испытания. Общий смех. Но он настаивает:
— Нет, я серьезно. Так считают крестьяне, и думаю, они правы. Прежде у нас никогда не бывало столько дождей.
Паваротти, покончив со своим диетическим блюдом, принимается выуживать клецки из тарелки жены.
Служанка, которой помогают еще две-три женщины, меняет посуду и приборы для следующей перемены. И экономка немедля подает большое блюдо с котлетами по-милански, украшенные дольками лимона. Гарнир состоит из превосходно приготовленных стручков перца.
Разговор становится серьезным, когда речь заходит о кризисе школы. Деликатный Чезаре Кастеллани кратко излагает свое мнение о качестве обучения.
— Молодежь сегодня получает лишь третью часть того, чему учили двадцать лет назад, — сокрушается он. — Посмотрите на выпускников школы, которые приходят к нам в банк в поисках работы. Они не знают ничего, а хотят получать жалованье втрое больше.
Пока Кастеллани произносит свой монолог, Паваротти шепчет соседу справа:
— Удивительный тип… Совсем другое поколение…
Один из гостей между тем принимается ругать Герберта Маркузе[14], который способен лишь призывать к восстанию и презрению всяческой власти.
— Подобную позицию может отвергнуть взрослый человек, — горячится он, — но для молодых людей это просто погибель! Какой может быть у молодого человека стимул чему-то учиться, если он только и слышит кругом, что все пожилые люди — это коррумпированные, сбившиеся с пути истинного старики! Если будем и дальше потворствовать мальчишкам, то скоро не сможем научить детей даже ходить в туалет. Они заявят, что это насилие над личностью.
В разговор вступает Адуа:
— Я считаю, хорошо было бы, если бы при рождении Герберта Маркузе кто-нибудь заявил ему: «Уходи отсюда. Ты не нужен нам».
С другого конца стола старшая дочь певца произносит тихо, но отчетливо, так, что слышат все:
— Это великий человек.
В разговоре возникает другая тема, менее огнеопасная: как лучше делать воздушную кукурузу. Спорят по-итальянски, и Паваротти старается перевести смысл беседы американскому гостю, который ни слова не разумеет в языке Данте.
Наконец, обратившись ко всем сотрапезникам, Паваротти пытается объяснить метод пения, который разработал сам, проводя немало экспериментов. Адуа перебивает мужа, просит уточнить, что именно он считает самым важным для успеха вокалиста. Когда же она перебивает его в третий раз, Паваротти выдает классическую реплику, подобающую супругу:
— Короче, ты говоришь или я?
Кто-то спрашивает Лучано, читал ли он в одной итальянской газете рецензию на «Волшебную флейту», поставленную в Зальцбурге, в которой Джеймса Ливайна просто стирают в порошок. Паваротти пожимает плечами:
— Знаете, некоторые наши критики… Нечего их и слушать. Пусть себе болтают, что им вздумается, особенно если у тебя солидная репутация.
Кто-то из гостей напоминает, какие восторженные статьи появились после «Любовного напитка» в Ла Скала.
— Да, в тот раз — да, — подтверждает Паваротти, — но я не ждал бы от них подобных восторгов вторично, даже если бы пел так же, как в феврале. Ливайн дирижировал «Волшебной флейтой» несколько лет назад, и, представьте, те же самые критики превозносили его до небес.
Убираются тарелки из-под котлет и подается салат из дикого латука. Затем появляется поднос с восемью сортами сыра и с двумя огромными вазами фруктов. Впервые после начала обеда Лучано скромно разделяет трапезу с другими гостями и ест то же, что и они.
Звонит телефон, стоящий на подоконнике. Паваротти сообщают, что его вызывает Нью-Йорк. Тенор берет трубку и, находясь в шаге от стола, беседует через Атлантический океан.
Одним из самых любимых увлечений Паваротти была живопись. В 1986 году он выставил коллекцию собственных произведений в Нью-Йорке вместе с другими художниками из родной Модены.
— Герберт, как дела? Да, здесь все в порядке. Мы готовим снимки для «Тайм».
Когда Лучано вышел из-за стола, разговоры, даже те, в которых он не принимал участия, затихают. У семнадцати сотрапезников как-то вдруг полностью иссякла энергия, словно погасли сразу все свечи на новогодней елке.
В наступившей тишине Паваротти слушает, что ему говорит агент на другом конце провода. Потом решительно заявляет:
— Нет, у меня другая программа концертов. Арии Беллини, романсы Тости. Слушатели постоянно требуют, чтобы я весь вечер пел большие арии! Ничего не поделаешь. Спою на бис «Никто не спит, Слеза, упавшая украдкой». Этого достаточно. Скажи им, что моя программа вот такая. Как хотят — либо соглашаются, либо нет.
Очевидно, Бреслин не настаивает, потому что Паваротти снова заговорил шутливым и добродушным тоном.
— Ну, Герберт, как поживаешь? Бываешь ли на Лонг-Айлэн-де? — спрашивает он, пародируя свое собственное английское произношение.
Наконец, Лучано кладет трубку и снова водружается во главе стола. Разговор опять становится оживленным.
После сыра и фруктов появляется блюдо со сладостями: вафельные трубочки с кремом, слоеные пирожные, миндальные пирожные. Вслед за ними возникает еще один поднос — уставленный кофейными чашечками, его сопровождают Анна с большим кофейником и молодая служанка с миской чего-то похожего на взбитые сливки.
— Это домашнее фирменное блюдо, — поясняет Паваротти гостям. — Когда кофе начинает выплескиваться из носика кофеварки, его переливают в глиняный горшок, наполненный сахаром. Напиток, уже вспенившийся, перемешивают с сахаром, пока не образуется коричневый соус, который в праздничные дни наливается на дно каждой чашечки для суперкофе.
Когда же с поразительной быстротой исчезают со стола все пирожные, гости начинают передавать друг другу бутылку ликера амаретто.
В это время Адуа что-то оживленно рассказывает сидящим слева от нее друзьям. Слегка повернувшись к мужу, одной рукой она жестикулирует, а другой легонько придерживает свою рюмку с ликером. Не участвуя в разговоре, Паваротти не спускает глаз с замершей руки жены, словно кот, сторожащий мышиную норку.
По мере того как история, описываемая женой, подходит к кульминационному моменту, рука, отдыхающая на рюмке, начинает чуть-чуть вздрагивать, как бы подавляя желание помочь другой руке, сопровождающей рассказ. Наконец пальцы отрываются от рюмки и включаются в жестикуляцию. И как только это происходит, Паваротти подхватывает ее и мгновенно опустошает.
— Она же итальянка, — объясняет он кому-то свою игру. — Я знал, что она не сможет закончить рассказ, жестикулируя только одной рукой!
Далее разговор заходит о «трудных тенорах», и тут слово берет Паваротти.
— Френсис Робинсон рассказал мне по этому поводу прекрасную историю, которая случилась однажды за обедом в Риме в пятидесятых годах. Жена Леонарда Уоррена, знаменитого баритона, долго распространялась на тему, какие ужасные чудовища — итальянские тенора, высокомерные, наглые, грубые, никогда никому не помогут, тут же за столом сидел Пиппо, то есть Джузеппе ди Стефано, который, в конце концов, не выдержал:
— Извините, но мне кажется, не очень-то любезно с вашей стороны говорить подобные вещи. В конце концов, я — сицилиец!
На что легендарная сопрано Зинка Миланова, не поднимая глаз от тарелки с супом, бросила:
— Еще хуже!
Оживленный разговор продолжается еще некоторое время. Но вот дочери Паваротти извиняются и встают из-за стола. Однако никто не собирается следовать их примеру. Паваротти начинает рассказывать новый анекдот:
— Один старик взял себе в жены молодую и красивую девушку…
— Ты что, хочешь изложить нам сюжет Дона Паскуале? — перебивает его кто-то из моденских друзей.
— Старик ненавидит жену, — продолжает Лучано. — Он убежден, что она хочет извести его и отправить к праотцам. Он спрашивает у приятеля, что ему предпринять, как избавиться от юной супруги. Приятель, а он врач, советует в течение шести месяцев заниматься с нею любовью по десять раз в сутки. Срок почти прошел, когда другой приятель навестил старика и обнаружил, что от того уже почти ничего не осталось. А жена, напротив, пышет здоровьем. Приятель делает мужу комплимент, восхищаясь, как прекрасно выглядит его жена. А старик, хитро прищурившись, отвечает: «Тише! Она об этом не знает, но ей осталось жить всего три дня!»
Прошло уже два с половиной часа, как сели за стол, обед явно окончен, но гости, отяжелев после обильной еды и выпитого вина, которого хватило бы на целую свадьбу в Сицилии, не хотят подниматься. Вдруг прибегает экономка:
— Синьор тенор! Идите посмотрите!
Она ведет Паваротти в другой конец террасы и показывает на небо. Все следуют за ними, задрав голову кверху. В голубом небе над пляжем висят сброшенные с самолета пять разноцветных парашютов. С изумлением глядя на них, экономка без конца крестится и шепчет: «Господи, вот чудо-то какое!»
Все в восхищении, а огромные зонты — красный, голубой, желтый, зеленый и фиолетовый — плавно опускаются на пляж, где собралась большая толпа. Терраса дома Паваротти — идеальный пункт для наблюдения.
Когда приземляется последний парашют, гости «Виллы Джулия» начинают расходиться. Кто-то возвращается в город, кто-то уходит в свою комнату, двое или трое остаются на террасе с газетой или книгой. Паваротти с женой усаживаются в большой гамак, висящий между деревьями. Адуа оказывается в объятиях мужа, и через несколько минут супруги уже крепко спят.
Лучано Паваротти
Обо всем понемногу
Я вовсе не уверен, что мне понравится выступать с концертами. Вокалисту это делать гораздо труднее, нежели петь в оперном спектакле…, хотя никто еще не посмел сказать, что спеть оперу — сущий пустяк. В концерте почти не бывает перерывов для отдыха, нет никого, кто занял бы публику, если ты не совсем в форме, нет никаких декораций, костюмов, балета, нельзя прибегнуть и к помощи других певцов, которые отвлекли бы слушателей от твоих промахов. Концерт — словно серьезнейший тест для певца.
Одно я особо ценю в концертном выступлении — непосредственный отклик зала, слушающего тебя. После каждого номера публика сразу высказывает свое суждение о тебе. В опере слушатели выражают свое мнение или дают оценку лишь после спектакля, а к тому времени на нее могут повлиять другие факторы. Например, не понравится режиссер, и тогда вполне вероятно, они убавят аплодисменты каждому певцу, даже если и не в претензии ни к кому из них. Возможно, своим поведением публика своеобразно наказывает исполнителей за то, что они соглашаются участвовать в плохой постановке.
В концерте ни в чем сомневаться не приходится. Публика выражает тебе свое отношение весь вечер, после каждого номера.
Разумеется, концертные выступления во всех концах мира очень выгодны, становишься известнее, но не это главное, за что я ценю такую работу. Мне нравится оказываться в новых местах, и лишь концерты дают мне возможность побывать то там, то тут.
Если, например, мне хочется выступить в Южной Америке, что я впервые сделал в 1979 году, то очень трудно отправиться туда для участия в оперном спектакле. Дело не в том, что в Южной Америке не хотят меня видеть — меня приглашали туда много раз: только это слишком большой риск — пускаться в подобное мероприятие вместе с незнакомыми людьми — с новыми дирижерами, новыми режиссерами, новыми певцами.
Даже если сумеешь договориться о постановке хорошей оперы, всегда возникает немало других непредсказуемых обстоятельств, от которых многое зависит. Оперный спектакль — предприятие сложное и планировать его приходится за годы вперед.
В сравнении со спектаклем концерт организовать куда проще. Даже с полным оркестром. А если есть только рояль, и могу выступить с моим концертмейстером Джоном Вустменом, тогда вообще никаких сложностей. Только и требуется что инструмент да помещение… ах, да, еще публика!
После моего первого выступления в Либерти, штат Миссури, в 1973 году я стал спокойнее относиться к концертной деятельности вокалиста. Мой голос без проблем выдержал испытание, и публика отнюдь не скучала от моего присутствия на сцене в единственном числе. Потому что у всякой медали есть и оборотная сторона: рискуешь, конечно, но если выступишь хорошо, то здесь успех иного качества, нежели в опере. Концерт превращается в событие гораздо более личного свойства с обеих сторон — и для тебя, и для публики. Словом, все сводится к одному: чем больше риска, тем радостнее и награда за него.
На своем втором концерте, в Далласе, я уже взял за правило держать в руке большой белый платок. Знаю, возможно, это смотрится несколько нелепо. Напоминает fichu[15] старых звезд.
Но на самом деле я пользуюсь им как раз для того, чтобы в глазах зрителей выглядеть менее глупым. Побывав на концерте одного моего коллеги, я пришел в ужас от его обильной жестикуляции, он даже подпрыгивал — прямо сумасшедший. Вот поэтому я и задумался: нужно что-то делать, чтобы не распускаться на эстраде, не выглядеть столь же смешно.
Платок в руках помогает мне контролировать свои движения. Если начну размашисто жестикулировать, он станет летать по воздуху и привлечет мое внимание, словно знак опасности. Я уже привык к нему, и платок придает мне уверенность.
Думаю, мое первое сольное выступление в Нью-Йорке стало значительной вехой в моей карьере. Это произошло в марте 1973 года в Карнеги-холл. Поначалу мы сомневались, что все билеты будут проданы. А получилось наоборот — даже разместив зрителей на сцене, все равно пришлось отказать многим желающим попасть на концерт.
Как я уже упоминал, я всегда очень волнуюсь перед выступлением, но в тот раз переживал как никогда. Мне предстояло петь перед трудной нью-йоркской публикой в знаменитейшем Карнеги-холл. Нет рядом сопрано, за которую можно было бы спрятаться, нет декораций, костюмов, оркестра… лишь я и мой аккомпаниатор.
Я решил петь только итальянскую музыку — в конце концов, я ведь итальянский тенор, — но исполнить ее так, чтобы программа отвечала самым жестким требованиям. Я спел романсы Тости, арии Беллини, Россини и Респиги. На бис исполнил «Вернись в Сорренто» и «Сердце красавицы».
Уже в самом начале концерта я понял: публика на моей стороне. Только обретя какую-то уверенность, я смог немного успокоиться. Собрал все силы и сосредоточился на исполнении еще больше, и вскоре удалось снять мучительное нервное напряжение, которое так огорчает меня перед каждым выступлением. Оно как бы улетучилось. Концерт прошел с огромным успехом… даже у критиков. Я выдержал еще один экзамен.
После успеха в Карнеги-холл я стал чаще давать концерты. В последующих выступлениях пел ту же программу с небольшими изменениями в Вашингтоне, Голливуде, Далласе, Миннеаполисе. Я всегда счастлив показать свое искусство множеству людей, которые, вполне вероятно, никогда в жизни не получили бы возможности прийти послушать меня в Метрополитен или в Филадельфийской опере. Хоть я и необъятно толстый, все же легче транспортировать меня одного, чем везти целую труппу и оперные декорации.
Когда я выступал со своим первым концертом в Карнеги-холл, то считал, что таких волнений и такого трудного экзамена в моей жизни больше не будет. Но в начале 1978 года пришлось выдержать другое, куда более серьезное испытание — концерт в Метрополитен, который транслировался по национальной телесети днем в воскресенье. И перед его началом я действительно по-настоящему чуть не умер от страха.
Когда выступаешь перед несколькими тысячами слушателей, всегда боишься спеть плохо, но при неудаче можешь попытаться успокоить себя всякими рассуждениями. Если покажу себя не самым лучшим образом, конечно, найдутся люди, слушающие тебя первый раз, которые скажут: «Этот Паваротти не бог весть что, как о нем говорят!» Но так скажут лишь некоторые. Повезет, станешь выступать в дальнейшем блестяще, и число скептиков уменьшится.
Но если поешь по национальному телеканалу и срываешься на грудном «до», у тебя остается отчаянно мало надежды отвоевать репутацию.
Герберт Бреслин и другие доброжелатели продолжали убеждать меня, какое замечательное дело — выступление по телевидению, как оно важно для карьеры, какой мгновенный и прекрасный результат оно дает: ведь самая широкая публика узнает, что Лучано Паваротти — великолепный тенор…
Но я-то понимаю, что если спою плохо, то вся телетехника обернется против меня же! Уж кто-кто, но я-то об этом помню, и еще как.
С неизменным концертным платочком.
На своём втором концерте, в Далласе, я уже взял за правило держать в руке большой белый платок.
Знаю, возможно, это смотрится несколько нелепо…
Но на самом деле я пользуюсь им как раз для того,
чтобы в глазах зрителей выглядеть менее глупым…
Платок в руках помогает мне контролировать свои движения. Если начну размашисто жестикулировать, он станет летать по воздуху и привлечёт моё внимание, словно знак опасности.
Я уже привык к нему, и платок придаёт мне уверенность.
Иногда мне кажется, будто я вообще единственный человек, кто осознает, что дело может принять и непоправимый оборот. Не думаю, что я чересчур мнительный. Просто реалист и знаю, что может произойти. Когда приближается выступление перед телекамерой, то никакие самые разумные доводы не помогают снять волнение и страх.
Помню, тогда перед концертом, который передавался по телевидению из Метрополитен, я сидел у себя в гримуборной, обливаясь холодным потом, и каждые пять минут спрашивал, который час. Один мой друг сказал, что я настоящий сумасшедший, разве можно так волноваться — ведь все, кто ожидает меня у экранов, на моей стороне.
Он не понимал одну простейшую вещь.
— Может быть, сейчас они и на моей стороне, — возразил я, — но будет ли так и после концерта?
Бог помог мне в тот день. Голос не подвел, и я не рухнул от нервного напряжения. По приблизительным оценкам мое выступление по телевидению смотрели два миллиона человек — рекорд, сообщили мне… Наверное, самое большое число зрителей, какое когда-либо собирал оперный певец. И, несомненно, самое огромное для меня.
Мне понадобилось три года, чтобы отшлифовать свою концертную программу, с которой теперь обычно выступаю. Хотелось, чтобы она устраивала критиков, а это значит, что музыка должна быть трудной, позволяющей показать различные стороны вокала и интерпретации. Мне хотелось, чтобы она интересовала изысканную публику, которой надоели самые популярные мелодии, какие обычно поет тенор, и она ждет чего-то менее знакомого ей.
Но необходимо удовлетворить и самую широкую аудиторию. Мне не хотелось, чтобы люди, сидящие перед телевизором зевали от скуки, все больше и больше злясь на меня, почему не пою «Вернись в Сорренто». Вот поэтому я постарался включить в программу произведения, которые устроили бы первые две группы слушателей, но в то же время были бы настолько мелодичны и прекрасны в музыкальном отношении, что нашли бы живой отклик и у неискушенной, простой публики.
По сей день для меня огромное удовольствие выступать с концертом в городе, где я еще никогда не пел. Люди из кожи вон лезут, стараясь принять меня достойно, чтобы я почувствовал себя желанным гостем, и признаюсь — обожаю, когда меня так балуют. Идеальный пример подобного гостеприимства — мои гастроли в Тель-Авиве летом 1979 года.
В аэропорту нас встретили с цветами и подарками для моей жены и дочерей. В наше распоряжение на время гастролей в Израиле предоставили лимузин, нас поместили в так называемом «Доме оркестра» — резиденции, которую Израильская филармония выделяет приезжающим артистам. Это красивейшее помещение, в котором множество картин, скульптур и предметов художественных промыслов, с великолепным обслуживающим персоналом, готовым удовлетворить любой ваш каприз.
У резиденции два «хозяина дома», постоянно живущие в нем. Это синьор и синьора Ридли — очаровательные люди, а синьора хозяйка обладает вдобавок еще одним достоинством: она повар-гурман. И меня как знатока приглашали трижды в день испробовать лакомые блюда. Я чувствовал себя на верху блаженства! Помню шоколадный торт, нежнейший, с кремовой глазурью, которую особенно любит Зубин Мета. Могу понять почему. Ведь синьора Ридли выпекает этот торт каждый раз, когда дирижер приезжает в Тель-Авив.
Пока я занимался дегустацией, моя жена и дочери при помощи предоставленных в их распоряжение компетентных людей делали покупки либо осматривали город.
Репетиционный зал примыкает непосредственно к «Дому оркестра», и мне даже не приходилось выходить из здания… Оставалось только петь. Неизбежные интервью и пресс-конференции организовали настолько хорошо, что они превращались в приятнейшие светские рауты.
И все же, когда приезжаю куда-либо на гастроли, в первые дни мало что замечаю вокруг. Я так сосредоточен на концерте, что даже с трудом осознаю, где нахожусь. Только спустя какое-то время мне удается расслабиться.
Публика, в некотором смысле, везде одинакова, она может очень много слышать или читать обо мне, способна заранее составить какое-то представление, но только от меня самого зависит, какое мнение у нее сложится окончательно. Если я в форме, она согласится, что хвалили меня не напрасно, а спою плохо, будет немного разочарована.
Я никогда не сержусь на слушателей, если они не выражают восторга. Бреслин уверяет, будто для тенора подобное отношение к публике совсем нетипично. А у меня есть простейшее объяснение. Еще не помню случая, чтобы, спев хорошо, я не получал от публики горячего отклика. С другой стороны, если слушатели чувствуют, что я не в форме — а такое, бесспорно, иногда бывает, — я ощущаю это намного раньше них.
Когда мои выступления завершены, я действительно могу насладиться новым для меня городом, новой страной. Мне особенно интересны местные обычаи и привычки. Например, если тебе назначают свидание в восемь вечера, то в Рио имеют в виду восемь тридцать, а в Нью-Йорке восемь часов пять минут. Подобные мелочи замечаю сразу же, так как чуточку помешан на пунктуальности. Я всегда бываю очень точен и не терплю кого-то ждать.
Такие небольшие различия могут показаться несущественными, но на самом деле за ними скрыто куда более серьезное несходство в философском плане. Мне нравится общаться с людьми разных религиозных взглядов, различных политических убеждений и иных подходов к жизни. Я убежден, что человек моей профессии обязан петь для всех.
Когда принимаю то или иное приглашение, повышенный гонорар ни в коей мере не является решающим в этом вопросе. Кроме моего желания познакомить с оперой весь мир, я люблю бывать в новых местах. Сейчас, например, умираю от желания петь в Китае.
А недавно я начал сниматься в кино. У меня уже имелось несколько интересных предложений, но решил дождаться, пока появится роль, которая по-настоящему заинтересует меня. И все же признаюсь: хотелось бы сыграть романтического героя, вроде тех, каких исполняю на оперной сцене. Я очень романтичен по натуре, и мне кажется, эту свою особенность я смогу наиболее правдиво передать как актер. К счастью для меня, кино ушло далеко вперед за последние двадцать лет, и в наши дни понимают, что романтические сюжеты и чувства не являются исключительной привилегией молодых и красивых людей.
Фильм будет называться «Да, Джорджо», продюсер — киностудия MGM. Я играю роль итальянского тенора (пока все идет неплохо), который отправляется петь в Америку и влюбляется в миловидную женщину, своего врача. Возможно, когда выйдет моя книга, фильм, осмеянный, уже будет сметен с экрана, но я все же не удержался от искушения.
Я всегда любил кино, особенно американское. Часто удивляю своих заокеанских друзей, когда выясняется, что лучше них знаю старые голливудские картины. Например, если кто-нибудь при мне говорит: «Как мне нравились Грейс Келли и Джимми Стюарт в «Идеальном убийстве», я тут же поправляю: «Нет, не Джимми Стюарт, а Рей Милленд». И на меня глядят так оторопело, словно думают: «Он и в самом деле итальянец или только прикидывается им?»
В любом случае можете себе представить, что означает для меня сниматься в Голливуде. Как я уже сказал, всегда охотно берусь за любое новое дело и верю в успех. До сих пор все удавалось. Отчего же не проявить немного смелости и тут?
Конечно, история моего превращения в кинозвезду, даже в такой специальной области, как опера, имеет, разумеется, свои хорошие и плохие стороны. Главное преимущество в гонораре — тут платят намного больше. Этот экономический фактор важен не только потому, что касается дорогих автомобилей, недвижимости в Модене, охраны своей персоны и семьи. Он означает также, что мне не придется петь слишком часто, губя голос и здоровье, и смогу отказываться от партий, которые, как подозреваю, не очень подходят для меня в вокальном или драматическом плане.
Другое немалое преимущество кинематографической известности — сразу получаешь много новых предложений. И можешь, наконец, выбрать действительно нечто любопытное.
Надо ли говорить, что со всех концов сыплются просьбы спеть еще один «Бал-маскарад» или еще одного «Риголетто», но многие директора театров обладают более широким воображением, и мне иногда везет на интересные инициативы с их стороны, от которых никогда не отказываюсь, откуда бы они ни исходили. Некоторые к тому же увлекательны просто сами по себе.
Признаюсь, мне нравится, когда меня узнают в общественных местах. Я люблю людей и стремлюсь установить с ними живой контакт. Если собеседники думают, будто уже знают меня немного, сделать это легче. Некоторые знаменитости держатся настолько высокомерно, что публика даже не рискует к ним приблизиться. А к другим она, напротив, испытывает самое дружеское расположение именно потому, что они общаются, что называется, по-свойски, и к ним относятся, как к друзьям. Я счастлив, что принадлежу ко второй категории, и надеюсь всегда оставаться таким же.
Я сказал, что известность имеет свои минусы, но отнюдь не те, какие вы, наверное, представляете. К примеру, поклонники отнимают уйму вашего времени. Это верно. Недавно меня попросили расписаться на моих пластинках в нью-йоркском магазине грампластинок. Меня ждали там в шесть часов вечера ненадолго — часа на два. В час ночи я еще сидел в магазине — его не закрывали — и продолжал раздавать автографы. Я подписал примерно шесть тысяч пластинок. Естественно, я остался безмерно счастлив, что их продали только шесть, а не шестьсот тысяч.
Другие артисты наверняка посчитают, что существует немало иных, куда более приятных способов провести семь вечерних часов. Другие, но не я. Общение с людьми, которые любят мое пение, составляет столь важную часть моей жизни, что встречи с ними приносят особое удовольствие.
Таким образом, то, что некоторые знаменитости считают скучным и нудным делом, пустой тратой времени, для меня оборачивается подлинной радостью.
Что касается отрицательных сторон славы, то две из них настолько выделяются среди прочих, что, кажется, других и нет вовсе. Я имею в виду долгие разлуки с семьей и необходимость постоянно летать самолетом. Я уже говорил, как скучаю без Адуа и девочек, когда надолго расстаюсь с ними. А моя ненависть к самолетам сильнее меня. Каждый раз, когда поднимаюсь по трапу, страдаю неимоверно. Но тут уж ничего не поделаешь.
Есть еще одно неудобство, правда, не столь существенное по сравнению с необходимостью постоянно пребывать в разъездах, но в равной мере неприятное. Недавно я начал понимать, что знаменитостей, если они ведут себя, скажем так, не совсем идеально, нередко осуждают немного строже, чем обычных людей. Если простой человек — я имею в виду незнаменитый — теряет терпение и начинает возмущаться по какому-то поводу, то в круговороте повседневных плохих и хороших дел это быстро забывается.
Но если какая-нибудь знаменитость вдруг выразит недовольство или взорвется гневом, все начинают горячо обсуждать подобное событие и, возможно, запомнят его надолго, если не навсегда. Два-три таких случая, и вот уже весь мир убежденно твердит: «Да, он хорошо поет, но у него очень тяжелый характер, он очень неприятен как человек, какая-то капризная примадонна…»
А между тем это «плохое» поведение нередко всего лишь результат какого-нибудь недоразумения. Я вовсе не хочу сказать, что сам всегда поступаю только разумно, но все же гораздо чаще, нежели может показаться стороннему наблюдателю со стороны. Вот вам пример. Недавно я выступал с концертом в Бруклин-колледже. Когда выступаю с таким почетным концертом, особенно где-то в совершенно незнакомом зале, мой агент нанимает лимузин и отвозит меня на место, а потом ожидает у подъезда, чтобы отвезти обратно в гостиницу.
В тот вечер в Бруклине стоял прямо-таки арктический мороз. Я надолго задержался после концерта, так как, если только еще есть силы, непременно остаюсь на сцене и раздаю автографы всем желающим. Тогда, я думаю, передо мной прошли все, кто присутствовал в зале, а потом пришлось отправиться на прием, устроенный в другой части колледжа для преподавателей и музыкантов. Наконец, спустя два часа, я попал в свою гримуборную и снял фрак, так сказать, свою концертную униформу.
Лимузин ожидал меня у служебного входа, но шофер не включил двигатель. В машине оказалось холодно, как на северном полюсе. Я буквально стучал зубами, ожидая приехавших со мной в Бруклин-колледж секретаршу, концертмейстера и двоих друзей, которые где-то задержались дольше меня. Я возмутился, почему водитель не включил отопление. При этом не повысил голоса, нет, ничего подобного, а только обратил внимание, что ему следовало бы согреть салон. В конце концов, ему платили за три часа безделья.
Короче говоря, дело пустяковое. Но потом до меня дошло, что шофер наверняка подумал, стоило ли так сердиться из-за подобной ерунды. Ведь ему, конечно, даже в голову не пришло, что мы, певцы, очень боимся простудиться. Он просто не знал, что я отношусь к своему голосу как к чему-то существующему совершенно отдельно от меня, как к чудесному подарку, полученному от судьбы, и обязан беречь его. Водитель увидел во мне только раздраженного типа, строившего из себя оперную примадонну.
Барбра Стрейзанд однажды очень хорошо объяснила, что значит быть звездой. Мне очень понравились ее слова. Сам я не слышал их. Мне пересказали, что она заявила однажды в интервью по телевидению. Люди обвиняют ее в том, говорила она журналисту, будто она превратилась в настоящую ведьму с тех пор, как стала знаменитой. «Но это же неправда, — возразила актриса, — я всегда была ею».
Не думаю, что я тоже превратился во что-то похожее на ведьму или черта. Но кем бы я ни казался, надеюсь оставаться тем, кем был всегда.
Одна из потрясающих партий Паваротти — Канио в опере Леонкавалло «Паяцы».
Известность приносит большое преимущество, ибо имеешь возможность вернуть людям часть из того, что они дали тебе. Одна из моих недавних инициатив — конкурс вокалистов, который я задумал проводить вместе с Филадельфийским оперным обществом. Я обязан собственным дебютом конкурсу вокалистов имени Акилле Пери. И потому очень счастлив, что устраиваю подобный конкурс в США.
Помогать молодым певцам — отнюдь не всегда столь благодарное дело, как может показаться на первый взгляд. Многие забывают одно немаловажное обстоятельство: чтобы в конкурсе появились победители, в нем должны оказаться и побежденные. И на каждый подающий надежды голос приходится двадцать совершенно негодных. Очень неприятно бывает говорить молодому человеку, который несколько лет учился пению: «Знаешь, лучше тебе подумать о какой-нибудь другой карьере». Некоторые из моих коллег не в силах произнести такие слова.
Мне тоже подобная миссия не доставляет никакого удовольствия, но умолчание, на мой взгляд, гораздо хуже: в таком случае останутся безвестными талантливые вокалисты. Для выявления новых талантов я и принял живейшее участие в организации конкурса вокалистов. Мы собираем первоклассное жюри: Курт Герберт Адлер, Ричард Бонинг, Филли Кэртин, Макс де Шонси, Лорин Маазель, Натаниэл Меррил, Юлиус Радель, Виду Сайао, Франческо Сичилиани, Джоан Сазерленд и Антонио Тонини. В состав жюри входит и президент Филадельфийского оперного общества доктор Франческо Лето вместе с главным администратором Маргарет Энн Иверит.
Каждый из нас подыщет молодые голоса в разных концах мира. Конкурсантов ожидается самое большее человек сорок, и наградой победителям станет выступление вместе со мной в целом цикле спектаклей в Филадельфии. В дальнейшем думаю пригласить для участия в этих спектаклях-премиях и некоторых коллег.
Для молодых начинающих певцов, пожалуй, самое трудное — получить возможность выступить вместе с выдающимися артистами. При всем моем уважении ко многим великим педагогам вокала должен сказать, что нет лучшего способа обучить пению, чем оказаться на сцене рядом с настоящими мастерами.
История оперы в Филадельфии очень интересна. Здесь состоялись американские премьеры многих шедевров: «Вольный стрелок», «Пуритане», «Норма», «Луиза Миллер», «Фауст», «Летучий голландец». Как во всех городах Соединенных Штатов, оперная труппа здесь часто менялась, но для меня это не имеет значения, если только передо мной широкая публика, интересующаяся оперой, любящая и поддерживающая ее.
Труппа, работающая в Филадельфии сейчас, а она возникла от слияния двух предыдущих, уже показала, насколько прочна и готова к новшествам: и то и другое — наилучшая основа для благополучного будущего.
Хотелось бы сказать несколько слов еще об одном увлечении, очень дорогом мне: о своей страсти к живописи. Теперь берусь за кисть при первой же возможности и постоянно вожу с собой некоторые свои картины, над которыми продолжаю работать и с которыми очень жаль расставаться.
Началось все не так уж давно и как бы в шутку. Может, и сейчас многие принимают мое занятие живописью за баловство, но для меня оно становится все более важным. Это произошло в 1978 году, когда я пел «Тоску» в Сан-Франциско. Поскольку герой оперы Каварадосси — художник, один из моих поклонников прислал в подарок коробку акриловых красок, я и сказал себе: а зачем, собственно, притворяться на сцене, будто пишешь картину? Почему бы не попробовать на самом деле заняться этим? Я попробовал, и с тех пор живопись стала для меня чем-то вроде наркотика. Я как безумный ушел в нее с головой. В первый же год написал тридцать полотен… и не все на сцене.
Хотя подобное занятие для меня оказалось внове, желание создавать картины жило во мне уже давно. Насколько себя помню, я всегда мечтал стать великим художником. Один мой друг объясняет мое хобби эфемерностью вокального искусства: ведь лучшие образцы певческого творения обычно тают в колосниках.
Не думаю, что он во всем прав. В наши дни существует запись звука, которая гарантирует некоторую сохранность голосов. И, тем не менее, значительная доля правды в его суждении есть: в живописи меня особенно привлекает именно возможность создать нечто совершенно оригинальное, чего прежде не существовало на свете, а оперный спектакль — это результат коллективной работы — от композитора до осветителя и рабочего сцены.
Когда мы поем «Риголетто», то всего-навсего воспроизводим и интерпретируем творение Верди. Я постоянно тружусь над воплощением на сцене жизни других людей, а теперь с удовольствием создаю что-то свое собственное. Вот это и есть, на мой взгляд, настоящее творчество: извлекать нечто из ничего. Нечто совершенно невиданное и, повторяю, исключительно свое.
Все смеются над моим увлечением живописью — моя семья, мои друзья, но это нисколько не задевает меня. Я тружусь над своими картинами, где бы ни находился — дома или в гостинице. Это занятие уводит меня в совершенно иной мир.
Когда заканчиваю картину, которая мне нравится, то чувствую себя очень, просто очень счастливым человеком, даже если подозреваю, что мое творение не представляет никакой художественной ценности. Я не претендую на звание классного художника, но все же, какие-то успехи делаю, поэтому не могу обещать, что всегда буду оставаться столь же скромным.
Если бы я сделался великим художником, то мог бы даже перестать петь. Но только если бы действительно стал великим…, а такого никогда не произойдет.
Я по-прежнему обожаю спорт, но теперь занимаюсь только теннисом. Всегда, в любое время года можно найти корт и партнеров даже в новом городе, где еще мало знакомых. Играю часто и после партии в теннис чувствую себя физически лучше. Я достаточно крепок, но предпочитаю мериться силами с партнерами опытнее меня.
К несчастью, подобное предпочтение входит в противоречие с другой чертой моего характера: терпеть не могу проигрывать. И желание взять реванш — сильнее. Могу сыграть с первоклассным мастером хорошую партию, но не питаю никаких иллюзий, не думаю, будто я какой-то феномен. Просто люблю быстрый, хороший теннис. Предпочитаю двойные сеты, потому что тогда можно пошутить и посмеяться.
Говоря пошутить и посмеяться, я имею в виду перерыв, когда мы меняемся полями. Но если мяч в движении, я так же серьезен, как и на сцене во время пения. Естественно, я нахожу большое сходство между этими двумя занятиями. Оба требуют полнейшей собранности — сосредоточенности на всем, что происходит на корте: что делаешь в данный момент или должен был бы сделать… Ни на сцене, ни на корте невозможно что-нибудь сделать хорошо, если отвлечешься хотя бы на секунду. Начни я думать о напитке, который предпочту после окончания партии, или как публика воспринимает мое выступление в роли, все тут же пойдет кувырком.
Вот почему я чрезвычайно серьезен, когда играю, но между сетами люблю пошутить и беззлобно посмеяться над своими противниками. В конце концов, я ведь должен отыграться хоть в чем-то, чтобы вознаградить себя за их превосходство в теннисе.
Недавно у меня появилась новая страсть — верховая езда. Еще с той поры, когда в войну нам пришлось покинуть Модену и перебраться в деревенский дом возле Карпи, я навсегда полюбил животных, но лошади заняли в моей жизни совершенно особое место.
Поскольку мой новый дом в Модене расположен на обширном земельном участке, я подумал, что было бы, наверное, неплохо завести несколько верховых лошадей. Поэтому в 1979 году, находясь в Дублине, я попросил показать самого крепкого в Ирландии скакуна. Меня повели посмотреть один экземпляр лет четырнадцати по кличке Шогран, который считался лучшим конем для охоты. Он оказался вдобавок невероятных размеров, отчего я, видимо, сразу же проникся к нему симпатией.
Я подумал, что при таких габаритах он выдержит мой вес. Действительно, я не ошибся. У него оказался вдобавок и очень покладистый характер, его хорошо выдрессировали, и я решил купить его вместе с другим рысаком, которого приметил там же, — кастрат по кличке Герби, великолепный скакун. Я уверял себя, что верховая езда наверняка доставит удовольствие всей семье, но особенно дочерям.
Оставалась лишь одна небольшая сложность: девочки никогда не ездили верхом. Я узнал, что возле Дублина есть знаменитая школа верховой езды «Iris Kellett Riding School» (в оригинале IRIS), и решил отправить туда дочерей на несколько недель. Поначалу они совсем не обрадовались, интерес к новым местам и новым занятиям не свойствен итальянским девочкам, особенно если они выросли в провинции. Но, в конце концов, я убедил их, и теперь они благодарят меня.
Отчего некоторые люди не хотят понять, что в полной мере радоваться жизни можно, только все время пробуя что-то новое? По-моему: существует самая прямая связь между осторожностью и скукой.
Теперь мои дочери любят верховую езду и обожают лошадей. Они говорили мне, что без труда встают в семь утра, чтобы убрать в стойлах Шогран и Герби.
Ну, а я тоже все чаще прогуливаюсь верхом. Мне нравится это занятие, и, думаю, оно полезно для здоровья. В 1980 году во время гастролей в Метрополитен я проехал верхом сначала в Даллас, а потом и в Бостон. Если какая-то лошадь способна выдержать меня, никогда не отказываюсь от верховой прогулки. (Кто-то спросил меня, помню ли я кличку той лошади, на которую сел в Бостоне. «Нет, — ответил я, — но уверен, она наверняка запомнила, как зовут меня».)
Одна из причин, почему люблю почаще возвращаться в Нью-Йорк, та, что я могу там кататься верхом в Центральном парке и брать уроки верховой езды. Хочу умело обходиться с Шогран и Герби, эмигрировавшими из Ирландии, чтобы присоединиться к семье Паваротти в Модене.
В Лондоне со мной случилось настоящее приключение. Друзья повезли меня посмотреть один любопытный экземпляр по кличке сэр Гарольд в конюшнях, находящихся за больницей Святого Георгия. Гарольд оказался самым высоким в Англии конем: восемнадцать с половиной пядей. Настоящий гигант. Мне предложили сесть на него, и я был счастлив. Сэр Гарольд, полагаю, несколько меньше… Он косился на меня краем глаза, словно я всего-навсего назойливая муха на его крупе. А потом, едва мы въехали в Гайд-парк, пошел галопом. И тут — очевидно плохо затянули подпруги — я вдруг почувствовал, что седло начинает сползать. Каким-то чудом я все-таки удержался в нем и принудил коня перейти на легкую рысцу (к тому же носиться галопом в городском парке строго запрещено), но уверен, зрелище было великолепное. Если бы кто-нибудь узнал меня, наверняка решил бы, что снимается рекламный ролик для моей записи «Вильгельма Телля».
Новый дом, который я приобрел на окраине Модены, доставляет мне много радости. Это просторное имение, когда-то настоящее поместье. Тут размещаются вилла, конюшни, а также причудливая пристройка для празднеств, стены которой украшены фресками с изображениями придворных.
Виллу мы полностью перестроили. И главное, парадная лестница теперь ведет прямо в гостиную. На втором этаже размещаются спальни — моя, Адуа и еще три — для девочек. На третий этаж отдельный вход, там квартира для сестры жены Джованны, ее мужа и четверых детей. Адуа и Джованна очень дружны. Их мать умерла, когда они были еще совсем маленькими. С тех пор, как мы обвенчались с Адуа, Джованна всегда живет с нами.
Над конюшнями, что расположены неподалеку от виллы, строю квартиру для своей сестры Габриеллы и ее сына Луки. Мы будем жить все вместе… совершенно все. Хочу доказать, что семья в наши дни не распадается, а может оставаться целой.
По другую сторону виллы уходит вдаль длинная тополиная аллея — два ряда стройных, очень высоких деревьев. Я нахожу аллею великолепной. Прямо к дому примыкают два небольших участка земли и хороший фруктовый сад, в котором особенно много вишневых деревьев. А вокруг, насколько хватает глаз, стоит могучий вековой лес.
Но больше всего меня привлекает немалый земельный надел, который я намерен превратить в сельскохозяйственную ферму. Когда она станет продуктивной, думаю наша семья на 80 процентов сама сможет управляться со всем хозяйством. Мой отец пекарь, он станет выпекать хлеб для нашей семьи. Есть тут и виноградник, который дает вино типа ламбруско — довольно легкое, но хорошее. Места для скота сколько угодно. Есть и фруктовый сад со множеством сливовых и абрикосовых деревьев. Хватит земли и для обширного огорода.
Начну стареть, буду все больше времени проводить в своем доме и стану сам обрабатывать землю. В девять лет я уже трудился на земле, стал крестьянином… Логично и закончить тем же, с чего начал.
Раз в году Паваротти прерывал нескончаемую череду спектаклей, концертов, грамзаписей и уезжал отдохнуть на собственной вилле в Пезаро.
Мадлен Рене
Паваротти как педагог и работодатель
Я тоже надеюсь стать оперной певицей, но никогда не согласилась бы работать секретарем Лучано, если б он не предложил заниматься со мной пением, пока буду служить у него. Возможно, я нашла бы себе какую-нибудь другую работу, но быть секретарем Паваротти — это далеко не «какая-нибудь» работа. Это же три полных рабочих дня каждые сутки.
В поездках по разным городам, а они занимают большую часть времени, ему нужна очень опытная помощница, которая решала бы уйму проблем: размещение в гостинице, назначение деловых встреч, забота о том, чтобы Паваротти никуда не опаздывал, отбор посетителей, каких надо принять ему, а каких самой, ответы на почту фанатов.
Но это еще не все. Лучано также нужен личный слуга, который постоянно был бы при нем, и экономка, тоже на полный рабочий день. С его холстами и красками, тоннами писем и подарков, прибывающих каждый день, надо уметь поддерживать хоть какой-то порядок в номерах, где Лучано останавливается ненадолго — и это тоже немалый труд.
Я перечислила лишь самые основные обязанности его секретаря. Кроме них, существует предостаточно других. Любой, кто согласится на подобную работу, может забыть, что такое личная жизнь. Как ни привлекательно оказаться в водовороте дел Паваротти, я все же отказалась бы от такой должности, если бы не желание стать певицей. И я согласилась только потому, что Лучано пообещал стать моим педагогом.
Паваротти и в самом деле потрясающий учитель пения. Может быть, потому, что очень долго и упорно развивал свои собственные вокальные данные, ему присуща неодолимая врожденная потребность передать другим все, чему научился сам. На занятиях его особенно отличает невероятное терпение. Как работодатель он нетерпелив. Требует все сделать молниеносно. Но как педагог — он совершенно иной.
Если вы, например, ошибаетесь в каком-нибудь пассаже, Паваротти заставит вас повторить его десять раз, пятнадцать… столько, сколько понадобится… пока не споете ноты верно. Потом от заставит вас пропеть еще пятнадцать раз, чтобы убедиться, что вы правильно исполнили не случайно, а действительно выучили пассаж, и он вошел в вас, стал автоматическим. И внимательнейшим образом слушает, замечая все огрехи. Любому другому певцу подобное занятие показалось бы невероятно скучным, но не Лучано. Однажды он сам признался мне, что удивляется, откуда у него столько терпения, когда проводит урок.
На мой взгляд, подобный парадокс — столь нетерпеливый в житейских мелочах и невероятно спокойный, выдержанный при обучении пению — и дает ключ к пониманию его характера в целом. Наверное, он потому и раздражается из-за пустяков, что все свое терпение расходует на совершенствование собственного искусства и на преподавание его другим (к тому же, чтобы быть честной до конца, должна заметить, что его гнев угасает столь же быстро, как и вспыхивает).
Основы пения — а, по мнению Лучано, это дыхание и опора на диафрагму — с его точки зрения находятся у меня уже под полным контролем. И теперь мы больше обращаем внимания на другие стороны вокала. В частности, много времени уделяем фразировке и интерпретации.
Его метод преподавания оригинален: он сначала воспроизводит твою ошибку, а потом показывает, как надо спеть правильно. У него все получается поразительно, и порой имитация оказывается настолько убийственной, что уж, конечно, ты никогда не повторишь свой промах. Возможно, и ошибешься еще раз, но иначе. Да и он не оставит тебя в покое, пока исполнение не станет совершенным.
У Лучано я очень многому научилась, просто наблюдая за его репетициями. Например, я занимаюсь с ним уже много месяцев, но только недавно поняла, как именно выпевает он гласные. А это важнейший момент — именно тут кроется секрет его великолепного легато и, убеждена, его фразировки.
С моим голосом он сотворил поистине чудо. Сейчас я могу брать высокие ноты, о которых прежде только мечтала. Он добавил, по крайней мере, четыре ноты к моей верхней гамме. А для упражнения в вокале заставил меня выучить Casta diva[16], то есть одну из труднейших арий для сопрано, где Беллини поднимает тебя на немыслимую вершину вокальной техники и бросает на волю ветров, заставляя выкручиваться, как сможешь.
Почти все сопрано даже и помыслить не могут взяться за Casta diva, пока не начнут выступать профессионально, пока не сделают в своей карьере серьезные шаги. А Лучано убежден, что необходимо с самого начала пробовать собственные силы на самом трудном материале.
— Споешь Casta diva, — говорит он мне, — и арии Пуччини покажутся тебе не такими уж сложными.
Масштабность Лучано проявляется и в его смелости. Он никогда не боялся бросить вызов собственной карьере и от нас, начинающих, он ждет того же.
Примером подобного риска, на который он идет и вынуждает следовать за собой других, могут стать случаи, когда он требовал от меня выступать вместе с ним в концертах. Он меня, что называется, за волосы вытаскивал на сцену для бисирования… И знаю, что точно так же он поступал и с другими своими учениками. Лучано буквально выталкивал меня на эстраду и надеялся, что мы вдвоем не провалимся… и публика будет слушать нас до конца. Благодаря его стараниям, я даже заслужила несколько хороших отзывов в печати.
Чтобы получить у него урок, мне иногда приходится прибегать к уловке. Когда в его распорядке дня оказывается несколько свободных минут, я спрашиваю, не помешаю ли, если спою несколько вокализов.
— Нет, нисколько! — неизменно отвечает он и уходит к себе учить партии, заниматься живописью либо чем-нибудь еще. Но стоит мне только запеть, как он тут же выбегает обратно.
— Нет, нет, Маддалена, так не годится! Ты неправильно опираешь голос… — или указывает на какую-нибудь иную мою ошибку. И кончается тем, что он дает мне настоящий урок. У нас нет с ним четкого расписания занятий… Его уроки я в буквальном смысле слова «беру». И редко бывает, чтобы моя уловка не удавалась. Он может не работать со мной каждый день, но его инстинкт педагога всегда начеку. Например, однажды, когда мы сели в самолет, он увидел, что я раскрыла «Мир глазами Гарпа»[17].
— Что это? Зачем ты читаешь такие книги? — изумился он. — Хочешь стать оперной певицей, так тебе надо изучать партитуру «Богемы», а не читать впустую, ради одного только развлечения.
Или, скажем, просматриваем вместе письма от поклонников, заняты еще каким-нибудь делом, не имеющим отношения к пению, и вдруг по радио звучит голос какого-то эстрадного певца. Лучано сразу же замирает. Все внимание к приемнику.
— Послушай, Маддалена! Послушай, какое портаменто! Не скользит, а каждую ноту берет точно!
Мне никогда не доводилось слышать, чтобы кто-нибудь из знаменитых певцов отдавал столько личного времени знакомству с молодыми вокалистами, Прослушивание у звезд можно иногда получить через знакомых — кого-либо из музыкантов, театральных администраторов, либо агентов. Они могут попросить знаменитость прослушать своих протеже. А с Лучано не так — молодые люди пишут прямо ему или же узнают, в какой
гостинице он остановился, звонят ему, поджидают у служебного входа… И Лучано не только всегда со вниманием относится к их просьбе, но, считая, что о звучании голоса нельзя судить в обычной комнате, нередко берет на себя дополнительные хлопоты о прослушивании молодого человека в каком-нибудь концертном зале. Если же Лучано отказывает кому-то, то всегда по очень уважительной причине: либо у него совсем не осталось времени для репетиции концерта, например, либо он спешит в аэропорт.
Просто поразительно, как много личного досуга отдает он молодым и как много знаменитых певцов вообще не уделяют начинающим ни единой минуты.
С тех пор как Лучано сделался прославленным певцом и обрел известность даже у публики, которая редко бывает в оперном театре, работы мне прибавилось вдвое. Теперь ежедневно на его имя приходит еще больше посланий от поклонников — по меньшей мере пятьдесят или шестьдесят. Одна почта занимает весь мой рабочий день, поскольку Лучано хочет непременно ответить на все без исключения письма. Кто бы ни просил фотографию с автографом, должен получить ее… На одну только почту приходится тратить немало средств и уйму времени.
Многие письма такие искренние, волнующие, что требуют особого, персонального ответа. Просто невероятно, сколько людей сообщает Лучано, что его голос спас их от отчаяния. Из некоторых писем ясно, что человек находился на грани самоубийства. Нельзя не реагировать на крик души и ответить формально вежливой отпиской, присоединив фотографию певца с автографом.
Кроме того, ведь присылают еще и подарки. Люди часто хотят порадовать своего любимца чем-нибудь таким, что, по их мнению, необходимо ему: вязаные свитера ручной работы, кривые гвозди, рисунки, статуэтки, скульптурные портреты Лучано. Каждого дарителя следует поблагодарить, не забыв упомянуть, разумеется, присланную им вещь. Лучано внимательно следит за этим.
Что меня особенно поражает, так это несметное число поклонников, которые направляют Лучано что-нибудь съедобное. Понимаю, что ими руководят самые добрые побуждения, и все же крайне неосмотрительно с их стороны присылать еду. Ведь все же знают, Лучано постоянно борется со своим весом. Так зачем ему посылать печенье, сладости… разные другие запрещенные лакомства? Я вынуждена прятать такие подарки или же сама съедать их, когда никто не видит.
Исполнять роль диетической фурии — стало одной из моих самых трудных обязанностей. Когда у Лучано бывают гости к завтраку или обеду, он спокойно съедает свои диетические блюда и нормально относится ко всему остальному, что подают на стол. А потом все время пытается прихватить что-нибудь со стола или на кухне. Мне постоянно приходится следить за ним и останавливать, когда его рука тянется к какому-либо запретному лакомству. Он поначалу, конечно, раздражается, но на самом деле в душе благодарен мне и просит и впредь сдерживать его. Я даже не обращаю внимания на его краткие вспышки недовольства, так как знаю, что он радуется, когда придерживается диеты и отмечает снижение веса.
В мои обязанности входит также следить за холодильником и набивать его диетическими продуктами, причем, не только в Нью-Йорке или Сан-Франциско, но и во время коротких, но столь частых перелетов из города в город. Приходится брать с собой пластиковый контейнер. Разумеется, когда Лучано в Модене, припасами занимается Адуа. И сколько раз мы обменивались с нею контейнерами в аэропортах.
Наконец, одна из самых серьезных моих обязанностей — это забота обо всем необходимом для Лучано, когда он выступает в концерте. В оперных театрах ему помогают костюмеры, гримеры, реквизиторы. Но если у Паваротти сольный концерт, тут выручаю только я одна. До начала выступления Лучано — настоящий комок нервов.
Если же перед выходом на сцену выясняется, что нет какого-нибудь аксессуара или он в плохом состоянии, может разразиться конец света. Я так опасаюсь подобных вспышек, что теперь вообще все привожу в двух экземплярах: две рубашки, два галстука… И упаси вас Боже забыть подтяжки!
Кроме того, Лучано любит всегда иметь под рукой минеральную воду, лед и, пожалуй, немного фруктов. Обычно о них заботятся администраторы театров или концертных залов, которым и напоминать об этом не приходится. Если же они все-таки забывают их приобрести, то мне надлежит все раздобыть или проконтролировать заранее их наличие. Наконец, я непременно должна захватить фен и таблетки от изжоги.
Лучано советует мне присутствовать на его репетициях и всегда интересуется моим мнением о его выступлении в концерте или на спектакле. Он убежден, что молодые люди, которые учатся петь, лучшие критики. Паваротти часто просит их, а также начинающих карьеру молодых певцов высказать свои соображения о его исполнении. Этот мой способ, говорит он, поддерживать контакт с молодежью — дело для него весьма важное.
Он ни в коем случае не хочет отходить от каждодневной реальности. Слава очень часто рождает тенденцию — даже более чем тенденцию — укрыть ее носителя в башне из слоновой кости. Существует множество причин, по которым знаменитый певец в конце концов замыкается в узком кругу музыкантов, администраторов, коллег по театру. Лучано ненавидит саму мысль об изоляции от внешнего мира. Вот почему он так много времени уделяет своим поклонникам, и в этом кроется еще одна причина его интереса к моему мнению и отзывам других молодых певцов. Он еще не забыл, что такое быть юношей, который учится петь.
Через несколько минут Лучано Паваротти выйдет на сцену мужественным и пылким Радамесом в «Аиде» Верди.
Марио Буццолини
Авиакатастрофа
Мы с женой познакомились с Лучано Паваротти в сентябре 1975 года во время перелета из Милана в Нью-Йорк. Мы знали, что знаменитый тенор летит в одном с нами самолете и, будучи его большими поклонниками, попросили стюарда узнать у певца, можно ли подойти к нему, чтобы выразить свое восхищение. Вскоре получили ответ: синьор Паваротти будет счастлив познакомиться с нами, но лучше, если мы останемся на своих местах, он сам подойдет к нам.
И вот действительно, этот огромный, тучный человек движется по проходу между креслами. Он, разумеется, не знал нас в лицо, и мне пришлось подняться с места и подать ему знак. Мы провели в дружеской беседе какое-то время.
Несколько месяцев спустя мы с женой возвращались в свой родной город Лугано на рождественские каникулы и ожидали посадки на рейс компании ТВА, как вдруг увидели, что кто-то спешит присоединиться к нашей группе. Мы узнали Паваротти. Он опоздал на свой рейс компании «Алиталия», и его послали в наш самолет. Как и мы, он возвращался на Рождество домой. Казалось, певец обрадовался, что мы снова оказались попутчиками, надо ли говорить, как счастливы были мы.
Паваротти всегда путешествует эконом-классом. Ему нравится сидеть над крылом — кажется, будто тут самое надежное место. Кроме того, он считает, глупо платить вдвое дороже, лишь бы оказаться на виду у всех пассажиров. Мы попросили разместить нас в самолете рядом.
Полет над Атлантическим океаном прошел великолепно, но когда приблизились к Милану, ведущий пилот объявил, что в аэропорту «Мальпенса» стоит очень сильный туман и приземлиться невозможно. Он сделает круг в надежде, что видимость улучшится. Спустя какое-то время пилот снова обратился к пассажирам, сообщив на этот раз, что сбавит высоту — не для того, чтобы приземлиться, объяснил он, а чтобы получше оценить ситуацию. Мы все перепугались. Лучано больше всех — он и без того всегда испытывал страх даже в самых идеальных условиях полета, а теперь находился просто в трансе.
Мы летели на «Боинге-707». Я принимал участие в авиационной выставке в Швейцарии и немного разбираюсь в летном деле. Посмотрев в иллюминатор, я с удивлением увидел, что самолет снижается под углом 45 градусов. Но едва стала заметна земля, как «Боинг» вновь круто взмыл вверх. Лучано чуть не потерял сознание. Он сидел, откинув голову на спинку кресла и закрыв глаза. В эту минуту ему было не до разговоров.
Пилот снова обратился к нам по радио. Если не прояснится, сказал он, придется взять курс на Геную.
— Ну, так и лети туда! — воскликнул Лучано.
Но вскоре пилот сообщил, что передумал. Он попытается приземлиться в Милане. Я увидел, что самолет снова снижается под очень острым углом. Наконец колеса коснулись земли. Большинство пассажиров решило, что все в порядке — приземлились. Раздались возгласы облегчения, а в глубине салона даже послышались аплодисменты.
Но тут я увидел в иллюминатор, что «Боинг» вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы. И в то мгновение, когда правое колесо оказалось на неровной почве, правое же крыло задело землю и разломилось пополам. Один из моторов оторвало и словно пушечным выстрелом отбросило далеко в сторону. Почти тотчас же отлетел и другой двигатель.
Самолет продолжал нестись по земле по-прежнему на большой скорости. И вдруг обломок крыла снова задел почву. «Боинг» подбросило, он проделал в воздухе пируэт. Стукнувшись о землю, самолет разломился на две части: буквально пополам!
Передняя половина его обломилась прямо перед нашими креслами. Когда же мы наконец остановились, там, где только что находился салон первого класса, зияла огромная дыра.
Это оказался поистине апокалипсис. Все пассажиры орали, как безумные. Они лихорадочно освобождались от ремней безопасности, а освободившись, бросились вперед, стремясь выбраться из остатков самолета. Но мы-то с Лучано видели, что до земли высоко, а внизу нагромождена груда искореженного металла. Прыгать опасно. Мы заблокировали проход и помешали людям ринуться вниз.
Тем временем кто-то пытался открыть запасной выход, находившийся рядом с нашими креслами. Наконец это удалось. Моя жена и Лучано выбрались первыми, за ними поспешил человек, который открыл запасной выход. Сначала следовало перебраться на крыло или, вернее, на его обломок, а потом спрыгнуть на землю. И тут, при спуске Лучано больно ударился. Едва оказавшись на твердой почве, все бросились бежать, как бешеные. В воздухе стоял сильный запах бензина, и самолет в любую минуту мог взорваться.
Даже когда мы уже оказались на безопасном расстоянии, наша одиссея не закончилась. Катастрофа произошла в самом конце посадочной полосы, очень далеко от наблюдательной вышки. Из-за тумана нас никто не видел. Кроме того, радиосвязь оборвалась. В диспетчерской догадывались, что произошла какая-то катастрофа, но не знали, что именно случилось и где пассажиры.
Стоял ужасный холод. Мы буквально стучали зубами, сбившись в кучу у края посадочной полосы, и ожидали, что помощь подойдет с минуты на минуту. Однако никто к нам не спешил.
Мы увидели, что пилот и его помощники лежат на траве. Они стонали и, похоже, получили тяжелые ранения. Мы оказали им, как сумели, какую-то помощь, но у нас не нашлось даже одеяла. Лучано остался в одной рубашке, и я увидел, что ему очень холодно. Он спросил, нет ли у нас чего-нибудь, что можно набросить на плечи. Я предложил ему свитер, который хотел снять с себя, но он отказался.
— Но тогда вы замерзнете!
Я достал свой носовой платок. Предложить такое можно разве что в шутку.
— Спасибо, — поблагодарил он. — Давайте.
Я протянул ему обыкновенный платок с моими инициалами и с изумлением наблюдал, как он повязывает им горло и рот.
Мы продолжали ждать. Один молодой человек, с которым мы в самолете обменялись несколькими словами, студент Колумбийского университета, подбежал к нам с бутылкой ликера «Саузерн комфорт» и сказал, что отправится на аэровокзал пешком.
— Тогда оставьте нам бутылку, — попросил его Лучано.
Мы ожидали уже добрых полчаса, что за нами приедут. Наконец появился джип — только один. Лучано и еще несколько мужчин собрали в кучу всех детишек и посадили их в машину. Лучано переносил некоторых на плечах и подгонял всех, словно огромный пастушеский пес свое стадо. И уехал вместе с детьми.
Почти тотчас прибыло столько автобусов и грузовиков, что хватило бы на целую армию. Нас привезли в офис ТВА. Невероятная картина! Все так счастливы, что остались живы! Вино и виски текли рекой.
Лучано находился к крайнем возбуждении, почти в неистовстве. Он переходил от одного пассажира к другому, записывая их имена и номера телефонов, чтобы позвонить родным и близким и успокоить их на случай, если они прослышали про авиакатастрофу. К счастью, вернее, просто каким-то чудом не оказалось ни одной жертвы. Только пилоты и еще кое-кто получили ранения, но не слишком тяжелые.
В аэропорту Паваротти встречал близкий приятель на его мерседесе, который пригнал из Модены. Лучано сказал, что хочет немедленно отправиться в путь — ему надо посидеть пару часов за рулем, чтобы снять стресс. Он хотел вернуть мне платок. Я попросил его оставить платок себе на память.
— Знаете, друг мой, — проговорил он на прощание, — нам с вами чертовски повезло.
Джузеппе Ди Стефано
Коллега тенор
Впервые я услышал Паваротти в Сан-Ремо в 1962 году, всего год спустя после его дебюта. Я сразу же обратил внимание на его совершенно необыкновенный голос. Знаю, что позднее он заменил меня в нескольких спектаклях «Богемы» в Ковент-Гарден, но тогда я болел и даже не поинтересовался, кто именно выступил вместо меня.
Услышав Лучано в Сан-Ремо, я решил, что он поет слишком закрытым звуком, и голос его мог бы звучать еще красивее, если б он немного приоткрыл его, но современные тенора заботятся только о том, как бы уберечь голос. Все сводится к деньгам. А когда слишком опекают свой голос, это сказывается на исполнении.
Сам я стараюсь петь так, как требовал Верди, — думая только о поэзии, о словах. К тому же мелодия должна возникать естественно. Большинство теноров, когда исполняют что-то, видят своим внутренним зрением ноты. А я вижу слова. Несмотря на столь различный подход к вокальному искусству, мы с Лучано очень скоро стали друзьями.
Мы без конца спорили о пении и исполнительстве. Он уверял, что мой способ вокализации сгубит мне голос. Может, и сгубит, только я до сих пор пою беспрестанно каждый божий день, какой ниспослан мне на этой земле, и не слушаю, что там говорят обо мне. Просто люблю петь.
Совсем недавно я преподавал в одном мексиканском университете. Там поставили оперу и поинтересовались моим мнением. Я ответил, что разумнее было бы иногда оставаться дома в постели, чем заниматься пением. Разумеется, я потерял место преподавателя.
Лучано прислушивается к советам. Однажды я пришел к нему в грим-уборную после «Любовного напитка».
— Ну, как я пел? — поинтересовался он.
— Хочешь услышать комплименты или правду? — спросил я.
— Правду, — ответил он.
Потом велел всем выйти из комнаты, и мы долго беседовали с ним. Я сказал, что ему надо бы шире открыть гортань на некоторых нотах. Когда она закрыта, искажается звук и становится заметнее техника. А хорошая техника совершенно не должна быть слышна. Но если гортань закрывать, возникает эффект холодного душа. Лучано очень умен. Он выслушал меня и, думаю, впоследствии несколько изменил свою манеру петь.
И о преподавании мы с ним не раз спорили. У него лучшим учителем считался Джанни Раймонди. Я же совершенно не верю в возможность обучать вокалу и никогда не беру учеников. Учить нечему. Сам я занимаюсь каждый день. Делал упражнения всю жизнь и продолжаю сейчас. Но никто другой не может научить тебя, как ты должен петь. В нашей профессии есть такая присказка: ученик сотворен для того, чтобы прославить своего учителя. У каждого известного педагога найдется какой-нибудь знаменитый ученик… Но только один и никогда не бывает двух.
Меня беспокоит столь шумная реклама, какую ему устраивают. Она слишком ко многому обязывает. Карузо не имел агентов по рекламе. Мы ведь не сигареты и не «Кока-кола», которые можно навязывать публике с помощью рекламы или маркетинга. Подобная шумиха не нужна нам, она лишь создает певцам дополнительные трудности.
Помню, однажды мне предстояло петь в Рио, и, приехав в этот город, обнаружил, что мое имя написано на афишах так крупно, будто я сам Джильи. Я немедленно отправился к нему: «Маэстро, поверьте, я тут ни при чем, — заверил я. — Более того, думаю, что это несправедливо!»
Единственный человек, кому действительно пошла во вред рекламная кутерьма вокруг «тенора Номер Один» — сам Лучано. Всегда трудно, чрезвычайно трудно выходить на сцену и петь перед публикой. Уже достаточно тяжело, когда предстаешь перед ней просто знаменитым оперным певцом, но если тебя называют «более великим, чем Карузо», «лучшим тенором века» и тому подобное, то ощущаешь на своих плечах просто невыносимый груз. Ведь невозможно оставаться на высочайшем уровне каждый вечер, изо дня в день. А публика в конце концов начинает ждать от тебя только чудес.
Мы, певцы, сделаны из плоти и крови, мы можем пугаться, как и все люди. Не из стали же мы отлиты. Когда знаем, что публика ждет от нас слишком многого, стресс делается нестерпимым. Посмотрите на Каллас. Я убежден, что ее беды начались, когда она стала получать по десять тысяч долларов за спектакль. Вот тогда певица и зашаталась под таким прессом. Думаю также, что ее убило тщеславие. Ему нет предела, и ничто уже не способно удовлетворить тебя, когда хочешь быть самой великой примадонной на свете, самой божественной женщиной в мире. Она жаждала слишком многого. А для Паваротти шумиха вокруг его имени — лишь начало.
Полагаю также, что Лучано, наверное, слишком беспокоится, выбирая свой репертуар. Тенора не делятся на категории, словно боксеры. Мы должны уметь петь любую теноровую партию, пока поем своим голосом, то есть остаемся в пределах, какие положила нам природа. А вот если лирический тенор берется за драматические партии, тогда-то и начинаются для него все беды.
Но думаю, что Лучано с честью выйдет из положения. Он мыслит реально. Не потерял и никогда не потеряет голову. Словом, мне нет никакой нужды рассыпаться перед ним в комплиментах. Он хорошо знает, как я его уважаю.
Лучано Паваротти сожалел, что ему так и не довелось петь с Марией Каллас. Он считал ее непревзойденной артисткой, необычайно много сделавшей для того, чтобы привлечь внимание к опере самой широкой публики.
Лучано Паваротти
Заключение
В середине семидесятых годов со мной произошла ужасная беда. У меня началась депрессия. Хоть и в не слишком тяжелой форме, но болезнь вполне могла обернуться несчастьем, потому что мне никак не удавалось избавиться от нее. Не знаю точно, что послужило причиной моего подавленного состояния. Я выступал в крупнейших театрах мира, получал самые высокие гонорары, пел то, что хотел.
Моя семейная жизнь складывалась во всех отношениях прекрасно. По мере умножения моих деловых связей Адуа стала незаменимым помощником, не только женой. Она и предположить не могла, чем ей придется заниматься, когда мы обвенчались, но теперь вполне достойно справлялась со всеми многочисленными делами… Три дочери росли здоровыми, умными и красивыми.
И, несмотря на все блага жизни, я вдруг утратил всякий интерес к ней. Я выполнял свои профессиональные обязанности совершенно равнодушно. Аплодисменты перестали быть для меня источником энергии, как раньше. Все вдруг утратило прежний смысл. Состояние для меня совершенно немыслимое.
Я не из тех людей, кто отличается переменчивым настроением. Оно у меня всегда неизменно хорошее. Я могу потерять терпение или вскипеть гневом, когда кто-либо из моих сотрудников недобросовестно выполняет свои обязанности, но у подобных вспышек гнева всегда есть определенная причина (неважно, справедлива она или ошибочна). Когда же все проблемы благополучно разрешаются, вновь возвращаюсь в свое нормальное состояние: счастлив, полон оптимизма и живу в мире со всеми.
А тут вдруг все пошло шиворот-навыворот. Кое-что еще могло порадовать меня: скажем, встреча со старым другом, особенно удачное выступление, какое-нибудь необыкновенное блюдо, какое мне удалось приготовить… Но едва счастливый миг проходил, я вновь впадал в депрессию.
Я связываю мое состояние с тем, что достиг, наконец, вершины. Я столько лет шел к своей цели, столько боролся за нее. Все мое существо привыкло жить в постоянном напряжении, я стремился преодолевать одно препятствие за другим, а победив, сразу же быть готовым взять следующий барьер. И вдруг я внезапно очутился на высшей ступени славы, и никаких тебе препятствий, осталась только одна возможность — сорваться в пропасть.
Нередко друзья, видя, как я волнуюсь перед выступлением, говорят: «Ну, что ты так переживаешь? Ты же Паваротти, мировая величина!» Они не понимают, что именно это-то и губит все. Стать знаменитостью или, как говорят некоторые, быть Номером Один в своей профессии не значит считаться полубогом. Ты по-прежнему остаешься простым смертным, у которого может заболеть горло, пропасть голос, и не исключено, что допустишь какую-нибудь ошибку, и вся слава, и весь этот канкан в честь Номера Один только усиливают психологическое давление, какое испытываешь, но ни в коей мере не улучшают твои вокальные данные.
И все-таки отнюдь не это тягостное давление славы убивало меня. Пожалуй, оно скорее подстегивало, а не опустошало. Если бы я с самого начала не научился владеть собственными нервами так же, как дыханием и опорой звука на диафрагму, моя карьера закончилась бы очень быстро.
Проблема, я уверен, отчасти заключалась в простом вопросе: «Ну, хорошо, ты наконец достиг цели, но в чем ее смысл?» Наступает однажды момент, когда чувствуешь себя как бы в ловушке, рабом своего собственного голоса. Нет, тебе вовсе не хотелось заняться чем-то другим… Но поскольку у тебя есть этот твой голос, ты можешь быть в жизни только оперным певцом.
Ты должен снова и снова петь еще одну «Богему», еще одну «Тоску», еще один «Любовный напиток» — и так из года в год, в течение многих лет, пока не выйдешь в тираж и не станешь петь настолько скверно, что никто не захочет тебя слушать.
Сегодня, вспоминая столь странный психологический настрой того времени и вновь обретя оптимизм и радость жизни, я отчетливо сознаю: если человек решил уйти в тоску, то всегда найдет, на что пожаловаться, даже в самых благоприятных условиях.
Кроме того, я невероятно растолстел и считал, что мой вид серьезно вредит карьере. По своему характеру я все должен делать как можно лучше. Я всегда очень требователен к себе и, за что бы ни брался, неизменно стремлюсь к исключительному результату или же напрочь отказываюсь от начатого дела. Может быть, это и вынуждает меня без конца совершенствоваться. Несомненно, во мне очень силен дух соперничества.
И все же я чувствовал тогда, что режиссеры меньше требуют от меня актерской игры, мало обращают внимания на эту сторону исполнения, очевидно, решив, что хорошим актером я все равно не стану, а мой вес отрицательно скажется на любом результате, сколько бы они ни бились надо мной.
Такая мысль уязвила меня. Я знаю, что не выгляжу на сцене пленительным Рудольфом или Манрико, о каких мечтают романтические девушки, но убежден, что хорошо продуманная логика действий моего героя отчасти помогает забыть про полноту фигуры. Однако тогда мне казалось, что так думаю только я один, и мысль эта, конечно, не улучшала мое настроение.
Не говоря уже о том, как это вредило карьере, моя полнота просто убивала меня. Я старался меньше двигаться… не только на сцене, но и в обычной жизни. По характеру я человек активный. Наверное, не столь энергично, как в молодости, но каждый день стараюсь немного позаниматься спортом, иначе просто плохо чувствую себя. Но в тот период у меня не оставалось ни сил, ни желания и дальше работать над собой — ни в жизни, ни на сцене. Я ощутил, что мною пренебрегают, отодвигают в сторону… И презирал себя за свою тучность.
Словом, я не видел в себе такого Лучано Паваротти, каким хотел быть. И настолько пал духом, что скажи мне кто-нибудь: завтра умрешь, подобное пророчество нисколько не обеспокоило бы меня.
Однако я понял, как все это серьезно, только когда вернулся в Модену. Даже встреча с семьей не освободила меня от ощущения пустоты и нелепости всего, что делаю. Думаю, если б подобное состояние души продлилось еще некоторое время, то пришлось бы обратиться к психиатру.
В наши дни сделано немало открытий, утверждающих химическую основу возникновения депрессии. Однако нельзя сбросить со счетов положение, что угнетенное состояние психики никак не связано с житейскими ситуациями. Только, возможно, подобное состояние усугубляется какими-то ферментами, которые выделяет организм, подверженный депрессии. Должно быть, со мной и произошло нечто подобное. Я с большим вниманием отношусь к новшествам медицинской науки. Но в ту пору настолько пал духом, что не находил ни сил, ни желания сделать что-либо для себя.
По счастью, мне так и не пришлось проверить на себе истинность нового взгляда на депрессию. Произошло одно драматическое событие, которое полностью освободило меня от столь мрачного состояния психики, самым невероятным образом вернув мне прежний вкус к жизни.
22 декабря 1975 года я летел из Нью-Йорка в Милан, чтобы провести рождественские праздники с семьей. Я всегда летаю экономклассом, так как мне больше нравятся пассажиры попроще, которых там встречаю, ну, еще и потому, что мне кажется, что эти места в самолете надежнее: тут находятся запасные выходы, и всегда стараюсь занять место рядом с одним из них.
В тот вечер над аэропортом «Мальпенса» висел густой туман. Наш «Боинг-707» еще шел на очень большой скорости, почти крейсерской[18], когда коснулся земли. Очевидно было: что-то идет не так, как надо. И тут самолет вышел за пределы посадочной полосы и буквально развалился надвое. Случившееся оказалось ужасно: пассажиры заорали и толпой устремились в проход между креслами. Всем удалось выбраться наружу, но мы все пребывали в шоке — ведь с минуты на минуту самолет мог взорваться и вспыхнуть.
Еще несколько часов назад я находился в невероятно отчаянном состоянии. В аэропорту меня встречал на моей машине один приятель. Моя семья еще ничего не знала; вернувшись, я сам все рассказал им. Сев в машину, я сам вел ее до самой Модены. Быстрая езда по автостраде, как ни странно, успокоила меня.
Когда же я, целый и невредимый, вернулся домой, к своей семье, то понял, каким же я был идиотом в последнее время. Я наконец-то осознал, как мне везло во всем: сколько любви меня окружало, какой привилегией я обладал — ниспосланным небом даром, который доставляет радость многим людям. А я позволил себе позабыть, как прекрасна жизнь, сколько радостей она мне приносит. И мучился из-за ничего, жалел себя по причинам, высосанным из пальца. Я убеждал себя, что у меня нет больше цели в жизни, говорил… ну, весьма похожие слова. Однако ни на минуту не был готов к смерти.
Психическая травма, полученная во время авиакатастрофы, когда я оказался на волосок от смерти, стала для меня целебной. Она полностью излечила от равнодушия к жизни. Выздоровление наступило полное. Я немедленно окунулся в работу и занятия — с энергией и энтузиазмом, как в девятнадцать лет, когда брал первые уроки пения. Наконец, я заставил себя следовать диете и сбросил тридцать шесть килограммов!
Казалось, сам бог, устроив авиакатастрофу, взял меня за шиворот и сказал: «Так тебе, значит, наплевать на свою жизнь? Тогда взгляни-ка в лицо смерти и поведай мне, нравится ли?» Если божественный замысел заключался именно в этом, то он сработал как нельзя лучше.
После такого события ко мне навсегда вернулось ощущение счастья жизни. Я стал оптимистом, наверное, даже более убежденным, нежели прежде. Увидев когда-то своими глазами ужасы войны, едва не умерев от болезни в детстве, а главное — после авиакатастрофы в Милане, сейчас хорошо понимаю, что такое смерть. Но я знаю также, что такое жизнь, понимаю, насколько она прекрасна и драгоценна.
Даже сбросив тридцать шесть килограммов, я все еще оставался далек от желаемого — стать таким, каким мне хотелось стать. Я буду продолжать борьбу с весом, разумеется. И прежде всего потому, что чувствую себя намного лучше, когда худею, а о своем здоровье всегда очень забочусь.
Но, признаюсь, однако, меня больше не волнует мой внешний вид. Пока меня любят, лишние килограммы не имеют значения.
И в самом деле, очень грустно, что на нас прежде должно обрушиться какое-нибудь несчастье, авиакатастрофа, болезнь или война, и лишь тогда мы по-настоящему начинаем ценить все радости жизни, которые обычно воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Нам, людям, свойственна ужасная манера — мы перестаем замечать хорошее почти сразу же после встречи с ним. Причем не только не ценим это хорошее, но порой даже вовсе не замечаем его.
Наглядный пример тому, что я имею в виду, — перелет из одного климата в другой: от холода к жаре, от снега в Нью-Йорке к солнцу в Майами. Первые два дня ходишь бесконечно счастливый и думаешь, как тебе повезло. Но проходят минуты счастья, и начинаешь воспринимать прекрасную погоду, словно так оно и должно быть. Жить в хорошем климате — это же твое право, решаешь ты. И окружающее доставляет тебе все меньше удовольствия. В конце концов начинаешь осматриваться: чего еще мне недостает? Что-то не так. На что бы посетовать?
Это плохая и очень распространенная человеческая черта. Взгляните на сегодняшнюю молодежь. Я восхищаюсь молодыми людьми, они умны, любознательны, знают много такого, о чем мы в свое время ведать не ведали. Но мне также хорошо видно, сколько сил они тратят на поиски того, на что бы пожаловаться, на поиски «врагов», с которыми нельзя не сразиться. У них много энергии, они не знают, куда направить свою агрессивность.
Я глубоко возмущаюсь теми философами, теоретиками и политиками, которые используют подобную агрессивность молодежи в своих интересах. Ведь так легко подвергнуть жизнь юношей и девушек смертельной опасности ради победы той или иной доктрины.
Я думаю, что молодежь протестует сегодня столь часто потому, что еще не знает серьезных трудностей. Наши дети не представляют себе, что такое война, и лишь очень немногим из них знаком голод. Им все достается слишком легко. И они не смогут по-настоящему философски относиться к жизни, пока не испытают какое-нибудь несчастье. А подлинное несчастье — это не просто нехватка денег на пластинку или на билет в кино. Очень печально… Я никому не желаю никаких бед. Но, видимо, они необходимы.
Я сужу обо всем этом и по своей семье. Мои три дочери никогда ни в чем не имели недостатка. У них всегда было все, чего они хотели, не говоря уже об огромной любви, которой их окружили родители. Три славные, чудесные девочки, но они только и делают, что без конца ноют. Кто из нас в их возрасте не готов был вплавь отправиться в Америку? А они не пожелали лететь со мной в Сан-Франциско. В конце концов, полетели, но только потому, что я чуть ли не силком заставил их сделать это. Или же не желают ехать на нашу виллу в Пезаро. Почему? Потому что их знакомые молодые люди живут в Модене. Адуа готовит самую вкусную в мире лапшу. Они отказываются от нее, так как боятся поправиться на двести граммов.
На отдыхе в Пезаро.
Пока меня любят, лишние килограммы не имеют значения.
У меня есть один очень хороший друг, Маццоли, который два года провел в немецком концлагере. Едва не погиб там от голода. Когда его освободили, он весил сорок килограммов, превратившись почти в живой скелет. А сейчас это самый счастливый человек из всех, кого знаю. Он радуется счастливой жизни и, разумеется, не ищет проблем с фонарем в руках среди бела дня.
Мои дочери очень восприимчивы ко всему, что происходит на свете. Им понятны высокие рассуждения о горестях человечества, но в то же время они не замечают взаимоотношений в своей собственной семье. Так легко оттолкнуть молодежь от ценностей, которые действительно должны быть им особенно важны.
И чем снисходительнее относишься к молодежи, тем хуже получается. Недавно я прочел в одной газете редакционную статью, в которой осуждалась обязательная воинская повинность, лишь потому, уверяет автор, что она может нанести тяжелую психофизическую травму юношам. Тяжелую травму! Вы представляете себе такое? Сегодня в Италии сколько угодно людей, выступающих против всего и вся. Они не коммунисты, не социалисты, не демохристиане. Они просто против.
В молодости я тоже интересовался разными философскими теориями, с какими доводилось познакомиться. Они все по-своему правы. Но сегодня юношеская готовность воспринимать какую угодно теорию, лишь бы она добивалась негативных целей, очень быстро переходит в действие. Я соглашался со всеми философскими системами, но, кончив чтение, отправлялся играть в футбол. Сегодня молодежь принимает какую-нибудь теорию и выходит на улицы демонстрировать… или того еще хуже.
Сколь бы ошибочной ни казалась мне нынешняя позиция молодежи, я не желаю им изведать войны. Даже без нового чудовищного атомного оружия война — страшная реальность. Но что-то должно произойти — равносильное моей катастрофе, — чтобы заставить молодых понять: в жизни существуют не только так называемые социальные проблемы, любая жизнь сама по себе содержит множество радостей, за которые нужно благодарить судьбу.
Очевидно, вам ясно из моих рассуждений, что я не принадлежу ни к какой политической группировке. Ведь для того, чтобы иметь какие-то прочные социальные убеждения, нужно быть очень хорошо информированным в этой сфере, а у меня просто нет времени для подобного политического самообразования.
Кроме того, я сильно сомневаюсь, что с помощью общественных доктрин можно разрешить все проблемы человечества. Я считаю, что в мире должно быть больше справедливости, богатство надо распределить более равномерно, и все должны иметь одинаковые возможности. Слишком часто, однако, вижу повторение все тех же моделей, независимо от политической системы, которая стоит у власти. Системы меняются, а люди — нет.
Сегодня положение в нашей стране столь ужасное, что многие едва ли не стыдятся признаться, что они итальянцы. Но Италии есть чем гордиться: нашей историей, нашим культурным уровнем, нашей восприимчивостью к прекрасному — всем тем, чем сам искренно восторгаюсь. Нет, я даже представить не в силах, что мог бы родиться в какой-то другой стране.
А за рубежом сейчас, если скажешь, что ты итальянец, сразу же вспоминают о людях, по которым прошлась автоматная очередь, о похищенных промышленниках, об Альдо Моро, труп которого нашли в багажнике машины в самом центре Рима. Это невероятно, но в нашей стране словно какая-то разрушительная сила буйствует — насилие и жуткие террористические акты, о которых пишут газеты. И это лишь самые драматические проявления враждебности. Но подобная губительная сила просматривается и в таксисте, что под разными предлогами отказывается везти тебя с одного конца Милана в другой, и в жутких забастовках, единственный результат которых огромные трудности для тех, кто никакого отношения не имеет к подобным акциям.
Конечно, в Италии много несправедливостей, их надо устранить, и я отнюдь не собираюсь предлагать рецепты для каких бы то ни было перемен. Однако разрушительная сила, которая, как я вижу, охватывает всю нашу страну, конечно же, не приведет к улучшению социальных условий, а способна только вконец разрушить нашу экономику. Не представляю, куда мы придем, но признаюсь, довольно пессимистично смотрю, к чему движется Италия.
Возможно, одна из главных причин, почему я против участия в политике, мой опыт, который я получил во время войны. Хотя я был тогда совсем ребенком, тем не менее, уже в ту пору понял, что именно политика может сделать с людьми.
В одной семье, которую я знал, произошло братоубийство из-за того, что один брат был фашистом, а другой — партизаном. Не скажу, кто кого убил, так как сейчас это не имеет значения. Каждый из них мог уничтожить другого. Страсти достаточно накалились с обеих сторон.
Разве подобное событие, когда человек убивает родного брата, не раскрывает сути политической «веры»? С годами мое отношение к политике не изменилось. Политика способна оправдать любое зверство. Теперь я еще отчетливее понимаю, что причина всеобщему «братоубийству» — насилие.
Но хватит об этом. Я могу еще долго философствовать, не уходя далеко от сюжета моей книги.
Есть один аспект в моей личной философии, который отличает меня от многих коллег-певцов. Я имею в виду свое отношение к самым разным людям, которых во множестве влечет ко мне после того, как они послушают мое пение, — влюбленных в оперу, влюбленных в Италию, влюбленных в теннис, влюбленных в Паваротти.
Друзья, имеющие опыт закулисной жизни, продолжают убеждать меня, что я слишком доступен, слишком радушен… и не должен быть настолько доверчивым, думая, будто все вокруг — искренние мои сторонники.
«Будь осторожен, Лучано, — повторяют они, — ведь очень многие хотят только воспользоваться тобой, использовать твою дружбу в своих личных, а иногда и корыстных целях».
Возможно, тут есть доля истины, но я не могу жить так, как хотелось бы им: постоянно кому-то не доверяя. Нет, я вовсе не столь наивен. Знаю, что у меня действительно есть друзья, которые дружат со мной не только потому, что я знаменитый тенор. А кто-то и не питает ко мне симпатии. Даже наоборот. И я прекрасно понимаю, что, как только потеряю голос, наша дружба может испариться. Позвоню им, а они откажутся повидаться со мной, так как постоянно очень заняты. Но и к этому отношусь философски. Так уж устроен мир.
Слишком часто я наблюдал и другую крайность: знаменитость, однажды обманутая каким-нибудь бесчестным человеком или даже не одним, — не доверяет больше никому. Нет, я не откажусь от сотни друзей из-за парочки таких, которые пытались использовать меня в корыстных целях. Я слишком ценю истинных друзей.
Я уже говорил, насколько великодушны некоторые люди, называющие меня лучшим тенором в мире — тенором Номер Один. Понятно что это радует. Природа наградила меня чудесным даром. Я много работал, стараясь развить его как можно лучше. И когда слышу подобную похвалу, то начинаю думать, что преуспел в своем стремлении выполнить свой долг. Однако на самом деле для меня не имеет значения, какое место я занимаю — Номер Один, Два или Пятнадцать — до тех пор, пока убежден, что достиг поставленной цели.
И это не ложная скромность… Я действительно считаю себя скромным человеком. Голос — это нечто такое, что существует отдельно от меня. Он дан мне от природы, и было бы ошибкой гордиться им. В то же время я по-настоящему ужаснулся бы, если б кто-нибудь сказал: «У него был чудесный голос, как жаль, что не развивал его, не совершенствовал и не использовал с толком».
Поэтому, когда меня называют Номер Один, я не испытываю никакого чувства превосходства над своими коллегами. Я никогда не ставил своей целью превзойти те двадцать теноров, которые пели лучше меня, когда только начинал свою карьеру. Я никогда не думал, что меня провозгласят Номером Один. Не знаю даже, так ли это на самом деле. Просто глубоко благодарен, поскольку подобная похвала заставляет почувствовать, что я достиг своей цели, выполнил свой долг перед господом, давшим мне голос, и перед публикой, получающей от него удовольствие.
И, напротив, я гораздо меньше радуюсь, когда люди начинают сравнивать меня с тем или иным великим тенором прошлого. Понимаю, что хотят сделать мне комплимент, но при этом они ведь лишают меня собственной индивидуальности. Когда считаешь, что тебе удалось добиться очень хороших результатов, сделать нечто особенное, весьма огорчительно слышать, что твое исполнение оказалось «лучше, чем у такого-то» или «казалось, будто слушаешь того-то». Я — это я, а они — это они.
А с Карузо вообще невозможны никакие сравнения. При всем моем уважении к маэстро фон Караяну, я не согласен с ним, когда он утверждает, будто мой голос лучше. Для меня Карузо — идеальный образец, на который все мы, тенора, должны равняться. Я так считаю даже не из-за его голоса, столь же изумительного, сколь и неповторимого, который невозможно сравнить ни с чем. Карузо начинал как баритон, и у него навсегда сохранился темноватый оттенок более низкого голоса. Я говорю о нем как об идеале в первую очередь из-за его необыкновенной фразировки и невероятного музыкального инстинкта, благодаря которым он ближе кого бы то ни было подошел к правде музыки, которую исполнял. Никогда больше не появится такой феномен, как он.
Не знаю, в чем заключался его секрет, и не хочу этого знать. Каждый должен найти свою собственную манеру пения. Тенора, которые пытаются подражать Карузо, обычно теряют голос. Совершенно невозможно петь так, как пел кто-то другой. И не следует забывать об индивидуальности.
Даже если в какой-то мере сумеете сделать свой голос похожим на голос какого-то другого тенора, все равно никогда не сможете петь точно так же, как он, хотя бы потому только, что вы — другой человек. Голос воспроизводит музыку композитора, согласен, но он отражает и личность певца. Желание подражать чьему-то голосу — огромная ошибка.
Вот почему, хоть я, конечно, польщен сравнениями с Карузо, они мне порядком надоели. Надеюсь найти что-нибудь особое, в своей собственной манере, не в его. Мы два непохожих тенора.
Единственный певец, с которым мне действительно нужно соревноваться, кого всеми силами должен стараться превзойти, — это я сам. Получить такой редкостный дар, как великий голос, и не развить его в полной мере, не использовать наилучшим образом — это, на мой взгляд, тяжелейшее преступление. У меня немало грешков на совести. Но буду счастлив, если меня сочтут безгрешным в том, что считаю смертным грехом.
Что касается моего расставания со сценой, то я обычно говорил себе: как только перестану петь наилучшим образом, едва замечу, что голос начинает слабеть, поставлю точку в собственной карьере. Но теперь я передумал. Подобное рассуждение — чистейший эгоизм. Когда делаешь что-то хорошее, это всегда приносит необыкновенное удовлетворение. У меня очень развит дух соперничества, соревнования и в какой-то мере стремления к самоусовершенствованию.
Конечно, мне всегда очень приятно слышать, что пою исключительно хорошо. Но удовлетворение приносит отнюдь не уверенность, будто всякий раз, когда открываю рот, превосхожу многих других теноров. Пение само по себе доставляет мне огромную радость. Такое же ощущение испытываю, когда чувствую, как создаю музыку. Но самый большой для меня праздник — сознание, что мое пение делает счастливым множество людей. Пока будет так, пусть даже в меньшей мере, чем сейчас, никто не заставит меня перестать петь.
Моему отцу за семьдесят, и голос его по-прежнему необычайно красив. Может быть, Господь, который всегда оставался столь щедрым ко мне, подарит еще и вокальное долголетие.
Италия, 1989 г.
Примечания
1
Город в США, штат Калифорния. — Ред.
(обратно)2
Опера В.А. Моцарта «Идоменей, царь критский, или Илия и Идамант». — Ред.
(обратно)3
Спустя много лет после того, как была написана эта книга, в 1995 году, после 36 лет супружеской жизни, шестидесятилетний Паваротти развелся с женой и женился на своей 27-летней секретарше Николетте Мантовани, которая родила ему дочь. — Перев.
(обратно)4
Для данного случая (лат.).
(обратно)5
Оперу «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти. — Ред.
(обратно)6
Опера И. Стравинского «Похождения повесы». — Ред.
(обратно)7
Шумиха (фр.).
(обратно)8
Стретта Манрико из оперы Верди «Трубадур». — Ред.
(обратно)9
В Италии обращение «доктор» относится не только к врачу, как принято в России, но к любому человеку с университетским дипломом в гуманитарных науках. — Перев.
(обратно)10
Свенгали — музыкант-гипнотизер из романа Джорджа Дюморье «Трилби»; воздействуя гипнозом, он делает из натурщицы Трилби величайшую певицу. — Перев.
(обратно)11
Опера Винченцо Беллини. — Ред.
(обратно)12
Круглая шапочка без полей (фр.).
(обратно)13
В оригинале каламбур, построенный на том, что, если в этом словосочетании к итальянскому слову огса (кит-касатка, морское чудовище), добавить только одну букву «р», получается другое слово —рогса (свинья). В результате звучит очень грубое, кощунственное ругательство. Адуа произносит словосочетание без буквы «р», но всем понятен ее намек.
(обратно)14
Герберт Маркузе (1898–1979) — немецко-американский философ и социолог. С 1934 года жил в США. Утверждал, что в современном обществе революционная роль переходит к «аутсайдерам» (люмпены, преследуемые национальные меньшинства и т. п.) и радикальным слоям студенчества и интеллигенции, настаивал на отказе от легальных форм борьбы как «парламентской игры». Концепции Маркузе оказали влияние на идеологию левоэкстремистских элементов на Западе. Основные работы: «Эрос и цивилизация» (1955), «Одномерный человек» (1964), «Психоанализ и политика» (1980).
(обратно)15
Дамский шейный платочек, косынка (фр.).
(обратно)16
Ария Нормы из одноименной оперы Винченцо Беллини.
(обратно)17
Лучший роман Джона Ирвинга, удостоенный национальной премии. — Перев.
(обратно)18
Крейсерская скорость самолета — скорость, соответствующая полету на неполной мощности. Иногда называют скоростью, при которой самолет испытывает наименьшее аэродинамическое сопротивление…
(обратно)

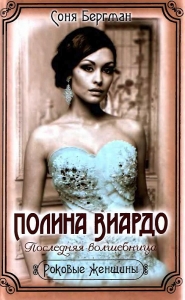

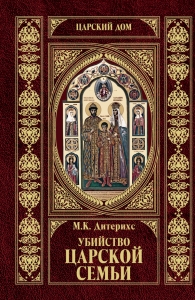
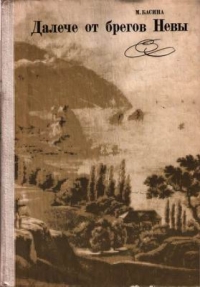
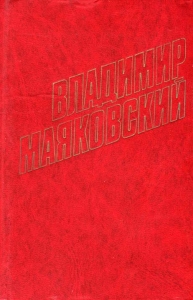

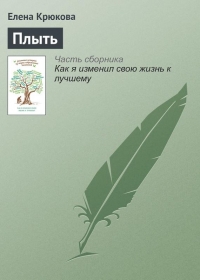
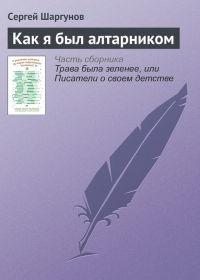


Комментарии к книге «Я, Лучано Паваротти, или Восхождение к славе», Лучано Паваротти
Всего 0 комментариев