Валерий Шубинский Зодчий. Жизнь Николая Гумилева
© В. Шубинский, 2004, 2014
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
Издательство CORPUS®
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле…
Н. Гумилев. «Память»Поэт всегда господин жизни, творящий
из нее, как из драгоценного материала, свой
образ и подобие. Если она оказывается
страшной, мучительной и печальной, значит,
такой он ее захотел.
Н. Гумилев. «Письма о русской поэзии»Николай Гумилев.
Фотография М.С. Наппельбаума, 1918 год
Предисловие
Есть поэты, от которых остаются стихи и только стихи. Их биография — всего лишь приложение к текстам, комментарий к ним, история их создания. Это бывает довольно часто — причем именно с самыми большими мастерами. Кто-то из них «просто жил», а писал как бы между делом, на полях своей жизни, как Тютчев. У кого-то творчество высасывало, забирало все: на жизнь как таковую сил не оставалось. Так было с Мандельштамом. Кто-то жил двумя жизнями — показной и тайной, внутренней, как Анненский. Кому-то удавалось обрести более или менее респектабельный статус литератора-профессионала, как Ходасевичу. Иногда какая-то посторонняя сила — например, государственная власть — вторгается в процесс, мешает поэту в его работе, а то и убивает его. Но в любом случае собственный облик и судьба не могут восприниматься у этих поэтов как некое авторское творение, самоценное и даже равновеликое стихам.
С Гумилевым все иначе. От него остались не только стихи, но и Легенда — образ поэта-воина, поэта-путешественника, конквистадора, заговорщика. Вся его сознательная жизнь — от первого африканского путешествия до гибели в застенках ЧК — выстраивается в эффектную и впечатляющую картину. «Я хочу, чтобы не только мои стихи, но и моя жизнь была произведением искусства», — говорил он незадолго до смерти Ирине Одоевцевой. Можно сказать, что по крайней мере отчасти это у него получилось. Биографическая легенда Гумилева покоряла воображение множества юношей в России в XX веке, как биография Байрона в веке XIX.
Однако, когда рассматриваешь эту легенду с близкого расстояния, обнаруживаешь немало противоречий и парадоксов. Начать с того, что личность и судьба Гумилева воспринимались современниками совсем не так, как нами. 1 сентября 1921 года — день, когда стало известно о его гибели — стал точкой раздела в отношении к нему как к поэту и человеку. Впрочем, и в посмертной его судьбе противоречий немало. Достаточно сказать, что никто из больших поэтов Серебряного века не был так запретен в советское время, как он, — и никто так же сильно, как он, не повлиял на советскую поэзию.
И это — далеко не единственные странности. О Гумилеве написано и сказано немало; собрав эти выказывания и отзывы воедино, начинаешь видеть человеческое лицо — гораздо менее цельное и однозначное, чем маска, но более привлекательное. Человек не равен мифу о себе. Тем он и интересен.
Одновременно с часто трудным и мучительным построением биографии шел процесс формирования и созревания Гумилева-поэта — тоже трудный, затянувшийся на годы. Иногда эти процессы помогали друг другу, иногда мешали. Смерть (пусть во многом случайная) была прекрасной последней точкой в процессе построения биографии, но она не дала Гумилеву-поэту раскрыться в полной мере. Мы никогда не узнаем, что он унес с собой.
Среди исследователей биографии Гумилева на первом месте, конечно, П. Н. Лукницкий. Без собранных им материалов работа над этой книгой была бы невозможна. В 1990 году вышла книга его вдовы В. К. Лукницкой, написанная по этим материалам, а сами записи Лукницкого и документы из его коллекции увидели свет в 2010 году (автор этой книги, работая в 2002–2004 годы над ее первым изданием, имел возможность познакомиться с частью из них в рукописном отделе Пушкинского Дома). Одновременно с Лукницким биографией Гумилева занимался в эмиграции Н. А. Оцуп. Его диссертация, защищенная в 1951 году в Сорбонне, посвящена жизни и творчеству поэта. Из множества биографических работ о Гумилеве, появившихся в 1990 годы, наиболее ценной является «Хроника жизни и творчества Гумилева», составленная Е. Е. Степановым (1991). Более популярный характер носят книги И. А. Панкеева (1995) и В. В. Бронгулеева (1998); в последней из них биография поэта доведена лишь до 1913 года. Работы А. Б. Давидсона внесли много нового в изучение абиссинских экспедиций Гумилева. Уже после появления первого издания нашей книги, в 2006 году, вышла биография Гумилева, написанная В. Л. Полушиным, в серии «Жизнь замечательных людей». Невозможно обойти вниманием содержательные монографии и статьи К. М. Азадовского, Н. А. Богомолова, Ю. В. Зобнина, В. П. Крейда, К. Ю. Лаппо-Данилевского, О. А. Лекманова, В. А. Петрановского, С. Л. Слободнюка, Р. Д. Тименчика, М. Д. Эльзона и ряд других — даже не соглашаясь порою с отдельными выводами и суждениями того или иного исследователя.
При работе над книгой автор, естественно, пользовался консультациями и советами своих коллег, ученых и писателей. Перечисление всех имен потребовало бы слишком много места; однако нельзя не выразить благодарности за особенно важную помощь библиографу А. В. Коскелло, писателю М. Л. Козыревой, африканисту В. М. Платонову (Российская национальная библиотека), Н. П. Такшиной (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме), З. Л. Пугач (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого), а также владельцам семейных архивов и коллекционерам М. И. Башмакову, Е. А. Голлербаху, И. В. Платоновой-Лозинской, А. М. Румянцеву и А. К. Станюковичу. Многие фотографии и рукописи воспроизведены непосредственно с оригиналов (в этих случаях указано местонахождение подлинников). В качестве иллюстраций использованы также два обширных собрания фотокопий, принадлежащие московскому историку и коллекционеру А. К. Станюковичу и Музею Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Первое издание этой книги вышло десять лет назад, в 2004 году. Хочется выразить благодарность и редактору этого издания А. Л. Дмитренко, и рецензентам (особенно Н. А. Богомолову и А. А. Немировскому) за поправки и дополнения. В новой, дополненной и во многом переработанной редакции книги они учтены.
Глава первая 3 апреля 1886 года
1
Русская культура с XVIII века делилась на две ветви — дворянскую и разночинную. У интеллигента-разночинца, выходца из поповичей, из мещан, из обрусевших инородцев, была (по емкому выражению величайшего представителя этой формации — Осипа Мандельштама) одна родина и одна родословная: полка с книгами. Дворянин (да и интеллигент из дворян) с любовью поминал своих пращуров, иногда стыдясь этой непрогрессивной любви, иногда эпатируя ею общественность, иногда искренне ею упиваясь.
Все это относится и к поэтам Серебряного века. Гордость своей родословной была для них оправдана и освящена пушкинским примером.
Александр Блок предпочитал (имея на то разные причины) не вспоминать предков по отцу, но никогда не забывал про Бекетовых — классовых интеллигентов и столбовых дворян. Михаил Кузмин открыл свою первую книгу гимном предкам — и «морякам старинных фамилий», и «франтам тридцатых годов», и «важным, со звездами, генералам», и «цветам театральных училищ». Василий Комаровский помнил своего деда — русского графа из польских шляхтичей, друга поэта Александра Одоевского и зятя поэта Веневитинова. Хлебников гордился основателем рода — «посадником Ростова среднерусского». Иван Коневской (Ореус), потомок викингов, с наивным юношеским снобизмом писал:
Пойми же, селянин, без племени, без роду, С тобой пойду я в лес, заслушаюсь дроздов, Я так же, как и ты, молюся на природу, И пить ее млеко бегу из городов. Но не понять тебе, бездомному, нагому, Какой есть у меня торжественный приют, Где я причастен достоянью дорогому, Святому золоту, что мне отцы куют.Список можно продолжать долго. Вспомним хотя бы главу набоковских «Других берегов» с влюбленным перечислением Рукавишниковых, Козловых и фон Граунов, чья кровь текла в жилах неуемного лепидоптеролога.
Казалось бы, Гумилев — живое воплощение специально дворянских добродетелей и пороков — должен был быть в этом хоре одним из первых. Но за всю жизнь лишь одному из своих предков посвятил он стихотворение — и то осталось в черновиках, а затем было, по всей вероятности, уничтожено; четыре строки из него запомнила Ахматова и в 20-е годы поведала Павлу Лукницкому:
Мой прадед был ранен под Аустерлицем И замертво в лес унесен денщиком, Чтоб долгие, долгие годы томиться В унылом и бедном поместье своем.Это стихотворение — из неосуществленного «юбилейного цикла» про Отечественную войну, над которым Гумилев работал в 1912 году. Вот и вся родовая связь с воинственным, красочным прошлым. Унылая и жалкая судьба человека, раненного в великой, но проигранной (и чужой для России) битве и оставшегося в стороне от главных событий.
Судьба прадеда изложена фактически верно. Звали его Яков Алексеевич Викторов, был он владелец деревни Викторовка Старо-Оскольского уезда Курской губернии. Томиться там ему пришлось и впрямь «долгие, долгие годы»: умер он в 1872-м, девяностодвухлетним. Денщик, спасший его, по фамилии Павлюк, оказался столь же долговечным и тоже доживал век в Викторовке.
За свои ранения Яков Алексеевич получил большую пенсию, за которой ездил в г. Старый Оскол. Там он закупал нужные продукты на длительное время, так как и пенсию получал по третям года. Кроме того, в усадьбу приезжали венгерцы со всевозможными товарами, начиная с духов и пудры и кончая прекрасными дорогими мехами. Дедушка неукоснительно покупал все, чего хотелось его внучкам, и обязательно шелковой материи на «смертный халатик» для себя… У него было много «смертных халатиков», которым он иногда делал осмотр, и иногда посылал халатик в подарок покойнику и даже больному! Гроб он тоже велел себе заготовить заранее и примерялся, удобно ли ему будет лежать. Под конец ему захотелось услышать, как его будут отпевать, и ужасно обиделся, когда священник отказал ему в этом. «Вот, — говорил он, горько плача, — до чего я дожил: и панихиду по мне не хотят петь». Пришлось, чтобы его успокоить, отпеть какого-то дворового, умершего в это время и имевшего имя Якова (из воспоминаний Александры Степановны Сверчковой, сводной сестры Н. С. Гумилева).
Внучки — это юная и незамужняя Анна Ивановна Львова (1854–1942), впоследствии — мать поэта, и ее старшая сестра, несчастливая в браке Агата, по мужу Покровская. Была еще третья сестра, Варвара, по мужу Лямпе, и два брата — Яков и Лев, контр-адмирал.
Моряком был некогда и отец их, Иван Львович Львов, супруг Юлии Яковлевны Викторовой, единственной дочери аустерлицкого инвалида; но после Русско-турецкой войны 1828–1829 годов, удостоившись ордена Святой Анны и серебряной медали на георгиевской ленте, он вышел в отставку в чине лейтенанта. Позже поступил он на гражданскую службу, однако и там не поднялся выше коллежского асессора. Имение Слепнево Бежецкого уезда Тверской губернии, унаследованное им от отца, дохода давало мало: согласно семейному преданию, Юлия Яковлевна по смерти мужа сама вязала чулки на продажу — «на свечи и лампадное масло»…
В Тверской губернии было по меньшей мере шесть дворянских родов Львовых.
На первом месте, конечно, должен быть назван род помещиков Новоторжского уезда, восходящий к Пимену Никитичу Львову, поминаемому в росписи 1626 года. Среди его потомков известнее всех тайный советник Николай Александрович Львов (1753–1803), поэт, инженер, музыкант, эстетик и прежде всего — архитектор (строитель Приоратского дворца в Гатчине, церкви «Кулич и пасха», Почтамта и Невских ворот Петропавловской крепости — и бесчисленных усадеб и церквей в Тверской губернии). Внуками этого достославного мужа были два видных либеральных политика начала XX века — Владимир Николаевич и Николай Николаевич Львовы. Из этого же рода — Александр Федорович Львов, автор музыки гимна «Боже, Царя храни», прадед Ольги Ваксель, небольшой поэтессы и возлюбленной Мандельштама («И прадеда скрипкой гордился твой род…»).
В дни Михаила Федоровича в Новоторжском уезде числилось еще два помещика Львовых (давших начало особым дворянским родам) — Никита Диомидович и Дмитрий Игнатьевич с братьями Иваном и Федором. Но почти наверняка все новоторжские помещики Львовы были родичами.
Интересующий нас род Львовых, помещиков Бежецкого уезда, в «Генеалогии дворян Тверской губернии» начинается со Льва Васильевича (дед Анны Ивановны), «из дворян», внесенного в родословные книги в 1785 году. Согласно же родословной Н. С. Гумилева, составленной в 1990 году О. Н. Высоцким, внебрачным сыном поэта, Лев Васильевич Львов (1764–1824), секунд-майор, участник штурмов Очакова и Измаила, позднее пятисотенный начальник земского войска Тверской губернии и судья Бежецкого уезда, был сыном Василия Васильевича Львова, помещика Старицкого уезда той же губернии, владельца 32 душ. Не были ли старицкие Львовы захудавшей ветвью новоторжских? Ольга Ваксель в своих воспоминаниях прямо называет Гумилева своим «троюродным братом». Конечно, не троюродным, но отдаленное родство более чем вероятно.
Имение Слепнево (64 души) Лев Васильевич Львов получил в приданое за женой Анной Ивановной, урожденной Милюковой, чей отец тоже участвовал в Очаковском сражении. Из другой ветви этого же рода происходил лидер конституционно-демократической партии. Как и Набоковы, и многие другие русские дворянские роды, Милюковы претендовали на происхождение от татарских «князей». Согласно легенде, Слепнево было унаследовано от самого родоначальника, «князя Милюка». Документы гласят, однако, что имения в Новоторжском и Бежецком уездах пожалованы Якову Ивановичу Милюкову царем Федором Алексеевичем в 1682 году за участие в войнах с Турцией и Крымским ханством. Фамилия других родственников — Кузьминых-Караваевых — еще прозвучит на страницах этой книги.
Запутанные и сомнительные родословные мелкопоместных дворян, боковые, позабытые линии, может быть, древних и славных родов, бесконечные годы в «унылых и бедных» поместьях. (Впрочем, как раз Викторовка-то была не такой уж бедной. После смерти старого хозяина она была продана — и каждая из трех внучек получила по восемь тысяч рублей. Это считалось неплохими деньгами.)
В садах настурции и розаны, В прудах зацветших караси, — Усадьбы старые разбросаны По всей таинственной Руси.Лишь время от времени в эту смиренно-патриархальную повесть врывается память великих сражений. Аустерлиц… Очаков… Синоп…
С отцовской стороны все еще скромнее, а главное — однозначнее. Фамилия Гумилев происходит, возможно, от слова «гомилевтика», что означает «искуство составления проповеди». Семинарский предмет. Семинарская, поповская фамилия. Другой, даже более вероятный, вариант происхождения фамилии — от латинского слова humilus — «скромный», «низкий», «незначительный»; совсем уж непочетная этимология… По утверждению Н. Оцупа, Гумилев в гимназические годы не откликался, если его фамилию произносили с ударением на первом слоге — как слово humilus. Сомнительно: юный Гумилев не был силен в древних языках. В любом случае фамилия, похоже, с латинским корнем; в России это характерно для выходцев из духовного сословия, обучавшихся в семинарии. Отец Прокофий и отец Григорий Гумилевы служили в XVIII веке в приходах Рязанской губернии. Яков Федотович Панов (1790–1858), дьячок-псаломщик Христорождественской церкви в селе Желудево, женившись на дочери отца Григория, взял фамилию жены. «От Знаменья псаломщик в цилиндре на боку, большой, костлявый, тощий, зайдет попить чайку…» — помнил ли Гумилев, когда писал эти стихи, про своего деда, принадлежавшего к самым низам церковнослужителей? Дьячок, собственно говоря, мог быть мирянином и не принадлежать к духовенству; но как раз Яков Панов был сыном дьякона, то есть лица духовного, и можно лишь гадать о том, какие обстоятельства помешали ему принять сан и заставили сменить фамилию.
Степан Яковлевич Гумилев, 1880-е
Впрочем, возможно, что поэт и не знал о занятиях и сословной принадлежности своих ближайших предков. В мемуарах А. А. Гумилевой (Фрейганг), невестки поэта, упоминается некий «Яков Степанович Гумилев, владелец небольшого имения в Рязанской губернии», — личность вполне фантастическая. Видимо, плебейская родословная не афишировалась. С учетом эпохи это не слишком обычно.
Судьба Степана (по документам — Стефана) Яковлевича Гумилева довольно характерна для выходца из духовного сословия, родившегося в 1836 году. Семинария, медицинский факультет Московского университета… Личное дворянство отец Гумилева получил по выслуге, с чином девятого класса (титулярный советник) — как отцы Белинского и Достоевского, тоже врачи и тоже поповичи. При отставке в 1887 году он был произведен в статские советники. Потомственного дворянства этот чин в те годы уже не давал; но в 1876 году доктор Гумилев получил орден Святой Анны третьей степени («Анна в петлице»), а в 1883-м — Святого Станислава второй степени. Именно этот орден и дал Степану Яковлевичу (и его детям) право потомственного дворянства — что, впрочем, в конце XIX века уже не имело почти никакого практического значения.
Еще в Москве Степан Яковлевич женился на хрупкой и чувствительной студентке консерватории, Анне Михайловне Некрасовой; в 1872 году она умерла от туберкулеза, оставив трехлетнюю дочь. С Анной Ивановной Львовой, ставшей его женой 6 октября 1876 года, доктор Гумилев познакомился через ее брата-моряка, Льва Ивановича, своего сослуживца и друга.
Пожалуй, самой яркой страницей биографии С. Я. Гумилева была именно служба на флоте. В Кронштадтском порту, на кораблях и в морском госпитале, Степан Яковлевич прослужил двадцать шесть лет (с 1861 по 1887 год). В 1865–1866 годах он совершил кругосветное путешествие на фрегате «Пересвет», позднее был «в летних морских кампаниях на отряде Мониторов», плавал на двухбашенной лодке «Чародейка», на корвете «Варяг», винтовой лодке «Лихач». В экзотических странах судовой врач мог увидеть много чудес, соблазнительных для его младшего сына, с детства влюбленного в географию. Другой вопрос: много ли мог Степан Яковлевич рассказать? Естественник, человек 1860-х годов, без сомнения увлеченный эволюционными идеями Дарвина, он должен был внимательно отнестись прежде всего к флоре и фауне дальних тропических островов… Впрочем, ни с кем из детей у доктора Гумилева — человека, по всем отзывам, властного и под старость угрюмого — близости не было никакой.
Детей у него было четверо, выжило трое. От первого брака осталась, как уже упомянуто, одна дочь — Александра; в браке с Анной Ивановной родилась дочь Зинаида, умершая в раннем детстве, а потом — еще двое детей, двое мальчиков, появившихся на свет один за другим, с разницей в полтора года: Дмитрий — 13 октября 1884 года, Николай — 3 апреля 1886 года.
2
Город Кронштадт, в котором родились все дети доктора Гумилева, — ровесник Петербурга. Первый бастион Кронштадтской крепости — Кроншлот — был заложен Петром и Меншиковым на острове Котлин еще в 1703 году. До наводнения 1824 года укрепления были по большей части земляные и деревянные; при Николае I крепость отстроили в камне и кирпиче. В эти годы комендантом крепости был не кто иной, как Фаддей Беллинсгаузен, первооткрыватель Антарктиды. Его сменил другой знаменитый полярник, фон Литке.
Кронштадт был не только цитаделью, защищавшей столицу с моря, но и пассажирским и торговым портом. Крупные корабли до 1870-х не могли входить в мелководную Маркизову Лужу. От порта, расположенного на стрелке Васильевского острова, до острова Котлин ходили маленькие парусники, а потом и «пироскафы». Здесь публика пересаживалась на морские суда. Таким образом, Кронштадт был для Петербурга тем же, чем Пирей для Афин и Фарос для Александрии.
Несмотря на это, жизнь в островном городке была довольно провинциальной и неподвижной. Еще во второй половине XIX века помнили те времена, когда жители Кронштадта обитали в непрезентабельных, но удобных одноэтажных домиках и в изобилии запасались на зиму вареньями и соленьями. Улицы были не замощены и в весеннее время тонули в грязи, почта приходила лишь дважды в неделю, каменный гостиный двор разрушался на глазах, зато благодаря процветавшей контрабанде у кронштадтцев не было недостатка в чужестранных товарах — от полотна до сахара и вин.
Но времена менялись. В 1860-х годах русский флот переживал пору реформ, инициатором которых был возглавивший его великий князь Константин Николаевич. Великий князь был известен либерализмом, в котором пошел, пожалуй, дальше своего брата Александра II. 17 апреля 1863-го на флоте были отменены телесные наказания. По военной реформе 1874 года срок службы был сокращен с пятнадцати до шести лет. Одновременно шла интенсивная замена парусного флота паровым и перевооружение его нарезной артиллерией. Память о крымском доблестном поражении была свежа, и, конечно, великий князь и его сподвижники мечтали о восстановлении славы военно-морского флота России. Все это затронуло и Кронштадт. Значение балтийского островного порта было тем выше, что на Черном море в 1856–1871 годы Россия, согласно Парижскому договору, держать военного флота не могла.
В эти годы на острове появились общественные библиотеки, учебные заведения для разных сословий (мужская и женская гимназии, реальное училище, техническое училище и т. д.), благотворительные общества. Достаточно сказать, что первая в России детская библиотека была основана именно в Кронштадте в 1874 году. Благородное собрание преобразовано было в Морское собрание, доступное во многих случаях и нижним чинам. Улучшилась связь с материком: катера регулярно ходили к ближайшей железнодорожной станции, Ораниенбауму. Правда, значение Кронштадта как порта ослабело. В 1874–1885 годы был прорыт Морской канал по дну Финского залива. Теперь большие суда могли заходить в новопостроенный порт на Гутуевском острове. Но для города на острове Котлин это не стало катастрофой.
Вот несколько цифр. В 1894 году в Кронштадте проживало 49 886 человек. Из них 36 765 было мужского пола. В Петербурге тоже традиционно мужчин было больше, чем женщин, но в Кронштадте специфика военного и портового города особенно бросалась в глаза. К православному вероисповеданию принадлежало 39 160 человек. На втором месте были протестанты (5 881 человек), на третьем католики (3 496). Кроме них, в городе жило по нескольку сотен мусульман, евреев и «раскольников». Соответственно, в городе действовало пятнадцать православных церквей (десять из них — домовые; среди них — госпитальная Александро-Невская церковь, священником которой был крещен Николай Гумилев; восприемниками были дядя новорожденного, контр-адмирал Львов, и сводная сестра Александра), четыре «инославных», еврейский и магометанский молитвенные дома. Лишь 6 380 горожан (восьмая часть) принадлежали к собственно городским сословиям: почетных граждан, купцов и мещан. Дворян в городе было чуть больше четырех тысяч, людей «военного сословия» (то бишь солдат и нижних чинов) — 3 625 человек, духовенства — сотня. Остальные — почти 35 тысяч человек! — числились крестьянами «и иными сельскими жителями». По законам Российской империи почти все матросы торговых судов и почти все заводские рабочие продолжали считаться крестьянами и облагались податями как члены крестьянского «мира». Заводов же в Кронштадте было немало — и казенные («пароходный» — знаменитый Кронштадтский морской завод, канатный, пильный) и частные (газовый, слесарный).
Что касается медицины, то, помимо военного (гарнизонного) и морского госпиталя, существовали отдельные больницы для английских моряков (sic!), для неизлечимо больных и «для проституток, заболевших венерическими болезнями и болезнями половых органов». В последнем опять-таки проявилась, по всей видимости, специфика портового города. В штате морского госпиталя состояло 24 врача, 36 «лекарских помощников» (в том числе 6 женщин) и 97 фельдшеров.
В общем, Кронштадт был уже не тем заштатным городком, «в грязи по колено, в смраде и вони», который описывают очевидцы конца XVIII — начала XIX века. Хотя, конечно, для многих жизнь на продутом ветрами острове была трудной. Умирающая от чахотки Анна Михайловна Гумилева, по свидетельству дочери, с тоской вспоминала родную Москву. Должно быть, и Анне Ивановне, выросшей в среднерусских усадьбах Тверской губернии, бывало здесь непросто.
Морской госпиталь в Кронштадте, в котором служил С. Я. Гумилев. Открытка, 1900-е
Своими успехами Кронштадт обязан был не только флоту. В конце XIX века основанный «царем-антихристом» островной порт стал одним из религиозных центров России. Сотни и тысячи богомольцев съезжались сюда, чтобы послушать проповеди отца Иоанна Сергиева (Иоанна Кронштадтского) и получить от него исцеление: кронштадтский протоиерей слыл чудотворцем. С 1855-го до конца жизни (1908) Иоанн Сергиев служил в Андреевском соборе, построенном некогда по проекту Адриана Захарова (и снесенном в советское время). Занимался он и благотворительностью: под его руководством в Кронштадте основаны были народная читальня, воскресная школа, столовая и т. д. Его вера была вполне средневековой — цельной, простодушной, самодостаточной и бескомпромиссной до агрессивности, чуждой мистическим изыскам и новациям предреволюционной эпохи. В юности Гумилев интересовался магическими практиками, в зрелости — демонстративно крестился на все православные храмы. В какой мере семейные рассказы о кронштадтском священнике влияли на его формирование? Этого мы не знаем. По утверждению А. А. Гумилевой, родители его были людьми благочестивыми и воспитывали детей «в строгом православии». Но слишком уж сусально звучит этот — с чужих слов — рассказ… Да и сыном Николай Степанович был не сказать чтобы слишком послушным.
В Кронштадте Гумилев провел первый год жизни. В дальнейшем он не упоминает об этом городе. Правда, тема моря присутствует в некоторых его стихах:
Я сегодня опять услышал, Как тяжелый якорь ползет, И я видел, как в море вышел Пятипалубный пароход…Но и по этим (и им подобным) строкам — не говоря уж о несколько лубочных «Капитанах» и написанном в леконт-де-лилевской традиции «Открытии Америки» — трудно догадаться, что автора связывают с русским флотом прочные родовые корни, а родился он в самом морском из морских городов своей страны. И все же и тема флота, и слово «Кронштадт» неожиданно возникнут если не в творчестве его, то в судьбе — перед самым концом.
3
О чем писала газета «Кронштадтский вестник» 3 (15) апреля 1886 года? (Кстати, дата в этом издании указывалась именно так — по старому и по новому стилю, что для тогдашней российской прессы было необычно; сказывалось то, что Кронштадт — город «плавающих и путешествующих».)
Лекции в Морском собрании для нижних чинов: лейтенанта Е. П. Тверитинова «О новейших успехах электротехники» (год назад в Царском Селе открылась первая в России электростанция), инженера-механика Н. И. Буракова «Генералиссимус князь А. В. Суворов»… А вот лекция доктора Охотникова для образованной публики — настолько интересная, что ее содержание редакция сочла необходимым изложить на страницах газеты: «Об изменении костей человека под влиянием окружающей среды».
По милости постоянного увеличения населения и культурного прогресса от каждой личности требуется все больше сведений и, стало быть, умственного напряжения, а о физическом воспитании почти забыли… Обитатели островов Товарищества, чтобы получить, по их понятиям красоты, плоский нос у женщин и клиновидную голову у мужчин, сдавливают в младенчестве у тех и у других соответствующие части между двумя досками… В XVI веке во Франции насильственным образом для моды делали орлиные носы…
Николаю Гумилеву статья была бы, без сомнения, интересна — умей уже он 3 (15) апреля 1886 года читать.
Что еще? Спектакль в Эстонском благотворительном обществе… Новый притон на Большой Екатерининской улице…
За столиками восседают посадские, солдаты, матросы и женщины. Все это, конечно, уже давным-давно пьяно, но требует еще водки… Шум, трехсаженная ругань…
Это провинциальная жизнь. А вот столичная пресса.
В «Петербургской газете» за 3 апреля печатается роман Ж. де Гастина «Тайна каторжника». Примирение Пруссии с Папой. Дело банкира Сафонова в городском суде. Реклама: «НЕ НУЖНО ПОКУПАТЬ столовое белье! Его заменят изящные клеенчатые скатерти».
«Биржевые ведомости»: волнения в Македонии; внезапная готовность Александра Баттенберга (болгарского князя) преклониться перед волей держав; литературные беседы: «Глеб Успенский — достойный и единственный продолжатель великого Гоголя». В соседнем номере: «В мире художников» — «роман из парижской жизни Эмиля Золя». (Среди прототипов героев романа — импрессионисты и Сезанн, сверстники писателя.)
Уголовная хроника: в Чернигове мать «в припадке безотчетной злобы» зарубила топором 15-летнего сына; в Николаеве «пикантное дело»: рядовой запаса Лебеденко осужден на четыре года арестантских рот за изнасилование родной дочери.
«Санкт-Петербургские ведомости»: протест против проекта ирландских реформ Гладстона…
«Ирландские реформы» — это предоставление Ирландии гомруля, т. е. статуса доминиона. Борьбу за гомруль возглавляет Парнелл, чье имя так часто упоминается на страницах «Улисса» и «Портрета художника в юности»; в числе заявляющих протест — лорд Рэндольф Черчилль, отец Уинстона Черчилля, автор концепции «консервативной демократии», увлекавшей Гилберта Честертона, с которым герой нашей книги встретится примерно через двести страниц — а заодно и с ирландским национальным поэтом Уильямом Йейтсом; Парнелла и Черчилля-отца к тому времени давно не будет в живых: первый умрет, затравленный строгими католиками, узнавшими про его связь с замужней дамой; второй будет мучительно угасать от последствий подхваченного в юности сифилиса… Гомруля Ирландия не получит.
В той же газете:
Вышла биография знаменитого поэта Лонгфелло… И в счастливой жизни Лонгфелло были свои тернии… Это — обвинения в плагиате, которым он подвергался со стороны Эдгара Пое.
«Новое время»: «Очень ли убыточна наша железнодорожная сеть?»; изучение Л. Н. Толстого Георгом Брандесом…
В одном из соседних номеров — портреты колоритных усатых мужчин в русской офицерской форме и в тюрбанах. Это родственники афганского эмира, пошедшие на русскую службу: Сердар Искандер-хан, Сердар Якуб-хан, Сердар Абдурахман-хан.
В Афганистане сталкиваются границы и пересекаются интересы двух империй — Российской и Британской. К Памиру и Гиндукушу российская граница пододвинулась пятнадцать — двадцать лет назад в результате походов «туркестанских генералов» — Скобелева и его сподвижников:
Поля неведомой земли, И гибель роты несчастливой, И Уч-Кудук, и Киндерли, И русский флаг над белой Хивой.Кстати, именно в 1886-м вышла первая отдельная книга «барда британского империализма» Редьярда Киплинга, с которым Гумилева потом будут (довольно безосновательно) сравнивать. В этом же году некто Джордж Гаррисон нашел в Южной Африке алмазную жилу, мгновенно сделав эту землю привлекательной и желанной для своих соотечественников. У России колоний в Африке не было, с Англией здесь ей нечего было делить — но русские исследователи там появлялись. В 1886 году в Петербург возвращается после семилетней экспедиции Василий Васильевич Юнкер, открывший водораздел Нила и Конго.
Излишне говорить, насколько все это важно для будущей биографии Гумилева.
В Лондоне уже почти полвека на троне Виндзорская Вдова, королева Виктория, она же с 1876 года императрица Индии. Страна процветает, несмотря на конфликты вокруг ирландского гомруля, колониальная империя разрастается. Старость королевы отравляют, однако, непутевые дети и внуки. Старший внук, Альберт Виктор, который должен некогда унаследовать престол, снискал такую репутацию, что многие историки склонны отождествлять именно этого принца крови с так и не пойманным Джеком Потрошителем, чьи злодеяния два года спустя потрясут Лондон. К счастью для Британии, принц умрет молодым и королем не станет. Но сентиментальный, уютный, пуританский и втайне очень жестокий мир викторианской Англии дает трещину. В 1886 году Стивенсон публикует «Странную историю доктора Джекиля и мистера Хайда». Тем временем 17-летний Роберт Росс знакомит 32-летнего Оскара Уайльда, уже заслуженного эстета и притом благополучного отца семейства, с доселе неизвестной тому формой эстетизма. Результатом девять лет спустя станет вошедший в историю судебный процесс.
В России тем временем правит Александр III — «царь огромный, водянистый», как увидел его Блок, тучный и сильный, рано лысеющий сорокалетний мужчина, отнюдь не лишенный здравого смысла, но трагически обделенный чувством исторической перспективы. Идеолог его «контрреформ» — Победоносцев, сухой, строгий, ученый, несчастный, с оттопыренными, как у летучей мыши, ушами. Последний романтик русского консерватизма… Когда-то Тютчев, великий поэт и великий консерватор (и, как многие консерваторы, разочаровавшийся либерал), писал, обращаясь к своим сверстникам-декабристам: «Вы ожидали, может быть, что хватит вашей крови скудной, чтоб вечный полюс растопить…» Но вечный полюс — это ведь тоже не абстрактная метеорология; это живые люди, одержимые полярной охранительной утопией, столь же несбыточной, как и тропическая утопия революции. «Подморозить Россию, чтоб не гнила», не получится. Как раз в 1886 году Александр III совершает один из роковых шагов своего царствования: вводит ограничительную процентную норму для евреев в средних и высших учебных заведениях, в одночасье подарив своей империи несколько десятков, если не сотен тысяч униженных и оскорбленных бунтарей.
Но пока все идет как будто хорошо. Терактов не было уже два года — такого затишья страна давно не знала. Последняя генерация народовольцев во главе с Германом Лопатиным — почти в полном составе в Петропавловской крепости. Многие молодые люди, причастные к террористическим организациям, образумились и «ушли в частную жизнь». К примеру, Инна Эразмовна Горенко. Экономика растет. В 1886 году заслуженного ученого-экономиста Бунге на посту министра финансов сменяет выдающийся математик (и выдающийся взяточник) Вышнеградский. Окраины старательно (хотя не слишком успешно) русифицируются, повсеместно возводятся здания в узорчатом старомосковском стиле, Европа не без трепета, но с уважением глядит на царя-миротворца.
Между Англией и Россией — Германия. Объединители страны — 70-летний Бисмарк и почти 90-летний император Вильгельм Великий — наслаждаются плодами своих трудов. Правда, на юге — в Баварии — происходят странные события. Баварский король Людвиг II, когда-то, в молодости, умный и энергичный политик, сторонник объединения Германии, умело выторговавший своему королевству известную автономию, экзальтированный поклонник и щедрый меценат Вагнера, ведет себя все более эксцентрично. Замки в причудливом псевдосредневековом стиле, катание на лодке в костюме Лоэнгрина по искусственному озеру с подсиненной купоросом водой королю бы простили. Но сумасшествие Людвига развивается. Еще в юности он возненавидел женщин, застав свою невесту в объятиях слуги. С годами мизантропия распространяется и на мужчин. Людвиг принимает министров, сидя за ширмой, — он не хочет видеть человеческих лиц; он приказывает выколоть глаза не угодившим ему особам или заживо содрать с них кожу — правда, не проверяет, исполнены ли эти приказания, а их, естественно, никто исполнять не думает; он всерьез собирается «продать» Баварию и купить вместо нее необитаемый остров. 11 июня 1886 года Людвига признают безумным и учиняют над ним регентство. На следующий день во время вечерней прогулки со своим психиатром король убивает его, а затем сам топится в озере. Ему был без малого сорок один год. (Король родился 25 августа 1845 года — по случайности, день его рождения совпадает с днем гибели героя нашей книги.) Жизнь и смерть Людвига Баварского — детский вызов эпохе черных пиджаков и буржуазных добродетелей. Немецкий неоромантизм начинается с белых лебедей в подсиненной воде, чтобы закончиться дымом Аушвица.
Пока, впрочем, европейские страны, в том числе Россия, заключают между собой сложные коалиции и союзы, тщательно поддерживая равновесие политических интересов. Единственный признак приближения невиданных мировых войн — стремительное распространение пацифистских идей.
Вещный мир тоже стремительно меняется: мастерская Эдисона работает без передышки. Автомобили, телефоны, лампочки накаливания… В 1886 году в Петербурге открывается два маршрута паровой железной дороги; она прослужит двадцать лет, пока ее не заменит трамвай — вид транспорта, который в русской поэзии навсегда будет маркирован именем Николая Гумилева.
В Париже в 1886 году образуется группа молодых поэтов, назвавших себя «символистами». В группу входят Жан Мореас, Рене Гиль, Сен-Поль Ру, Анри Ренье и другие; учителями своими они числят Малларме, Верлена и вот уже десятилетие находящегося в африканских факториях Рембо. Тем временем импрессионисты проводят последнюю совместную выставку, а постимпрессионист Винсент Ван Гог приезжает из Голландии в Париж, чтобы через короткое время перебраться еще южнее — к арльским красным виноградникам.
Русская литература: публикуется «Смерть Ивана Ильича»; умирает драматург Островский; после долгих уговоров соглашается на издание книги своих стихов Алексей Апухтин, автор романса «Ночи бессонные» и множества других сочинений, необыкновенно тучный человек, изуродованный водяной болезнью, остроумный салонный собеседник; когда Александр III, несколькими годами раньше, спросил его, почему он не хочет печататься, Апухтин ответил: «Это все равно, Ваше Величество, что отдать своих дочерей в театр-буфф». Тем временем молодежь рыдает над вышедшей в прошлом году книжкой подпоручика в отставке Семена Надсона, кстати, два года (1882–1884) прослужившего в Кронштадте. Сам автор «стихотворений, затронувших множество жгучих мыслей, волнующих современников», весь год проводит на туберкулезных курортах, чтобы в январе 1887-го умереть в Ялте, двадцати четырех лет.
Таким был 1886 год. Кроме Гумилева, в этот год родились Владислав Ходасевич, Михаил Лозинский, Петр Потемкин, Александр Тиняков, Бенедикт Лившиц (по старому стилю — по новому дата его рождения приходится уже на 1887-й), Марк Алданов, Алексей Крученых, Надежда Удальцова, Георгий Федотов, Роберт Фальк, Сергей Киров, Серго Орджоникидзе, Давид Бен-Гурион, Диего Ривера, а также, согласно документам, барон Роман Унгерн, Белый Будда (в действительности он появился на свет годом раньше).
Глава вторая «Колдовской ребенок»: легенда и явь
1
Через одиннадцать месяцев после рождения младшего сына высочайшим приказом по Морскому ведомству от 9 февраля 1887 года врач шестого экипажа Степан Яковлевич Гумилев был уволен в отставку «по болезни» с производством в статские советники и пенсией — 864 рубля в год из казны и 684 рубля 30 копеек из эмеритальной кассы (эмеритальная касса — страховой пенсионный фонд, куда поступали суммы из обязательных отчислений государственных служащих). Деньги (примерно 124 рубля в месяц) для семьи из пяти человек довольно скромные. Но, по всей вероятности, у Степана Яковлевича и Анны Ивановны были накопления, к тому же не исключено, что в эти годы доктор Гумилев имел в Царском Селе частную практику[1]. Средства у Гумилевых водились: дважды при жизни Степана Яковлевича покупалась земельная недвижимость. Причем если в 1890 году речь шла о небольшой усадьбе на станции Поповка Николаевской железной дороги (ныне Тосненский район Ленинградской области)[2], то спустя одиннадцать лет семье оказывается по силам купить большое, в 60 десятин, имение Березки в родной для Гумилева-отца Рязанской губернии (видимо, здесь пожилой корабельный доктор и сын дьячка почувствовал себя настоящим русским дворянином, наследственным землевладельцем; здесь и родилась легенда об отце-помещике Якове Степановиче). В дальнейшем — и при жизни, и после смерти Степана Яковлевича, вплоть до 1917 года, — Гумилеву более или менее хватало денег на безбедное существование, хотя его собственные литературные труды конечно же надежным источником заработка служить не могли.
Вид Царского Села. Открытка, 1900-е
В том же году семья переехала из Кронштадта в Царское Село, купив двух-этажный деревянный дом в конце Московской улицы (д. 42, ныне участок д. 55), напротив Торгового переулка, недалеко от пересечения с Набережной улицей. Если повернуть по Набережной налево, взгляду открывались Московские Ворота — один из парадных въездов в городок; если повернуть направо, путь пролегал мимо соединенных друг с другом Циркулярных прудов. По правую руку оставались здания городской ратуши и гимназии, построенные в характерном для конца XIX века «кирпичном стиле» с намеком на неоготику, но покрашенные в бледно-желтый цвет, считавшийся «царскосельским», а за ними — красный необлицованный кирпич лютеранской церкви. На том берегу прудов виднелся желтый ампирный особняк с белыми колоннами, окруженный садом, — Владимирский, бывший Запасной, дворец, первоначально (до покупки казной) — дача графини Кочубей.
Не считая царских и великокняжеских дворцов, церквей, общественных зданий и некоторых построек на главных улицах — Московской, Оранжерейной, Конюшенной, Бульварной, в Царском преобладали одно-двухэтажные деревянные дома-особнячки. В основном они сгорели во время Второй мировой войны или были снесены в последующие годы; последние, полуистлевшие образчики таких домов можно еще встретить в начале Московской и Пушкинской (бывшей Колпинской) улиц. Видимо, дом Гумилевых был близок им по плану и по архитектуре. Но эти особнячки освещались электрическим светом — Царское Село было первым в Европе полностью электрофицированным городом.
Вероятно, на выбор места жительства повлияла образовавшаяся за много лет привычка к тихому, полупровинциальному быту. Впрочем, Царское Село было местом своеобразным. По замечанию В. С. Срезневской, ближайшей подруги А. А. Ахматовой, оно «обладало всеми недостатками близкой столицы без ее достоинств».
Царское Село было несколько меньше Кронштадта (около тридцати тысяч жителей); как в Кронштадте, в нем проживало относительно много дворян, очень много военных (вместе с отставными — более восьми тысяч человек), очень мало (чуть больше трех тысяч человек) мещан и купцов. Мужское население в полтора раза превышало женское. Распределение по вероисповеданиям тоже напоминало кронштадтское, не считая очень малого (несколько десятков человек) числа мусульман. В городе было размещено семь полков (кирасирский, гусарский и пять стрелковых) и Артиллерийская академия. Но в остальном Царское мало походило на тот город, в котором Гумилеву суждено было увидеть свет.
Жить с малыми детьми среди тенистых царских парков было не в пример лучше, чем в портовом и промышленном островном городке, среди сырости, копоти, бесконечных ветров. Царское Село расположено на возвышенности (50–60 метров над уровнем моря), и климат там более здоровый, чем в невской дельте и тем более чем по ту сторону Маркизовой Лужи. Не было в царской резиденции конечно же грязных припортовых кабаков и многочисленных уличных девиц, как в Кронштадте. Но не было — в ту эпоху — и особенно напряженной умственной и духовной жизни. Если Кронштадт, столица русского флота, притягивал самых разных людей — от либеральных и просвещенных молодых инженеров до патриархальных поклонников отца Иоанна, то императорский двор не притягивал никого. Время, когда близ царского дворца на правах приближенных, гостей или друзей жили Державин, Карамзин, Жуковский, Пушкин, Тютчев, ушло безвозвратно. Царскосельский лицей еще в 1840 году переехал в столицу, на Каменноостровский проспект, и слава этого учебного заведения была давно в прошлом. Не то чтобы на троне в последней трети XIX и начале XX века сидели бескультурные люди, не интересовавшиеся новинками интеллектуальной, литературной, художественной жизни и не стремившиеся оказать ей содействие и покровительство, — нет, это было далеко не так. (Не забудем к тому же, что в числе членов императорской семьи были поэт К. Р. и историк великий князь Николай Михайлович.) Но стена, отделившая монархическую государственность от мейнстрима русской литературы и русского искусства, уже возникла — и с каждым годом она становилась все толще, невзирая ни на политические убеждения отдельных писателей и художников, ни на личные пристрастия императоров и их родственников… В 1899 году Валентин Серов, писавший портрет Николая II, попросил его помочь журналу «Мир искусства». Государь пожертвовал свои личные средства как частное лицо — поддержать «декадентское» издание из казны он не решился. Спустя десять — пятнадцать лет заслуженный и дорожащий своей репутацией человек искусства уже не рискнул бы вступить в неформальные отношения с царским двором, а те, кто рисковал (как Клюев и Есенин в 1916 году), шли на сознательный конфликт с интеллигентской средой.
К тому же двор в 1881–1894 годы не баловал Царское своим посещением. Александр III предпочитал Царскому Селу Гатчину, так же как Зимнему дворцу — Аничков. Это было продиктовано отчасти страхом перед терактами, отчасти — неприятными для царя-миротворца воспоминаниями о семейной драме его родителей. В это время Царское стало городом отставных офицеров и чиновников. Николай II вновь проводил летние месяцы в Царском — в Александровском дворце, построенном в 1792–1796 годы Кваренги и заново отделанном. После 1905 года он жил здесь и зимой — почти безвыездно. Но даже в это время, став единственной и постоянной императорской резиденцией, Царское Село казалось местом провинциальным и застывшим. Поэтому можно с большой долей уверенности сказать, что описания царскосельского быта в «Городе муз» Эриха Голлербаха, в неопубликованных воспоминаниях Н. Н. Пунина, в записях Ахматовой, относящиеся к 1900-м годам, тем более верны для 90-х.
…Гремят музыкой парады, сверкают оружием гвардейские полки… Английские мисс и немецкие бонны водят благовоспитанных мальчиков и девочек в парк. На пузатых шлюпках кружат их по озеру бравые матросы. Лебеди белые бороздят голубое зеркало прудов. И лебеди черные скорбными криками оглашают глушь парка…
Это — Царское Село Голлербаха: едва живые старухи-фрейлины с ливрейными лакеями, садящиеся на поезд (но у нас на дворе девяностые годы — вокзал еще старый, деревянный; новый построят в 1904-м), гвардейцы, любезничающие с дамами, бравые царскосельские гусары, придворные тезоименитства с придворными арапами, бесконечно прогуливающиеся близ дворца «безликие штатские в котелках» (агенты охранного отделения?), генерал с бачками, стреляющий галок, — великий князь Владимир Александрович, хозяин Владимирского дворца, отец и дед претендентов на престол. Кондитерская Федора Голлербаха, отца автора «Города муз», уже открыта на углу Московской и Леонтьевской. Наверняка маленького Гумилева туда водили, наверняка его катали на лодках бравые матросы.
О том, что Царское Село — родина русской поэзии, ее священное место, в 1890-е годы еще не думали или думали мало. Впрочем, и то, что мог увидеть на улицах царской резиденции Коля Гумилев — от гусар до «придворных арапов», — должно было произвести на него впечатление и отразиться в его сердце. Во всяком случае, эти образы очевидно аукаются со многими мотивами его поэзии и его судьбы.
2
Только что сказанное — лишь предположения. В отличие от Мандельштама, завороженного чуждым его родовой памяти (и его последующей жизни) пафосом государственности, любующегося румяными гвардейцами и боящегося державных устриц, Гумилев нигде не упоминает об аналогичных впечатлениях детства. Другое дело, что у Гумилева никаких писаных воспоминаний о детстве и нет. Единственное, чем мы располагаем, — устные рассказы, зафиксированные в известной мемуарной книге поэтессы Ирины Одоевцевой «На берегах Невы». Та гладкость, с которой Одоевцева передавала в своих воспоминаниях разговоры чуть не полувековой давности, вызвала у многих нарекания, и мемуаристке пришлось оправдываться, ссылаясь на «стенографическую память». Но даже если признать ее записи столь же аутентичными, как знаменитые «Разговоры с Гёте» Эккермана или, скажем, «Разговоры с Вячеславом Ивановым» Моисея Альтмана, устная речь, записанная чужой рукой, всегда преображается[3]. Так или иначе, перед нами описание детства поэта, стилизованное дважды — им самим и его ученицей.
Мое детство было до крайности волшебным… Я был действительно колдовским ребенком. Я жил в каком-то мной самим созданном мире, не понимая, что это мир поэзии… Так, у нашей кошки Мурки были крылья и она ночами улетала в окно, а собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была — я один это знал — жабой… Да, я действительно был колдовской ребенок, маленький маг и волшебник. Таким я сам себя считал.
Гумилев (разговор происходит в 1919 или 1920 году), очевидно, ссылается на свои строки, написанные около этого времени, — «Память», одно из знаменитейших его стихотворений:
Самый первый: некрасив и тонок, Полюбивший только сумрак рощ, Лист опавший, колдовской ребенок, Словом останавливавший дождь. Дерево да рыжая собака, Вот кого он взял себе в друзья. Память, Память, ты не сыщешь знака, Не уверишь мир, что то был я.Именно полный (по видимости) разрыв со своим первым, детским «я», его полная удаленность и позволили Гумилеву незадолго до гибели приступить к созданию поэтической, возвышенной легенды о своем счастливом и волшебном детстве. Легенды, в которой, конечно, отразилась какая-то реальность. Будто бы маленький Гумилев действительно пытался колдовать, останавливая дождь. Но не забудем, что в том же 1919 году (и тем же размером!) написано не менее знаменитое «Слово»:
…Солнце останавливали словом, Словом разрушали города.Гумилеву было жизненно важно доказать себе и другим, что он (опять цитируя Одоевцеву) «родился поэтом», что ему с детства были доступны начатки самой великой и священной магии.
Еще один эпизод из разговоров с Одоевцевой — по видимости юмористический, на самом деле развивающий «магическую» тему. «Моя мать часто рассказывала мне о своих поездках за границу (Когда? Вероятно, уже после брака, но до рождения сыновей. — В. Ш.), об Италии. Особенно о музеях, о картинах и статуях. Мне казалось, она скучает по музеям». Мальчик решил сделать маме сюрприз.
…В одно июльское утро я вбежал к ней в спальню очень рано…
В саду я взял ее за руку:
— Закрой глаза, мама, и не открывай, пока я не скажу.
И она, смеясь, дала вести себя по дорожке. Я был так горд. Я задыхался от радости.
— Вот, мама, смотри. Это я для тебя! Это музей! Твой музей!
Она открыла глаза и увидела: на клумбе между цветов понатыканы шесты. На них извивались лягушки и ящерицы. Четыре лягушки, две жабы и две ящерицы. Поймать их мне стоило большого труда.
Расстроенный тем, что мама не восхитилась его подарком, а, напротив, выбранила его «жестоким мальчишкой», мучитель амфибий убежал в лес, чтобы стать «атаманом разбойников» (именно атаманом — «у меня всегда были самые гордые мечты»). Но до леса (он был в пяти верстах) дойти не удалось — беглеца догнали.
Гумилев, рассказывавший эту историю Одоевцевой, не мог не учитывать мистических значений, которыми наделяют в разных цивилизациях жабу и ящерицу. Не мог он не учитывать и аналогий с князем Владом Цепешем, Дракулой — «сажателем на кол». Невинно-жестокая выходка шестилетнего мальчика тоже приобретает черты магии, но магии черной, преступной. Жуткий «музей» как-то связывается с последующей судьбой поэта. То, как строит Гумилев рассказ о своем детстве, наводит на мысль, что перед нами — устная версия ненаписанной, но доведенной в сознании автора до известной стройности автобиографической повести, которую он «испытывает» на своей благодарной слушательнице.
(Дело происходило, очевидно, в Поповке. Природа этой части Петербургской губернии уже средне-, а не северорусская — и все же заметно отличается от ландшафтов соседних тверских и новгородских земель. Красные обрывистые берега рек придают этим местам беспокойный, романтический дух. Здесь — совсем рядом с Поповкой — начинаются огромные и полные загадок Саблинские пещеры. Здесь жил в своем имении Алексей Константинович Толстой, на здешних болотах он стрелял уток, и над ними мелькали бирюзовые спинки его страшных стрекоз. Именно в связи с Поповкой, по свидетельству Ахматовой в разговоре с Лукницким, упоминается «зеленое драконье болото» в стихах Гумилева.)
Маленького беглеца не наказали — напротив, «возвращение блудного сына было, как и полагается, пышно отпраздновано». Коле даже подарили книжку с картинками и игрушечный лук со стрелами. У такого мягкого отношения к нему были свои причины.
Меня очень баловали в детстве… Больше, чем моего старшего брата. Он был — здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я — слабый и хворый. Ну, конечно, мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фантастически…
Гумилев и в этом случае делает ударение на том, как он, в сравнении с братом, необыкновенен и любим. Материалы Лукницкого подробнее говорят о «хворях» будущего поэта. Гумилев в детстве (до пятнадцати лет) страдал постоянными головными болями; он был болезненно возбудим, мучительно переносил любые внешние впечатления (например, уличный шум). За приступами головной боли следовал тяжелый сон. За мальчиком наблюдали врачи, знакомые отца (Квицинский, Данчич), но помочь ему не могли. Возможно, на его состоянии сказалась детская травма (о которой упоминает А. С. Сверчкова): ему было несколько месяцев, когда подвыпившая нянька уронила его, причем ребенок, упав, напоролся лицом на стеклянный осколок (нянька лакомилась хозяйским хересом, отбивая горлышко у накрепко закупоренных бутылей). Шрам остался на всю жизнь. (Не та ли это нянюшка Мавра Ивановна, что, по В. К. Лукницкой, была очень привязана к мальчику и прожила у Гумилевых четыре года?)
К тому же еще в детстве у Гумилева развилось косоглазие, которое до конца жизни было одной из характернейших примет его внешности, из-за которого он долго считался негодным к военной службе. Косые глаза, конечно, не делали мальчика краше. Все подростки (независимо от пола) болезненно переживают свое «уродство», но у Гумилева эти переживания были особенно мучительны, о чем он тоже — с юмором — рассказывал Одоевцевой.
«Самые гордые мечты» у слабого, болезненного, некрасивого мальчика — ситуация довольно обычная… и достаточно драматичная. Результат почти всегда — уязвленное самолюбие, тяга к самоутверждению. Опять процитируем разговор с Одоевцевой:
Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге или лучше меня лазил по деревьям. Я все хотел делать лучше других, всегда быть первым… Мне это, при моей слабости, было нелегко. И все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчишки не решались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость.
Почему-то Одоевцеву не удивляло, что «конквистадор», воин, путешественник был в детстве слабым и болезненным ребенком. Ее удивляло другое: то, что этот «штатский, кабинетный, книжный» человек в самом деле был воином и путешественником. «Лист опавший, колдовской ребенок», косоглазый, болезненный, нелюдимый царскосельский мальчик-фантазер никуда не делся. Он вновь и вновь пробуждался на каждом новом витке биографии Гумилева. Не исключено, что он и был скрытой сущностью человека, изо всех сил старавшегося быть сильным и взрослым, — во всяком случае, носителем поэтического начала в этом человеке.
Но и болезненное самолюбие, память о детских обидах — иногда незначительных и комичных — остались навсегда. Вот любопытный эпизод из воспоминаний впервые помянутой в первой главе нашей книги Анны Андреевны Гумилевой — жены Дмитрия и, по случайности, полной тезки Ахматовой (имя Анна с мистическим постоянством повторяется в этом роду — так звали обеих жен С. Я. и обеих жен самого поэта):
Когда старшему брату было десять лет, а младшему восемь, старший брат вырос из своего пальто и мать решила перешить его Коле. Брат хотел подразнить Колю: пошел к нему в комнату и, бросив пальто, небрежно сказал: «На, возьми, носи мои обноски!» Возмущенный Коля сильно обиделся на брата, отбросил пальто, и никакие уговоры матери не могли заставить Колю его носить. Даже самых пустяшных обид Коля долго не мог и не хотел забывать. Прошло много лет. Мужу не понравился галстук, который я ему подарила, и он посоветовал мне предложить его Коле, который любит такой цвет. Я пошла к нему и чистосердечно рассказала, что галстук куплен был для мужа, но раз цвет ему не нравится, не хочет ли Коля его взять? Но Коля очень любезно, с улыбочкой, мне ответил: «Спасибо, Аня, но я не люблю носить обноски брата».
Друзей (кроме «дерева и рыжей собаки» — видимо, все же не той, что по сущности своей была жабой) у такого мальчика быть не могло; с братом он, по свидетельству той же А. А. Гумилевой, был дружен и часто играл с ним «в военные игры и в индейцев», причем Дмитрий, более мягкий по характеру, охотно подчинялся волевому Николаю. Но мемуаристка не была свидетельницей детства своего мужа: она лишь воспроизводит его поздние рассказы — в то время, когда Дмитрий Гумилев, видимо, безусловно признал превосходство младшего брата. Впечатление же, которое братья в детстве производили на окружающих — включая близких родственников, — было иным. По словам А. С. Сверчковой:
Митя с самых ранних лет отличался красотой, имел легкомысленный характер, был аккуратен, любил порядок во всем и легко заводил знакомства. Коля, наоборот, был застенчив, неуклюж, долго не мог произносить некоторых букв, любил животных и не признавал порядок ни в вещах, ни в одежде. В то время как Митя увлекался приключенческими романами, Коля читал Шекспира или журнал «Природа и люди». Митя на подаренные деньги покупал лакомства, Коля — ежа или белых мышей. Выходить к гостям он терпеть не мог и уклонялся от новых знакомств, предпочитая общество морских свинок или попугая[4].
Итак, «обычный мальчик», приспособленный к жизни, уверенный в себе, здоровый, — и застенчивый мальчик «со странностями». Едва ли первый так уж легко подчинялся второму — и едва ли они были особенно близки. (Во всяком случае, во взрослом возрасте Гумилев, по свидетельству Ахматовой, о Мите отзывался «с неизменной насмешкой», а об отце вообще не упоминал.) С самой Шурочкой Николай — по ее словам! — был дружен (тем более что и она была не чужда литературы — писала детские сказки), но уж точно не в раннем детстве: слишком велика была между братом и сестрой разница в возрасте. К тому же в 1892 году Александра Гумилева вышла замуж за Л. С. Сверчкова и покинула отцовский дом; жила она с мужем, офицером пограничной стражи, в Польше, затем, после его отставки, — в Петербурге и Москве, где он служил счетоводом. Лишь через некоторое время после смерти мужа (1902) она вернулась в Царское Село и получила место учительницы в Мариинской женской гимназии. (Это совпало с возвращением в Царское из Тифлиса всей семьи Гумилевых — летом 1903 года.)
Анна Ивановна Гумилева, 1900-е
Действительно близок юный Гумилев был только с матерью. По всем свидетельствам, была она женщиной волевой, хорошей хозяйкой, истово заботящейся о своем пожилом, больном (нажитый на флоте ревматизм) и деспотичном муже. И в то же время она была человеком достаточно тонким и чувствительным. А. С. Сверчкова упоминает о почти комичной любви своей мачехи к чтению: она не могла обойти вниманием даже старую газету, случайно найденную в комоде. Чувства ее сосредоточились на сыновьях, особенно на младшем. Но из-за требовательности Степана Яковлевича, желавшего, чтобы жена находилась неотлучно при нем, она не могла уделять им столько времени, сколько хотела.
Кроме детей и родителей, в доме жила гувернантка; но гувернантки часто сменялись — как говорят, не в силах выдержать скуку царскосельской жизни. В русских интеллигентных семьях «со средствами» принято было держать бонн-иностранок, но, судя по аховым познаниям юных братьев Гумилевых в немецком и французском языках, их гувернантки были русскими. Вечерами дом навещали бывшие сослуживцы и коллеги главы семейства, разговаривавшие о медицине и игравшие в винт. Доктор Гумилев был скуп: жена и дочь тайком от него покупали сладости или водили мальчиков на карусели. Так прошло восемь или девять лет.
3
Читать Николай Гумилев научился на шестом году жизни.
Через некоторое время он поступил в приготовительный класс Царскосельской гимназии. Когда именно? Называются разные даты — от 1893 (Лукницкий, Бронгулеев) до 1898 (Панкеев) года.
Дата 1898 год — невозможна, в то время Гумилевы давно жили в Петербурге. Вероятно, это просто опечатка, размноженная бесчисленными хрестоматиями и Интернетом? Но и 1893 год вызывает сомнения. В приготовительные классы гимназий принимали мальчиков не моложе восьми лет, за редкими исключениями. Однако едва ли исключение сделали бы для болезненного Николая Гумилева. К тому же старший брат, Дмитрий, поступил в Царскосельскую гимназию в 1894 году (это следует из его личного дела в гимназии Гуревича)[5]. О его обучении в приготовительном классе не упоминается. Трудно представить, что родители отдали бы в приготовительный класс семилетнего младшего сына и не отдали девятилетнего старшего. Вероятнее другое: в гимназию поступили одновременно Дмитрий и Николай, старший — в первый класс, младший — в приготовительный. В таком случае поступление в гимназию следует датировать 1894 годом.
Директором гимназии в это время был Лев Александрович Георгиевский — из семьи потомственных педагогов-«классиков». Отец его, Александр Иванович Георгиевский, был в свое время добрым знакомым и корреспондентом Тютчева (поскольку его супруга, мать Льва Александровича, приходилась родной сестрой Е. А. Денисьевой, возлюбленной поэта). Член Совета Министерства народного просвещения, председатель Ученого комитета при нем, автор работ по древней истории («Галлы в эпоху Юлия Цезаря»), педагогике, юриспруденции, Георгиевский-отец притом являл собой плакатный образчик «реакционера» и «обскуранта». Его книга «О мерах, предпринимаемых правительством для предотвращения беспорядков в учебных заведениях», изданная в 1890 году с грифом «конфиденциально», попала, однако, в руки либералов и была в 1902 и 1906 годах переиздана с язвительным комментарием П. Б. Струве. В числе рекомендаций Георгиевского — определение непокорных студентов в солдаты и устройство при университетах карцеров (рекомендации приняты к исполнению). Перед сыном его смолоду была открыта блестящая карьера «по ученой части». Царскосельскую гимназию Лев Александрович возглавил в 1887 году, всего 27 лет от роду. Позднее он был директором Александровского (бывшего Царскосельского) лицея, а в 1908-м стал товарищем министра народного просвещения. Из его научных работ выделяется комментированное издание Ксенофонта.
Дом № 32/8 на 3-й Рождественской (ныне 3-й Советской) улице. Здесь Гумилевы жили в 1896–1897 (а возможно, в 1895–1896) годах. Фотография 2004 года
Маленький Гумилев боялся экзамена и делился накануне своими страхами с гувернанткой, но испытания прошли благополучно. Однако проучился он в гимназии лишь несколько месяцев: в конце осени заболел, и врачи велели прекратить занятия. Тогда родители пригласили домашнего учителя, студента физико-математического факультета, тифлисского уроженца Багратия Ивановича Газалова, который подготовил его к поступлению в петербургскую гимназию Гуревича. Газалов привязался к ученику, хотя не мог преодолеть его неспособность к математике. За скромные успехи в этой области он иронически звал Николая Лобачевским. Видя любовь мальчика к животным (помянутые уже попугаи, белые мыши и морские свинки), он подарил ему книгу с надписью: «Будущему зоологу».
Если Гумилев поступил в Царскосельскую гимназию не в 1893-м, а в 1894 году, занятия с репетитором приходятся на 1895–1896 годы. Заявление С. Я. Гумилева о поступлении сына Николая в петербургскую гимназию Я. Г. Гуревича датировано 15 апреля 1896 года[6], а экзамены он держал в мае. Следовательно, можно предположить, что Газалов занимался с Николаем зимой и весной 1895 года в Царском Селе. Известно, что летом он отправился вместе с Гумилевыми в Поповку, где продолжал его готовить. Осенью 1895-го Гумилевы уже жили в Петербурге. Занятия с Газаловым продолжались и там.
Дом на углу Лиговского проспекта и улицы Некрасова, где находилась гимназия Я. Г. Гуревича. Фотография 2004 года
М. Г. Козырева и В. П. Петрановский[7] датируют переезд в столицу осенью 1896 года, Лукницкий — осенью 1895-го. Но Дмитрий Гумилев перевелся в гимназию Гуревича из Царскосельской начиная с 1895/96 учебного года (прошение от 4 мая 1895-го). Значит, правильная дата — 1895-й, и даже раньше осени — с лета. Занятия в гимназии Гуревича начинались в августе. Вероятно, семья прямо из Поповки приехала в Петербург, где ее ждала заранее снятая квартира. В 1896–1897 годах семья жила на 3-й Рождественской улице, на углу с Дегтярной, в доме Шалина (ныне 3-я Советская, д. 32/8). В этом доме, между прочим, в 1880-е годы жила Н. К. Крупская. Был ли это первый петербургский адрес Гумилевых? Во всяком случае, вероятность этого велика.
В адресной книге «Весь Петербург» на 1897 год проживающий на 3-й Рождественской улице статский советник С. Я. Гумелев (sic) значится «агентом Северного страхового общества». Зачем бы обеспеченному пожилому врачу с больными ногами идти на службу страховым агентом? И почему ни у Лукницкого, ни у Сверчковой нет об этом эпизоде биографии Степана Яковлевича никаких упоминаний? Может быть, составители адресной книги ошиблись?
Часть города, в которую переехали Гумилевы, исторически называется Пески. Название это — от песчаных земель, шедших по ту сторону Лиговского канала. В конце XVIII века здесь возникла слобода «Канцелярии от строений». В слободе, где жили строительные рабочие, архитектором П. Егоровым построена Рождественская церковь (в 1781–1789 годы; снесена в 1935-м). По ней улицы и получили свое название. Район был застроен доходными домами в конце XIX века.
Гимназия и реальное училище Гуревича находились рядом — в доме номер один по Лиговской улице (ныне Лиговский проспект). Еще недавно это был самоточный канал, сооруженный в петровские времена и когда-то предназначавшийся для снабжения водой фонтанов Летнего сада. Но фонтаны исчезли еще после наводнения 1777 года, а канал, перерезавший Невский проспект близ Московского вокзала, превратился в подобие огромной сточной канавы. В 1891–1892 годы канал засыпали, и образовалась Лиговская улица. Часть улицы между фабрикой Сан-Галли и Обводным каналом изобиловала злачными местами и пользовалась дурной славой, доселе сохранившейся в памяти горожан, но начало Лиговки было местом вполне респектабельным. Напротив гимназии тянулись корпуса Евангелической больницы. От больницы Принца Ольденбургского (ныне им. Раухфуса) ее отделял участок пышной и тяжеловесной, построенной в неовизантийском стиле Греческой церкви, чье разрушение впоследствии вызвало к жизни известные стихи Бродского. Тем не менее, по существующим свидетельствам, сам вид Лиговской улицы, где ему пришлось учиться, действовал на юного Гумилева угнетающе. После царскосельских дворцов и парков этот район Петербурга — почти лишенный в то время зелени, с безвкусными и тяжеловесными «эклектическими» фасадами пяти-шестиэтажных домов — должен был производить мрачное впечатление.
…Пока герой изучает начальные науки с Багратием Газаловым, наверное, уместно сделать отступление и сказать несколько слов о существовавшей в то время в России системе гимназического образования.
Полноценное среднее образование (т. е. открывающее дорогу в высшие учебные заведения) давали в России гимназии и реальные училища (а также духовные семинарии — но это уж отдельная тема). Устав и программа их были унифицированы в 1871–1872 годы. С этих пор только классические гимназии давали своим выпускникам непосредственное право на поступление в университеты; «реалисты» могли продолжать образование в технических институтах, а для поступления в университеты они должны были сдавать дополнительные экзамены. (Речь здесь и далее идет, разумеется, исключительно о мужских гимназиях; среднее и высшее образование юношей и девушек было строго раздельным — лишь после 1905 года стали появляться частные учебные заведения со смешанным обучением.) В основе программы гимназий лежало усиленное и углубленное изучение древних языков — латыни и греческого. При этом зачастую эти языки преподавались в полном отрыве от истории и культуры соответствующих цивилизаций. Так, педагог В. Кекманович отмечал, что за восемь лет обучения древним языкам он ни разу не видел приличного изображения Акрополя или Капитолия. В 1896 году циркуляр Министерства народного просвещения призывал преподавателей давать ученикам некоторые сведения о римской религии, государственном строе, военном деле, о греческой драме и философии, необходимые для понимания античных авторов[8]. Но основная цель обучения древним языкам заключалась вовсе не в том, чтобы сделать из учеников специалистов-античников или привить им любовь к древним культурам Средиземноморья. Мертвые языки с их «благородным» строем, с четкой системой правил и исключений должны были, по мысли идеологов педагогического «классицизма», воспитать в учениках систематичность мышления и законопослушность (а заодно отвлечь их от политики)[9]. Как ни странно, ту же цель преследовало усиленное обучение математике — вплоть до тригонометрии и бинома Ньютона. Будущим гуманитариям (а гимназии предназначены были в основном для их подготовки) этот курс в практическом плане едва ли был особо полезен.
Физике тоже учили неплохо, химии же в программе не было вообще. Курс истории и географии заключался по большей части в зазубривании огромного количества никак не организованной фактической информации, которая как-то сама должна была улечься в воспитанном зубрежкой вокабул и решением математических задач мозгу. К концу века это стало беспокоить и методистов из Министерства народного просвещения. Было рекомендовано делать акцент не на заучивании, а на понимании материала; осуждались преподаватели, заставлявшие учеников зубрить наизусть имена всех монархов второстепенных держав или названия мельчайших заливов и мысов где-нибудь в Океании. Но в этой установке на факты, а не на их взаимосвязь, на зубрежку, а не на понимание была своя хорошая сторона. Изучение мировой истории было практически свободно от «промывания мозгов». (К истории отечественной, особенно новейшей, это, конечно, не относилось — но все-таки знаменитый учебник Иловайского был куда менее тенденциозен, чем принято считать.)
Первоначально в программу гимназии входил один живой язык — французский или немецкий[10]. В конце века во многих гимназиях стали изучать (обязательно или факультативно) второй живой европейский язык. Иногда (все чаще) им заменяли греческий. Перед революцией 1917 года греческий язык остался в программе лишь одной из 35 государственных мужских гимназий Петербурга. Уровень обучения иностранным языкам в старых гимназиях принято идеализировать; в действительности же, если образованные люди в царской России владели французским и немецким языками свободнее, чем в СССР, то скорее благодаря несравненно более широким возможностям общения с иностранцами — не говоря уж о еще сохранявшемся обычае использования французской речи в светском обиходе. Но средний выпускник гимназии знал живые иностранные языки немногим лучше Ипполита Матвеевича Воробьянинова — и значительно хуже выпускника советской языковой спецшколы.
Русский язык изучали вместе со старославянским, и, соответственно, программа по русской литературе включала множество средневековых произведений. Древнерусскую книжность изучали так подробно, как сейчас, пожалуй, не учат и на филфаке. Ученики заучивали наизусть не меньше пяти произведений XI–XVI веков. В программу входили «Слово о законе и благодати», «Моление Даниила Заточника», проповеди Кирилла Туровского, переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским и многое другое. Причем все это изучалось в пятом-шестом классе (четырнадцать — пятнадцать лет) — и лишь потом очередь доходила до литературы Нового времени. Теоретически, при должном уровне преподавания, уже одно это могло бы сделать из учеников настоящих филологов. На практике же все сводилось, как правило, к бессмысленной зубрежке. К интересам русского школьника конца XIX века Даниил Заточник был не ближе, чем Тит Ливий или Цицерон. Очень подробно изучался XVIII век и начало XIX — от Кантемира до Карамзина, Жуковского, Батюшкова. Пушкина и Лермонтова изучали примерно в том же объеме, что и в нынешней школе; из Гоголя в программу входили «Мертвые души», «Ревизор», «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба». На Гоголе — то есть, по существу, на пороге классического периода — курс русской литературы заканчивался. Имена Тургенева, Толстого, Достоевского, Тютчева, Фета, Некрасова в гимназических стенах если и звучали, то лишь по личной инициативе преподавателей.
Можно добавить, что конце XIX века в гимназиях стали преподавать «гимнастику» и «ручной труд», но оценки по этим предметам не выставлялись.
Гимназии и реальные училища предназначались для детей представителей среднего класса — буржуазии, офицеров, чиновников, интеллигенции. У высшей аристократии были свои, кастовые, учебные заведения, для мещан и рабочих существовала система так называемых городских училищ. Допуск представителей низших сословий в не для них предназначенные школы ограничивался как административно (знаменитый «Циркуляр о кухаркиных детях» от 1887 года), так и косвенными мерами. Именно с этой целью во всех гимназиях существовала плата за обучение, хотя особой экономической роли она не играла: государственные гимназии на 80 процентов финансировались из казны и из общественных средств. Количество гимназистов иудейского вероисповедания в государственных гимназиях регулировалось уже поминавшейся нами процентной нормой (в Петербурге — три процента); одно время (после восстания 1863 года) существовала процентная норма и для поляков.
К подбору преподавателей в гимназиях относились истово. На службу принимали лишь людей с университетским образованием, окончивших соответствующие курсы. Сам директор не мог принять преподавателя без согласия попечителя учебного округа. За штатное место в гимназии держались — не столько из-за жалованья (в 1890-е годы оно составляло от 750 до 900 рублей в год, или 65–75 в месяц, — зарплата квалифицированного слесаря на столичном заводе), сколько из-за чинов (от коллежского асессора и выше), льгот, почетного социального статуса. Впрочем, и в денежном отношении пропасть между гимназическим преподавателем и учителем школы «для простонародья» была огромна. При этом внутри абсолютной монархии — каковой была Россия — гимназия представляла собой монархию конституционную. Директор не мог принимать важных решений без согласия педсовета.
О системе классического образования в России сказано много недоброго. В центре двух прославленных произведений русской литературы конца XIX — начала XX века, «Человека в футляре» Чехова и «Мелкого беса» Сологуба, — карикатурные, гротескные фигуры гимназических учителей. Не забудем, однако, что «кухаркин сын» Тетерников (он же писатель Сологуб) сам в гимназиях не обучался, а Таганрогская гимназия, которую окончил Чехов, едва ли входила в число лучших в России. При всех недостатках этой системы, высший расцвет русской науки и культуры совпал с ее полувековым существованием. Впрочем, как раз герой нашей книги мало чем этой системе обязан. Что-то в ней было, видимо, несовместимое с его нравом.
Я. Г. Гуревич, начало ХХ века
Почему родители братьев Гумилевых избрали для своих детей именно «гимназию и реальное училище Гуревича», сказать трудно. Эта школа, в которой можно было обучаться на выбор — по гимназической или «реалистической» программе, была частной. Она давала свидетельства, приравнивавшиеся к аттестатам зрелости, у ее учителей были классные чины (причем даже более высокие, чем во многих государственных учебных заведениях: сам Я. Г. Гуревич был действительным тайным советником — не всякий министр имел такой чин). Но государственного финансирования гимназия Гуревича не получала, а значит, плата за обучение в ней была сравнительно с казенными школами очень высока. В Царскосельской гимназии за ученика, не имеющего льгот, взималась плата 80–85 рублей. В гимназии же Гуревича цена обучения зависела от класса и с каждым годом возрастала. За обучение в подготовительном классе приходилось платить 90 рублей, в первом — 160, во втором — 190, в третьем — 220, начиная с четвертого — 250. При этом численность учеников в классах при приближении к аттестату зрелости не уменьшалась (как можно было бы предположить), а увеличивалась: в 1897/98 учебном году в первом классе гимназии было всего 9 учеников, а в седьмом — 37.
Гимназия считалась либеральной. Это касалось не учебных программ (они были типовыми), а отношения к ученикам. Все, пишущие про Я. Г. Гуревича, подчеркивают уважительный, индивидуальный подход к гимназистам и реалистам, господствовавший в его школе. В качестве примера доброты и благородства Гуревича рассказывают случай, когда он из собственных средств заплатил карточный долг ученика, попавшего в лапы к шулерам. «Особенно чутко относился он к детям с дурной наследственностью, к разного рода неврастеникам и невропатам»[11]. Но при том директор был вспыльчив и мог устроить гимназисту шумный разнос.
Яков Григорьевич Гуревич (1843–1906) был уроженцем Одессы (как и Георгиевский-отец). О его ранних годах известно лишь, что он родился в состоятельной семье, которая, однако, затем разорилась, и в юности сильно нуждался. Без сомнения, человек по фамилии Гуревич был евреем по происхождению, и так же несомненно, что действительный тайный советник по ведомству народного просвещения был крещен, причем наверняка в православие. Но выкрестился сам Яков Гуревич или еще его родители — неизвестно. Приехав в столицу, Гуревич окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, преподавал в гимназии в Новгороде, затем в Санкт-Петербургском учительском институте (готовившем учителей для начальных школ и городских училищ), наконец получил звание приват-доцента Санкт-Петербургского университета по кафедре всеобщей истории. В 1883 году он выкупил частную гимназию (существовавшую с 1869 года) и преобразовал ее в «гимназию и реальное училище». Педагогическую практику Гуревич сочетал с разнообразной общественной деятельностью. Он был казначеем Литературного фонда, председателем Общества помощи бывшим студентам Петербургского университета, основателем и редактором журнала «Русская школа». В течение дня он должен был успеть на такое количество заседаний, что поневоле повсюду опаздывал. При этом Гуревич успел написать несколько серьезных работ по истории Западной Европы, учебник по истории Греции и Рима, ряд сочинений по педагогике, составить несколько хрестоматий… Рабочий день его заканчивался часа в три ночи, просыпался он часов в десять — одиннадцать и лишь около этого времени показывался в гимназии.
Гимназия Гуревича просуществовала до самой революции. После смерти директора ее возглавил его сын — Яков Яковлевич (дочь же Я. Г. Гуревича, Любовь Яковлевна, соредактор «Северного вестника» и секретарь «Русской мысли», занимает не последнее место в ряду литераторов символистского круга). В числе выпускников гимназии можно встретить славные в истории отечественной культуры имена, от И. Ф. Стравинского до Константина Вагинова. Но Гумилев проучился в гимназии Гуревича лишь четыре года.
На вступительных экзаменах он показал удовлетворительные, достаточные для поступления в первый класс знания по закону Божьему, арифметике и немецкому. Преподаватель же русского языка рекомендовал ему обратить внимание на «слабое правописание и недостаток грамматических сведений». Грамотно писать Гумилев не научился до конца жизни, в чем не без шутливой бравады признавался Одоевцевой. «Своими недостатками следует гордиться. Это превращает их в достоинства… Моя безграмотность совсем особая. Ведь я прочел тысячи и тысячи книг, тут и попугай бы стал грамотным. Моя безграмотность свидетельствует о моем кретинизме. А мой кретинизм свидетельствует о моей гениальности». Функциональная неграмотность у поэтов встречается, кстати говоря, не так редко. Из русских классиков ею страдал Баратынский. Что касается начатков немецкого языка, то их Гумилеву, вероятно, сумел загнать в память Газалов. Во всяком случае, его брат, Дмитрий Гумилев, уже год проучившись в Царскосельской гимназии, поразил экзаменатора гимназии Гуревича тем, что «читать умеет, но не знает ни одного немецкого слова». В частности, он не смог перевести фразу Ich liebe meine Mutter («Я люблю маму»). Впрочем, и Николай Гумилев в немецком языке впоследствии продвинулся не сильно.
«Срочная ведомость» Гумилева за 4-й класс гимназии, 1899/1900. Центральный государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
Но если вступительные экзамены Гумилев сдал неплохо, то с каждым годом он учился все хуже. За 1898/99 учебный год (третий класс) он получает следующие отметки: по закону Божьему, русскому языку, истории, географии — четыре; по всем остальным предметам — латынь, греческий, математика, французский, немецкий, рисование, чистописание — три. Неважно, но в пределах допустимого. В следующем году — ни одной четверки. Тройки по закону Божьему, русскому языку, истории (единственный предмет, по которому Гумилев в течение года получил одну четверку в четверти), геометрии. По географии он тоже получает по итогам четвертных отметок тройку, но проваливает годовой экзамен. Явные и несомненные двойки по латыни, греческому, французскому и алгебре, а по немецкому Гумилев ухитряется получить на годовом экзамене даже единицу. (В царской гимназии эта отметка еще была в ходу, тогда как в советское время она окончательно слилась с двойкой.) На этом фоне впечатляюще выглядят хорошие отметки за внимание (четверка), прилежание (четверка) и поведение (пятерка). С такими результатами Гумилев покинул гимназию Гуревича. Сидеть второй год в четвертом классе ему пришлось уже в другой гимназии и в другом городе.
В «Личном деле» Гумилева сохранилось письмо его отца на имя директора гимназии: «…По малоуспешности во французском языке сына моего ученика IV класса Николая Гумилева прошу Ваше Превосходительство освободить его совсем от уроков оного». Учитывая, что успехи Николая Гумилева в каждом из четырех изучавшихся в гимназии языков были примерно одинаковы, непонятно, почему отец ходатайствовал о его освобождении именно от французского — самого по тем временам практически необходимого языка, и притом единственного (из входивших в гимназическую программу), который Гумилев в конце концов выучил.
О том, как преподавался в гимназии Гуревича французский язык, сведений у нас нет. Но о преподавателе немецкого можно сказать немало. Федор Федорович Фидлер (1857–1917) был известен как собиратель рукописей, автографов, рисунков и пр., имеющих отношение к российской словесности (его квартиру на Николаевской улице, дом 67, называли даже музеем Фидлера), и в то же время как переводчик русской литературы на немецкий язык. В числе авторов, переведенных им, — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Фонвизин, Кольцов, Некрасов, Тютчев, Фет, Надсон. Через руки Фидлера прошла чуть не вся русская поэзия — вплоть до Вячеслава Иванова и Брюсова. Редактируемые последним «Весы», сообщая о 25-летии литературной деятельности Федора Федоровича, констатировали: «Г. Фидлер делает все доступное переводчику, который сам не обладает поэтическим даром. Его переводы грамотны и почти всегда правильны». Наряду с крупными мастерами Фидлер переводил малоизвестных современникам и безвестных потомкам стихотворцев, с которыми вместе участвовал в кружке, именовавшемся «Вечера Случевского», — Уманова-Каплуновского, Черниговца-Виньковецкого и других. В этом кружке произошла и его встреча с бывшим учеником — Гумилевым. Вспоминая об общении с ним в гимназические годы, Фидлер писал:
<Гумилев> был моим учеником в гимназии Гуревича лишь один учебный год, 1896/97, и притом лишь в первом классе. Его четвертные оценки у меня были 3,2, 3,2, годовая 3… Если память мне не изменяет, он был исключен за неспособность к учебе (во всяком случае, я хорошо помню, что и другие учителя жаловались на него в учительской)… О его поведении я не могу сказать ничего плохого. И все-таки он был одним из самых несимпатичных моих учеников. Меня он тоже недолюбливал — я видел это по нему, хотя он этого и не показывал.
Тем не менее документы свидетельствуют, что Гумилев занимался немецким все четыре года обучения в гимназии — причем все менее успешно.
Видимо, былое обучение Гумилева у Фидлера и его слабая успеваемость были темой постоянных шуток; эта тема обыгрывается в многочисленных экспромтах Гумилева, посвященных переводчику. Вот для примера один из них — акростих:
Фидлер, мой первый учитель И гроза моих юных дней, Дивно мне! Вы ли хотите Лестных от жертвы речей? Если теперь я поэт, что мне в том, Разве он мне незнаком, Ужас пред вашим судом?И еще одна запись Фидлера (22 ноября 1915 года):
Я спросил у Гумилева, принимавшего участие в военных действиях на трех фронтах, приходилось ли ему быть свидетелем жестокости со стороны немцев. Он ответил: «Ничего такого я не видел и даже не слышал! Газетные враки!» — «Значит, немецкую жестокость вы испытали только тогда, когда были моим учеником в гимназии и получали у меня единицы?» — спросил я. Он подтвердил, засмеявшись[12].
Впоследствии, в разговорах с Одоевцевой, сам Гумилев недоумевал: почему его детская тяга к самоутверждению не сказалась на учебе? Но если учился он хуже некуда, то читал запоем. Уже в раннем детстве, как мы видели, с журналом «Природа и люди» соседствовал Шекспир. Но первой книгой были сказки Андерсена. По свидетельству Ахматовой (сохраненному Лукницким), эту книгу Гумилев хранил у себя долгие годы и часто перечитывал. (Вообще, многие подчеркивают сентиментальное отношение Гумилева к своим детским воспоминаниям, так не вяжущееся с его житейской и литературной маской.) Затем приходит черед стандартного подросткового чтения той поры — Жюль Верн («Дети капитана Гранта», «Путешествие капитана Гаттераса»), Майн Рид, Фенимор Купер, Гюстав Эмар (романы про индейцев Мексики и Бразилии, очень популярные на рубеже веков).
Но уже в третьем-четвертом классе гимназии Гумилев предпочитает русскую и мировую классику, в том числе поэтическую. Называют «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «Неистового Роланда» Ариосто и «Песнь о старом мореходе» Кольриджа. Интерес к этим произведениям симптоматичен — в сущности, каждое из них воплощает существенную сторону будущей поэтики самого Гумилева. «Песнь о старом мореходе» он много лет спустя переведет на русский — и этому переводу суждено остаться непревзойденным.
Но пока что он читает эти произведения в чужих переводах — чьих же? «Гайавата» вышла в 1896 году в переложении И. Бунина, доныне считающемся классическим. Благодарности к переводчику Гумилев, впрочем, не испытывал. Подобно всем без исключения русским модернистам, он довольно высокомерно относился к поэзии Бунина (несмотря на ее явное для нас родство с его собственными исканиями) и вполне равнодушно — к его прозе. «Неистового Роланда» Гумилев читал, по всей вероятности, в прозаическом пересказе, изданном в 1892 году под редакцией В. Р. Зотова (единственный на тот момент поэтический перевод эпопеи Ариосто, причем неполный, вышел в 1832-м и принадлежит Семену Раичу, учителю Тютчева). Кольриджа Гумилев читал в переводе Ф. Миллера или А. Коринфского (с ним Гумилеву еще придется встретиться). Оба они были весьма посредственными стихотворцами, музыку подлинника передать, конечно, им было не под силу, но сюжет великой баллады не мог не врезаться в сознание юного поэта. Есть в стихах Гумилева следы чтения в отроческие годы и других великих эпических произведений.
…Я проиграл тебя, как Дамаянти Когда-то проиграл безумный Наль.Эти строки (из «Пятистопных ямбов», 1913–1915) — неточность. Наль, герой индийской поэмы, переложенной на русский язык Жуковским, проигрывает в кости не свою возлюбленную Дамаянти, а свое царство — и вместе с Дамаянти отправляется в изгнание. Перед нами — типичный пример интерполяции в сознании прочтенного много лет назад, в детстве или отрочестве, текста. Еще один европейский автор, которого Гумилев по складу своей личности и интересов просто не мог обойти вниманием и который очевидно повлиял на его поэзию, — Мильтон («Потерянный рай» и «Возвращенный рай»; Гумилев мог прочесть эти поэмы в переводе Н. А. Холодковского). Вообще с переводной классикой Гумилев знакомился по популярным во второй половине XIX века изданиям Н. И. Гербеля.
И конечно, русская классика, прежде всего Пушкин, Лермонтов, Жуковский. Относительно русских поэтов второй половины XIX века ясности нет. Утверждение Н. К. Чуковского об уничижительном отношении Гумилева ко всем им без исключения (кроме Тютчева) явно не соответствует действительности. Правда, русские модернисты вообще склонны были противопоставлять относительный «упадок» 1840–1880-х годов прекрасной пушкинской эпохе. Гумилев вполне разделял этот взгляд. В предисловии к книге А. К. Толстого, составленной в конце жизни по долгу службы, он так характеризовал эту эпоху:
…В сороковые годы… героический период русской поэзии, характеризуемый именами Пушкина и Лермонтова, закончился. Новое поколение поэтов, Толстой, Майков, Полонский, Фет, не обладало ни гением своих предшественников, ни широтой их поэтического кругозора. Современная им западная поэзия не оказала на них сколько-нибудь заметного влияния, ясность пушкинского стиха у них стала гладкостью, лермонтовский жар души — простой теплотой чувства.
В этом списке снисходительно охарактеризованных поэтов «нового поколения» нет не только Тютчева, но и Некрасова. Что до отношения Гумилева к последнему, то здесь у нас есть прямое свидетельство — ответ на анкету, предложенную в 1921 году ряду русских писателей Корнеем Чуковским (отцом Н. К. Чуковского). На первый вопрос — «Любите ли вы Некрасова?» многие из опрошенных (Вяч. Иванов, Кузмин, Клюев) ответили отрицательно. В любви к Некрасову признались (что не было неожиданностью) Блок и Ахматова. Ответ Гумилева очень близок к их ответам по тональности:
1. Любите ли вы стихотворения Некрасова?
— Да. Очень!
2. Какие стихи Некрасова вы считаете лучшими?
— Эпически-монументального склада: «Дядя Влас», «Адмирал вдовец», Генерал Федор Карлыч фон Штубе[13], описание Тарбагатая в «Саше», Княгиня Трубецкая и др.
3. Как вы относитесь к стихотворческой технике Некрасова?
— Замечательно глубокое дыхание, власть над выбранным образом, замечательная фонетика, продолжающая Державина через голову Пушкина.
4. Не было ли в вашей жизни периода, когда его поэзия была для вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?
— Юность: от 14–16 лет.
5. Как вы относились к Некрасову в детстве?
— Не знал почти, а что знал, то презирал из-за эстетизма[14].
6. Как относились вы к Некрасову в юности?
— Некрасов пробудил во мне мысль о возможности активного отношения личности к обществу. Пробудил интерес к революции.
7. Не оказал ли Некрасов влияния на ваше творчество?
— К несчастью, нет.
Судя по этой анкете, увлечение поэзией Некрасова (как и «интерес к революции») относится уже к следующему — не петербургскому — периоду жизни.
Безусловно, в круг чтения юноши не могла не входить и русская классическая проза XIX века. Толстой, Достоевский, Тургенев не играли в его становлении такой роли, как у Ахматовой. Представление о прозе как о низшем, сравнительно с поэзией, роде литературы он сохранил до конца. Но у нас нет оснований подозревать Гумилева в недостаточном знакомстве с тем, что составляло основу духовной жизни образованного русского человека той поры. Герои и сюжеты отечественной классики часто фигурируют по крайней мере в его статьях (например, в «Жизни стиха» — «Затишье» Тургенева и «Идиот» Достоевского). Впрочем, кое-что можно разглядеть и в стихах, и в документальной прозе… Но об этом — в свое время.
Известно, что юный Николай, с таким пренебрежением относившийся к гимназическим занятиям, аккуратно конспектировал прочитанные книги и делал для отца «доклады о современной литературе». Эти доклады были составной частью «литературно-музыкальных» вечеров, которые Дмитрий и Николай устраивали для Степана Яковлевича (собственно, это единственное свидетельство его сколько-нибудь активного и заинтересованного участия в воспитании сыновей). Отец с удовлетворением отмечал, что у младшего сына «хорошо поставлена речь». Вероятно, это как-то утешало родителей на фоне его сомнительных гимназических успехов.
Культурные влияния, которые Николай Гумилев переживает в конце 1890-х, не ограничиваются чтением. Он регулярно посещает утренние (удешевленные) спектакли для гимназистов в столичных театрах — Мариинском, Александринском, Малом, или Суворинском[15]. Наряду с классикой («Жизнь за царя», Шекспир, Островский) репертуар этих спектаклей включал и кое-какие «декадентские» новинки (вроде «Затонувшего колокола» Гауптмана).
В эти годы у Гумилева появились друзья. По Лукницкому (основывавшемуся на рассказах матери), он был дружен со Львом Леманом, Владимиром Ласточкиным (сын нотариуса), Леонидом Чернецким (сын «обедневшей псковской помещицы»), Борисом Залшупиным (сын варшавского архитектора), Дмитрием Френкелем (сын врача), Федором Стевеном (сын начальника Кабинета Его Императорского Величества). Мальчики создали некое тайное общество неких «тугов (йогов-? — в рукописи Лукницкого неразборчиво) — душителей», где Гумилев играл роль Брамы-Тамы (имя наверняка изобретено им самим)[16]. Собрания общества устраивались в людской, в заброшенном леднике, в пустом подвале — при свечах и в самой конспиративной обстановке. В Поповке он тоже играл со сверстниками в обычные для этого возраста игры — в ковбоев, индейцев, пиратов. Гумилев в этих играх принял на себя роль Нена-Саиба — вождя восстания сипаев в Индии. Еще он называл себя Надодом Красноглазым (героем одного из романов Буссенара) — пока в подтверждение кровожадности его не заставили откусить голову у живого карася. Мальчикам давали лошадей — и они упражнялись в верховой езде. Катание на лодке, поиски кладов… Идиллическое детство, любящие и состоятельные родители, тихая эпоха.
Из «колдовского ребенка» вырос, по видимости, нормальный подросток, лазающий по деревьям, читающий Буссенара, играющий в индейцев. Благодаря смелости и начитанности он даже стал заводилой в детской компании. Впоследствии Гумилев определил свой «внутренний» возраст так: тринадцать лет. Видимо, именно в этом возрасте его самоощущение было наиболее гармоничным. Именно тринадцати лет от роду он был счастлив, самодостаточен, равен себе.
Тринадцать лет Гумилеву исполнилось в 1899 году. Год спустя он, вместе с родителями, покинул столицу. Первый круг жизни подходил к концу.
4
В 1897 году Степан Яковлевич вынужден был для лечения своего ревматизма отправиться на Кавказские Минеральные Воды. Вся семья провела лето в Пятигорске.
В личном деле гимназиста Д. С. Гумилева сохранился любопытный документ — свидетельство, подписанное помощником частного врача Казанской части Дементьевым:
Выдано ученику 3 класса гимназии Я. Г. Гуревича Дмитрию Гумилеву, по личной просьбе его отца, в том, что он страдает общим малокровием, сопряженным с упадком сил и расстройством питания, и что для поправления его здоровья ему необходимо пребывание в мягком климате и лечение <нрзбр.> минеральными водами…
Вероятно, документ был необходим, чтобы оставить гимназию прежде истечения учебного года. Почему-то такой же бумаги для первоклассника Николая Гумилева нет. Осенью, по возвращении в Петербург, Гумилевы сменили квартиру. Теперь они жили по адресу: Невский, дом 97 — в начале Старо-Невского, у самой Знаменской площади.
Дом № 97 по Невскому проспекту. Гумилевы жили здесь в 1897–1900 годах. Фотография 2004 года
Кавказские горы, места, где «Пушкина изгнанье началось и Лермонтова кончилось изгнанье» (Ахматова), должны были, казалось бы, произвести впечатление на восприимчивого и начитанного мальчика, бредящего экзотическими странами и уже знакомого с русской поэзией. Но, видимо, курортный Пятигорск мало годился для первого знакомства. Николай скучал без друзей, каждодневные прогулки к горе Железной не доставляли ему радости. Все лето он провел, в одиночестве играя в солдатики — устраивая «баталии всех родов войск». Изредка в этих играх участвовал брат.
Зато следующая — и куда более долгая — встреча с Кавказом сыграла в жизни поэта огромную роль. По крайней мере, по его собственным словам…
Гумилевы привычно беспокоились о младшем сыне. Старший рос крепким и здоровым, учился посредственно, но не оставался на второй год — и вообще не доставлял хлопот родителям. Но в 1899 году все изменилось.
В мае Дмитрий заболел брюшным тифом и, согласно справке, выданной доктором И. Д. Старовым, с 5 по 17 находился в Мариинской больнице. 18 мая Степан Яковлевич ходатайствует об освобождении сына по состоянию здоровья от экзамена по переводу в шестой класс. Осенью 15-летний Дмитрий заболевает еще серьезнее. 2 октября С. Я. Гумилев извещает директора гимназии, «что мой сын Дмитрий Гумилев вследствие болезни (pleuritis) посещать гимназию не может впредь до выздоровления». Видимо, именно осложнением после плеврита объясняется начавшийся в 1900 году у Дмитрия туберкулезный процесс, заставивший семью переселиться на три года в Тифлис. Почему именно в Тифлис? Обычно больные туберкулезом направлялись в Крым, в Ялту. Вероятно, повлияли рассказы учителя Газалова о родном городе.
Дом Мирзоева на Сергиевской улице в Тифлисе, где жили Гумилевы. Фотография П. Н. Лукницкого, 1960-е. Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Именно по пути в Тифлис, на Военно-Грузинской дороге, с Гумилевым — по его собственным словам — произошло то, что можно назвать первой поэтической инициацией. Опять цитируем Одоевцеву: «…На меня вдруг хлынули стихи Пушкина и Лермонтова о Кавказе. Я знал их и любил уже прежде. Но только здесь я почувствовал их магию. Я стал бредить ими и с утра до вечера твердил их».
Но, по Лукницкой, А. И. Гумилева с сыновьями сначала отправились в кумысолечебницу под Самарой (до 11 августа), а уж оттуда — через Астрахань и Баку — в Тифлис, где их в снятой квартире ждал муж. Значит, никакого пути по Военно-Грузинской дороге не было. Это еще один поэтический миф.
Тифлис, конечно, со времен Пушкина и Лермонтова сильно изменился. Большая часть города — весь участок между подножием горы Давида и правым берегом Куры и все левобережье — была застроена уже после присоединения к России (1801). Очень многие вещи, памятные людям нашего поколения по Тбилиси советского времени, уже существовали — от фуникулера, везущего на гору Давида, до волшебных сиропов Митрофана Лагидзе. Как подобает колониальному городу, Тифлис делился на «европейскую» и «туземную» часть. Главные улицы — Головинский проспект, Дворцовая, Михайловская и некоторые другие, поменьше, в том числе Сергиевская, где в доме инженера Мирзоева (богатом, каменном, с электрическим освещением) поселилась семья Гумилевых, — принадлежали, конечно, к части «европейской». На Головинском (ныне проспект Шота Руставели), как гласил путеводитель, «с утра до ночи царит постоянное движение толпы, мчатся вагоны электрического трамвая, лихачи-извозчики»[17]. Здесь была «масса роскошных магазинов, не уступающих лучшим улицам столичных городов». В значительной части магазины эти принадлежали людям с армянскими фамилиями. Национальный состав населения Тифлиса по переписи 1893 года был таков: русские — 24 процента, грузины — 26, армяне — 38, остальные (поляки, евреи, «татары», т. е., по современной терминологии, азербайджанцы) — 12. (Всего в городе жило 160 тысяч человек.) Несмотря на зачастую напряженные отношения между грузинскими и армянскими кварталами, они находились в состоянии прочного экономического симбиоза. Тифлисские армяне в быту говорили по-грузински, но твердо держались грегорианского вероисповедания. (Впрочем, среди них были и католики.) Собственно, Багратий Газалов происходил, судя по фамилии, как раз из тифлисских армян.
Русское население Тифлиса было по большей части военным и чиновничьим. (Кроме того, на левом берегу жили сектанты-молокане.) Доступ к военной и административной карьере был, однако, открыт и представителям кавказских народов. Россия была империей сухопутной, как Австро-Венгрия, а не морской, как Британия: колонии были юридически не отделены от метрополии, завоеванные получали почти равные с завоевателями права — и, конечно, никакой индус не мог мечтать о такой имперской карьере, как у грузина Багратиона или у тифлисского армянина Лорис-Меликова. Статус грузинской элиты с присоединением к России даже вырос: тавады (состоятельные помещики) получили княжеские титулы, многочисленные азнауры (полунищие рыцари-землевладельцы) были приписаны к русскому дворянству. XIX–XX века стали эпохой расцвета грузинской культуры. Имперская администрация, свысока относясь к «азиатскому» Закавказью и не слишком опасаясь здесь сепаратистских настроений (полагая, что Грузии, в отличие от той же Польши, деваться некуда), поначалу не способствовала, но и не мешала этим процессам. Лишь при Александре III здесь, как и повсюду, началась «обрусительная» политика — грузинским священникам предписали служить по-русски, из литературных произведений вымарывалось слово «Грузия» (его заменяли абстрактным «мой край»). Несмотря на обилие в Тифлисе средних учебных заведений самой разнообразной направленности, поползновения к открытию университета пресекались. Собственно, во всем Закавказье не было в те годы ни одного высшего учебного заведения. Научная жизнь в Тифлисе в начале XX века исчерпывалась, кажется, двумя музеями (Естественно-историческим и Военно-историческим) и небольшой обсерваторией, персонал которой состоял из директора и двух «наблюдателей-вычислителей» — дневного и ночного. На эту должность могли взять человека, вовсе не имеющего специального образования. В интересующие нас годы наблюдателем-вычислителем Тифлисской обсерватории, в паре со своим приятелем, служил некий юноша, исключенный за неуспешностью из Тифлисской семинарии, по имени Иосиф Джугашвили.
Туземная часть Тифлиса. Фотография конца XIX века
Стеснения, чинимые грузинской культуре, порождали ответные националистические настроения. Среди борцов за национальную независимость было два основных течения — национал-либералы, чьим духовным вождем был «некоронованный царь Грузии» князь Илья Чавчавадзе, и марксисты во главе с молодым Ноем Жордания. Между ними шла бурная полемика, у каждой группы существовала собственная пресса. Все это происходило в первую очередь в Тифлисе; несмотря на состав населения, город был центром грузинской, а не русской и не армянской политической и культурной жизни. Здесь уже писал свои первые клеенки разорившийся молочник Нико Пиросмани, сюда приезжал из своего захолустья Важа Пшавела.
В какой мере был об этом осведомлен юный Гумилев? Существует любопытное письмо его к грузинскому писателю Григолу Робакидзе, с которым он познакомился в Париже; письмо написано в 1910 году, оригинал его утерян, грузинский перевод был напечатан в 1922-м, обратный русский перевод Т. Л. Никольской — в 1994-м[18].
…Ваша информация о грузинском символизме меня очень заинтересовала… Что касается перевода «Змеееда»[19], большое удовольствие взять его на себя, если он не содержит технической сложности… Но беда в том, что грузинский язык я знаю очень плохо и смогу перевести лишь при наличии подстрочника и с указаниями какого-нибудь знатока.
«Знаю очень плохо» — значит, в каких-то пределах Гумилев грузинский язык изучал. Возможно, кто-то из гимназических товарищей давал ему уроки. Как раз в это время и грузинская поэзия стала привлекать внимание русских: в 1892 году вышла первая ее антология, составленная и переведенная Иваном-да-Марьей (И. Ф. и А. А. Тхоржевскими). Но, разумеется, Тифлис ассоциировался для Гумилева в первую очередь не с Николозом Бараташвили или Важа Пшавела, а с русской классикой.
Внизу огни дозорные Лишь на мосту горят, И колокольни черные Как сторожи стоят; И поступью несмелою Из бань со всех сторон Выходят цепью белою Четы грузинских жен…Тифлисские серные бани были такими же, как при Пушкине и Лермонтове. Как в дни путешествия в Арзрум, банщики в экстазе отбивали ногами чечетку на спине клиента. На армянском базаре цирюльники прямо на свежем воздухе стригли желающих, а из духанов доносились пряные запахи персидской кухни. У крепостной стены ютились домики «татар» — торговцев коврами. Гумилев еще в Петербурге полюбил по книгам экзотический Восток — Индию, Китай, Аравию. Теперь он сам мог окунуться в этот мир. И не исключено, что первым вином, которое он в своей жизни попробовал, было напареули или хванчкара.
Связь времен здесь (несмотря на все завоевания и разрушения) не прерывалась, кажется, с IV века, когда город был основан. Древние — древнее, чем что бы то ни было в России, — камни Мцхеты помнили первые века христианства. Здесь оставили след своих сабель Джелаль-эд-Дин и монголы, персы и русские генералы. Закавказье давало такое ощущение безмерного пространства и времени, которого относительно молодой и самодостаточный Петербург дать не мог.
Впрочем, все это не более чем наши (хотя и не лишенные вероятности) домыслы. Когда знакомишься с существующей информацией о жизни юного Гумилева в Тифлисе, создается острое ощущение, что все события, происходившие с ним там, могли с таким же успехом случиться в Вологде, Курске или Иркутске. Гумилев учится сперва во 2-й, затем (с 5 января 1901 года) в 1-й гимназии. Успехи чуть лучше, чем в Петербурге. По истории за 1900–1901 год он даже получает пятерку, по географии — четверку, по остальным предметам — тройки. По греческому ему пришлось держать переходной экзамен[20], но в конечном итоге свою тройку он получил и по этому предмету — и наконец перебрался в пятый класс[21]. Точных данных об отметках в 1901/02 году у нас нет, но известно, что Гумилеву пришлось держать осенью экзамены, чтобы перейти в шестой класс. Летом он не отправился с родителями в Березки, а остался в Тифлисе, где жил у товарища по гимназии, Борцова, и занимался с репетитором. В шестом классе (1902/03 учебный год) Гумилев имел шесть четверок: по закону Божьему, французскому языку, истории, географии и, как ни странно, по немецкому и по физике. По остальным предметам (русский, латынь, греческий, математика) — тройка.
У него появляются новые друзья — братья Кереселидзе[22], Берцов, Борис и Георгий Леграны, Крамелашвили, Глубоковский. Особенно важно общение с Борисом Леграном. Судьба этого человека достойна отдельного разговора. Исключенный из-за конфликта с преподавателем из гимназии, он закончил ее курс экстерном, в 1909 году получил диплом Казанского университета, служил помощником присяжного поверенного, в дни войны был на фронте в чине прапорщика — и все эти занятия совмещал с подпольной работой в РСДРП. После революции он стал военным политработником, дипломатом (он был, в частности, послом РСФСР в Грузии и в Армении в короткий период их независимости), затем председателем Военно-революционного трибунала, а в 1930-м был назначен «красным директором» Эрмитажа. В этом качестве он сделал много добра — именно ему удалось остановить распродажу эрмитажных коллекций. «Социалистическую реконструкцию Эрмитажа», осуществление которой было ему поручено, он сумел провести в максимально щадящей форме. В 1934 году он был переведен в Академию художеств заместителем ректора; судьба оказалась к нему милостивой: он умер естественной смертью в 1936 году, не дожив до почти неизбежного для человека его судьбы и склада финала. Легран познакомил Гумилева с идеями Маркса. Увлечение революционной героикой — почти неизбежная деталь биографии молодого человека этого поколения; правда, народовольцы-бомбометы были выразительнее зануд марксистов, но в последних привлекала конструктивная четкость мысли, заставлявшая зачитываться Эрфуртской программой, скажем, юного Мандельштама. Что до Гумилева, то он в силу свойств своего характера сразу перешел от теории к практике, и летом 1903 года, пренебрегая верховыми и велосипедными прогулками в Березках, пытался вести пропаганду среди рабочих-мельников. В результате ему пришлось до срока покинуть усадьбу — и до 1906 года он в ней больше не показывался.
Б. В. Легран — директор Эрмитажа, начало 1930-х
Увлечение марксизмом было неглубоким и коротким; куда важнее для Гумилева был другой мыслитель, которого тоже открыл для него Легран, — Фридрих Ницше, уже успевший войти в России в моду. Первый перевод «Так говорил Заратустра» вышел в 1894 году. Гумилев, вероятно, знал, что автор «книги для всех и ни для кого» рос, подобно ему, слабым, болезненным, некрасивым, что Ницше преодолел свою слабость усилием духа, создав великий миф о Сверхчеловеке, — и заплатил за это безумием. Гумилев был юн, горд, самолюбив, честолюбив, властолюбив… (Пожалуй, даже больше власто-, чем честолюбив: если Кузмин, к примеру, мечтал «о любви и славе» — повторяющиеся в его стихах слова, то Гумилев — о любви и власти.) Его привлекали сила и воля — в чем бы они ни проявлялись. В детстве его поразили слова Евангелия: «Вы боги». Вероятно, именно стремление к беспредельной мощи, ощущение каких-то и привлекательных, и пугающих сил, которые таятся в глубине его «я» и никак не могут выйти наружу, — все это предопределило и его любовь к Ницше, и последующие мистические увлечения. Хотя, конечно, некоторые тенденции просто витали в воздухе. К концу XIX века масштабы идей, страстей и амбиций отдельной человеческой личности на Западе стали явственно и невозвратимо уменьшаться. Ницшеанство и модернистский индивидуализм были отчаянной попыткой противостоять этому детерминированному историей процессу. Но в конце концов Клио победила: то, что она не смогла осуществить эволюционным путем, совершилось путем революционным и кровавым.
Лукницкий держал в руках экземпляр «Так говорил Заратустра» с отчеркнутыми рукой Гумилева местами. Вот некоторые из них:
Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью.
Из всего написанного я люблю только то, что написано своею кровью. Пиши кровью: и ты узнаешь, что кровь есть дух.
Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре? Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный для чего?
О любви Гумилева к Ницше в последние годы жизни писала, в частности, И. Одоевцева. Мотивам мрачного базельского пророка в его творчестве посвящены специальные работы. Другое дело — то, как интерпретировалось это ницшеанство иными критиками и мемуаристами, сводившими его к культу силы, презрению к женщине и тому подобным общедоступным плоскостям…
Лукницкий упоминает о чтении еще одного философа, важного для той эпохи, — Владимира Соловьева. Можно предположить, что внимание Гумилева должна была привлечь не мистическая сторона учения Соловьева (которая была так важна для юного Блока) и не его поэзия, а скорее красочное и мрачно-торжественное описание «последних дней» в «Трех разговорах».
Тогда же Гумилев открывает для себя «декаданс». Для него это, по крайней мере поначалу, — не форма духовного бунтарства (как для некоторых), а скорее модный бытовой стиль (как для большинства). Он зачитывается Оскаром Уайльдом (совсем недавно умершим — в 1900 году, в один год с Ницше), а поскольку как раз в это время он (по естественным возрастным причинам) начинает интересоваться барышнями — маска эстета, сноба, «столичной штучки» помогает ему завоевывать сердца провинциалок. К этому времени относится эпизод с «канандером», о котором Гумилев рассказывал Одоевцевой.
Я в те дни был влюблен в хорошенькую гимназистку Таню. У нее, как у многих девочек тогда, был «заветный альбом с опросными листами». В нем подруги и поклонники отвечали на вопросы: Какой ваш любимый цветок и дерево? Какое ваше любимое блюдо? Какой ваш любимый писатель?
Гимназистки писали — роза или фиалка. Дерево — береза или липа. Блюдо — мороженое или рябчик. Писатель — Чарская.
Гимназисты предпочитали из деревьев дуб или ель, из блюд — индюшку, гуся и борщ, из писателей — Майн Рида, Вальтер Скотта и Жюль Верна.
Когда дошла очередь до меня, я написал не задумываясь: «Цветок — орхидея. Дерево — баобаб. Писатель — Оскар Уайльд. Блюдо — канандер».
Эффект получился полный. Даже больший, чем я ждал.
Однако, по возвращении домой поделившись своим торжеством с мамой, юный эстет с ужасом узнал, что французский сыр, который он имел в виду, называется не «канандер», а «камамбер». Из страха разоблачения он перестал видеться с Таней. Впрочем, в Тифлисе было немало других барышень. Биографы Гумилева упоминают Машеньку Маркс, которой Гумилев подарил альбом со стихами, а также некую Воробьеву и Л. Мартене. Все эти романы были, видимо, совершенно детскими и невинными.
5
Восьмого сентября 1902 года Коля Гумилев с опозданием пришел к семейному обеду. Но выражение лица его было таким торжественным, что суровый отец не сделал ему замечания. Гумилев протянул родителям номер газеты «Тифлисский листок». Там было напечатано его стихотворение.
Газета «Тифлисский листок», редактируемая В. Калантаровым, вообще-то стихов не печатала. Литературная часть ее ограничивалась переводами непритязательной французской беллетристики или краеведческими очерками местных авторов. Так, в одном номере со стихами Гумилева печатался очерк некого Н. «Восхождение на Арарат». В основном же номер был посвящен предстоящим выборам в городскую думу. Немногочисленные демократические процедуры, существовавшие в тогдашней России, осуществлялись, однако, довольно бурно и вызывали всеобщее волнение. Активным и пассивным избирательным правом обладали лишь домовладельцы, но в предвыборной борьбе участвовали чуть ли не все. Герой фельетона, напечатанного в «Тифлисском вестнике», домовладелец Иван Иванович, жалуется на навязчивую предвыборную агитацию: «Кто только не составляет теперь списков — и распорядительные комитеты, и «дворцовая партия», и учителя, и бухгалтеры, и булочники, и парикмахеры». В самом деле, в городе немало проблем, которые предстоит решать будущим избранникам. «Для Тифлиса, где смертность от легочных заболеваний весьма велика, было бы полезно подметание улиц в ранние часы дня». А Гумилевы приехали сюда как раз лечить легочные заболевания!
Если заменить в газете слово «духан» на «трактир» и убрать рекламу ковров — догадаться, в какой части империи она выходит, будет невозможно. Провинция как будто едина и универсальна, провинциальные города непосредственно сообщаются друг с другом — как густая венозная кровь, переливаются из сосуда в сосуд провинциальные новости. В Курске папиросная фабрикантша Лаврова имела счастье поднести проезжавшему через город государю изделия своей фабрики… В Новочеркасске интересное зрелище: молочные черви проходят через город… Обо всем этом надо знать жителям Тифлиса.
Вот в таком издании состоялся дебют Гумилева.
Сам Гумилев в разговоре с Одоевцевой утверждал, что начал писать лишь в Тифлисе. В первом письме к Брюсову (от 15 марта 1906 года) он сообщал, что пишет стихи «с двенадцати лет». В действительности же — по свидетельствам близких — Гумилев сочинял стихи и «басни» с раннего детства, еще не овладев грамотой. Ахматова помнила четыре строчки из стихотворения шестилетнего Коли Гумилева:
Живала Ниагара Близ озера Дели. Любовью к Ниагаре Все вожди летели…Не так далеко (по тематике и колориту) от зрелого Гумилева. Известно, что в тринадцать лет он написал стихотворение «О превращениях Будды». Выбор темы так же примечателен и характерен. Лукницкий упоминает и о прозаических опытах в духе «Путешествия капитана Гаттераса».
Так или иначе, стихотворение, опубликованное в «Тифлисском листке», — самый ранний известный нам законченный стихотворный текст, написанный Гумилевым. Вот оно:
Я в лес бежал из городов, В пустыню от людей бежал… Теперь молиться я готов, Рыдать, как прежде не рыдал. Вот я один с самим собой… Пора, пора мне отдохнуть: Свет беспощадный, свет слепой Мой выел мозг, мне выжег грудь. Я грешник страшный, я злодей: Мне Бог бороться силы дал, Любил я правду и людей, Но растоптал я идеал… Я мог бороться, но, как раб, Позорно струсив, отступил И, говоря: «Увы, я слаб!» — Свои стремленья задавил… Я грешник страшный, я злодей… Прости, Господь, прости меня. Душе измученной моей Прости, раскаянье ценя!.. Есть люди с пламенной душой, Есть люди с жаждою добра, Ты им вручи свой стяг святой, Их манит и влечет борьба. Меня ж прости!..Первая публикация Николая Гумилева. Газета «Тифлисский листок», 8 сентября 1902 года
Надо признать, что в сравнении с четверостишием про прекрасную Ниагару это — явный шаг назад. В стилистическом отношении эти стихи больше всего напоминают Надсона — но без его истерической энергичности. Надсон был предан символистами анафеме, и много десятилетий его стихи служили образцом дурной, бездарной поэзии. Но не случайно основателями русского символизма были ближайшие друзья кронштадтского подпоручика — Минский и Мережковский. Для тысяч барышень обоего пола Надсон был гением и мучеником. Для «новых поэтов» — неудачным старшим братом, о котором не принято упоминать вслух. И все-таки в стихах молодых авторов его интонации — на первых порах — невольно всплывали, разоблачая генеалогическую тайну. Так зародыш непременно должен пройти стадии рыбки и головастика, прежде чем стать млекопитающим.
Так называемое «содержание» можно было бы счесть таким же трафаретным, если бы не свидетельство А. С. Сверчковой, что Коля, «живя в Березках, стал вести себя совершенно непонятно: пропадал по суткам, потом оказывалось, что он вырыл себе пещеру на берегу реки и проводил там время в посте и в раздумьях. Он даже пробовал совершать чудеса!».
Дарственная надпись Н. С. Гумилева М. Д. Поляковой на книге К. Д. Бальмонта «Будем как Солнце» (М., 1903). Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Стихи из альбома, подаренного Машеньке Маркс, ничуть не лучше, но уже свидетельствуют о чтении юным автором русских символистов — особенно Бальмонта. Его лучшие книги — «В безбрежности», «Тишина», «Горящие здания», «Только любовь», «Будем как Солнце», — вышедшие между 1895 и 1903 годами, покорили воображение множества юношей. Из всех даров, которые предлагала новая поэзия, они приняли самый доступный — поверхностную звучность и музыкальность стиха. Вот как отозвался Бальмонт у Гумилева:
Я вечернею порою над заснувшею рекою, Полон дум необъяснимых, всеми кинутый, брожу, Точно дух ночной, блуждаю, встречи радостной не знаю, Одиночества дрожу.В 1903 году, видимо уже в Царском Селе, Гумилев делает дарственную надпись на книге Бальмонта «Будем как Солнце»[23]. Эта прежде не публиковавшаяся надпись стоит того, чтобы быть приведенной полностью:
Уважаемой Марианне Дмитриевне от искренне преданного друга, соперника Бальмонта — Николая Гумилева.
Гордый Бальмонт о солнце слагал свои песни, Гармоничнее шелеста ранней листвы. Но безумец не знал, что Вы ярче, прелестней, Дева солнца, воспетая мной, — это Вы. Гордый Бальмонт сладкозвучный созидал на диво миру Из стихов своих блестящих разноцветные ковры, Он вложил в них радость солнца, блеск планетного эфира, И любовь и поцелуи — эти звонкие миры. Ранней юности мечтанья, блеск полуденных желаний. Все богатства, все восторги нашей радостной земли. Он их создал и отделал, эти пламенные ткани, Чтобы Вы ступать могли.Марианна Дмитриевна — это Марианна Дмитриевна Полякова, адресат цикла «Дева солнца» из книги «Романтические цветы».
Позже, в 1908 году, уже почти сложившимся поэтом, Гумилев так скажет о стихах Бальмонта лучшего периода: в них «уже таятся зачатки позднейшего разложения — растления девственного русского слова во имя его богатства. Есть что-то махровое в певучести и образности этих стихов, но они еще стыдливы, как девушка в миг своего падения». Еще позже, в 1916 году, Гумилев говорил О. А. Мочаловой: «У Бальмонта есть такие прекрасные стихи, пришедшие из таких свежих глубин, что все простится ему». Но, чтобы по-настоящему почувствовать силу и слабость этой поэзии, необходимо было пройти через период любви к ней — и подражания ей.
Константин Бальмонт. Рисунок В. А. Серова, 1905 г.
В какой-то момент при сквозном чтении первого тома собрания сочинений Гумилева настораживаешься. Вдруг — после десятка бесформенных юношеских опусов — чувствуешь: в очередном стихотворении некоторые строки начинают по-настоящему петь, слова, рифмы, образы уже не производят впечатления беспомощности и неуместности. Это еще не хорошие стихи, но уже стихи, нечто обещающие. Заглянув в примечания, понимаешь, что интуиция тебя не обманула. Как раз на этом месте заканчивается тетрадь Машеньки Маркс и начинается первая книга Гумилева — «Путь конквистадоров».
Именно в Тифлисе Гумилев почувствовал себя поэтом. Именно здесь, по собственному признанию, родилось его второе «я», тот, кто
…В каждом шуме слышал звоны лир, Говорил, что жизнь — его подруга, Коврик под его ногами — мир.Но стать поэтом ему еще предстояло.
Глава третья Цветы императрицы
1
Двадцать первого мая 1903 года Гумилев окончил шестой класс Тифлисской гимназии и получил отпускной билет в Рязанскую губернию до 1 сентября. Но обратно в Тифлис семья, видимо, уже не собиралась. Туберкулез у Дмитрия прошел; пришла пора возвращаться на север.
В середине лета Гумилев с матерью и А. С. Сверчковой (которая после десяти лет самостоятельной жизни как раз в это время воссоединилась с семьей отца) покидает Березки и уезжает в Царское Село. Как считается, это связано было с его (упомянутыми в предыдущей главе) пропагандистскими попытками. Степан Яковлевич и Дмитрий еще некоторое время оставались в Березках. Дмитрий Гумилев, окончивший гимназию, избрал военную карьеру[24], а Николай должен был еще два года проучиться в Царскосельской гимназии.
Гумилев-отец пишет прошение установленного образца и подписывает обязательства, содержащие и такой пункт:
Обязуюсь… внушать ему, чтобы при встрече с Государем Императором и членами Императорской Семьи останавливался и снимал фуражку, а при встрече с господином Министром Просвещения и товарищем его, попечителем учебного округа и помощником его, начальниками, почетными попечителями, преподавателями и воспитателями гимназии отдавал им должное почтение.
11 июля 1903 года директор Царскосельской гимназии Иннокентий Федорович Анненский подписывает распоряжение о принятии Николая Гумилева в гимназию — на положении интерна (пансионера), однако с разрешением жить дома. Последнее мотивировалось отсутствием мест в пансионе. Живет гимназист с родителями — в доме Полубояриновой, на углу Средней и Оранжерейной улиц.
Не стоит думать, что Николаевская Царскосельская гимназия (несмотря на статус императорской) была каким-то особо привилегированным или аристократическим учебным заведением. Вот свидетельство преподавателя Б. Б. Варнеке, относящееся как раз к началу XX века:
Состав учеников в Царскосельской гимназии был очень неодинаков. Маленький островок среди них составляли дети той литературной и служебной интеллигенции, которая жила в Царском из-за его якобы здорового климата. Но громадное большинство составляли природные царскоселы: в Царском жили гвардейцы и придворные: они своих детей отдавали не в гимназию, а в Лицей или Пажеский корпус, на долю гимназии оставались мелкие придворные чиновники и лакеи царя или великих князей.
Учебные успехи Гумилева были по-прежнему более чем скромны. В седьмом классе он получает лишь одну годовую четверку — по закону Божию. В трех четвертях он удостаивается хорошей отметки по русскому языку, но тройка с минусом в последней четверти портит дело; итог — годовая тройка. Никакие познания в российской словесности не могли перевесить «орфографический кретинизм» начинающего поэта. История и греческий (который преподает сам директор) — тройки, физика — тройка с минусом. Две четвертные двойки и годовая тройка по французскому. Наконец, двойки по математике и латыни… Экзаменов по этим предметам Гумилев сдать не смог и вновь остался на второй год[25].
Но и в следующем году Гумилев учится немногим лучше. Четверку он получает лишь по закону Божию, по латыни с трудом вытягивает на тройку с минусом, а по математике получает даже «два с минусом». По всем остальным предметам — тройки. Возможно, именно в этот момент встает вопрос об отчислении из гимназии, и именно тогда директор, как утверждают, заступился за ученика, сказав: «Да, господа! Все это верно. Но ведь он пишет стихи!» Впрочем, в это время (весной 1905 года) положение самого Анненского было более чем шатко.
Поэзия из приватного увлечения становится главным фактором жизни Гумилева — а также тайной нитью, связывающей (пока неведомо для обоих) директора с семиклассником-двоечником. Но прежде чем говорить о директоре — немного о самой гимназии.
Здание Царскосельской гимназии. Открытка, 1900-е
Основана она была в 1870 году и располагалась в здании, первоначально построенном архитектором И. Монигетти в 1862–1869 годы для богадельни. В 1889 году архитектор Смирнов надстроил в здании гимназии третий этаж. Рядом находилась ратуша, построенная также Монигетти в 1862–1865 годы.
Эпоха Анненского в истории гимназии и его собственная педагогическая деятельность описываются мемуаристами очень по-разному. Существует немало апологетических отзывов. Эрих Голлербах, учившийся в реальном училище, понаслышке свидетельствует: Анненский «сумел внести в суть гимназической учебы нечто от Парнаса, и лучи его эллинизма убивали бациллы скуки. Из греческой грамматики он делал поэму, и затаив дыхание слушали гимназисты повесть о каких-то «придыхательных». Как преподаватель древних языков, Беликов, Анненский, естественно, был сторонником классического образования, что плохо сочеталось с его довольно левыми политическими взглядами. По свидетельству преподавателя П. П. Митрохина, «при поддержке весьма немногих он имел мужество заявить, что система Толстого[26] при всех ее вольных и невольных грехах была попыткой европеизации русского образования»[27]. Митрохин не скупится на похвалы своему бывшему начальнику:
И ученики, и мы, преподаватели, любили его… за то, что он сумел вдохнуть в нас любовь к нашему делу и давал простор в проявлении наших сил и способностей… И. Ф. не приказывал, а лишь просил и советовал. И таково было его обаяние… что слушали и слушались все не только с вниманием, но и с воодушевлением. Его любили, и он нравился — и своей своеобразно красивой наружностью, и своей всегда деликатной, несколько старомодной манерой обращаться с людьми, и своей неизменной добротой к нашим нуждам и запросам… В конце концов вокруг И. Ф. сложилась целая школа педагогов и ученых.
Вдохновляющая картина! Но вот как описывает гимназию интересующей нас поры (1903–1905) учившийся там в то время поэт Дмитрий Кленовский:
В грязных классах, за изрезанными партами галдели и безобразничали усатые лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом классе по два года, а то и больше. Учителя были под стать своим питомцам. Пьяненьким приходил в класс и уютно подхрапывал на кафедре отец дьякон. Хохлатой больной птицей хмурился из-под нависших седых бровей полусумасшедший учитель математики, Марьян Генрихович. Сам Анненский появлялся в коридорах раза два, три в неделю, не чаще, возвращаясь в свою директорскую квартиру с урока в выпускном классе, последним доучивавшем отмененный уже о ту пору в классических гимназиях греческий язык… Он выступал медленно и торжественно, с портфелем и греческими фолиантами под мышкой, никого не замечая, вдохновенно откинув голову, заложив правую руку за борт форменного сюртука. Мне он напоминал тогда Козьму Пруткова с того известного «портрета», каким обычно открывался томик его произведений. Анненский был окружен плотной, двигавшейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться.
И это далеко не единственное свидетельство такого рода.
Истина лежит, вероятно, посередине. Великий поэт, крупный ученый, талантливый педагог, человек либеральных наклонностей и хороший администратор — такое сочетание качеств, скажем прямо, не кажется правдоподобным. И если преподавателям и ученикам жилось при Анненском вольготно, это не значит, что гимназия как учебное заведение функционировала безупречно. Разумеется, в гимназии были педагоги получше описанных Кленовским. Имена некоторых из них известны — математик и инспектор (завуч, по современной терминологии) И. М. Травчатов, латинист А. А. Мухин, учитель русского языка В. И. Орлов. Кто-то из них служил в гимназии и прежде, других привел Анненский.
Что мог знать в то время Николай Гумилев о директоре Царскосельской гимназии?
Что Иннокентию Федоровичу Анненскому под пятьдесят (родился 20 августа 1855 года). Что старший брат его, Николай Федорович, — известный общественный деятель и экономист, невестка (жена Н. Ф. Анненского), Александра Никитична, — детская писательница и переводчик. Что сам Анненский, закончив некогда историко-филологический факультет Петербургского университета, преподавал некоторое время в гимназии Гуревича, но ушел оттуда задолго до поступления в нее Гумилева; что он заведовал в Киеве четырехклассным училищем Павла Галагана, пока не был назначен директором гимназии — сперва 8-й, располагавшейся на Васильевском острове, потом, в 1896 году, Царскосельской.
Иннокентий Анненский. Фотография Л. Городецкого. Царское Село, 1900-е
Гимназисты могли знать, что Анненский женат и что у него есть взрослый сын. И конечно, Николай Гумилев не мог пройти мимо выполненнных директором гимназии переводов трагедий Еврипида, публиковавшихся начиная с 1894 года. Трагическая сложность, изломанность, парадоксальность характеров древнегреческого «декадента» (ибо именно так воспринимался автор «Медеи» афинской публикой времен Пелопоннесской войны) не могли быть не близки людям рубежа XIX–XX веков. Директор Царскосельской гимназии заставил древнего поэта говорить живым русским языком и гибким русским стихом, помнящим и Тютчева, и Некрасова, — сумев не пожертвовать при этом мощным и трагическим духом античности. Возможно, Гумилев прочитал и оригинальные трагедии Анненского «в античном духе» — «Меланиппа-философ» и «Царь Иксион», напечатанные с полным именем автора в 1901–1902 годы.
Не мог не знать Гумилев и того, что памятник Пушкину-лицеисту, появившийся в 1899 году в садике за Знаменской церковью, поставлен во многом именно стараниями Анненского. Вполне вероятно, что он читал вышедшую отдельным изданием речь, произнесенную директором перед царскосельскими гимназистами 27 мая 1899 года:
Сто лет тому назад в Москве на Немецкой улице родился человек, которому суждено было прославить свою родину и стать ее славой.
Бог дал ему горячее и смелое сердце и дивный дар мелодией слов сладко волновать сердца. Жребий судил ему короткую и тревожную жизнь и ряд страданий. Сам он оставил миру труд, ценность которого неизмерима. Этого человека звали Александр Сергеевич Пушкин.
Анненский — одним из первых! — заговорил о Царском Селе не как об императорской резиденции, но как о «городе муз», освященном тенью Пушкина.
Именно здесь, в этих гармонических чередованиях тени и блеска: лазури и золота; воды, зелени и мрамора; старины и жизни; в этом изящном сочетании природы с искусством Пушкин еще на пороге юношеского возраста мог найти все элементы той строгой красоты, которой он остался навсегда верен и в очертаниях образов, и в естественности переходов, и в изяществе контрастов (сравните их хотя бы с прославленными державинскими), и даже в строгости ритмов (например, в пятистопных ямбах «Бориса Годунова», где однообразная и величавая плавность достигается строгим соблюдением диерезы после четвертого слога).
Этот очаровательный пассаж, где эффектные риторические конструкции вдруг заканчиваются профессиональным стиховедческим замечанием (заведомо малопонятным аудитории), во многом соотносится с тем образом незадачливого ученого и чудаковатого директора-«грека», который рисует Кленовский. Но Гумилев и в первый год обучения в Царском Селе мог знать о своем директоре достаточно, чтобы преувеличенно прямая осанка этого немолодого человека в форменном мундире, с одутловатым лицом, «с болезненным румянцем на щеках», временами отпускавшего угрюмые чиновничьи усики, не напоминала ему о Козьме Пруткове.
Но главного он не знал. Собственно, о самых существенных сторонах жизни Иннокентия Федоровича Анненского мы и сегодня знаем мало. Известно, что он, женившись двадцати четырех лет на почти 40-летней вдове, в зрелые годы полюбил Ольгу Хмара-Борщевскую, жену своего пасынка, и она ответила ему взаимностью, но от близости с ней Анненский сознательно отказался, не желая разрушать жизнь дорогих ему людей. Тристанов меч — образ, никогда не упоминающийся в поэзии Анненского, но присутствовавший в его жизни. И в этом (как и во всех остальных отношениях) он был полной противоположностью своего ученика. В течение четверти века, с перерывами, он писал стихи, не думая о публикации, пока в один прекрасный день не сжег их и не начал все сначала. Его подлинный творческий путь начался примерно в сорок четыре года (1899–1900 годами датируют исследователи большинство стихотворений книги «Тихие песни») и продолжался десять лет. Этого хватило ему, чтобы стать первым русским поэтом ХХ века. Первым по времени — и одним из первых по рангу.
Дмитрий Коковцев, 1910-е
Поначалу, однако, судьба теснее свела Гумилева с другими царскосельскими стихотворцами, более близкими ему по возрасту и положению. Одним из них был его одноклассник Дмитрий Иванович Коковцев (также Коковцов; 1887–1918). Дебютировав в печати практически одновременно с Гумилевым (стихотворение «Памяти Жуковского». «Новое время», 23 апреля 1902), он позднее выпустил три книги стихов — «Сны на Севере» (1909), «Вечный поток» (1911) и «Скрипка ведьмы» (1913). По выходе последней книги против автора было возбуждено уголовное дело по обвинению в «оскорблении религиозного чувства» (вскоре, впрочем, закрытое). Возмущение цензоров вызвали, в частности, такие строки:
И, песни дикие слагая, Пойдет монах к смиренным братьям. И в церкви девочка нагая Придет плясать перед распятьем.В 1917–1918 годы, после октябрьского переворота и до закрытия оппозиционных газет, Коковцев выступал как публицист в изданиях кадетской направленности («Речь», «Век»), где напечатал и несколько литературно-критических статей. Умер он, как утверждает Кленовский, от холеры.
Коковцев примыкал к кругу чрезвычайно многочисленных (и напрочь забытых) стихотворцев-традиционалистов, вплоть до 1917 года (когда появились иные проблемы) продолжавших осуждать «декаданс». При этом в собственном творчестве он был как раз «декадентом», одним из (также очень многочисленных) подражателей Брюсова.
Гумилева сблизило с Коковцевым увлечение поэзией. Особенно выбирать ему не приходилось: юноше, читавшему непонятные для окружающих книги, знавшему непонятные слова — и притом по-отрочески угловатому и по-отрочески самолюбивому, трудно было найти себе друзей в Царском Селе. По свидетельству Ахматовой, «он был такой — гадкий утенок в глазах царскоселов. Отношение к нему было плохое среди сограждан, а они были на такой степени развития, что совершенно не понимали этого»[28]. Это относится и к знакомым родителей, и к одноклассникам, и к большинству учителей. По словам самого Гумилева (в разговоре с О. Мочаловой), соученики звали его bizarre, то есть «странный». В своих неопубликованных мемуарах Н. Н. Пунин (учившийся на три, потом на два класса младше) описывает Гумилева гимназической поры так: «Некрасивый, со тщательно сделанным пробором в середине головы, он ходил всегда в мундире на белой подкладке, что считалось среди товарищей высшим шиком. Вокруг него шли слухи, гудела молва. Говорили о его дурном поведении, его странных стихах и странных вкусах».
Начался второй круг жизни — и все преодоленное возвращается вновь: одиночество, бессилие, уязвимость. Набоб Красноглазый снова превращается в гадкого утенка, и снова, как в раннем детстве, надо прилагать усилия, чтобы отстоять свое место в мире. У Гумилева это выходило. Как рассказывал в 20-е годы Пунин Лукницкому,
и над Коковцевым тоже издевались товарищи. Но отношение товарищей к Гумилеву и к Коковцеву было совершенно разное. Коковцев был великовозрастным маменькиным сынком, страшным трусом, и товарищи издевались над ним по-гимназически — что-то вроде запихивания гнилых яблок в сумку, вот такое… Николая Степановича они боялись и никогда не осмелились бы сделать с ним что-то подобное, как-нибудь задеть его… Наоборот, к нему относились с великим уважением и только за глаза иронизировали над любопытной, вызвавшей их и удивление, и страх, и недоброжелательство «заморской штучкой» — Колей Гумилевым.
Это — гимназисты. Старшие же, по словам Н. Оцупа, «ставили в пример» Гумилеву Митеньку Коковцева и его стихи. Так Пушкину и Дельвигу здесь же, в Царском Селе, веком раньше ставили в пример Илличевского.
О «своеобразии» Коковцева любопытно рассказывает расположенный к нему Кленовский:
Когда на Страстной неделе ученики говели в круглой гимназической церкви, Коковцев, большеголовый, с характерными, какими-то средневековыми чертами лица, становился впереди всех, истово крестился, долго, никого не замечая, молился, а время от времени падал ниц, касаясь лбом земли, и лежал так долго-долго. В этом не было рисовки, религиозность не была тогда в моде.
Но если это и не было рисовкой, то было неадекватностью, болезненной экзальтацией.
Валентин Кривич, 1910-е
Так или иначе, одиночество в кругу товарищей тоже могло способствовать сближению, пусть недолгому, Гумилева и Коковцева. Отец Коковцева преподавал в гимназии, и в его доме устраивались литературные вечера. На них бывали Анненский и его сын — чиновник Министерства путей сообщения и поэт, писавший под псевдонимом Валентин Кривич (1880–1936). В своей вполне качественной и не уступавшей среднему уровню эпохи лирике Кривич подражал отчасти отцу, отчасти Брюсову, отчасти Бунину, но был великолепным рассказчиком и «щедрым Амфитрионом рукописных поэтов» (Голлербах). Читал ли Кривич свои стихи на вечерах у Коковцева, и главное — читал ли свои стихи Иннокентий Анненский? Едва ли. Слишком много слишком разных людей собиралось в этом доме. Список, приводимый Лукницким, удивителен: с одной стороны, публицист М. О. Меньшиков, который с полным правом мог бы сказать о себе словами депутата Пуришкевича — «правее меня только стенка»; с другой — молодой преподаватель Царскосельского реального училища, исследователь Некрасова В. Е. Евгеньев-Максимов, человек совершенно противоположных воззрений, который, по словам его ученика Э. Голлербаха, «был так взволнован революцией, что забывал надеть галстук и застегивать штаны», или экономист-марксист М. Е. Туган-Барановский. Впрочем, в России во многих салонах встречались и «слуги царской власти, и недруги ее отчасти», а в Царском Селе выбирать особенно не приходилось. Из писателей в вечерах, кроме Анненского, участвовали В. Микулич (Лидия Ивановна Веселитская), автор имевшей успех трилогии про «Мимочку» (образец дамской словесности того времени)[29], и Случевский. Едва ли последний часто бывал в доме Коковцева — редактор «Правительственного вестника», член совета Министерства внутренних дел, член ученого комитета Министерства народного просвещения, гофмейстер двора Константин Константинович Случевский жил зимой в Петербурге, а летом — в своем имении «Уголок». Но даже если он лишь раз удостоил этот царскосельский литературный салон своим визитом — об этом должно упомянуть. Случевский, уже старик (в 1904 году он умер 67 лет от роду), мог стать первым, наряду с Анненским, настоящим поэтом, встреченным Гумилевым в жизни. «Поэт противоречий», как назвал его ценивший его и многому научившийся у него Брюсов, мистик и позитивист, хлебосольный хозяин, в чьем доме не один год по пятницам собирались столичные писатели, и мрачный мизантроп, он некогда бросил одинокий вызов слащаво-мещанскому вкусу своей эпохи. Его самое страшное и самое знаменитое стихотворение — «После казни в Женеве», аукается с самым знаменитым стихотворением Гумилева:
Казнили. Голова отпрянула, как мяч! Стер полотенцем кровь с обеих рук палач, А красный эшафот поспешно разобрали, И унесли, и площадь поливали.Сравните:
…Вместо капусты и вместо брюквы Мертвые головы продают. В красной рубахе, с лицом как вымя, Голову срезал палач и мне, Она лежала вместе с другими Здесь, в ящике скользком, на самом дне.После смерти старого поэта кружок «Вечера Случевского» продолжал собираться до самой революции, и Гумилев не раз бывал там. Но это было уже в годы его профессиональной литературной работы и профессионального признания. Пока же — на домашних вечерах у Коковцева — его «декадентские» стихи не имели успеха. Хозяина дома они просто шокировали.
Кроме Коковцева, мы знаем имена еще двух одноклассников, с которыми Гумилев приятельствовал. Один — уже поминавшийся Владимир Михайлоич Дешевов (1889–1955), позднее композитор и дирижер, работавший в послереволюционное время в Крыму и в Ленинграде, второй — Мариан Марианович Згоржельский, сын «полусумасшедшего Марьяна Генриховича», так желчно описанного Кленовским. Згоржельский застрелился в 1909 году, и его памяти посвящено, по свидетельству Ахматовой, стихотворение «Товарищ»:
Старый товарищ, древний ловчий, Снова встаешь ты с ночного дна, Тигра смелее, барса ловче, Сильнее грузного слона. Помню, все помню; как забуду Рыжие кудри, крепость рук, Меч твой, вносивший гибель всюду, Из рога турьего твой лук?2
Стилизованный образ Гумилева этой поры дает Голлербах в «Городе муз»:
Болтовня с гимназистками, прогулки с декадентскими барышнями при свете луны, освещающей чесменские ростры…
— Николай Степанович, вы — революционер или монархист?
— Монархист. Но при условии, чтобы правила красивая императрица.
— Николай Степанович, посоветуйте, какое мне сделать платье?
И размеренный, спокойный ответ, сразу, без колебаний:
— Платье? Пурпурно-красное или серое с серебром. Но, дитя мое, зачем вообще платье? «Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать!» «Дитя мое. Будем, как Солнце!»
Внимательно смотрят с небес голубые звезды, мерцая нежно и сочувственно; бархатный покров ночи окутывает сцену, достойную кисти Сомова.
Описанное — в основном плод художественной фантазии Голлербаха. О том, что Гумилев — «монархист, однако желает, чтобы правил не император, а императрица», автор «Города муз» слышал, судя по его собственным воспоминаниям, в послереволюционное время, и не от самого Гумилева, а от общих знакомых. Что же до всего остального… Судя по приведенной в предыдущей главе дарственной надписи Марианне Поляковой, стихи Бальмонта входили в ритуал ухаживания гимназиста Гумилева за царскосельскими барышнями — по большей части совсем не декадентками. Единственный шанс семнадцатилетнего косоглазого кавалера заключался в том, чтобы ошеломить своей необычностью.
В числе знакомых, заведшихся у юного Гумилева после возвращения в Царское Село, была 15-летняя Валерия Сергеевна Тюльпанова (впоследствии по мужу Срезневская). Братья Гумилевы брали уроки музыки у Елизаветы Михайловны Баженовой. Трудно сказать, что дали эти занятия Николаю — лишенному музыкального слуха и до конца жизни глубоко к музыке равнодушному — и на каком инструменте он пробовал играть. Тюльпанова также занималась у Баженовой; Дмитрий Гумилев чем-то Баженовой полюбился, и она познакомила его с Валерией, введя в дом Тюльпановых. Чуть позже с ней познакомился Николай. Срезневская дальше упоминает, что «знала его (Гумилева. — В. Ш.) с десятилетнего возраста». Возможно, занятия у Баженовой происходили еще до первого отъезда из Царского Села (1895) или по крайней мере до отъезда из Петербурга (1900)?
Гостиный двор в Царском Селе. Открытка, 1900-е
Едва ли об этом стоило бы рассказывать, если бы 24 декабря 1903 года, в сочельник, в солнечный день братья Гумилевы, гуляя у царскосельского гостиного двора, не встретили Тюльпанову, покупающую елочные украшения — в обществе ее брата Сережи и незнакомой юной девушки. Тюльпанова представила братьям свою подругу и соседку — Аню Горенко. «Мы пошли дальше уже вместе, — вспоминает Срезневская, — я с Митей, Аня с Колей, за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, а я тем менее…»
Вероятно, это трюизм, но самые значительные события жизни часто происходят буднично и незаметно. В данном случае к тому же герою — семнадцать лет, а героине — четырнадцать. Тем не менее личность ее уже во многом сформировалась.
Вот как описывает ее Срезневская:
Аня писала стихи, очень много читала дозволенных и недозволенных книг… Она… стала стройной, с прелестной хрупкой фигурой развивающейся девушки, с черными, очень длинными и густыми волосами, прямыми как водоросли… с несколько безжизненной бледностью определенно вычерченного лица, с глубокими, большими светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне темных волос и темных бровей и ресниц. Она была неутомимой наядой в воде, неутомимой скиталицей-пешеходом, лазала как кошка и плавала как рыба. Почему-то ее считали «лунатичкой», и она не очень импонировала благонамеренным обитательницам затхлого и очень дурно и грубо воспитанного Царского Села.
Анна Горенко, 1900-е
Сравним ее описание Гумилева:
…В этот ранний период он был несколько деревянным, высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри… Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлиненным бледным лицом — я бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной элегантности… Говорил он чуть нараспев, нетвердо выговаривая «р» и «л», что придавало его говору совсем не уродливое своеобразие…
К сожалению, у нас нет точной антропометрической характеристики Гумилева. Если все свидетельства подчеркивают его «худобу» и «узкоплечесть» — не только в юношеские годы, но и позднее, когда многие люди раздаются вширь, то относительно роста есть расхождения. По одним свидетельствам, он был очень высок, по другим — среднего роста. Групповые фотографии подтверждают скорее вторую оценку. Надо учитывать, что средний рост мужчин тогда был пониже, чем сейчас: примерно 165–170 сантиметров. Предположим, Гумилев был несколько выше — сантиметров 175.
Авантюрная жилка, которую Гумилев позднее сознательно будет в себе культивировать, конечно же проявлялась и в юности. Гумилев бывал в доме смотрителя 2-го Царскосельского округа уделов Вульфиуса, общался с его многочисленными детьми, читал свои стихи. Вульфиусы тоже бывали у Гумилевых. Зимой 1903/04 года Николай страстно увлекся игрой в винт. Его постоянным партнером был Курт Вульфиус, тоже великовозрастный гимназист-второгодник (потом сдал экстерном, окончил университет и стал врачом-гомеопатом). Однажды за игрой они поспорили, и, как пишет брат Вульфиуса Анатолий,
решена была дуэль на шпагах. Дуэльных шпаг не оказалось, и решено было воспользоваться учебными рапирами, но т. к. последние были снабжены предохранительными пластинами на концах, то наши герои не задумываясь вышли на улицу и стали стачивать о камни металлические кружочки. Дуэль была назначена в Вырице — дачном месте в нескольких шагах езды от Царского Села по Виндавской ж. д. За пять минут до отхода поезда на дачу прибежал брат Гумилева Дмитрий, тогда гимназист 8-го класса.
— Директор требует вас обоих немедленно к себе, — крикнул он.
Оказывается, один из секундантов, студент Л., счел благоразумным предупредить брата Дмитрия, чтобы таким образом задержать секундантов.
Дуэль не состоялась, и долго в Царском смеялись, вспоминая рапиры[30].
Другому однокласснику (не Згоржельскому ли?) он пытался помочь в умыкании некой девицы-гимназистки, дочери школьного инспектора из Рязани. Гумилев уговаривал свою сестру «приютить беглецов» в ее комнате недели на две.
Все эти мелкие приключения могли покорить сердце многих барышень, но, конечно, не Ани Горенко. Разговорами о Бальмонте прельстить ее также было трудно: к пятнадцати годам она прочитала французских символистов в оригинале.
В первые месяцы встречи происходили на улице и как бы случайно: Гумилев подкарауливал Анну, прогуливающуюся с Тюльпановой. Девочки явно тяготились его обществом и, чтобы досадить ему, декламировали вслух стихи на неизвестном и ненавистном ему немецком языке.
Весной 1904 года Гумилев на концерте в Павловске (одном из знаменитых концертов на вокзале, воспетых впоследствии Мандельштамом) познакомился и подружился с братом Анны. Срезневская полагала, что сделал он это, исключительно чтобы получить доступ в дом своей возлюбленной. Но Андрей Андреевич Горенко (1886–1920), латинист, блестяще образованный юноша, хорошо знавший и понимавший поэзию — от античной до модернистской, был одним из немногих царскоселов, с которыми Гумилев мог говорить на одном языке. Андрей Горенко, кстати, должен был стать его секундантом на дуэли с Вульфиусом.
Андрей Горенко, 1900-е
На Пасху 1904 года Гумилевы давали бал, на который была приглашена и Аня Горенко — вероятно, вместе с родителями и братом. Примерно в это же время сам Гумилев начинает бывать в доме Шухардиной на Широкой улице, на углу Безымянного переулка. Квартиру внизу занимали Тюльпановы, верхний этаж — Горенко. Место — в двух шагах от вокзала; это было важно: отцы обеих девочек каждый день ездили на службу в Петербург. При доме был большой сад — забор его тянулся вдоль переулка, параллельно железнодорожной линии; на другой стороне переулка находилось здание Уездной земской управы, а дальше — провиантский магазин; чуть левее, в конце Оранжерейной улицы, располагалась бойня, а там уж Царское Село кончалось. Сейчас переулка нет: его место занимает большая вокзальная площадь. Старый вокзал, построенный при Николае II, сгорел в войну — на его месте выстроен новый, образец «сталинского ампира».
Ахматова считала, что знаменитые строки Гумилева:
А в переулке забор дощатый, Дом в три окна и серый газон… —относятся именно к дому Шухардиной. И конечно, именно он описывается в строках самой Ахматовой («Царскосельская ода», 1961):
Здесь не древние клады, А дощатый забор, Интендантские склады И извозчичий двор.Эти деревянные привокзальные улочки, такие, казалось, далекие от находящихся по соседству парадных царскосельских парков и великокняжеских особняков, не случайно ассоциировались в сознании Ахматовой не то с глубинными, древними, среднерусскими «Темником и Шуей», не то с Витебском Шагала.
Дом деревянный, темно-зеленый, с неполным вторым этажом… В полуподвале мелкая лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом такого рода заведений. С другой стороны (тоже на Безымянном), тоже в полуподвале, мастерская сапожника, на вывеске — сапог и надпись: «Сапожник Б. Неволин». Летом в низком открытом окне был виден сам Б. Неволин за работой. Он в зеленом переднике, с мертвенно-бледным, отекшим лицом пьяницы… Все это могло быть превосходным кадром современной кинокартины (Ахматова, «Pro domo sua»).
Гумилев сюда был вхож прежде всего как приятель Андрея Горенко. «Я была в таком возрасте, — вспоминала в разговоре с Лукницким Анна Андреевна, — что не могла иметь собственных знакомых — так считалось». Горенко-отец, Андрей Антонович, крепкий жизнелюбивый моряк, не слишком привечал юного «декадента». Дочь он воспитывал очень строго и не пускал ее даже на каток (работавший по пятницам) и на «журфиксы» (на деле «скромные студенческие вечеринки: пили чай с пряниками, болтали») к старшей сестре Инне и ее мужу филологу Сергею Штейну. Тем не менее Анна бывала и там и там — мать отпускала ее, когда отца не было дома. Штейн оставался ее другом и конфидентом и после того, как Инна, совсем юной, умерла. В начале 1905-го Валентин Анненский (Кривич) женился на сестре Штейна, и с этого времени вечеринки проходили в его квартире — в здании гимназии. Тот же «чай с пряниками» у Анненских подавал лакей в белых перчатках. Сын жил рядом с отцом, но отдельно от него, и едва ли Иннокентий Федорович удостаивал «журфиксы» своим посещением. (Известна лишь его фраза в связи с женитьбой Сергея Штейна на старшей из сестер Горенко: «Я бы выбрал младшую».) Так или иначе, цепочка, отделявшая нерадивого гимназиста от директора, становилась все короче.
Впрочем, в тот момент Гумилева, вероятно, больше заботили отношения с Анной Горенко. По Лукницкому, они (кроме домов Штейнов и Анненских) ходили на гастрольные выступления Айседоры Дункан, участвовали в неком любительском спектакле в клубе на Широкой улице и даже в спиритических сеансах у Бернса Мейера. Спиритизм был в большой моде еще с 1880-х годов — когда Толстой высмеял его в «Плодах просвещения». Эта «прикладная магия» комфортно соединяла позитивистский дух второй половины XIX века и тягу к неведомому, характерную для новой эпохи. «Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут применение в технике, подобно пару и электричеству», — говорил Брюсов юному Ходасевичу. Трудно сказать, что имелось в виду: не повозки же, запряженные духами? Редактор «Весов» не только сам был завсегдатаем медиумических сеансов, но и писал страстные статьи в защиту спиритической практики в журнале «Ребус». В бормотании медиумов он склонен был слышать «разумные духовные сообщения из иной области бытия».
Как указывает Р. Д. Тименчик[31], Гумилев попросил Дешевова расписать стены его комнаты видами «подводного царства». Анна была изображена в виде русалки — должно быть, не очень удачно: очевидец (Лев Аренс) принял ее за «водяного».
Один эпизод отношений Анны Горенко и Гумилева, относящийся к той поре, зафиксирован в мемуарах поэта Всеволода Рождественского, сына царскосельского священника (и законоучителя в мужской гимназии) и брата Платона Рождественского, одноклассника Гумилева. Обо всем, относящемся к юности Гумилева, Рождественский (родившийся, как и Голлербах, в 1895 году) говорит понаслышке и с неточностями в деталях. Тем не менее в данном случае он ссылается на свою старшую сестру — и то, что он рассказывает, похоже на правду.
Был день рождения Ани, в доме собрались ее юные приятельницы и приятели — и все с подарками и цветами. Несколько запоздав… явился расфранченный Коля с таким же пышным букетом. Мать Ани, Инна Эразмовна… сказала не без иронии: «Ну вот и Коля, и уже седьмой букет у нас на столе. Ставьте его сюда в дополнение к остальным!» Коля обидчиво вспыхнул, но, не сказав ни слова, присоединил свой букет к уже стоявшим. Некоторое время он сидел молча, а потом вдруг исчез… Через полчаса Коля появляется с таким же пышным букетом. «Как мило, Коля, с Вашей стороны осчастливить нас и восьмым букетом!» — рассмеялась И. Э. «Простите, — холодно отчеканил Коля, — это — не восьмой букет, это — цветы императрицы!» Оказывается, он перелез через дворцовую решетку «Собственного сада» и опустошил значительную часть клумбы под самыми окнами флигеля Вдовствующей.
Обстоятельство, заставляющее все же усомниться в этом эпизоде (сам Рождественский подчеркивает его легендарность), — топографическое. «Собственный садик» (огороженная и закрытая для посещения часть Екатерининского парка) находился от дома Шухардиной на расстоянии по меньшей мере получаса хода в одну сторону. Тем не менее символическая нагрузка этой, пусть апокрифической, истории огромна.
Ахматова в Царскосельском парке, на скамейке, где Гумилев весной 1904 года объяснился ей в любви. Фотография П. Н. Лукницкого, 1925 год
Гумилев хотел быть подданным императрицы (об этом пишет не только Голлербах); непосредственно за строками про «забор дощатый» идут такие:
Как ты стонала в своей светлице! Я же с напудренною косой Шел представляться Императрице…Мы еще не раз вернемся к этим словам и к загадочной Машеньке, «стонавшей в светлице», — слишком много противоречивых трактовок и слишком много легенд связано с этими двумя строфами «Заблудившегося трамвая». Пока же вспомним две важных детали. Первая: в 1907 году на даче Шмидта Гумилев, увидев распухшее от свинки лицо Анны Горенко, сказал ей, что она «похожа на Екатерину II». Вторая: один из итальянских журналистов, описывающий вручение Ахматовой в 1964 году (шестьдесят лет спустя!) премии «Этна Таормина», заметил, что «понял, почему в России время от времени царствовали не императоры, а императрицы». Царственность престарелой Анны Андреевны — общее место ахматоведения. Пишущий стихи 18-летний юноша принес «цветы из сада императрицы» 15-летней дочери морского чиновника — и она спустя годы стала некоронованной императрицей русской поэзии.
Весной 1904 года Гумилев впервые объяснился Анне Горенко в любви — под неким деревом в Екатерининском парке. В 1905 году он впервые сделал ей предложение и получил отказ. Это стало причиной их первого долгого (на два года) разрыва. В любом случае Анна Горенко Царское Село покинула. Летом того же года Горенко-отец был уволен со службы в Адмиралтействе и под предлогом отсутствия средств отправил жену и детей в Киев, сам же связал свою жизнь с вдовой адмирала Страннолюбского. Гумилев, вероятно, не мог знать подробностей этой истории, не знал он про разыгравшийся тогда же страстный и драматический роман Анны с Владимиром Голенищевым-Кутузовым, студентом-правоведом.
Встреча, произошедшая 24 декабря 1903 года, очень многое определяла в жизни Гумилева до самого конца. Была то проходящая через всю жизнь любовь к женщине или просто зачарованность очень талантливой, сильной и властной (при видимом смирении) человеческой личностью — трудно сказать. Гумилеву с раннего детства приходилось нечто о себе доказывать — себе и другим. Теперь появился постоянный объект. Беда в том, что Ахматова, кажется, меньше всего нуждалась в тех доказательствах мужественности, доблести и независимости, которые Гумилев предоставлял ей.
В разговоре с Одоевцевой он определил свой внутренний возраст как «тринадцать лет», а возраст Ахматовой как «пятнадцать, переходящие в тридцать». Пятнадцатый год шел ей в год их первой встречи, тридцатый — в год окончательного расставания. Она была всегда немного старше его — физически будучи на три года младше. «Мальчик, на полгода меня моложе», несчастно влюбленный в лирическую героиню ахматовской поэмы «У самого моря», — узнал ли в нем Гумилев себя? В 1921 году — вскоре после смерти Гумилева — Ахматова как будто посвятила поэму его памяти: вписала посвящение в один из экземпляров «Подорожника». Не случайно самоопределение ее героини — «Я была сильной, злой и веселой» — буквально воспроизведено в знаменитом программном стихотворении из «Огненного столпа»: «Много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей…» Сам Гумилев заставил себя быть сильным — но он не был особенно веселым, и уж конечно у него никогда не получалось быть злым.
3
И Гумилев, и Аня Горенко, и некоторые другие молодые царскоселы были зачарованы новой культурой — увлекательной, соблазнительной, экзотичной. Но до поры до времени лишь обрывки ее долетали до тихого и недолюбливающего «декадентов» Царского Села — стихи русских и французских символистов, скандальные античные пляски «босоножки» Дункан.
Однако в 1904 году в Москве возник журнал, призванный дать широкому читателю в России представление о том, что большинство образованных россиян по старой памяти называли «декадансом». Именно журнал «Весы», созданный на средства текстильного предпринимателя, математика и переводчика-полиглота С. А. Полякова и редактируемый Валерием Брюсовым, по-настоящему открыл для Николая Гумилева (и не для него одного) новейшие течения русской и мировой культуры.
Слава Валерия Брюсова, родоначальника и первого провозвестника русского символизма, чьи пять книг, вышедших к 1903 году, вызвали бурную полемику в печати, все же уступала славе Бальмонта. В брюсовских стихах не было ни музыкальности, ни благозвучия. Начав с подражаний всей французской поэзии второй половины XIX века разом, он все больше тяготел к рационализму и формализму Парнаса. Но в холодные парнасские формы он внес яростный волевой напор, властную энергию — которая современникам казалась энергией поэтической. И если Бальмонта предпочитал широкий читатель — авторитет Брюсова был выше в профессиональной литературной среде.
К началу 1904 года звезда 36-летнего Бальмонта начинала блекнуть; звезда 30-летнего Брюсова, за плечами которого уже было десятилетие работы, только разгоралась. Рантье, сын рантье, но внук крепкого купчины из крепостных, он создавал русский символизм как финансовую или промышленную корпорацию — правда, не зарабатывая деньги, а тратя то, что щедро давал высокообразованный, но обделенный творческими дарованиями Поляков. Брюсов был, возможно, самым буржуазным (во всех смыслах) крупным писателем за всю историю русской литературы. Разумеется, как все буржуазные писатели и буржуазные люди, он знал толк в антикапиталистической риторике.
Валерий Брюсов, 1900-е
Надо сказать, что «Весы» были не первым изданием, отражавшим вкусы и идеи «декадентов». Но, скажем, журнал «Северный вестник» Л. Я. Гуревич (дочери директора гимназии) и Акима Волынского, выходивший в 1891–1898 годы, и недолговечный «Новый путь», издававшийся в 1903–1904 годы Мережковским, Гиппиус и Дмитрием Философовым, ориентировались скорее на «новое религиозное сознание» и «новый идеализм», а не на новое искусство. Рядом со статьями Мережковского, Минского, Волынского, со стихами Бальмонта и переводами из Верлена в «Северном вестнике» печаталась кондовая народническая проза Мамина-Сибиряка и Эртеля. «Мир искусства», выходивший в 1897–1904 годы, был по определению далек от литературы. Поэтому по крайней мере в 1904–1905 годы конкурентов у «Весов» не было.
«Весы» (до конца 1905-го) были чисто теоретическим изданием и состояли из двух разделов: в первом печатались концептуальные статьи, во втором — хроника и рецензии. С художественными произведениями писателей-символистов можно было познакомиться на страницах альманаха «Северные цветы», издававшегося принадлежавшим Полякову же издательством «Скорпион». Подписчикам «Весов» выпуски «Северных цветов» доставлялись за половинную цену (три рубля вместо шести). В том же «Скорпионе» выходили книги символистов — поэтов и прозаиков.
Список сотрудников «Весов» включал почти все имена, обозначившие себя в «новом искусстве» к тому времени, — Бальмонт, Балтрушайтис, Макс (sic) Волошин, Вячеслав Иванов, Мережковский, Минский, Перцов, Розанов, Сологуб… Малоизвестные пока что Блок и Ремизов допускались лишь к ведению хроники. Хозяин журнала оставлял за собой отдел языковедения. Характерной данью времени были отделы теософии, эзотеризма и спиритизма (последний вел А. Миропольский, один из сподвижников Брюсова в середине 1890-х, когда русский символизм делал первые шаги).
В преамбуле к первому же номеру «Весы» прямо формулировали свое направление:
«Весы» убеждены, что «новое искусство» — крайняя точка, которую достигло на своем пути человечество, что именно в «новом искусстве» сосредоточены все лучшие силы духовной жизни земли, что, минуя его, нет другого пути вперед, к новым, еще высшим идеалам.
То, что называлось тогда «новым искусством», для нас имеет название более точное и емкое — модернизм. Это был фундаментальный сдвиг всей западной культуры, переосмысливший и, казалось, снявший еще вчера «роковые» и «проклятые» вопросы — например, спор чистого и ангажированного художественного творчества. Первый номер «Весов» открывался статьей Брюсова «Ключи тайн», посвященной предназначению искусства. Брюсов, естественно, издевается над утилитаристскими теориями («В повести Марка Твена о принце и нищем бедный Том, попав во дворец, пользуется государственной печатью для того, чтобы колоть ею орехи. Может быть, Том колол орехи очень удачно, но все же назначение государственной печати — иное»), однако не соглашается и с их оппонентами («Искусство во имя бесцельной Красоты (с большой буквы) — мертвое искусство»). Модернизм, как кажется его адепту, освободил искусство, и «теперь оно сознательно предается своему высшему назначению: быть познанием мира, вне рассудочных форм, вне мышления по причинности». Во втором номере журнала напечатана статья Вячеслава Иванова про пушкинское стихотворение «Поэт и чернь»: «Трагичен этот хор — «чернь», требующий у поэта духовного хлеба. Трагичен и гений, которому нечего дать его обступившим… Символизм должен примирить поэта и чернь в большом всенародном искусстве». Но спустя несколько лет «старинный спор» возобновится с прежней силой — слишком по-разному понимали сами авторы «Весов» сущность этого нового познания; мечта Иванова о «большом всенародном искусстве», о массовой синтетической мистерии Брюсову останется чужда.
Идет десятилетие, которое французы назовут belle époque. Прекрасная эпоха закончится выстрелом в Сараеве. Похмелье будет страшным… Но пока что мир, открывающийся перед человеком и перед культурой, способен был опьянить самых трезвых. Да и сегодня, сто лет спустя, перелистывая «Весы», испытываешь волнение и зависть — хотя бы при виде рецензии на книгу начинающего немецкого поэта Р.-М. Рильке Der Buch der Bilder («Молодой автор примыкает к кругу Гофмансталя и Стефана Георге, хотя уступает им в смысле внутреннего самоопределения и в смысле техники стиха» — следующей книгой Рильке будет «Часослов», написанный под влиянием поездки в Россию и проникнутый русскими образами)… Или корреспонденции молодого поэта Александра Блока о выставке, где выделяются картины молодого художника Кандинского. Счастье быть 17-летним в такие времена.
«Весы» старались, что называется, держать руку на пульсе эпохи — и публиковали все, что не укладывалось в плоский, двухмерный мир среднеинтеллигентского сознания надсоновской эпохи. С одной стороны — Василий Розанов, чей стиль и идеи Гумилеву никогда не будут близки («Неряшливый, а иногда и нарочно изломанный, обывательский язык, испещренный всякими надоедливыми кавычками…» — слова, переданные Голлербахом; хотя, по свидетельству Адамовича, Гумилев нехотя признавал Розанова «писателем полугениальным»). С другой — положим, Николай Федоров, чьи утопические построения еще меньше должны были бы привлекать Гумилева. Но трудно поверить, что тот прошел мимо статьи Федорова «О письменах», напечатанной посмертно в пятом номере «Весов». Философ говорит здесь о том, что буквы — «графическое изображение духа времени», что скоропись и стенография — свидетельства упадка человеческой культуры, это касается и восточного идеографического письма. Это уже от духовного мира Гумилева не так далеко.
Но прежде всего его должны были заинтересовать статьи чисто литературные. Сведения о французском символизме читатели «Весов» получали из первых рук: о мельчайших подробностях развития французской поэзии, о тончайших деталях полемики между разными течениями в ней рассказывал на страницах «Весов» один из главных мэтров французского символизма — Рене Гиль. Бальмонт, недавний кумир Гумилева, писал о другом его недавнем кумире — Оскаре Уайльде и, между прочим, описывал свою встречу с автором «Портрета Дориана Грея» на парижской улице вскоре после его выхода из Редингской тюрьмы:
Похожий как бы на изваяние, которому дали власть сойти с пьедестала и двигаться, с большими глазами, с крупными выразительными чертами лица, усталой походкой шел один — казалось, никого не замечая. Он смотрел несколько выше идущих людей, — не на небо, нет, — но вдаль, прямо перед собой, и несколько выше людей. Так мог бы смотреть осужденный, который спокойно идет в неизвестное.
Эта статья напечатана в первом номере «Весов» за 1904-й. Год спустя, в третьем номере за 1905-й, публикуется первый русский перевод уайльдовской «Исповеди» (De profundis), выполненный женой Бальмонта — Е. Андреевой. Перевод был неполным и несовершенным, но Гумилев, по существующим свидетельствам, был глубоко взволнован прочитанным. Что вычитал он из этого странного текста гордого, нервного и сентиментального человека, даже в страдании своем остававшегося эстетом? «История каждой личности есть мировая история или может стать таковою». Мы никогда не узнаем, вспоминал ли он эти, написанные в тюремной камере строки, сам оказавшись в тюрьме — шестнадцать лет спустя. Времена изменились: в застенки попадали по другим причинам, и выхода из них часто не было.
Гумилев читал статьи Вячеслава Иванова и Андрея Белого («Об Апокалипсисе в русской поэзии»), бесчисленные рецензии Брюсова и нового, молодого и задиристого критика «Весов» — Бориса Садовского. Это была его новая школа, и здесь он учился прилежнее, чем в гимназиях. Несмотря на разрыв с символизмом, «картина мира», сформированная «Весами», будет давать о себе знать до конца жизни. Цитируя Голлербаха:
Знаете, — говорил он, — еще недавно было два рода критиков: одни пили водочку, пели Gaudeamus igitur и презирали французский язык, другие читали Малларме, Метерлинка, Верлена и ненавидели первых за грязное белье и невежество. Так вот, честные народники — просто навоз, сейчас никому не нужный, а из якобы «прогнивших декадентов» вышла вся современная литература.
Может быть, мемуарист несколько упрощает мысль, но суть несомненна: Гумилев ощущал себя солдатом (и победителем) битвы, которую вели «Весы» и «Скорпион» против «честных народников». Знал бы он, какой реванш вскоре возьмет «никому не нужный навоз»!
Надо сказать, что сами «Весы» были поначалу весьма корректны по отношению к идеалам и идолам русской интеллигенции. Они тактично воздерживались от оценки тюремных стихов Николая Морозова (с уважением отзываясь об их авторе), они восхищались мастерством Репина, сравнивая его с Франсом Хальсом, и лишь иронизировали над его потугами писать картины на фантастические сюжеты и натуралистической трактовкой этих сюжетов. Андрей Белый почтил уважительным некрологом вождя позитивизма Герберта Спенсера. О художественном мастерстве Некрасова «Весы» всегда отзывались с глубочайшим пиететом. Чехову в течение первых двух лет выхода журнала были посвящены две большие восторженные статьи: в нем (как и в Достоевском) символисты склонны были видеть одного из своих учителей. Впрочем, «Весы» претендовали на преемственность по отношению ко всей русской литературе XIX века: не случайна старательность, с которой журнал отмечал юбилеи самых разных писателей — Тютчева, Каролины Павловой, «сперва незаслуженно превознесенного, а затем незаслуженно забытого» Нестора Кукольника. Именно эти претензии «декадентов» на статус нового мейнстрима, игнорирование прежних оппозиций и иерархий и вызывали бешенство оппонентов. Когда реакционные эстеты старого закала нападали пусть хоть на самого Белинского, это соответствовало их статусу и роли. Но добродушная снисходительность, с которой молодой эстет Садовской писал о Неистовом Виссарионе («Простодушный, не слишком образованный, но от природы умный и чуткий писатель»), была кощунством, не знающим аналогий. Какой-нибудь честный народник еще мог бы пережить хулу на поэта-революционера Огарева, но не такие (брюсовские) похвалы ему: «Пафос поэзии Огарева — бессмысленность всех надежд и безысходность всех путей. Никто лучше его не выразил весь позор человеческого чувства, бессильного, бескрылого, мгновенного». Это решительно сбивало с толку и разрушало привычное представление о мире.
Поэтому неудивительно, что статьи в изданиях самой разной направленности (от «Нового времени» до либерального «Вестника Европы» и от респектабельных столичных журналов до губернских листков), с которыми приходилось полемизировать редакции «Весов», были так агрессивны. Если что поражает, так это сочетание агрессивности с невежеством. Приписывание авторам мыслей и действий их героев, возмущение непонятными названиями, которые дают «декаденты» своим изданиям и издательствам («Гриф», «Скорпион», «Весы», «Urbi et orbi»), утверждения, что Леконт де Лиль и его последователи были прозваны парнасцами за то, что «воспевали разврат богов у Олимпа» (sic), — все это лишь ставило противников новой школы в нелепое положение. Брюсов и его сотрудники в свою очередь не церемонились с разного рода трафаретными стихотворцами — будь то «революционный поэт» Тан (в миру — крупный этнограф Владимир Богораз) или поклонник чистого искусства романсописец Ратгауз. Но, столкнувшись с мало-мальски талантливым явлением, они, как правило, старались воздать ему должное, невзирая на дружбу и вражду. Так, Брюсов решительно ставил переводы из Бодлера, выполненные одним из столпов старомодной «гражданственности», П. Я. (под этими литерами скрывался Петр Якубович, бывший террорист-народоволец), выше переводов молодого символиста Эллиса (Кобылинского). Точно так же, полемизируя с «неореалистами» из издательства «Знание», критики «Весов» делали разницу между Горьким или Леонидом Андреевым, с одной стороны, и Чириковым или Серафимовичем — с другой.
Можно сказать, что не только Гумилеву, но и целому поколению Брюсов — через свои статьи в «Весах» — привил определенный стиль и навык литературной жизни. Он создал образец, по которому лет двадцать — до формалистов — будут писать в России по крайней мере о современных стихах. Это одна из причин, объясняющих культ Брюсова в литературной среде начала века, уважение, а порою и любовь, которые он внушал. От этого человека исходило обаяние ума и силы. За это ему готовы были простить грубое честолюбие, сомнительные моральные принципы — и даже сравнительную ограниченность поэтического таланта.
Из «Весов» Гумилев, вероятно, впервые узнал об оккультизме. Отвержение плоского позитивистского мышления «отцов» вело к отрицанию прежних критериев «научности» (вспоминается знаменитый спор из «Петербурга» Белого: «Кант ненаучен. — Нет, это Конт ненаучен…»). Соединение квазинаучного языка с более или менее вульгарными мистическими фантазиями — то, что сейчас стало в основном достоянием массовой культуры и обрело свое место на уличных книжных лотках, — сто лет назад вызывало совсем иное к себе отношение. «Паранаука» была интегральной частью антропософии Штейнера, а степень влияния последней и на германскую, и на русскую духовную жизнь той эпохи в описании не нуждается. К тому же «демонисту» и практику Брюсову оккультизм и магия просто по-человечески были ближе, чем мечты о «Церкви Третьего Завета», которые питали Мережковские. В первом номере «Весов» было помещено изложение лекции Штейнера об Атлантиде: «Ныне благодаря изысканиям теософских ученых история этого материка уже довольно исследована. Мы знаем геологическую историю Атлантиды, этнографию населявших ее племен, до некоторой степени их культуру и перипетии политической жизни». 18-летнего поэта-фантазера это не могло не заинтересовать. Во втором номере за 1905 год он прочитал рецензию на книгу Папюса «Первоначальные сведения по оккультизму», подписанную псевдонимом Гармодий.
Как Древний Восток, так и древность Эллады и Рима знала два рода наук: внешних, явных, и тайных, скрытых… Новые завоевания историков, прочитавших гиероглифы и клинообразные письмена, обнародовавших тайные книги индусов, сделавших известными клинопись майев — дала им в руки… средства для восстановления утраченных человечеством знаний. И вот на наших глазах возник новый оккультизм, вооруженный всеми силами современной положительной науки и стремящийся создать новую алхимию, новую астрологию, новую магию, новую психургию.
Жерар Анаклетр Винсент Анкосс (1865–1916), принявший псевдоним Папюс, что означает «врач», в частной жизни и в самом деле был врачом, имел степень доктора медицины, кабинет на улице Роден в Париже и неплохую частную практику. В то же время он был главой Каббалистического ордена Розы-Креста, магистром ордена мартинистов (не имевшего никакого отношения к традиционному масонству) и епископом Гностической церкви. Едва ли здесь уместно пересказывать все детали его биографии — вплоть до дуэлей с оккультистами-конкурентами. Достойно замечания лишь одно: в ходе своих визитов в Россию в 1901, 1905 и в 1906 годах Папюс встречался с Николаем II и императрицей Александрой Федоровной и предсказал им участь их государства. Будто бы он обещал отсрочить исполнение предсказания до своей смерти — и романовская монархия пережила его лишь на несколько месяцев. (Впрочем, то же можно сказать и о «безграмотном гностике» Григории Распутине, с чьим влиянием Папюс пытался бороться.) Оккультист Ж. Буа (с которым Папюс, собственно, и дрался на дуэли) характеризует его так:
Хороший работник, превосходный организатор, он взрывал свою борозду плугом энциклопедизма — к несчастью, слишком поспешного. Он оставил огромные книги, наполненные всяким хламом, в них отовсюду набраны цитаты и рисунки, перепутаны тексты… Это была густая похлебка для людей, изголодавшихся по чудесному: их вкус не придирчив — только бы насытиться. Но — несправедливо требовать от него художественности, в то время как он обладает всеми качествами хорошего, методического компилятора.
Но это было именно то, в чем нуждался впечатлительный юноша. На несколько лет оккультная литература войдет в круг его чтения.
Юный Гумилев, кажется, всецело живет любовью и искусством. Между тем времена наступают суровые и тревожные. В России и «прекрасная эпоха» была эпохой бурь. Война с Японией оборачивается для России неблагоприятно. В декабре 1904 года пал Порт-Артур, месяц спустя страну потрясает известие о Цусиме. «Весы» реагируют на это по-своему: с одной стороны, демонстративно помещают на обложке номера репродукции японских картин и гравюр, желая напомнить «о той Японии, которую мы любим, — стране Хокусая, а не Оямы» (Ивао Ояма — начальник японского Генерального штаба). С другой — перепечатывают без комментария сочувственные России и притом вполне расистские высказывания о войне французского писателя Реми де Гурмона.
В одиннадцатом номере за 1904 год в «Весах» появляется статья Макса Волошина «Магия творчества». Молодой поэт, дотоле зарекомендовавший себя на страницах журнала лишь корреспонденциями о парижских выставках, вдруг заговорил о другом — по-другому:
Это действительность мстит за то, что ее считали слишком простой, слишком понятной…
Будничная действительность, такая смирная, такая ручная, обернулась багряным зверем, стала комком остервенелого пламени, фантастичней сна, причудливей сказки, страшней кошмара.
Целые долины с тысячами людей, взлетающие на воздух ночью, в синих снопах прикованного света, при блеске блуждающих электрических глаз… Курганы трупов, растущие вокруг крепостей, и человеческие руки, которые подымаются из кровавых лоскутов разорванных тел, немым жестом молят о помощи…
Мы привыкли представлять войну очень просто и реально — по Льву Толстому… Но теперь совершилось что-то, к чему нельзя подойти с этой привычной меркой…
После двух веков рационализма неизбежно наступает кошмар террора и сказка о Наполеоне…
В мире начинается ХХ век.
В России 9 января 1905 года «кровавым воскресеньем» начинается революция. За два года только террористы и экспроприаторы убьют и ранят в России 17 тысяч человек, около 3 тысяч человек физически пострадает во время погромов, почти 5 тысяч будет приговорено к смертной казни военно-полевыми судами.
В «Весах», большинство сотрудников которых революции сочувствует (хотя Брюсов колеблется между крайне левыми и крайне правыми, а Борис Садовской откровенно примыкает к черносотенцам), печатаются теперь рецензии Андрея Белого на книги Каутского и Бебеля, а Брюсов полемизирует со статьей г. Н. Ленина «Партийная организация и партийная литература»: «Если бы осуществилась жизнь социалистического, бесклассового, будто бы «истинно свободного» общества, мы оказались бы в ней такими же отверженцами, такими же poètes maudits, как в обществе буржуазном». В буржуазном обществе, однако же, «проклятый поэт» Брюсов был почтенным домовладельцем, баллотировавшимся даже в Московскую городскую думу, а в социалистическом станет членом правящей партии и крупным чиновником.
Николай Гумилев, кажется, не замечает всего этого. Между тем события косвенно затрагивают и его жизнь.
См. у Кленовского:
Залетела революция и в стены Царскосельской гимназии, залетела наивно и простодушно. Заперли в классе, забаррикадировав снаружи дверь циклопическими казенными шкафами, хорошенькую белокурую учительницу французского языка. То там, то тут на уроках лопались с треском электрические лампочки, специально приносимые из дому для этой цели. Девятым валом гимназического мятежа стала «химическая обструкция» (так это называлось): в коридорах стоял густой туман и нестерпимо пахло серой. Появился Анненский, заложивший себе почему-то за крахмальный воротник белоснежный носовой платок. Впервые он выглядел озадаченным. Как и обычно, был окружен воющей, но очень мирно и дружелюбно к нему настроенной, гимназической толпой.
В этот день учеников распустили по домам. Гимназию на неопределенное время закрыли.
Когда уже осенью гимназия опять открыла свои двери, вернувшиеся в свою alma mater ученики были ошарашены ожидавшими их переменами. Коридоры и классы были чисто выбелены и увешаны географическими картами, гербариями, коллекциями бабочек. В застекленных шкафах ласкали взор чучела фазанов и хорьков, раскрашенные гипсовые головы зулусов и малайцев. В классах стояли новенькие светлые парты и озонирующие воздух елочки в вазонах. Полусумасшедший Мариан Генрихович, невоздержанный отец дьякон и слишком соблазнительная француженка — бесследно исчезли. Исчезли и усатые второгодники. Но не было больше и Анненского. Великая реформа явилась делом рук нового директора, Якова Георгиевича Моора (Якова Георгиевича Мора. — В. Ш.), маленького, сухонького, строгого, но умного и толкового старика. Он привел с собой плеяду молодых способных учителей, навел чистоту, порядок.
По крайней мере в хронологии Кленовский путается.
Вопрос о снятии Анненского в самом деле обсуждался с весны. Участие учеников в уличных шествиях, тот факт, что из 769 юных смутьянов, подписавших напечатанную 2 февраля в кадетской газете «Право» резолюцию с требованием реформы учебных заведений, 111 были царскосельскими гимназистами, наконец, массовый прием в гимназию юношей, исключенных по политическим мотивам из других школ, — все это не могло нравиться начальству. Но директор Царскосельской гимназии пользовался поддержкой педсовета и по меньшей мере части родителей. Так, 25 сентября родители восьмиклассников написали письмо попечителю учебного округа с просьбой оставить Анненского в должности. 28 сентября такое же письмо на имя министра народного просвещения подписали 98 родителей, чьи дети учились в разных классах.
В общем, решение вопроса было отложено; «химическая обструкция», решившая его не в пользу Анненского, имела место 4 ноября. В этот день или в какой-то другой Анненский, по свидетельству сына, отправился в гимназию с пистолетом в кармане — вероятно, в первый и последний раз в жизни он взял в руки оружие. 6 ноября состоялось бурное родительское собрание, на котором Анненский заявил, что «считает всех учеников гимназии благородными независимо от взглядов, заблуждений и даже проступков… На вопрос одного из родителей, считает ли г-н директор благородными и тех, которые устроили обструкцию, г-н директор ответил утвердительно. Слова г-на директора занесены в протокол по настоянию присутствовавшего на собрании г-на Меньшикова». Педсовет, по предложению Анненского, решил воздержаться от репрессивных мер, опасаясь, что они «вызовут еще большие волнения». В то же время директор решительно отверг обвинения в потворстве беспорядкам. Однако, с точки зрения лояльных правительству людей и тем более с точки зрения министерства, его поведение выглядело именно как потворство.
В итоге Анненский был освобожден от должности с назначением на хлопотное, но почетное место инспектора Санкт-Петербургского учебного округа, 2 января 1906 года (приказ от 29 декабря 1905 г.). Вместе с Анненским ушли Травчатов, Орлов, Мухин. Чуть позже был уволен законоучитель Рождественский и некоторые другие.
Судьба уже сводила Анненского с его преемником, тоже филологом-классиком. Некогда (в 1893 году) Иннокентий Федорович сменил Мора в качестве директора 8-й гимназии. Тогда педагогический совет, недовольный Мором, приветствовал молодого либерального директора. Теперь старик Мор брал реванш.
Мору было шестьдесят пять лет. Он родился в Эстляндии, происходил из крестьян, окончил сперва учительскую семинарию — и лишь потом смог поступить в Юрьевский университет. Прежде чем получить первое назначение в столице, ему пришлось несколько лет служить в провинции, в Витебске и Брест-Литовске. По-видимому, это был педагог-практик с узким кругозором (Кривич язвительно замечал, что Мор путал Некрасова с Добролюбовым), но большим практическим опытом и хорошими административными способностями. Предметами особого интереса Мора были гигиена и преподавание гимнастики. В Царском Селе он также об этом позаботился.
Уже при Море 30 мая 1906 года Гумилев получил свой аттестат зрелости с единственной (по итогам годовых занятий) пятеркой — по логике. На экзамене он получил пятерку также по русскому языку. Об этом экзамене существует примечательное свидетельство одного из преподавателей — Мухина: «На вопрос, чем замечательна поэзия Пушкина, Гумилев невозмутимо ответил: «Кристальностью». Чтобы понять силу этого ответа, надо понимать, что мы, учителя, были совершенно чужды новой литературе, декадентству. Этот ответ ударил нас как обухом по голове. Мы громко расхохотались!» Но пятерку все же поставили.
Четверки Гумилев получил по истории, французскому и географии. По закону Божию четверка в году, тройка на экзамене. По математике, физике, латыни и греческому — тройки. Могло быть хуже, тем более что интересы Гумилева к тому времени были уж совсем далеко от побеленных новым директором гимназических стен.
4
В октябре 1905 года Гумилев за свой (то есть родительский) счет издает первую книгу стихов — «Путь конквистадоров».
Конквистадорами (завоевателями) назвались покорители индейских королевств Америки — Кортес, Писарро, люди, прославленные в веках храбростью, жестокостью и коварством. За несколько месяцев до выхода книги Гумилева в «Весах» печатались путевые заметки Бальмонта о Мексике, в которых тот страстно говорил о красоте древней индейской цивилизации, погубленной колонизаторами. Связывал ли Гумилев как-то этот текст (не читать который он не мог) с названием своего сборника? Едва ли. Он просто взял (по молодости лет) звучное слово из книги по истории географических открытий. Но слово это отныне роковым образом будет сопровождать его до конца жизни — как и связанные с ним «империалистические» ассоциации.
Я конквистадор в панцире железном, Я весело преследую звезду, Я прохожу по пропастям и безднам И отдыхаю в радостном саду. Как смутно в небе диком и беззвездном! Растет туман… но я молчу и жду И верю, я любовь свою найду… Я конквистадор в панцире железном. И если нет полдневных слов звездам, Тогда я сам мечту свою создам И песней битв любовно зачарую. Я пропастям и бурям вечный брат, Но я вплету в воинственный наряд Звезду долин, лилею голубую.Обложка первой книги Николая Гумилева «Путь конквистадоров»
Этот «конквистадор» ничем не похож на свирепого искателя заморского золота… И всем — на расхожего мечтателя романтической и символистской поэзии. И все же Гумилев, отрекшись от своей первой книжки, счел возможным включить именно этот сонет в окончательный вариант «Романтических цветов» — стало быть, в свой «основной корпус». Правда, последние строки он изменил:
И если в этом мире не дано Нам расковать последнее звено, Пусть смерть приходит, я зову любую! Я с нею буду биться до конца, И, может быть, рукою мертвеца Я лилию добуду голубую.Эта замена, честно говоря, стихи не спасает. Но, видимо, в них сказалось что-то внутренне очень важное, что-то, на что Гумилеву просто еще не хватало слов.
Почти без изменений вошло в основное собрание стихотворение «Греза ночная и темная» («Оссиан»):
На небе сходились тяжелые, грозные тучи, Меж них багровела луна, как смертельная рана, Зеленого Эрина воин, Кухулин могучий Упал под мечом короля океана, Сварана.Это и в самом деле не по-юношески мастерское стихотворение — не вдохновенное, но мастерское. Гумилев учится уже не у Бальмонта, а у Брюсова (а через него — у парнасцев) — и учится очень успешно. Не случайно, однако, эта «Греза» — единственное во всей книге стихотворение, связанное с конкретным культурным материалом. Все остальное — и «Сказание о королях», выразительный отрывок из которого автор тоже позднее перенес в «Романтические цветы», и посвященная Поляковой «Дева Солнца», и странная поэма о мудрой «жене» и ее сестре-дриаде (несомненно, связанная с юной Горенко — образы этих двух сестер, вывернутые наизнанку, всплывут через десять лет в «У самого моря») — все это романтические сказки, фэнтези, иногда красивые, иногда нелепые («Песня о певце и короле»). Здесь все вперемешку — короли, барды, дриады, Заратустра, Григ… Но ведь что-то от романа фэнтези есть во всем творчестве Гумилева, и надо это в нем принять, чтобы полюбить его. Во всяком случае, его первой (точнее, «нулевой») книге это сказочное начало придает своеобразную (и обаятельную) цельность.
Что касается техники, то юный Гумилев (конечно, со времен альбома Машеньки Маркс выросший неизмеримо) временами берет очень точную и требующую сильного голоса ноту — а временами пресмешно пускает петуха. Как, собственно, в юности и положено.
Вот пример неуклюжего места («Людям будущего»):
Издавна люди уважали Одно старинное звено, На их написано скрижали: Любовь и Жизнь — одно. Но вы не люди, вы живете, Стрелой мечты вонзаясь в твердь, Вы слейте в радостном полете Любовь и Смерть.А вот пример сильных и взрослых (и по-настоящему гулких, звучащих) строк:
И осень та была полна Словами жгучего напева, Как плодоносная жена, Как прародительница Ева.Книгу Гумилев раздарил своим знакомым — вплоть до горничной Зины, вскоре перешедшей от Гумилевых к Кленовским и с гордостью показывавшей новому молодому барину книжку старого.
По словам Кривича, в числе тех, кому был подарен экземпляр, был и Анненский. В ответ Гумилев якобы получил «Тихие песни» — первую (и единственную прижизненную) книгу Анненского, вышедшую в 1904 году под псевдонимом Ник. Т-о, с надписью:
Меж нами сумрак жизни длинный, Но этот сумрак не корю, И мой закат холодно-дынный С отрадой смотрит на зарю.Всеволод Рождественский (со ссылкой на Кривича) передает следующий анекдот о том, каким образом это произошло:
Гумилев, бывший дежурным по классу, перед уроком латинского языка вложил свою книжечку в классный журнал, принесенный из учительской, и положил на кафедру… Прогремел звонок, возвещающий «большую перемену», и Анненский покинул класс с журналом в руках. Кончилась перемена, и Гумилев отправился в учительскую за журналом для другого преподавателя. И, идя обратно по длинному коридору, обнаружил директорский подарок.
Нелепость на нелепости: вероятно, предполагается, что Анненский, не афишировавший своих поэтических занятий, приходил на уроки с экземпляром «Тихих песен» наготове — на всякий случай. Или на большой перемене он сбегал домой за книжкой своих стихов для двоечника Гумилева? То, что он преподавал не латынь, а греческий, в данном случае уже второстепенно. И зачем бы Гумилеву, хорошо знакомому с тем же Кривичем, передавать книгу его отцу столь экзотическим способом? Самое же главное, что стихотворная надпись Анненского (как стало известно после ее факсимильной публикации в «Дне Поэзии. 1986») сделана не на «Тихих песнях», а на «Первой книге отражений», вышедшей год спустя после «Пути конквистадоров» — в 1906 году и под подлинным именем автора.
Во всяком случае, личное общение Гумилева и Анненского началось именно с «Пути конквистадоров».
С этой книги началось и не менее важное для Гумилева общение с Брюсовым. На посланную ему книгу мэтр счел необходимым отозваться отдельной рецензией, а не просто уделить ей фразу-другую в библиографическом обзоре. В сущности, это было очень добрым знаком, хотя особых похвал для гумилевской книжки у Брюсова не нашлось.
По выбору тем и образов автор явно примыкает к «новой школе» в поэзии. Но пока его стихи только перепевы и подражания, далеко не всегда удачные. В книге повторены все обычные заповеди декадентства, поражавшие своей смелостью и новизной на Западе лет двадцать, а у нас лет десять тому назад… Отдельные строки до мучительности напоминают свои образцы, то Бальмонта, то Андр. Белого, то А. Блока… Формой стиха г. Гумилев владеет далеко не в совершенстве… Но в книге есть и несколько прекрасных стихов, действительно удачных образов. Предположим, что она только «путь» нового конквистадора и что его победы и завоевания — впереди.
Между юным поэтом и мэтром завязывается переписка. В первом же письме Брюсов предлагает Гумилеву сотрудничество в «Весах». Начиная с двенадцатого номера за 1905 год (в котором напечатаны подборка стихотворений Бальмонта и повесть самого Брюсова «Республика Южного Креста» — ранний образец science fiction) «Весы» публикуют и беллетристику. Одна из причин — конкуренция с основанным в январе 1906 года журналом «Золотое руно», редактором-издателем которого стал один из крупнейших капиталистов России (и художник-дилетант) — Н. П. Рябушинский. Первоначально в «Золотом руне» публиковались почти все писатели «декадентского» круга, в том числе и сам Брюсов, но вскоре отношения непоправимо испортились. С 1907 года борьба между журналами приняла не только конкурентный, но и идеологический характер.
По словам Гумилева, внимание Брюсова и его лестное предложение воскресило его «уверенность в себе, упавшую было после Вашей рецензии» (письмо от 11 февраля). Но дело было не только в самооценке и в перспективах литературной карьеры. В письме от 8 мая Гумилев признается: «Уже год, как мне не удается поговорить ни с кем так, как хотелось бы». Год — как раз столько прошло с момента разлада с Анной Горенко. Поэтому юноша так дорожит обретенным диалогом с учителем, старшим товарищем. По всей вероятности, эпистолярно общаться с Брюсовым оказывается проще, чем вживую — с Анненским. Во-первых, Брюсову тридцать три года, а не пятьдесят, главное же, он никогда не ставил «новому конквистадору» двоек по греческому.
«Ваше участие ко мне — единственный козырь в моей борьбе за собственный талант». В этой фразе (из того же письма) удивительней всего даже не то значение, которое придавал Гумилев брюсовскому «участию», а определение своего литературного ученичества как «борьбы». Борьба с собой, накачка мускулов, суровая школа. Гумилев уже усвоил: он — не из тех, кому что бы то ни было дается даром.
Тем временем выходит сборник царскосельских литераторов «Северная речь», в котором участвует и Гумилев. Гумилев с тем же письмом от 8 мая посылает его Брюсову на рецензию. Рецензия действительно появляется в шестом номере «Весов» — там же, где были напечатаны три стихотворения Гумилева[32]. Брюсов уделяет внимание лишь одному произведению — трагедии Анненского «Лаодамия», напечатанной под собственным именем автора. Но и к ней он достаточно суров: «Перед нами «условно»-античная трагедия, действующие лица говорят, как у Шекспира, четырехстопным ямбом, а хору предлагается петь рифмованные стихи. Всего несноснее в драме язык, довольно бесцветный, хоть и пестрый…» Как автор трагедии на сходный сюжет («Протесилай умерший») Брюсов увидел в неведомом царскоселе конкурента. Опыты же Коковцева, Кривича, драма П. Загуляева «Волки», рассказ Д. Полознева «Счастливый брак» не вызвали у него вовсе никакого интереса. Впрочем, и лирические стихи Анненского, напечатанные в «Северной речи» под псевдонимом Никто (не «Ник. Т-о», как в «Тихих песнях»), Брюсов никак не отметил. Не отозвался он и на два вошедших в сборник стихотворения Гумилева — «Смерти» и «Огонь», хотя они были сильнее любого опуса из «Пути конквистадоров» и любого из трех стихотворений, напечатанных в «Весах». «Огонь», не включенный ни в один авторский сборник, — редкий образец лирики Гумилева, где чувствуется прямое влияние Анненского:
Я не знаю, что живо, что нет, Я не ведаю грани ни в чем… Жив играющий молнией гром — Живы гроздья планет… И красивую яркость огня Я скорее живой назову, Чем седую, больную траву, Чем тебя и меня…В письме от 15 мая Гумилев подробнее пишет о себе — пишет просто и откровенно; но в неловком слоге письма сквозит совсем еще отроческое смущение перед взрослым и важным адресатом:
Из иностранных языков читаю только на французском, и то с трудом, так что собирался прочесть только Метерлинка. Из поэтов больше всего люблю Эдгара По, которого знаю по переводам Бальмонта и Вас (ради Бога, не сочтите это за лесть, и если Вы скромны, то припишите моей недостаточной культурности).
Между прочим, Гумилев сообщает Брюсову о своем желании уехать на пять лет за границу, по дороге заглянув в Москву — единственно чтобы побеседовать с редактором «Весов». Но в этот раз встреча не состоялась.
Тем временем еще одна рецензия на «Путь конквистадоров», принадлежащая хорошему знакомому автора, С. Штейну, появилась в газете «Слово» (политическом издании октябристской направленности) за 21 января 1906 года.
«Г. Гумилев, — пишет царскосельский филолог, — очень молод, в нем не перебродило, много он не успел творчески переработать. Несомненно, однако, что у него есть зачатки серьезного поэтического дарования…» Штейн отмечает, что «не столько г. Гумилев владеет стихом, сколько стих владеет им», недоумевает, откуда «у молодого поэта есть тяготение к архаизмам… странно противоречащее стремлению автора следовать лучшим образцам новейшей русской поэзии». Имеется в виду, видимо, Бальмонт. По словам Штейна, Гумилеву лучше удаются стихи «со сказочным, мистическим оттенком» (в качестве примера приводится «Греза ночная и темная»). Рекомендация критика — «большая простота и непосредственность», а также, разумеется, «исправление дефектов стиха».
Даже лучшие царскоселы в суждениях о поэзии были достаточно простодушны и старомодны. Но Гумилев уже внутренне не принадлежал их миру.
В июле он покидает Царское Село и Россию и направляется в Париж.
Глава четвертая Нил и Сена
1
Чтобы выехать за границу, подданному Российской империи требовался заграничный паспорт. Паспорт выдавался губернатором или градоначальником; для получения его необходимо было полицейское свидетельство о благонадежности, которое, впрочем, могло быть заменено ручательством заведомо благонадежного лица. Если в данном случае проблем у Гумилева возникнуть не должно было, то другое ограничение касалось его напрямую: был (как, собственно, и в наши дни) ограничен выезд за границу мужчин призывного возраста, не прошедших воинскую комиссию и не имеющих законной отсрочки. Очевидно, и здесь помогло ручательство отца.
Покладистость Гумилевых-родителей почти необъяснима. Они послушно подписывали все бумаги и оплачивали путешествие великовозрастного сына в Париж. Каким образом мог Гумилев объяснить свое желание учиться не в Петербургском университете, а непременно в Сорбонне — при весьма ограниченных познаниях во французском языке? Конечно, юноша не поверял родителям истинной цели своего путешествия в «столицу Мира» — оккультные штудии, которым он собирался предаться. Узнав из «Весов» о существовании «тайных наук» и по неопытности придав этим обрывочным сведениям невероятное значение, он, должно быть, воображал, что в Париже (а может, и прямо в Сорбонне) есть некие школы, где учат эзотерической мудрости — учат «быть, как боги».
Скорее всего, радость родителей при мысли, что великовозрастный сын получил все же аттестат зрелости, не знала границ. А может, Анна Ивановна помнила, как после долгого тоскливого уединения в дедовском поместье смогла поездить по миру, увидеть Францию, Италию и не хотела лишать того же своего любимого отпрыска?
Дорога в Париж должна была в то время занять дня четыре. Сутки занимал путь до последней русской станции — Вержболово. Там можно было переночевать — а в шесть тридцать утра уходил поезд на Париж, прибывавший к месту назначения на следующий день в четыре часа пополудни. На Трансъевропейском экспрессе можно было, конечно, доехать быстрее — но и дороже. Поезда, шедшие через Берлин, приходили в Париже на Северный вокзал, откуда экипаж за один франк пятьдесят сантимов (что соответствовало шестидесяти копейкам) доставлял путешественников в центр города.
Вероятно, именно этот путь впервые проделал в июле 1906 года Николай Гумилев, чтобы провести в Париже в общей сложности девятнадцать месяцев: по апрель 1907-го, вновь с июля по октябрь и с ноября 1907-го по май 1908 года.
Париж — это слово с давних пор магически действовало на русский слух. На заре русской поэзии воспел этот город влюбленный в него студиозус Василий Кириллович Тредиаковский: «Красное место! Драгой берег Сенски! Где быть не смеет манер деревенски…» Три четверти века спустя Иван Иванович Дмитриев посмеивался над своим другом Васильем Львовичем Пушкиным, тоже отправившимся в «красное место»: «Друзья! Сестрицы! Я в Париже!» И многих, многих русских путешественников повидал этот город: тут и 17-летний граф Строганов, идущий со своим гувернером штурмовать Бастилию, и мадам Курдюкова со своими «сентенциями», и победоносные гусары 1814 года, и сам Карамзин, молодой и щеголеватый, и капризный Тургенев-Кармазинов, и Рудин на баррикадах, и пучеглазая Блаватская, и 20-летний наглец Serge de Diagileff, начинающий свою карьеру с европейского турне, включавшего визиты к литературным, художественным и театральным знаменитостям.
В начале XX века в Париже (считая предместья) проживало около трех миллионов человек, из них 250 тысяч — иностранцы. По численности населения это был второй город в Европе после Лондона. Город уже имел мало общего с тем, который видели Карамзин и Тредиаковский. Узкие улицы, средневековые фахверковые дома — все это так же ушло в прошлое, как древняя Лютеция, стольный город галльского племени паризиев, где когда-то сидели римские наместники, где был провозглашен цезарем Юлиан Отступник. Во второй половине XIX века Париж пережил такую же градостроительную революцию, как Москва в 1930-е годы. Три префекта департамента Сена, последовательно исполнявшие эту должность, — Шаброль, Рамбюто и Осман — перестроили город. Особенно велика роль барона Жоржа Эжена Османа (1809–1891), занявшего свой пост в 1853 году, при Наполеоне III. Он прорубал свои бульвары сквозь тело парижских улиц так же безоглядно, как Лазарь Каганович — свои проспекты сквозь уголки старой Москвы. В 1865-м за несколько недель были снесены средневековые дома острова Сите — и Нотр-Дам остался в одиночестве, в окружении свежепостроенных буржуазных кварталов… Так родился новый город, город белых домов с мансардами, каштанов и светящихся витрин, стремительно наполнившийся новыми образами и новыми тенями, — Париж пейзажей Писарро, Боннара, Утрилло.
Панорама Парижа, 1900-е
Сорбонна, куда по меньшей мере теоретически направлялся Гумилев, находилась на левом берегу Сены. Ее окружал Латинский квартал — студенческий район Парижа. Как указывает Лукницкий, Гумилев поселился на бульваре Сен-Жермен, 68 — в самом центре Латинского квартала. Затем он почему-то переселился на рю де ла Гетэ, 25 (на «веселую улицу», чья репутация соответствовала названию). В 1907–1908-м он жил на рю Бара, 1. Известно, что он «поступил в Сорбонну», но что это значило? Был зачислен в число студентов или посещал лекции в качестве вольнослушателя? Скорее второе — и вот почему. Действительные студенты иностранных университетов по тогдашним российским законам получали отсрочку от призыва. Гумилев же отсрочкой не пользовался и вынужден был в 1907 году явиться в Россию для прохождения воинской службы (от которой затем был освобожден). Да и как мог полноценно учиться в Сорбонне Гумилев в 1906 году — с его тогдашним французским?
Известно, что из дома ежемесячно он получал 100 рублей, что по тогдашнему курсу соответствовало примерно 250 франкам. Комната в Латинском квартале стоила от 50 франков в месяц, квартира — от 150. В любом случае оставшихся денег должно было хватить на скромную студенческую жизнь. Недорого поесть можно было в бульонных и молочных. Чашечка кофе, кружка пива или рюмка коньяку в небольшом кафе стоила 30–40 сантимов.
Париж, рю де ла Гетэ. Открытка, 1900-е
В Сорбонне — знаменитом парижском университете, выросшем из богословской школы, которую основал в 1253 году королевский духовник Робер де Сорбон, — училось в начале XX века больше тысячи иностранцев, в том числе 497 русских. При этом на филологическом и естественно-научном факультетах иностранцев было больше, чем французов (соответственно 680 к 404 и 172 к 135). Из 535 студенток-женщин 232 были иностранками.
Обилие русских студентов в Париже само по себе не было удивительно. В основном это были отнюдь не представители привилегированных слоев, а те, кто из-за вероисповедных или сословных барьеров не мог получить полноценного образования на родине, — например, евреи, не рассчитывавшие попасть в процентную норму. Как указывают А. Боровой и др., авторы путеводителя «Париж. Описание города», увидевшего свет в 1914 году в Петербурге,
русские представляют разительный контраст с здоровой, сытой, веселой парижской молодежью. Они впервые знакомят Париж с тем истинно русским университетским пауперизмом, с тем полуголодным существованием, которое среди французской учащейся молодежи встречается лишь в виде редчайшего исключения.
Во Франции, в отличие от России, диплом не был возможностью «выбиться в люди» для выходца из низов. Учились те, у кого были для этого средства.
Париж, Сорбонна. Открытка, 1900-е
Русские упрекали своих французских товарищей в буржуазности, в конформизме. На первый взгляд это было несправедливо. В 1893 году в Латинском квартале дошло до уличных боев и увольнения префекта полиции. В 1908 году — новые беспорядки и драки с полицией, вызванные введением новых экзаменов. Но, как и позднее, вплоть до хваленого 1968 года, парижские студенческие бунты были лишь «праздником непослушания» сытых и любимых детей в буржуазном доме. Родион Раскольников с философическим топором и огнеглазый террорист с адской машиной — персонажи явно не из Латинского квартала.
Боровой и его соавторы колоритно описывают здешнюю жизнь:
На улицах Латинского квартала вы встретите в любой час целые фаланги бесконечно фланирующих молодых людей. Вы их легко узнаете по средневековым беретам, бархатным курткам, широчайшим шароварам, по живописной копне волос… Украшенные чудовищным галстуком, с вечной трубкой в зубах, сидят они часами на террасе какого-нибудь кафе, наслаждаясь опаловым отливом ядовитого абсента.
Учебными занятиями эти юноши явно не злоупотребляли. По словам Борового и К°, на лекции присутствовало обычно 10–15 человек, в том числе прохожий, зашедший переждать дождь, милующаяся в уголке парочка, старичок и старушка — рантье, ходящие на университетские лекции из прихоти — и несколько иностранцев.
Достопримечательностью квартала были местные шансонье. Одним из них был Марсель Лега, подвизавшийся в кафе Noctambules —
широкий, короткий старик, лысый, с огромным животом, с красным опухшим лицом, с длинными космами седых волос, не то апостол, не то пьяница, живущий последними остатками своего когда-то громоподобного голоса… Но так велик артистизм этого Силена… что скоро перестаешь видеть жилистое напряженное лицо, слышать рыкающие ноты исчезающего голоса и отдаешься всецело обаянию благоухающих песен.
Это могло стать (для молодого русского стихотворца) примером древнего, бесстыдного, площадного, еще не отделенного от музыки бытования поэзии.
В Латинском квартале сохранилось несколько памятников, напоминавших о прошлом города: университетская церковь времен кардинала Ришелье, термы, оставшиеся от дворца Юлиана Отступника, наконец, Клюни — средневековый дом, в котором расположен великолепный археологический музей. На юге Латинский квартал переходит в другой район Парижа, слава которого в те времена лишь начиналась.
Париж, Монпарнас. Открытка, 1900-е
Еще в ту пору, когда Монпарнас был предместьем, полудеревней, знаменитой вишневыми садами (изображенными на одной из картин Ван Гога), сюда иногда забредали великие — здесь недолго живали Бальзак, Гюго; здесь Рембо делил кров с художником Фореном, пока тот, раздраженный неопрятностью и пьянством своего соседа, не съехал. (По воспоминаниям Форена, Рембо и заходивший за ним ежедневно Верлен предавались скорее Бахусу, чем содомии.) Здесь жил Гоген со своей яванской Лолитой. Но золотой век Монпарнаса начался в 1905 году, когда этот район стал усердно застраиваться. Правда, новые дома, появившиеся в ту эпоху, казалось, пришли из старого, доосманновского Парижа. Только здесь на разных этажах одного и того же дома могли жить почтенные буржуа и представители социального дна. При этом и в самых приличных квартирах электричество и газ считались (до Первой мировой войны) роскошью, «ванные комнаты даже не предусматривались, а имелись лишь туалеты… Добропорядочные граждане считали ножную ванну по воскресеньям вполне достаточной гидротерапией»[33]. Во многих домах отхожие места находились во дворе — и их строили подальше от дома: такое зловоние от них исходило. Художников, облюбовавших мансарды, это не смущало. В крайнем случае можно было умыться в фонтанчике, расположенном во дворе. Достопримечательностью квартала был чистоплотный Амедео Модильяни, начинающий живописец, еврей из-под Ливорно: он ежедневно мылся в цинковом тазу. Правда, в других отношениях его образ жизни нельзя было назвать здоровым и упорядоченным.
Если парижское студенчество было сравнительно с русским богатым, довольным жизнью и чистоплотным, то парижская богема была сравнительно с петербургской и московской более нищей, пьяной, неопрятной, безумной. В тогдашней России человек искусства, вышедший из дворянской или буржуазной среды, продолжал пользоваться семейными доходами и входить в семейный круг — каким бы дерзким декадентом он ни был. Да и меценаты в России были щедрее — собственно, и французское искусство во многом существовало благодаря широте души русских коллекционеров. Если мысленно заменить «андроповку» и портвейн абсентом и ромом, анашу — эфиром, ЛОСХ — Салоном, а КГБ — буржуазным истеблишментом, скорее можно найти немало общего между парижской богемой классической эпохи и жизнью советских (особенно ленинградских) неофициальных художников 70–80-х годов.
К концу десятилетия на Монпарнас с обуржуазившегося Монмартра переместился цвет парижской богемы — Пикассо, Аполлинер, Жакоб, Сальмон, Мари Лорансен. Уже довольно давно жил на Монпарнасе Таможенник Руссо. (Лишь Утрилло, у которого не было денег на переезд, остался на Монмартре.) Монпарнас был интернационален: многочисленные выходцы из Восточной Европы соседствовали с французским поэтом греческого происхождения, одним из основателей символизма Жаном Мореасом (чье творчество особенно привлекало Гумилева в последние годы жизни) и с переселившимся во Францию японским художником Фудзитой. Вся эта публика собиралась в кафе La Closerie des Lilas («Хуторок в сирени»). Гумилев там бывал, как и в дешевых кафе Латинского квартала — Panthéon, D’Harcout, La Source. Знаменитое кафе «Ротонда» откроется лишь несколько лет спустя, в 1911 году.
2
Чем, собственно, занимался Гумилев в Париже?
Никаких следов посещения лекций или академических занятий в его письмах нет.
Известно, что он бывал в парижских музеях — не только в Лувре, но и в естественно-научных, посещал Jardin des Plantes — ботанический сад и зоопарк, где с интересом рассматривал экзотических животных — в том числе, вероятно, крокодилов, гиппопотамов и жирафов, поминающихся в его стихах этой поры. Все же не во всем был неправ учитель Газалов: в мальчике дремал зоолог.
Что еще — оккультизм?
Интерес к оккультизму в Латинском квартале и среди русских парижан был распространен куда меньше, чем в кругу московских декадентов. Господствовали позитивистские идеи Ренана и Ипполита Тэна. Интуитивизм Бергсона лишь начинал входить в моду. Поскольку знакомых французов у Гумилева поначалу почти не было (и уж во всяком случае — французов, причастных к оккультным кругам), изучение прикладной мистики было, по-видимому, по большей части теоретическим. В письмах к Брюсову Гумилев несколько раз упоминает о «занятиях оккультизмом», о чтении оккультистов («очень слабых» — и вперемежку с парнасцами). Но в письме от 11 ноября 1906 года есть любопытное признание: «Теперь я вижу, что оригинально задуманный галстук или удачно написанное стихотворение может дать душе такой же трепет, как вызывание мертвецов, о котором так некрасноречиво трактует Элифас Леви».
Альфонс Луи Констан, называвший себя Элифасом Леви (1810–1875) — один из наиболее прославленных парижских мистических шарлатанов. В молодости он был монахом, потом оставил монастырь и женился; позднее его жена, увлекшись другим, добилась признания брака недействительным на том основании, что мсье Констан все еще является духовным лицом. Некоторое влияние оказал на него мистик Мапа, утверждавший, что он является воплощением Людовика XVII, а его жена — Марии Антуанетты. (Ситуация довольно пикантная, если учесть, что исторические Людовик XVII и Мария Антуанетта были матерью и сыном). В свою очередь, реинкарнацией Элифаса Леви считается Алистер Кроули, известный черный маг XX века, чьи трактаты, тоже «некрасноречивые», по занимательности примерно эквивалентные инструкции по пользованию стиральной машиной, имеют, однако, своих горячих приверженцев до сих пор, в том числе и в России (как, впрочем, и труды Леви, Папюса и прочих).
Заслугу Элифаса Леви специалисты видят в том, что он первым соотнес 22 Старших Аркана Таро с буквами еврейского алфавита и аспектами Бога. Кроме того, Леви развил теорию астрального света, которая была основана на идее «животного магнетизма»[34]. По его мнению, астральный свет был подобен флюиду жизни, который заполняет все пространство и все живые существа. Эта концепция была весьма популярна в XIX столетии, Леви привнес в нее то, что, «управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами; воля и власть квалифицированного мага безгранична[35].
Чтение такого рода книг было для Гумилева, однако, не без пользы. По всей вероятности, именно из сочинений Папюса, Леви, возможно, Блаватской и пр. он узнал об индийской философской и религиозной традиции — без этого знания не было бы многих поздних стихов (таких, как «Прапамять»). Кроме того, мистическая литература, может быть, и не самого высокого пошиба, расширяла его поэтическое воображение — как в детстве книги о географических открытиях. Фантастическая история мира, разворачивающаяся в книгах Папюса и Блаватской, история сменяющих друг друга небывалых рас и эпох начиная с Лемурии и Атлантиды — в конце концов, неплохой материал для поэзии, и Гумилев этим материалом в свое время воспользовался. Наконец, оккультизм способствовал, как говорит Гумилев, формированию его собственной «теории поэзии». Для Гумилева очень важно представление о магической природе слова. Верный эпитет, удачная рифма были для него чародейством, нечто меняющим на иных уровнях бытия. И, как последователи оккультизма, он был убежден, что магии можно учиться и учить.
О практических занятиях черной магией есть лишь одно свидетельство — на грани «исторического анекдота». В 1908-м, после возвращения из Парижа, Гумилев рассказывал своей царскосельской знакомой Делла-Вос-Кардовской о предпринятой им попытке «вместе с несколькими сорбоннскими студентами» увидеть Дьявола.
Для этого нужно было пройти через ряд испытаний — читать каббалистические книги, ничего не есть в продолжение нескольких дней, затем в назначенный вечер выпить какой-то напиток… Все товарищи очень быстро бросили эту затею. Лишь один Н. С. прошел все до конца и действительно видел в полутемной комнате какую-то смутную фигуру.
Очень важно осознавать разницу между периодами в жизни человека. Мучительно не уверенный в себе парижский декадент — это не бравый «гусар смерти» и не напористый петроградский мэтр. Юноша, вызывающий дьявола, — не тот Гумилев, который «крестится на все церкви». «Мы меняем души, не тела…» Но есть преемственность между этими разными душами, есть нечто, связывающее их.
В Париже Гумилев продолжал свое знакомство с Ницше. Без сомнения, в первые месяцы он усиленно совершенствуется во французском языке и читает в оригинале поэтов-модернистов. В круг его чтения входят также (примечательно!) «старинные французские хроники и рыцарские романы» (14.01.1907). Затем наступает время нового обращения к России, к отечественной культуре. В письме к Брюсову от 22 января 1908 года Гумилев говорит о том, что перечитывает Пушкина и Карамзина. Соблазнительно предположить, что в случае последнего это были именно «Письма русского путешественника». Более чем естественно молодому русскому поэту, оказавшемуся в Париже в годы русских смут, открыть книгу, написанную сто с лишним лет назад русским писателем, который был в «Юлиановом граде» свидетелем великой смуты французской.
А какова была реакция Гумилева на «русскую смуту»? Единственный отклик — стихотворение «1905, 17 октября», выражающее довольно яростное (но скорее эстетически, чем политически мотивированное) неприятие молодого российского конституционализма:
Захотелось жабе чёрной Заползти на царский трон, Яд жестокий, яд упорный В жабе чёрной затаён. Двор смущённо умолкает, Любопытно смотрит голь, Место жабе уступает Обезумевший король.Впрочем, едва ли эта позиция (хотя и гармонирующая с пассеистическими вкусами и мистическими настроениями молодого поэта) была намного более глубокой и прочувствованной, чем сравнительно недавняя «революционность». Скорее это была эпатажная поза, порою самим же поэтом вышучивавшаяся. В письме к Анненскому-Кривичу от 2 октября 1906 года он пишет:
Что же касается поэмы, посвященной Наталье Владимировне (Н. В. Анненской — жене Кривича и сестре Штейна. — В. Ш.), то, продолжая Ваше сравнение с железной дорогой, я могу сказать, что все служащие забастовали и требуют увеличенья рабочего дня, глубокого сосредоточенья и замкнутой жизни, а я как монархист не хочу потакать бунтовщикам, уступая их желаньям. Впоследствии, когда я перейду в «Союз 17 октября», может быть, дело двинется быстрее.
Но, вероятно, частью знакомых такого рода заявления принимались всерьез. Брюсов в письме, написанном в последних числах августа 1907 года, предлагая Гумилеву сотрудничество в газете «Столичное утро», осторожно осведомляется, не противоречит ли «правым» взглядам молодого поэта участие в левой прессе. Так или иначе, Гумилев и в эти, и в последующие годы публиковался в изданиях самой разной ориентации — октябристском «Слове», кадетской «Речи» (особенно активно), левой «Руси», но не в черносотенных: они в принципе были закрыты для декадентов. А события 1905–1906 годов в основном прошли мимо него: он был слишком погружен в свою внутреннюю жизнь.
Но именно отчасти из-за политических событий Париж наполняется русскими литераторами, в том числе самыми прославленными деятелями «нового искусства».
Бальмонт в 1905 году писал революционные стихи, в которых дошел до пределов плоскости и кровожадности, свойственных данному жанру: «Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит, став на эшафот…», «Вспомните Францию! Вспомните звон гильотины!».
В Великой Французской революции были светлые и были темные стороны. Красный террор с массовым убийством, с гильотиной, на которой погиб, между прочим, и Андрей Шенье, был самой темной из темных. Призывать его в Россию можно только или в последнем ослеплении, или в детской беспечности, не ведающей, что творит, —
увещевал друга Брюсов[36]. Но, когда «гильотина» стала явью, роли распределились совсем не так, как можно было ожидать. Пока же — с началом столыпинского умиротворения — сладкозвучный певец, попытавшийся стать революционным бардом, отправляется в эмиграцию, конечно, в «столицу мира» и поселяется «на тихой улице за Люксембургским садом» (А. Биск). Немедленно по прибытии в Париж Гумилев написал ему письмо с просьбой о встрече, но ответа не получил. Гордого юношу это оскорбило — от возможности прийти к Бальмонту с рекомендательным письмом Брюсова он отказывается. «Знаменитый поэт, который даже не считает нужным ответить начинающему поэту, сильно упал в моем мнении как человек».
Зато (в конце декабря 1906-го или в самом начале января 1907-го) он наносит визит Мережковским, печально знаменитый визит, известный в разных описаниях.
Андрей Белый, «Между двух революций»:
Однажды сидели за чаем; я, Гиппиус; резкий звонок; я — в переднюю — двери открыть; бледный юноша, с глазами гуся, рот полуоткрыв, вздернув носик, в цилиндре, шарк — в дверь.
— «Вам кого?»
— «Вы… — дрожал с перепугу он, — Белый?»
— «Да!»
— «Вас, — он глазами тусклил, — я узнал».
— «Вам — к кому?»
— «К Мережковскому, — с гордостью бросил он: с вызовом даже».
Явилась тут Гиппиус; стащив цилиндр, он отчетливо шаркнул; и тускло, немного гнусаво, сказал:
— «Гумилев».
— «А — вам что?»
— «Я… — он мямлил. — Меня. Мне письмо. Дал вам. — Он спотыкался; и с силою вытолкнул: — Брюсов».
<…>
— «Что вы?»
— Поэт из «Весов».
Это вышло совсем не умно.
— «Боря — слышали?»
Тут я замялся; признаться — не слышал… — Вы не по адресу… Мы тут стихами не интересуемся… Дело пустое — стихи…
<…>
Гиппиус бросила:
— «Сами-то вы о чем пишете? Ну? О козлах, что ли?»
Мог бы ответить ей:
— «О попугаях!»
Дразнила беднягу, который преглупо стоял перед нею; впервые попавши в «Весы», шел от чистого сердца — к поэтам же; в стриженной бобриком узкой головке, в волосиках русых, бесцветных, в едва шепелявящем голосе кто бы узнал скоро крупного мастера, опытного педагога?
Почему только — «о козлах»? О каких козлах? Если были эти слова сказаны — что они значили? Если нет, откуда вплыли они в текст Белого? Из его же статьи «Штемпелеванная калоша», про петербургских «мистических анархистов», эпигонов (так казалось ему) московского символизма, у которых высокая мистерия «превращается в мерзейший танец — козловак»? (А что трагедия — «козлиная песнь», это, благодаря Вагинову, в России уже не забудут не только эллинисты.) Или из скандальных строк Брюсова: «…Мы натешимся с козой, где лужайку сжали стены»?
Сам Гумилев описывает этот визит в письме к Брюсову от 7 января. Рекомендательное письмо у него было не от Брюсова (как пишет Белый), а от Веселитской-Микулич — автора «Мимочки».
Кроме Зинаиды Ник., были еще Философов, Андрей Белый и Мережковский. Последний почти тотчас скрылся. Остальные присутствующие отнеслись ко мне очень мило, и Философов стал расспрашивать меня о моих философско-политических убеждениях… Я отвечал, как мог, отрывая от своей системы клочки мыслей, неясные и недосказанные. Но, очевидно, желание общества было подвести меня под какую-нибудь рамку. Сначала меня сочли мистическим анархистом — оказались неправы. Учеником Вячеслава Иванова — тоже. Последователем Сологуба — тоже. Наконец сравнили с каким-то французским поэтом Бетнуаром или что-то в этом роде… На беду мою, в эту минуту вышел хозяин дома Мережковский, и Зинаида Ник. сказала ему: ты знаешь, Николай Степанович напоминает Бетнуара. Это было моей гибелью. Мережковский положил руки в карманы, стоял у стены и говорил отрывисто и в нос: «Вы, голубчик, не туда попали! Вам здесь не место. Знакомство с Вами ничего не даст ни Вам, ни нам. Говорить о пустяках совестно, а в серьезных вопросах мы все равно не сойдемся. Единственное, что мы могли бы сделать, это спасти Вас, так как Вы стоите над пропастью. Но ведь это…» Тут он остановился. Я добавил тоном вопроса: «…Дело неинтересное?» И он откровенно ответил «да» и повернулся ко мне спиной. Чтобы сгладить неловкость, я посидел еще минуты три, потом стал прощаться. Никто меня не удерживал, никто не приглашал. В переднюю меня из жалости проводил Андрей Белый.
Белый, между прочим, ничего не пишет об участии в разговоре Дмитрия Философова, как известно составлявшего с супругами Мережковскими тройственный духовный союз.
Что Гумилев держался нелепо — неудивительно: «Не забывайте того, что я никогда в жизни не видал даже ни одного поэта новой школы или хоть сколько-нибудь причастного к ней», — пишет он Брюсову 30 октября 1906 года. В действительности-то Гумилев видел, и не раз, одного из лучших поэтов новой школы — но еще не догадывался об этом. Масштаб творчества Анненского и степень его новаторства он осознает позднее. Совершенно не представляя себе, каковы настоящие декаденты, он пытался соответствовать некоему вымышленному стереотипу. Но взрослые люди, к которым он пришел, могли бы встретить его подобрее.
З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов, Д. С. Мережковский, 1900-е
Еще не получив письма Гумилева, Брюсов осведомляется у Гиппиус, были ли у нее его брат Александр[37] и «юноша Гумилев». «Первого не рекомендую, второго — да». Вот что отвечает Гиппиус:
О Валерий Яковлевич! Какая ведьма «сопряла» Вас с ним? Да видели ли вы его? Мы прямо пали. Боря имел силы издеваться над ним, а я была поражена параличом. Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенции старые, как шляпка вдовицы, едущей на Дрогомиловское. Нюхает эфир (спохватился) и говорит, что он один может изменить мир. «До меня были попытки… Будда, Христос… Но неудачные…» После того, как он надел цилиндр и удалился, я нашла номер «Весов» с его стихами, желая хоть гениальностью его строк оправдать Ваше влечение, и не смогла. Неоспоримая дрянь.
Белый в письме к Брюсову характеризует Гумилева еще короче — «паныч ось сосулька[38], и сосулька глупая».
В общем, при всех расхождениях суть ясна: беззащитного молодого поэта зачем-то грубо обидели.
Теперь растерянный Гумилев боится идти к Рене Гилю, к которому его настойчиво направляет Брюсов. На первых порах причиной страха мог быть и плохой французский. Так или иначе, пока редактор «Весов» остается его единственным мэтром. «Я бесконечно благодарен, что Вы не переменили своего мнения обо мне как о человеке, — пишет Гумилев Брюсову 14 января 1907 года, — и прислали мне такое милое письмо после отзыва г. Мережковской, вероятно, очень недоброжелательного. И я надеюсь, что при нашем свидании, которое очень возможно, так как я думаю вернуться в Россию, я произведу на Вас менее несимпатичное впечатление».
Если Мережковские в общении с Гумилевым проявили себя с самой несимпатичной стороны, то Брюсов — надо это признать — выказал в общении с юношей лучшие черты своей неоднозначной личности. Он не скупился на советы, не отказывал молодому поэту в разборе его опытов, старался помочь ему в литературно-практических делах. Учеником Гумилев был образцовым, даже несколько в средневековом духе: старательным, почтительным, послушным. Письма этой поры переполнены комплиментами произведениям учителя (стихам, рассказам, роману «Огненный ангел»), просьбами о советах и благодарностями за советы.
Вот несколько цитат:
Меня страшно интересует вопрос, какие образы показались Вам, по Вашему выражению, «действительно удачными», и, кроме того, это дало бы мне известный критерий для писания последующих стихов (30.10.1906).
Ваше письмо пробудило меня. Я поверил, что если я мыслю образами, то эти образы имеют некоторую ценность и теперь все мои логичесекие построения опять начинают облекаться в одежду форм, а доказательства превращаются в размеры и рифмы. Одно меня мучает, и сильно, — мое несовершенство в технике стиха. Меня мало утешает, что мне только 21 год, и очень обескураживает, что я не могу прочитать себе ни одно из моих стихотворений с таким же удовольствием, как, напр., Ваши «Ахилл у алтаря», «Маргерит» и др. или «Песню Офелии» Ал. Блока… Некоторые Ваши строки, как составная часть, вошли не в мое миросозерцание (это было бы слишком мало), но в формулировку смутных желаний моего астрального тела (24.03.1907).
Если бы мы жили до Р. Х, я бы сказал: Учитель, поделись со мной мудростью, дарованной тебе богами, которую ты не имеешь права скрывать от учеников (15.08.1907).
Я еще раз хочу Вас просить не смотреть на меня как на писателя, а только как на ученика, который до своего поэтического совершеннолетия отдал себя в Вашу полную власть (12.05.1908).
Человеку самолюбивому и ревнивому, Брюсову это обожание, безусловно, льстило. Но, с другой стороны, у него хватало в те годы юных обожателей и подражателей. Ни к кому из них он, однако, не относился так «по-отечески», как к Гумилеву. И даже в те годы, когда он размашисто предавал все и всех — все же для Гумилева, убитого властью, которой он, Брюсов, ревностно служил, частью которой он стал, у него нашлись какие-то уважительные и человеческие слова… Об этом в свое время мы скажем подробнее.
Гумилев предлагает в «Весы» три статьи:
«Костюм будущего», где я на основании изучения костюма в прошлом пытаюсь угадать, каков он будет в будущем. «Защита чести» — эстетическое обоснование поединков всякого рода. И «Культура любви» — эстетические заметки о разных видах половой любви.
Брюсов выражает заинтересованность в третьем материале, статью о дуэли отвергает, так как «Весы» — журнал литературы и искусства. Но и статья «Культура любви» в «Весах» не появилась: Гумилев написал ее, но «когда я вспомнил статьи, раньше напечатанные в «Весах», ваши, Бальмонта, Андрея Белого и Вяч. Иванова, столь выразительные по языку и богатые по мысли, то я решил не посылать ее на верный отказ» (25 ноября). Статья не сохранилась: жаль, и еще жальче (в контексте событий, которые произойдут через несколько лет), что так и ненаписанной осталась «Защита чести».
В итоге «Весах» за 1907 год появилось лишь три его стихотворения (в номере семь) и одна статья. В основном же Гумилев публикуется в это время в литературных приложениях к газете «Русь» и в газете «Раннее утро» — изданиях малопрестижных. Лишь к концу 1907-го положение начинает понемногу меняться. В это время Гумилев уже получает предложения из разных изданий. Он посылает стихи в «Золотое руно» — и сам Рябушинский немедля отвечает ему любезным письмом: «Хотел писать Вам, но Вы опередили любезной присылкой своих стихотворений…» Само собой, стихи Гумилева в «Руне» принимают, но тут как раз пробегает черная кошка между Брюсовым и Рябушинским, и по требованию учителя Гумилев от публикации в конкурирующем с «Весами» журнале отказывается.
Тем временем у него заводятся все же какие-то литературные связи в Париже.
В мастерской художницы Е. С. Кругликовой, где собирался «весь русский Париж», он знакомится с Максимилианом Волошиным. По свидетельству А. А. Биска,
Кругликова была гостеприимной хозяйкой, часто устраивала костюмированные вечера с обильным угощением. Сама хозяйка, женщина уже немолодая, выступала в мужском костюме, что по тем временам считалось смелостью. Она сочиняла куплеты и пела их на парижский лад…
Попытка еще раз встретиться с Андреем Белым и показать ему стихи (Б. Н. Бугаев был все же не так жесток с ним, как Мережковские) закончилась очередным конфузом: Андрей Белый в момент прихода молодого гостя тяжело страдал от (как можно понять из текста «Между двух революций») ишиаса и — «не в силах ему объяснить, что страдаю, просил его выйти движением руки».
Позднее — уже в 1908-м — происходит знакомство с А. Н. Толстым. Будущий классик советской литературы, в то время — начинающий поэт, «мистик и народник», характеризуется Гумилевым в письме к Брюсову так: «Кажется, это типичный «петербургский» поэт, из тех, которыми столько занимается Андрей Белый. Кажется, он пишет стихи всего один год, а уже считает себя мэтром. С высоты своего взгляда сообщил несколько своих взглядов и кучу стихов». «Петербургские поэты» — это в данном случае мистические анархисты, Георгий Чулков и (между прочим) будущий друг и сподвижник Гумилева Сергей Городецкий. Впрочем, и с Толстым Гумилев вскоре подружился. «Мистик и народник» рекомендует Гумилева своему корреспонденту — начинающему, но уже довольно известному критику Корнею Чуковскому. В мемуарном очерке Толстого создан колоритный образ Гумилева той поры: «Длинный, деревянный, с большим носом. С надвинутым на глаза котелком… В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой».
Деревянный, с большим носом… Просим заметить, что это пишет будущий автор «Золотого ключика»[39]. (Впрочем, при внимательном чтении знаменитой детской книги «красного графа» можно увидеть и другие удивительные параллели с Гумилевым — едва ли не прямые намеки на его судьбу и творчество. Достаточно сказать, что в том волшебном театрике, который обретает Буратино, показывают сначала город, по которому проходит трамвай, потом — африканские джунгли… Трамвай и Африка!)
В сентябре — декабре 1907 года Гумилев общается с появившимся на какое-то время в Париже Андреем Горенко. Возможно, он был одним из тех «двух единственных слушателей», уехавших из Парижа, о которых поминает Гумилев в письме к Брюсову от 2 февраля.
Николай Гумилев. Шарж Н. И. Альтмана, 1910-е
В числе шапочных парижских знакомств — Рерих и княгиня Тенишева (декабрь 1907 года). Всплывают еще какие-то имена — художник И. И. Щукин (рано умерший), художник Себастьян Гуревич[40], в мастерской которого Гумилев в 1907-м познакомился с Лилей Дмитриевой (девушкой, чья роль в его жизни и в истории русской литературы чуть не стала роковой), или некая «баронесса де Орвиц-Занетти», которой посвящены «Царица Содома» и «Маскарад». Есть основания думать, что роман с этой дамой (в конце 1906-го) был вдохновлен отчасти ее звучным (австрийским?) именем и протекал в основном в воображении юного поэта. Во всяком случае, он оборвался на полуслове, как и другая романическая история, относящаяся к тому же времени — с неизвестной героиней.
Так или иначе, где-то через полгода-год пребывания в Париже Гумилев достаточно интенсивно погружается в мир здешней богемы, в котором было немало русских. Парижское пьянство не затягивает его — полное равнодушие к алкоголю сохраняет он до конца жизни — в монпарнасских кафе он пил лишь кофе и гренадин. Но знакомство с эфиром относится именно к этому времени (см. письмо Гиппиус к Брюсову).
Что касается французской литературы, то до Гиля Гумилев все же добирается. Это происходит в начале октября — после получения французским символистом рекомендательного письма Брюсова. Между тем Гумилев с конца 1906 года приятельствовал с молодым французским поэтом Николасом Деникером, одним из многочисленных учеников Гиля, племянником Анненского и сыном знаменитого французского антрополога Жоржа Деникера (Deniker, а не Denicer, как пишет Гумилев в одном из писем). Никакого следа во французской литературе он не оставил, но Гумилеву нравились его стихи: «При красивой простоте стиля много красивых и интересных сопоставлений и образов и полное отсутствие тех картонажных эффектов, от которых так страдает новая русская поэзия» (письмо к Кривичу от 02.10.1906).
Мэтр Гумилеву тоже очень понравился:
Это энергичный, насмешливый, очень тактичный и действительно очень умный человек… Со мной он был крайне приветлив и с каким-то особенным оттенком дружеской фамильярности, что сразу сделало нашу беседу непринужденной. Вообще, я был совершенно неправ, когда боялся к нему идти, и теперь знаю, что французские знаменитости много общительнее русских (Вы знаете, о ком я говорю) (письмо к Брюсову, 9.10.1907).
Ср. фразу из ахматовских воспоминаний о Модильяни: «Рене Гиль проповедовал «научную поэзию», и его так называемые ученики с великой неохотой посещали мэтра». Эта фраза, впрочем, относится к более позднему времени (1911).
3
Нет ничего более естественного для молодого поэта, тем более находящегося в некоторой изоляции, чем стремление создать свой собственный журнал. Нет ничего более естественного, чем постигающая его при этом неудача.
Журнал — «первый русский журнал в Париже» — назывался «Сириус», по созвездию, пусть и не зодиакальному. В названии, конечно, — явное подражание «Весам» и «Скорпиону». Журнал был прокламирован как «двухнедельный». Первый номер вышел в конце января, второй — в феврале, третий — в марте-апреле. На том все и кончилось. В общем, это был типичный образец журналов, чью судьбу один остроумец описал так: «Два номера вышли, третий в печати, четвертому не быть».
Соратниками Гумилева в этой затее выступили два живших в Париже русских художника — Мстислав Фармаковский и Александр Божерянов, с которыми он познакомился на организованной С. Дягилевым выставке русской живописи.
Мстислав Владимирович Фармаковский (1873–1946), художник и критик, вошел в историю культуры скорее как археолог, специалист по старинному стеклу и фарфору. Его книга «Консервация и реставрация музейных коллекций» стала классической. В 20–30-е он работал в ленинградской Академии материальной культуры и, между прочим, много сотрудничал с другим знакомцем Гумилева — царскоселом Эрихом Голлербахом. «Сириус» издавали на «свои средства» — каковые могли быть разве что у Фармаковского.
Известна статья Гумилева о творчестве этого художника, напечатанная в 22–23 номере киевского журнала «В мире искусств» за 1907 год.
Всякий, кто войдет в ателье Фармаковского и хотя бы рассеянно взглянет на его рисунки, испытает странное чувство. Ему покажется, что не на холсте или на бумаге, а в его собственном мозгу возникли все эти невероятные пейзажи, с деревьями и цветами, похожими на грезы больного индуса. Эти образы, странные, почти нелепые, но нарисованные с той страшной реальностью, которая пугает сильнее всякой фантастичности…
Кажется, будущий истовый археолог был предшественником сюрреализма. Вот сюжеты его картин: «Маленький голый старикашка, из породы гномов… придавленный тяжестью своей тележки, в которой, скверно улыбаясь, сидит громадный, словно от водянки распухший ребенок»… «Руки, пригнувшие человека к земле на пути несущегося автомобиля»… Поскольку картины эти, кажется, не сохранились, эффектно было бы предположить, что их никогда и не было, что статья о Фармаковском — мистификация Гумилева. «Что случилось по ту сторону сознания? Зачем на улицах стали появляться такие твари?»
Александр Иванович Божерянов (1882–1961), второй соредактор журнала, известен как театральный художник и как график, иллюстратор книг Кузмина, Шкапской и др. Колоритные страницы о нем есть в воспоминаниях В. Милашевского. По его словам, Божерянов в Париже перед Первой мировой был известным комиссионером (и переводчиком) при продаже картин и скульптур «богатым американцам».
Миллионер Томсон давал миллионеру Джексону парижский адрес Сашеньки.
И этот самый Джексон был счастлив, если «мистер Божерианофф» поведет его к своему другу Родену, к Бурделю, Майолю и, на худой конец, к гениальному Цадкину!
Или они заглянут в мастерскую Мориса Дени, Ван Донжена и прочих звезд Современного Искусства Франции!
С 1925 года до конца жизни он вновь в Париже. С Божеряновым Гумилев был связан ближе, чем с другим соредактором: согласно Лукницкому, в период подготовки журнала они даже жили на одной квартире. Божерянов был автором обложки журнала и в первых двух номерах указан как редактор художественного отдела. Но в третьем номере его имя уже отсутствует. Н. И. Николаев[41] считает, что роль Божерянова сводилась к выбору работ для репродуцирования: все художественно-критические статьи принадлежат Фармаковскому. В числе художников, чьи работы были воспроизведены в журнале, — знаменитый впоследствии грузинский скульптор, ученик Родена Яков Николадзе (1876–1951), живописцы Семен Данишевский (1870–1944) и некий А. И. Финкельштейн, а также, конечно, сами Фармаковский и Божерянов[42].
Разумеется, русское издание литературно-художественной направленности в Париже, где жили десятки русских художников и литераторов (только на Монпарнасе было две соперничавших между собой русских колонии), имело все права на существование. Но уровень его оказался слишком уж невысоким — в сущности, дилетантским.
Уже стилистика предисловия к первому номеру в полной мере показывает это. Увы, если верить материалам Лукницкого, безвкуснейший текст этот написан Гумилевым:
Издавая первый русский художественный журнал в Париже, этой второй Александрии утонченности и изящества, мы считаем долгом познакомить читателей с нашими планами и взглядами на искусство.
Мы дадим в нашем журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте.
Мы полюбили все, что дает эстетический трепет нашей душе, будь то развратная, но роскошная Помпея, или Новый Египет, где времена сплелись в безумии и пляске, или золотое Средневековье, или наше время, строгое и задумчивое.
Мы не будем поклоняться кумирам, искусство не будет рабыней для домашних услуг.
Ибо искусство так разнообразно, что свести его к какой-то цели даже для спасения человечества есть мерзость перед Господом.
Примерно так писал и говорил Гумилев в период злосчастного визита к Мережковским. Немудрено, что над ним смеялись.
В художественно-критической части интереснее всего отзывы о выставках русского искусства в Париже, содержащие резкие выпады против «новой академии» — Дягилева и Бенуа:
Наклейки XVIII столетия достаточно для того, чтобы произведение было признано художественным, наклейки именно того столетия, когда своего-то было мало в русском искусстве, когда хорошим тоном считалось только, что заимствовано из Франции…
Чуждым русскому искусству «Оресту Швальбе, Карлу Брюллау, Теодору Бруни» противопоставлялись истинно русские А. Иванов, Васнецов, Врубель. Подобная позиция была не только более чем сомнительна по сути, но и невежественна в деталях: если на то пошло, Орест Кипренский (Копорский), внебрачный сын русского помещика, никогда не носил фамилию своего отчима Адама Швальбе, предки Карла Брюллова — эмигрировавшие в Россию французские гугеноты — звались не Брюллау, а Брюлло, а настоящее имя Бруни — не Теодор, а Фиделио.
Сам Гумилев (в письме Брюсову от 24 марта) выражает недовольство художественно-критическим отделом журнала и оправдывается: «Меня с моими компаньонами связывают прежде всего денежные счеты». Можно предположить, что именно идейные расхождения были одной из причин прекращения издания журнала. Но добрые отношения с Фармаковским сохранялись: цитированная выше статья Гумилева о творчестве художника напечатана полгода спустя. А в 1908 году Фармаковский пишет известный портрет Гумилева с веером, хранящийся ныне в Пушкинском Доме.
Гумилев тоже пробует силы в художественной критике. Правда, в ноябре 1906-го он отказывается писать о дягилевской выставке для «Весов»: «Я не могу писать о ней в стиле Сологуба: я не мистик. Я не могу написать в стиле Макса Волошина: я не художник. Написать же в собственном стиле я мог бы только о двух-трех картинах Врубеля, о Бенуа и о Феофилактове». Тем не менее интерес к живописи берет свое: уже в письмах к Брюсову упоминается впоследствии воспетый Гумилевым Фра Беато Анджелико, а в одиннадцатом номере «Весов» за 1907-й и в пятом номере за 1908-й появляются статьи молодого поэта — «Два салона» (речь идет об официальном академическом Салоне и Салоне независимых) и «Выставка русского искусства в Париже»[43]. Художественные предпочтения Гумилева, судя по редакционному примечанию к статье «Два салона», не полностью совпадали с позицией редакции:
Поль Гоген ушел не только от европейского искусства, но и от европейской культуры, и большую часть жизни[44] прожил на островах Таити. Его преследовала мечта о Будущей Еве, идеальной женщине грядущего, не об утонченно-опасной «мучительной деве», по выражению Пушкина, а о первобытно-величавой, радостно любящей и безбольно рождающей.
Это суждение неудивительно, как неудивительны и похвалы Анри Руссо. Но искушенность Гумилева в современной ему живописи все же оставляла желать лучшего — он рассматривает творчество Сезанна лишь как искания (не во всем удачные) и восхищается относительно второстепенным испанским живописцем И. Сулоагой и некими Гайдарой, Вебером, Дине — живописцами-академистами из официального Салона, которых ныне никто не помнит. Этот консерватизм не случаен: 25 марта 1908 года Гумилев признается в письме Брюсову, что «для меня новые течения в живописи в их нынешней форме совершенно непонятны и несимпатичны». Впрочем, и Александр Бенуа считал Беклина (автора пресловутого «Острова мертвых»), Менцеля и Пюви де Шаванна значительно более крупными художниками, чем импрессионисты, не говоря уж о Гогене и Сезанне. На этом фоне вкусы Гумилева не кажутся совсем уж отсталыми.
На выставке русской живописи особых похвал Гумилева удостаивается Николай Рерих, в котором он видит родство с Гогеном:
Оба они полюбили мир первобытных людей с его несложными, но могучими красками, линиями, удивляющими почти грубой простотой, и сюжетами дикими и величественными, и, подобно тому, как Гоген открыл тропики, Рерих открыл нам истинный север, такой родной и такой пугающий.
Так или иначе, художественная критика «Сириуса» не отражала позиции Гумилева. Ну а что литературная часть?
Увы, здесь дело обстояло по крайней мере не лучше.
За подписью Гумилева в журнале появилось стихотворение «Франция» и отрывок «Гибели обреченные». Первый из этих двух текстов — трогательное объяснение в любви к стране, где Гумилев оказался, продолжающее отчасти традицию «Похвального слова» Тредьяковского:
О Франция, ты призрак сна, Ты только образ, вечно милый, Ты только слабая жена Народов грубости и силы. Твоя разряженная рать, Твои мечи, твои знамена — Они не в силах отражать Тебе враждебные племена. ………………………. И ты стоишь, обнажена, На золотом роскошном троне, И красота твоя, жена, Тебе спасительнее брони. Где пел Гюго, где жил Вольтер, Страдал Бодлер, богов товарищ, Там не посмеет изувер Плясать при зареве пожарищ. И если близок час войны И ты осуждена к паденью, То вечно будут наши сны С твоей блуждающею тенью.Обложка первого номера журнала «Сириус», 1903 год
Неважные, конечно, стихи — не случайно Гумилев не включил их ни в одну книгу. Молодой поэт поминает позорное поражение французов в 1871 году, разгром Наполеона в 1814-м… Собственно гумилевского здесь — резкое противопоставление мужского и женского начала, благородной слабости и мужества.
Гораздо интереснее прозаический отрывок — «незаконченная повесть». Может быть, под влиянием картин Гогена и Рериха Гумилев обращается к первоначальному, исконному опыту человечества, к миру первобытных людей. Соблазнительно провести параллель между этим его полудетским отрывком и такими зрелыми вещами, как «Дракон», «Звездный ужас», пьеса «Охота на носорога».
Человек стремительно поднялся. Он чувствовал себя внезапно созревшим. Он знал борьбу, знал страдание и видел смерть. Но тем глубже, тем прекраснее показался ему мир. Опьяненный самим собой, своей красотой и мощью, он начал пляску, первую божественную пляску, естественное выражение чувства жизни. Закружился и запрыгал, и каждый новый прыжок новой радостью плескал в его широко раскрывшееся сердце.
Из-под ног его вырвался тяжелый камень и с грохотом покатился в пропасть; долго соскакивал с камня на камень, ломал кусты и, с силой ударившись, разбился на дне. «Тремограст», — повторило далекое эхо. Человек внимательно прислушался и, казалось, что-то соображал. Медленно прошептал он: «Тремограст». Потом весело засмеялся, ударил себя в грудь и уже громко и утвердительно крикнул: «Тремограст», и эхо ответило ему.
Еще два прозаических текста напечатано под псевдонимом Анатолий Грант. Тайна псевдонима скрывалась даже от соредакторов — лишь Брюсову Гумилев раскрыл ее. «Что же мне делать, если у нас совсем нет подходящих сотрудников?» Брюсова как раз было этим не удивить. Некогда (примерно в том же, что и Гумилев, возрасте) он заполнял страницы антологии «Русские символисты» собственными стихами под разными псевдонимами.
«Карты» Анатолия Гранта — утонченный прозаический этюд «на парижскую тему» в бодлерианском духе с примесью оккультизма. В этюде «Вверх по Нилу» фигурируют тайные письмена, которые читают в пирамидах английские и французские туристы, «мудрое племя эфиопов, управляемое потомком царя Балтазара», Элифас Леви в соединении с Райдером Хаггардом (хотя здесь как раз удивительного мало: оккультисты охотно ссылались на произведения этого популярного романиста) — впрочем, похоже, текст содержит элементы намеренной пародии. Гумилев начал писать об Африке еще до того, как поехал туда. И трудно не заподозрить, что аляповатость его ранних «африканских» вещей вполне сознательна. Это декорации, это экзотический континент, каким он видится из Парижа, это крокодилы и жирафы из Jardin des Plantes. Как мы увидим ниже, наиболее чуткие критики вполне ощущали этот налет автопародийности, эту скрытую иронию.
Что касается других авторов, то их было всего двое, оба поэты. Привлечь маститых парижан (и вообще маститых) не удалось. 8 января Гумилев писал Брюсову: «Если бы Вы могли дать нам что-нибудь свое — стихотворение, рассказ или статью, — Вы бы еще раз доказали свою бесконечную доброту ко мне». Но так далеко брюсовская доброта не простиралась.
Один из двух поэтов, напечатанных в «Сириусе», — Александр Биск.
Одессит Александр Акимович Биск (1883–1973) опубликовал в 1905 году в местном революционном издании некие «Песни юродивого», после чего осторожные родители сочли за благо отправить его на время за границу. Литературная карьера его складывалась поначалу обычно для человека его поколения: письмо Брюсову — публикация в «Весах» — визит к Бальмонту в Париже (Биск, в отличие от чопорного царскосела Гумилева, обошелся без предварительного письма — просто явился к мэтру без приглашения)… После 1917-го Биск жил в Бельгии, а потом в США. Его сын, Ален Боске, стал знаменитым французским поэтом. Сам Биск оставил след в русской литературе как первый переводчик Рильке. Еще в 1904 году он набрел на стихи малоизвестного молодого австрийца — и начал переводить их, а в 1919-м издал отдельной книгой. Первый сборник оригинальных стихотворений Биска, «Рассыпанное ожерелье», вышел семью годами раньше — ему был предпослан эпиграф из австрийского поэта. Живя в Париже, Александр Акимович не догадался лично встретиться с Рильке, поселившимся здесь в 1906-м. Итоговое собрание стихотворений Биска (вышедшее в 1962 году и как раз переводы из Рильке не включавшее) называлось «Чужое и свое». В «Сириусе», к сожалению, было «свое».
О своем участии в журнале Биск вспоминал так:
…Были и другие вечера, более консервативные (т. е. без чтения революционных стихов. — В. Ш.). На одном из них одна высокопоставленная дама (баронесса Орвиц-Занетти? — одесситы все же были беззащитны перед дворянскими титулами. — В. Ш.) читала «стихи поэта Гумилева», где, помню, рифмовались «кольца» и «колокольца»… Я читал свои «Парижские сонеты», и Гумилеву особенно понравились последние строчки одного из них:
Лютеция молчала, как и ныне, И факелы чудовищные жгла.Он пригласил меня участвовать в журнальчике, который он издавал…
Он уже успел побывать в Африке и спросил меня, люблю ли я путешествовать. Я ответил, что люблю, но для Африки у меня нет достаточно денег, на что Гумилев ответил: у меня тоже нет денег, а я вот путешествую.
Очень скоро я с Гумилевым рассорился из-за того, что он не прислал мне номера журнала, в котором были помещены мои стихи.
«Путешествовал» Гумилев пока что лишь в воображении — на это денег и впрямь не нужно…
Что до стихов Биска, то в «Сириус» вошли не строки про «чудовищные факелы» (и впрямь энергичные), а два стихотвореньица про «бледных девушек».
И еще один поэт напечатался в «Сириусе» — под литерами А. Г.:
На руке его много блестящих колец — Покоренных им девичьих нежных сердец. Там ликует алмаз и мечтает опал, И красивый рубин так причудливо ал. Но на бледной руке нет кольца моего, Никому, никогда не отдам я его. Мне сковал его месяца луч золотой, И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой: «Сохрани этот дар, будь мечтою горда!» Я кольца не отдам никому, никогда.Под литерами скрывалась конечно же Анна Горенко. Это была ее первая публикация.
Как рассказывал Гумилев, «я не пришел в восторг от этого стихотворения, а конец — «мне сковал его месяца луч золотой» — я советовал и вовсе отбросить. Но все же я напечатал его… Я был катастрофически влюблен и на все готов, чтобы угодить Ахматовой».
4
Мотив кольца в отношениях Гумилева и Ахматовой — один из сквозных.
Начать с эпизода, рассказанного Ахматовой в разговоре в В. Д. Дувакиным: Гумилев, сделав ей предложение, подарил дорогое кольцо с рубином, которое в тот же день закатилось в какую-то щель между досками. Ахматова не могла попросить мать о помощи: она «не должна была принимать такие подарки». Так кольцо и пропало.
К какому времени относится этот эпизод? К 1905 году? Тогда Анна отвергла предложение Гумилева: странно было бы принимать кольцо. К тому времени, когда она согласилась стать его женой? Но в качестве официального жениха он мог делать ей любые подарки.
Юношеское стихотворение Ахматовой связывают, впрочем, скорее с другим кольцом — тем, которое было позднее подарено Б. Анрепу, тем, чья судьба в поэтически преображенном виде отразилась в знаменитой «Песне о черном кольце».
Но это дела далекого будущего.
В 1906 году Анна Горенко живет в Киеве, из прежних друзей переписываясь лишь с С. В. Штейном и с Валерией Тюльпановой. В сохранившихся (опубликованных в 1986-м Э. Герштейн) письмах к Штейну она признается в еще не угасшей любви к Владимиру Голенищеву-Кутузову: «В жизни нет ничего, кроме этого чувства… Хотите сделать меня счастливой? Если да, пришлите мне его фотографию».
В 1924-м Ахматова говорила Лукницкому о (не названном по имени) Голенищеве-Кутузове как о своей единственной любви, о письме, которого она безнадежно ждала три года в Киеве и в Крыму.
Тем не менее в конце 1906 года она — «сама не зная почему» — пишет Гумилеву в Париж. Адрес его был ей известен: Гумилев переписывался с Андреем Горенко. По словам Ахматовой, «это письмо не заключало в себе ничего особенного», но Гумилев немедленно «забросил два романа» (с Орвиц-Занетти и с неизвестной дамой) и послал в Киев письмо — с новым предложением руки и сердца. И на сей раз он получает согласие. Гумилев извещает о своей помолвке родителей и отправляет, «как полагается», соответствующее письмо матери Анны, Инне Эразмовне.
2 февраля 1907 года Анна пишет Штейну:
Я выхожу замуж за друга моей юности (Анне в момент написания письма неполных восемнадцать. — В. Ш.) Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что мне судьба быть его женой. Люблю ли его я, не знаю, но кажется мне, что люблю. Помните у Валерия Брюсова:
Сораспятая на муку, Враг мой давний и сестра, Дай мне руку! Дай мне руку! Меч взнесен. Спеши. Пора.И я дала ему руку, а что было в моей душе, знает Бог и Вы, мой верный дорогой Сережа. Оставим это.
Что было в ее душе? Вот цитата из следующего письма: «Хотите знать, почему я не отвечала Вам: я ждала карточку Г.-К. и только после ее получения хотела объявить Вам о своем замужестве».
«Замуж пошла ты, другого любя…» Впрочем, настроение девушки меняется с истерической быстротой.
Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне — я так счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснения. Всякий раз, как приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с величайшими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодный компресс и общее недоумение. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas.
Жду каждую минуту приезда моего Nicolas. Вы ведь знаете, какой он безумный, вроде меня.
И вдруг — 13 марта:
Все ушло из жизни вместе с освещавшим ее светлым и радостным чувством…
Речь идет не о чувстве к Гумилеву — это очевидно.
Но уже в 18-летней Анне как будто независимо друг от друга живут два разных существа: нервная и страстная барышня — и очень рано созревший, знающий себе цену и целеустремленный человек. Девичьи излияния прерываются разговором о стихах — и интонация сразу же меняется: «Стихи Федорова за некоторыми исключениями действительно слабы… Он не поэт, а мы с Вами, Сережа, — поэты». Конечно, здесь есть элемент самоиронии — и все же… А ведь Александр Федоров — известный стихотворец бунинского круга, умелый, хотя и не слишком вдохновенный профессионал, а стихи Анны Горенко этой поры — примерно на уровне «тетради Машеньки Маркс». И тут же: «Нет ли у Вас чего-нибудь нового Гумилева? Я совсем не знаю, что и как он теперь пишет, а спрашивать не хочу».
Все эти события как раз совпадают по времени с изданием «Сириуса». Во втором номере появляется стихотворение Анны; она посылает в Париж другое стихотворение — для третьего номера журнала, но делает это слишком поздно: стихи в номер не попадают, а затем «Сириус» прекращает выходить. Отношение Анны к этой затее лучше всего передает пассаж из письма к Штейну — из того же письма от 13 марта:
Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев наш Никола перенес, и все понапрасну. Вы заметили, что все сотрудники почти так же известны и почтенны, как я?
Тем не менее свою литературную биографию она числила именно от этой публикации. В начале 1967-го Ахматова предполагала отмечать 60-летие литературной деятельности (что по тем временам было явным анахронизмом: в СССР принято было считать писательские юбилеи от дня рождения, а не от первой публикации). Точкой отсчета была именно публикация в «Сириусе».
В Россию Гумилев приезжает лишь в апреле 1907 года. В первую очередь он отправляется к Анне в Киев, затем к Брюсову в Москву.
Лукницкая объясняет этот приезд Гумилева в Россию необходимостью предстать перед призывной комиссией. Но справка о его медицинском освидетельствовании и об освобождении от воинской повинности датируется 30 октября 1907 года.
Визит Гумилева к Брюсову зафиксирован в дневнике мэтра:
15 мая. Приезжал в Москву Гумилев. Одет довольно изящно, но неприятное впечатление производят гнилые зубы. Часто упоминает о «свете». Сидел у меня в «Скорпионе», потом я был у него в какой-то скверной гостинице близ вокзалов. Говорили о поэзии и оккультизме. Сведений у него мало. Видимо, он находится в своем декадентском периоде. Напомнил мне меня 1895 года.
Н. С. Гумилев, 1900-е
Юноша бледный со взором горящим… Бледный юноша с глазами гуся… Сходство налицо.
Гумилев был в восторге от радушного приема, оказанного ему «дорогим Валерием Яковлевичем». Должно быть, тот и был ласков — но (как видно из его собственной записи) домой ученика не позвал, хотя юноша, видимо, как раз больше всего нуждался (с дороги-то) в домашнем уюте и горячем ужине. В буржуазном доме Брюсова это было всегда; впрочем, возможно, как раз в этот период его семейная жизнь усложнилась: в разгаре был его обсуждавшийся «всей Москвой» роман с Ниной Петровской.
Может быть, впрочем, если бы Гумилев «с близкого расстояния» увидел брюсовский быт, так контрастирующий с теми мрачными духовными безднами, на причастность к которым редактор «Весов» претендовал, — его восторг перед мэтром поумерился бы. «Черный маг» — и самодовольный рантье, виртуозно играющий в преферанс… Может быть, Гумилев увидел бы Брюсова с той же жесткой отчетливостью, с которой увидел его Ходасевич, тоже ходивший у него в учениках. Но Гумилев смотрел на мэтра издалека, и его образ остался облагороженным, избавленным от снижающих бытовых черт. Молодой царскосел готов был защищать учителя от нападок — и видел в нем то, что хотел видеть:
Последнее время часто слышатся нападки на Брюсова из самых противоположных лагерей. Его упрекают в гордости, в самомнении, в презрении к реальной жизни. В этом нет ничего удивительного. Уже давно люди привыкли считать поэтов чиновниками литературного ведомства, забыли, что духовно они ведут свой род от Орфея, Гомера и Данте. Брюсову поставлено в вину, что он это вспомнил.
Судя по всему, ничто в Москве, кроме «Весов» и «Скорпиона», внимание Гумилева не задержало. До конца жизни он бегло побывал в Первопрестольной еще несколько раз, но все его визиты свелись к сугубо литературному общению. Этого города для него как будто не существовало. Нет ни строки — пусть даже негативно окрашенной, — относящейся к Москве, в его стихах. Лишь в одной из его статей упоминается «скромная Москва», противопоставленная «пышному Багдаду». Использовавший как материал для творчества чуть ли не все увиденное и прочтенное, он мимо этого материала прошел, не заметив его.
Из Москвы Гумилев отправился в Березки (пострадавшие от поджогов в 1905 году и вскоре проданные); какое-то время он провел в Петербурге и в Царском. Более подробных свидетельств об этом времени — с конца мая по начало июля 1907-го — нет. В начале июля он отправился в Севастополь, где проводила лето Анна Горенко. По-видимому, там, на даче Шмидта, произошел очередной разрыв. Анна берет назад данное слово, помолвка расторгается. Тяжесть этого известия (которое Гумилев должен был предчувствовать — он виделся с Анной в апреле-мае и не мог не заметить тех смятения и неуверенности, которые скользят в ее письмах Штейну) усилилась тем, что именно на даче Шмидта Гумилев «из разговоров» (вероятно, из своих разговоров с Анной) понял, что она «не невинна». О том, что между их разлукой в 1905 году и встречей весной 1907-го у Анны был роман — серьезный роман со взрослым мужчиной, он до сих пор не догадывался. Имя своего соперника он не узнал и сейчас — и никогда не заговаривал об этом с Анной. «Кто был первый», он спросил у нее в 1918-м — в день развода. Она назвала имя: это давно уже не имело никакого значения.
Ахматова рассказывала Лукницкому, что
на даче Шмидта у нее была свинка и лицо ее было до глаз закрыто — чтобы не было видно страшной опухоли… Николай Степанович просил ее открыть лицо, говоря: «Тогда я вас разлюблю!» Анна Андреевна открывала лицо, показывала… «Но он не переставал любить меня! Только говорил: «Вы похожи на Екатерину II»[45].
Об этом эпизоде мы уже упоминали. Кроме того, известно, что Гумилев сжег свою пьесу «Шут короля Батиньоля», на которую возлагал большие надежды и которую Анна отказалась слушать. А все же их духовное и интеллектуальное общение продолжается. В частности, Гумилев перед отъездом дарит Анне книгу Папюса. Ахматова рассказывала об этом Лукницкому, но едва ли прочитала оккультное сочинение. Во всяком случае, для ее поэзии это чтение никак не пригодилось.
Из Севастополя, не заезжая в Петербург, кораблем «Олег» молодой поэт отплыл во Францию. 3 августа (21 июля старого стиля) он пишет Брюсову: «После нашей встречи я был в Рязанской губернии, в Петербурге. Две недели прожил в Крыму, неделю в Константинополе, в Смирне, имел мимолетный роман с какой-то гречанкой, воевал с апашами в Марселе и только вчера не знаю как, не знаю зачем очутился в Париже». К сожалению, мы мало знаем об этом путешествии Гумилева, особенно о его жизни в Константинополе и Смирне — первом соприкосновении с миром Восточного Средиземноморья, Леванта, не считая, конечно, грузинской юности. «Роман с гречанкой» вызывал у Ахматовой сомнения: «С какой-то!.. Во всяком случае Николай Степанович на том же пароходе уехал из Смирны, потому что на письмах был знак того же парохода». Не очень понятно, почему Гумилев (как правило, не рассказывавший знакомым и даже друзьям о своих отношениях с женщинами) счел необходимым поведать Брюсову о «мимолетном романе с какой-то гречанкой». Можно предложить одно удовлетворительное объяснение: будущий неутомимый ловелас в двадцать один год, несмотря на баронессу Орвиц-Занетти и всех царскосельских гимназисток, был еще, в отличие от своей возлюбленной, «невинен». В Смирне он (обиженный и уязвленный тем, что узнал на даче Шмидта) спешно потерял девственность с первой же портовой девицей. О таком важном событии, конечно, подмывает рассказать хоть кому-то.
В конце 1980-х возникла версия, согласно которой в 1907 году Гумилев побывал и в Африке (по крайней мере в Египте). Впервые ее высказал В. Бронгулеев в предисловии к публикации части «Африканского дневника» (Наше наследие. 1988. № 1). Это предположение поддержали Е. Е. Степанов («Хроника жизни Гумилева», в трехтомном Собрании сочинений поэта. М., 1991), И. А. Панкеев, В. П. Петрановский. Сведения об этом путешествии попали во многие общедоступные издания. Правда, возможность египетского путешествия в 1907 году отрицает А. Б. Давидсон, специально занимавшийся африканскими сюжетами биографии поэта.
Что говорит в пользу этой версии? Например, стихотворение «Эзбекие»:
Как странно — ровно десять лет прошло С тех пор, как я увидел Эзбекие, Большой каирский сад, луною полной Торжественно в тот вечер освещенный. Я женщиною был тогда измучен, И ни соленый, свежий ветер моря, Ни грохот экзотических базаров, Ничто меня утешить не могло. О смерти я тогда молился Богу И сам ее приблизить был готов.«Эзбекие» напечатано в книге «Костер» летом 1918 года, значит, написано не позже весны этого года. Июль 1917-го — возможная дата, а октябрь 1918-го (десятителетие первого несомненного путешествия Гумилева в Египет) — уже нет.
Рассказ «Вверх по Нилу» (1907) едва ли стоит принимать в расчет, как и многочисленные африканские стихи, датированные этим годом. Мечта о Черном континенте действительно уже зародилась в сердце поэта, но подняться по Нилу он чисто хронологически никак не успевал. Провести один день в Каире по пути из Смирны в Марсель и зайти там в сад Эзбекие (Узбекие) — да, теоретически мог. Более того — как установлено Е. Е. Степановым, все маршруты пароходов из Смирны в Марсель имели стоянку в Египте. Правда, не в Каире, а в Александрии или Порт-Саиде.
Но если Гумилев был в Египте, пусть и мимолетно, почему он скрыл это от всех — и от женщины, которой был «измучен», и от любимого учителя? Роман с какой-то гречанкой — не скрыл, а первую встречу с желанной африканской землей — скрыл?
К тому же встречу, сопровождавшуюся особого рода откровением:
Но этот сад, он был во всем подобен Священным рощам молодого мира: Там пальмы тонкие взносили ветви, Как девушки, к которым Бог нисходит; На холмах, словно вещие друиды, Толпились величавые платаны, И водопад белел во мраке, точно Встающий на дыбы единорог; Ночные бабочки перелетали Среди цветов, поднявшихся высоко, Иль между звезд, — так низко были звезды, Похожие на спелый барбарис. И, помню, я воскликнул: «Выше горя И глубже смерти — жизнь!»Все-таки стихи — плохой источник в том, что касается хронологии. А вот в том, что касается внутренних переживаний, — иногда неплохой. Гумилев 1907–1908 годов еще во всем прежний, «декадент»: с самоупоенной скорбью, с попытками самоубийства. Следов перерождения в саду Эзбекие не видно. Правда, есть еще свидетельство Н. Н. Берберовой, на которое обращает внимание Степанов. На вопрос о том, как он впервые попал в Африку, Гумилев будто бы ответил так:
Я жил под Петербургом, было лето, но я не мог согреться. Уехал на юг — опять холодно. Уехал в Грецию — то же самое. Тогда я поехал в Африку, и сразу душе стало тепло и легко. Если бы вы знали, какая там тишина!..
Казалось бы, это точно соответствует географии перемещений Гумилева в июле 1907 года (летом и осенью 1908-го тоже, но менее точно). Или Гумилев просто сложил для собеседницы краткую сагу из событий своей жизни, относящихся к разным годам?
В любом случае первое настоящее путешествие в Африку состоялось лишь год спустя — и оно достаточно точно документировано.
Вскоре после приезда в Париж состоялась первая встреча с Елизаветой (Лялей) Дмитриевой — будущей Черубиной де Габриак. (Сама она датирует ее июнем — но в это время Гумилев точно был в России.) Гумилев с Лялей и Себастьяном Гуревичем разговаривали в его мастерской («говорили о Царском Селе, Н. С. читал стихи»), потом — несколько дней спустя — сидели в ночном кафе; Гумилев купил девушке букет пушистых белых гвоздик. Потом гуляли вокруг Люксембургского сада и говорили о Пресвятой Деве. Все это не выходило за рамки обычного богемного времяпрепровождения и ни к чему не обязывающей галантности. Гумилеву было не до новой знакомой.
Неизвестно, к этим ли месяцам относится попытка самоубийства, о которой он рассказывал А. Н. Толстому, по словам последнего, летом 1908-го в Париже. Прозаик убедительно описывает «прелестное парижское лето» — беда в том, что летом 1908-го Гумилева не было в Париже, а летом 1907-го он еще не был знаком с Толстым. Уже это придает истории некоторую неубедительность. И в любом случае поздний пересказ, вышедший из-под пера другого писателя, не может рассматриваться как аутентичная передача слов Гумилева.
…Они шли мимо меня, в белом, с покрытыми головами. Они медленно двигались по лазоревому полю. Я глядел на них — мне было покойно, я думал: «Так вот она, смерть». Потом я стал думать: «А может быть, это лишь последняя секунда моей жизни? Белые пройдут, лазоревое поле померкнет». Я стал ждать этого угасания, но оно не наступало — белые все так же плыли мимо глаз. Мне стало тревожно. Я сделал усилие, чтобы пошевелиться, и услышал стон. Белые поднимались и плыли теперь страшно высоко. Я начал понимать, что лежу навзничь и гляжу на облака. Сознание медленно возвращалось ко мне, была слабость и тошнота. С трудом наконец я приподнялся и оглянулся. Я увидел, что сижу в траве на верху крепостного рва в Булонском лесу. Рядом валялся воротник и галстук. Все вокруг — деревья, мансардные крыши, асфальтовые дороги, небо, облака — казались мне жесткими, пыльными, тошнотворными. Опираясь о землю, чтобы подняться совсем, я нащупал маленький, с широким горлышком пузырек — он был раскрыт и пуст. В нем, вот уже год, я носил большой кусок цианистого калия, величиной с половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал из пузырька на ладонь яд. Я знал, что как только брошу его с ладони в рот — мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда.
Вы спрашиваете — зачем я хотел умереть? Я жил один, в гостинице, — привязалась мысль о смерти. Страх смерти мне был неприятен… Кроме того, здесь была одна девушка…
Прием цианистого калия вызывает, как известно, мгновенную смерть. Только Григорий Распутин, выпив мадеры с цианидом, почему-то не умер, а начал икать — о причинах спорят до сих пор. Вся история напоминает беллетристический опыт, а описанные ощущения наводят на мысль скорее не о цианиде, а о наркотиках.
Но попытка самоубийства в Булонском лесу действительно была — о ней знала Ахматова. Гумилева, чем-то отравившегося, без сознания, но живого, нашли на следующий день «в глубоком рву возле старинных укреплений». Это было в конце 1907-го. Впрочем, юношеские суицидальные попытки — вещь вообще нередкая, а особенно в ту эпоху. На самоубийство покушались юная Цветаева, юный Кузмин. В случае Гумилева это могло быть связано со своего рода «экзистенциальным любопытством» и с упражнениями воли — попытками преодолеть страх. Несчастная любовь, во всяком случае, вряд ли была единственной причиной.
Как бы то ни было, последние парижские месяцы были — несмотря на расширившийся круг знакомств и большую творческую активность («по количеству создаваемых стихотворений приближаюсь к Виктору Гюго» — письмо Брюсову, 9.10.1907) — нелегкими. Гумилев рассказывал Ахматовой, что ездил на другой конец города, чтобы прочитать: Bd. Sébastopol — Севастопольский бульвар[46]. (Севастополь, Крым ассоциировались у него с Анной. В Париже это название было памятью о Крымской войне, которой гордились и победители и побежденные…) А то вдруг срывался с места и отправлялся в Нормандию, где был арестован полицией «за попытку бродяжничества».
В письме Брюсову от 16 декабря Гумилев пишет:
Сам я все это время сильно нервничаю, как Вы можете видеть по почерку. Пишу мало, читаю еще меньше. Часто хожу в Jardin des Plantes и там кормлю хлебом тибетских медведей. Кажется, они узнают меня.
Это невеселое существование ненадолго прерывает вторая поездка в Россию в конце октября — начале ноября. Лукницкий пишет, что Гумилев ездил только в Киев (чтобы уговорить Анну все же стать его женой), не был ни в Петербурге, ни в Царском Селе, поездку совершил втайне от родителей, деньги на нее занял у ростовщика… Но как быть в таком случае со справкой о явке к призыву и о медицинском освидетельствовании — с датой под ней? Да и Брюсову Гумилев пишет, что был в Киеве «проездом». Т. М. Вахитова (автор примечаний к 5-й главе «Трудов и дней Н. С. Гумилева») предполагает, что родители поэта не знали о его статусе и считали, что он как действительный студент Сорбонны от военной службы освобожден. Похоже на правду… Но можно ли было хотя бы несколько дней разгуливать в небольшом Царском Селе — инкогнито?
Свидетельство Н. С. Гумилева о явке к исполнению воинской повинности, 1907 год. Центральный государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
Конечно, то, что Гумилев по дороге заехал в Киев, было отчаянной попыткой изменить судьбу. Но Анна вновь ему отказала. Для этого появились теперь новые причины: у нее заподозрили туберкулез, от которого умерла ее сестра. На сей раз диагноз не подтвердится, но в зрелые годы Ахматовой в самом деле придется лечиться от туберкулеза: видимо, предрасположенность к этой болезни была наследственной.
Зато приезд в Киев неожиданно сказался на литературной судьбе Гумилева. 30 ноября он пишет Брюсову, что «стал сотрудником» журнала «В мире искусств» — кроме процитированной выше статьи о Фармаковском там появляется стихотворение «Я долго шел по коридорам…».
Все прочее осталось по-прежнему. Явка на призывной участок также ничего не изменила в жизни Гумилева.
Система воинской повинности, установившаяся в России согласно закону 1874 года и позднее несколько видоизменявшаяся, заключалась в следующем.
Мужчина призывного возраста, не имеющий освобождения или отсрочки, являлся на призывной участок и тянул жребий. Большинство зачислялось в запас, точнее, в «ополчение» первого и второго разряда. Их призывали лишь в случае войны. Но некоторым не везло — они вытягивали жребии определенных номеров, означавших, что они подлежат призыву. Лишь после этого они проходили медицинскую комиссию. Если их признавали годными к службе (а требования к здоровью были довольно жесткие: Александр Бенуа, скажем, был освобожден от службы по «общему рахитизму»), они отправлялись в войска. Люди со средним и высшим образованием служили в пехоте три года, в других родах войск — четыре, на флоте — пять. У них была, однако, альтернативная возможность: они могли отказаться от жребия и отправиться в армию добровольно. В этом случае они считались не солдатами, а «вольноопределяющимися», служили всего один год и пользовались (если не по уставу, то на практике) разнообразными льготами. Необременительная служба «вольнопера» в мирное время описана в «Полутораглазом стрельце» — воспоминаниях Бенедикта Лившица.
Гумилев, однако, этой возможностью не воспользовался. Он предпочел тянуть жребий и, как гласит справка, «явился к исполнению воинской повинности при призыве 1907 года, по вынутому жребию № 65 подлежал призыву; но при освидетельствовании признан совсем неспособным к службе, освобожден навсегда от службы». Вполне возможно, что жребий Гумилев тянул все-таки в мае, а вот медицинское освидетельствование было назначено на октябрь. (Такова версия Т. М. Вахитовой.)
Причиной освобождения было косоглазие. Позднее Гумилеву придется побиться за то, чтобы определение о негодности к службе было отменено. Но пока оно его устраивало. Здоровьем он и впрямь не блистал — в трех или четырех письмах Брюсову он между делом упоминает о перенесенных болезнях.
Неизвестно, занимал ли он средства на поездку у ростовщика, но именно в ноябре-декабре 1907 года он начинает испытывать нужду в деньгах. Лукницкий говорит, что в Париже у Гумилева «бывали голодные периоды, когда он по нескольку дней питался одними каштанами». Трудное материальное положение ощущается и в его письмах к Брюсову. Если раньше Гумилев просил пересылать ему в Париж лишь гонорары свыше 20 рублей, то теперь не брезгует и меньшими суммами — и пытается найти газетную работу. Отчасти ему это удается: с начала 1908 года его рецензии регулярно появляются в «Речи».
5
Впрочем, у этих денежных сложностей есть очевидное объяснение: в январе 1908 года Гумилев за свой счет (то есть из тех 100 рублей, что ежемесячно приходили ему из России) издает вторую книгу стихов — «Романтические цветы». На шмуцтитуле ее — посвящение «Анне Андреевне Горенко». (Два года спустя, сообщая Брюсову о своей женитьбе, Гумилев так представит ему невесту: «Та, которой посвящены «Романтические цветы».)
Если в 1905 году Гумилеву достаточно было самого факта выхода книги и благожелательных отзывов о ней двух-трех авторитетных людей, то три года спустя он уже подходит к делу, как подобает литератору-профессионалу.
9 января он пишет Брюсову:
Не согласится ли магазин «Скорпиона» взять на себя распространение моей книжки в России…? Я бы дал какой угодно процент и на свой счет переслал бы книжки в Москву. Их всего 300 экз. Для себя и Парижа я оставлю 50… В каждой 4 печатных листа (64 стр.) бумага verge. Цена экз. 50 к. За пересылку в редакции для отзывов плачу я, но устраивает эту пересылку магазин. Если это можно устроить, это будет для меня почти спасением.
28 января Гумилев высылает Брюсову два экземпляра только что вышедшей из типографии книги.
К тому времени некоторые из напечатанных стихотворений Гумилева уже вызывали отклики — причем положительные.
Так, некто П. Дмитриев в журнале «Образование» (1907. № 11) восторженно отозвался о стихотворении «Маскарад». «В стихах Н. Гумилева вовсе нет выдумки, и, однако, это стихотворение поражает нас, как всегда поражает падучая звезда… Все стихотворение проникнуто одним напряжением — впечатлением момента, когда женщина впервые позволяет взглянуть на нее как на женщину».
Гумилев был уже слишком искушен и слишком строг к себе, чтобы на него подействовали такие похвалы. Издавая книгу, он готов был к суровому суду критики.
Суд последовал. К счастью, он был по большей части доброжелателен.
Л. Ф. (под литерами скрывался Петр Пильский — один из известнейших и плодовитейших критиков той эпохи) отмечал:
И на его стихах, и на его маленьких критических заметках, лежит печать явной культурности. Но и в тех и в других, особенно стихах, видна не только литературная молодость, но и неопытность. Это сказывается в ненужной, запоздалой приверженности к вычурам декадентства, к сгущению романтической атмосферы, к излишней изукрашенности. Это слышится в однообразии напева и даже тем. Глаза молодых поэтов всегда видят немного.
Рецензенту понравилась «Перчатка», «Смерть», конец «Озера Чад». (В последних строфах этого стихотворения — про африканку, бежавшую с французским офицером и ставшую проституткой в Марселе, можно прочитать все, что угодно, — хоть социальный протест, пожалуй.) Но: «…Мы не хотим скрыть, что знаки препинания во многих цитируемых здесь стихах составляют честь не автора, а нашу» (Образование. 1908. № 7).
Одна из рецензий принадлежала Андрею Левинсону (1887–1933), человеку одного с Гумилевым поколения, в первую очередь театроведу и балетному критику, впоследствии много общавшемуся с поэтом — в последний период его жизни, в годы «Всемирной литературы».
Заглавие «Романтические цветы», — писал Левинсон, — хорошо определяет тот эклектизм настроений и приемов, которым отмечены первые опыты г. Гумилева.
Однако при внимательном чтении немногих страниц сборника становится очевидно, что поэтический мирок автора, с одной стороны, теснее ограничен, с другой — значительно обширнее области, им самим отмежеванной в приведенном заглавии; так, все почти реминисценции, которыми питается его мысль, — из французской поэзии; трудно отыскать в его стихотворениях какие-либо черты, сближающие их с мистикой Новалиса или лирическими пейзажами Эйхендорфа. В то же время выясняется, что его впечатлительность не развивается исключительно в узком кругу романтических традиций, с которыми его связывает, думается нам, внимательное изучение Виктора Гюго, — что его настоящая духовная родина — это выросшее из романтизма парнасство и — в неменьшей степени — поэтическое движение наших дней…
Левинсон отмечает «живость и гибкость ритма, которая, быть может, поставит «французского поэта на русском языке» в ряды мастеров современного русского стиха» (Современный мир. 1909. № 7 — через полтора года после выхода книги!).
В почтенном, традиционном (но идущем на уступки духу времени) «толстом журнале» «Русская мысль» отдел рецензий вел довольно известный поэт-символист Виктор Гофман (1884–1911), в прошлом любимый ученик Брюсова (по житейским причинам подвергнутый им анафеме и изгнанный из круга «Весов»), а в творчестве — скорее эпигон Бальмонта. Видного места в ряду адептов «нового искусства» Гофман не занимал, но одно из его стихотворений, «Был летний вечер, вечер бала…», стало еще при короткой жизни автора непременной принадлежностью сборников «Чтец-декламатор». В седьмом номере «Русской мысли» за 1908 год три его рецензии — на «Романтические цветы», на «Молодость» Ходасевича и на первую книгу забытого ныне Льва Зилова (позднее работавшего в основном как детский писатель). Гофман отнесся к Гумилеву суровее, чем к Ходасевичу (с которым его связывали приятельские отношения), но несколько благожелательней, чем к Зилову.
Книжечка эта обнаруживает в авторе некоторые ценные для поэта качества; главные из них: хорошо развитое художественное воображение и известная оригинальность и литературная самостоятельность, позволившая молодому поэту создать целый мир творческих фантазий, где он живет и властвует довольно умело. Но все же нет в этих стихах настоящей лирики, настоящей музыки стиха, которую образуют и в которую сливаются не только слова, размеры и рифмы, но и самые мысли, образы и настроения. Иногда нам кажется, что Гумилев больше эпик, чем лирик… Его размеры, ритм его стиха — нечто совсем постороннее, ничем не связанное с содержанием, с внутренней сущностью стихотворения. Только этим можно объяснить, что и Рим, и озеро Чад, и наша современность трактуются у него в одних и тех же размерах, которые во всех этих моментах кажутся одинаково случайными и во всех делают стихотворения мертворожденными, холодными и рассудочными.
Коли признать основным принципом искусства — нераздельность формы и содержания, то стихи г. Гумилева пока большей частью не подойдут под понятие «искусства».
Замечание про «одинаковые размеры» на первый взгляд звучит странно — в одном только «Озере Чад» почти виртуозно соединены хорей, дактиль, анапест. Но можно понять, что спровоцировало эти слова Гофмана: сочетание «некрасовских» размеров с римской древностью и африканской экзотикой в самом деле выглядело необычно и требовало внутреннего оправдания. Импульсы, заставившие молодого поэта употребить именно эти размеры, были достаточно глубинными, но сам он еще не в состоянии был их осмыслить. (Не забудем в числе прочего, что П. Я., первый русский переводчик Бодлера, в предисловии к книге своих переложений назвал поэта «французским Некрасовым». В этом сближении, при всей его историко-культурной странности, что-то есть… А ведь мало кто из французов — и в эти годы, и после — был Гумилеву так же близок, как Бодлер. О его «бодлерианстве» говорила в 20-е годы Ахматова с Лукницким. Негритянская проститутка в Марселе — тема бодлеровская, конечно.)
Важнее для Гумилева были отзывы обоих его учителей — Анненского и Брюсова.
Рецензия Анненского (под литерами И. А.) была напечатана в «Речи» 15 декабря 1908 года. Накануне газета предложила автору «Книги отражений» сотрудничество в качестве рецензента. Рецензия на книгу Гумилева была первой, предложенной Анненским газете. Она была самой оригинальной из всех — в ней, как и в прочих критических статьях Анненского, остро чувствовалась его индивидуальность:
В последнее время не принято допытываться о соответствии стихотворного сборника с его названием.
В самом деле, почему одну сестру назвали Ольгой, а другую Ариадной? Романтические цветы — это имя мне нравится, хотя я и не знаю, что собственно оно значит. Но несколько тусклое как символ, оно красиво как звучность — с меня довольно.
Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой книжка, скорей даже тетрадка Н. Гумилева прочитывается быстро. Вы выпиваете ее как глоток зеленого шартреза…
Лучшим комментарием к книжечке служит слово «Париж» на ее этикетке. Русская книжка, изданная в Париже, навеянная Парижем…
Никакого тут нет древнего востока, ни тысячелетнего тумана: бульвар, bec Auer, кусок еще влажного от дождя асфальта перед кафе — вот и вся декорация «ассирийского романа».
Анненский, как и другие рецензенты, выделяет «Озеро Чад» и примыкающего к нему «Жирафа».
Тут целый ряд тропических эффектов, и все, конечно, бутафорские: и змеи-лианы, и разъяренные звери, и «изысканный жираф», жираф-то особенно, — но все чары африканки проникнуты трагедией. Н. Гумилев не прочь бы сохранить за песнями об этой даме… всю силу экзотической иронии, но голос на этот раз ему немножко изменил, Анахарсису XX века, ему просто жаль дикарки, ему хочется плакать.
Как и Левинсон, Анненский не слишком доверяет «романтизму» Гумилева. Для них он — «русский парижанин», «французский поэт на русском языке», «Анахарсис XX века» — скиф в новых Афинах. При этом Анненский в целом достаточно высоко оценивает книгу молодого поэта:
Зеленая книжка отразила не только искания красоты, но и красоту исканий. Это много. И я рад, что романтические цветы — деланные, потому что поэзия живых… умерла давно. И возродится ли?[47]
Сам Н. Гумилев чутко следит за ритмами своих впечатлений, и лиризм умеет подчинять замыслу, а кроме того, и что особенно важно, он любит культуру и не боится буржуазного привкуса красоты.
Дерзость последней фразы — в контексте «прекрасной эпохи» — трудно даже оценить по-настоящему.
Благодаря Анненского за отзыв, Гумилев называет «Озеро Чад» своим «самым любимым стихотворением». «Из всех людей, которых я знаю, только Вы увидели в нем самую суть, ту иронию, которая составляет сущность романтизма и которая в значительной степени определила название книги».
Брюсов отозвался о «Романтических стихах» в «Весах» — в общей рецензии, посвященной книгам нескольких молодых поэтов (в том числе «Молодости» Ходасевича).
Сравнивая «Романтические цветы» с «Путем конквистадоров», видишь, что автор много и упорно работал над своим стихом. Не осталось и следов прежней небрежности размеров, неряшливости рифм, неточности образов. Стихи Н. Гумилева теперь красивы, изящны и, большею частью, интересны по форме; теперь он резко и определенно вычерчивает свои образы и с большой обдуманностью и изысканностью выбирает эпитеты. Часто рука еще ему изменяет, но он — серьезный работник, который понимает, чего хочет, и умеет достигать, чего добивается.
Лучше удается Н. Гумилеву лирика «объективная», где сам поэт исчезает за нарисованными им образами, где больше дано глазу, чем слуху. В стихах же, где надо передать внутренние переживания музыкой стиха и очарованием слов, Н. Гумилеву часто недостает силы непосредственного внушения. Он немного парнасец в своей поэзии, поэт типа Леконта де Лиля… Сближает его с парнасцами и любовь к экзотическим образам… Но Н. Гумилев менее сдержан, чем то было большинство парнасцев, и его фантазия чертит перед нами несколько угловатые, но смелые линии.
Брюсов, однако, считает «Романтические цветы» «только ученической книгой». «Но хочется верить, — пишет он, — что Н. Гумилев принадлежит к числу писателей, развивающихся медленно и по тому самому встающих высоко».
Надо сказать, что это вполне соответствовало самоощущению Гумилева. Зная его самолюбие и честолюбие, удивляешься смирению, с которым он отдается своему «ученичеству» и скромности его самооценки в молодые годы.
Сегодня перечитывал «Путь конкв.» (первый раз за два года), все Ваши письма (их я читаю часто) и «Р. цветы», — пишет он Брюсову 12 мая 1908 года. — Нет сомнения, что я сделал громадные успехи, но также нет сомнения, что я сделал их почти исключительно благодаря Вам. И я еще раз хочу Вас просить смотреть на меня не как на писателя, а только как на ученика, который до своего поэтического совершеннолетия отдал себя в Вашу полную власть. А я сам сознаю, как много мне еще надо учиться.
Два года спустя, уже выпустив следующую книгу, Гумилев пишет Брюсову:
«Жемчуга» — упражненья, и я вполне счастлив, что Вы, мой первый и лучший учитель, одобрили их. Считаться со мной как с поэтом придется только через много лет.
В этом смирении есть, однако, оттенок гордыни. Гумилева не прельщала роль просто «литератора», не прельщал его и кратковременный успех. Он мечтал о величии и мерил свои успехи самой высокой меркой. И если он опрометчиво приписывал величие своему учителю — в те годы он разделял это заблуждение со многими.
Какое впечатление производят «Романтические цветы» сегодня? Конечно, в этой книге в огромной мере ощущается влияние Брюсова. Не только брюсовскому патетическому «наигрышу», но и брюсовскому формальному умению оказалось не так трудно научиться — и многочисленные Рославлевы, Кречетовы, Эльснеры уже к концу десятилетия успешно это сделали. «Третий сорт не хуже первого» — знаменитые язвительные слова Чуковского сказаны именно в связи с этими подражателями. Удачное стихотворение Рославлева практически не отличалось по качеству от среднего стихотворения Брюсова, а среднее стихотворение Брюсова очень немногим уступало его лучшим вещам. Оказалось, что в стихах «огненного Локи» (скандинавского Люцифера, с которым Брюсов любил себя отождествлять) нет не только неповторимой музыки, но и особенно оригинальных идей — несмотря на то «благородство мыслей и чувств», которое восхищало юного Гумилева. Семь лет спустя вызовет скандал статья бывшего брюсовского сподвижника Бориса Садовского «Юбилей безвременья», где были такие слова: «…Как Вильгельм, создал Брюсов по своему образу и подобию целую армию лейтенантов и фельдфебелей поэзии от Волошина до Лифшица (sic — имелся в виду Лившиц), с кронпринцем Гумилевым[48] во главе». Но пока статус «кронпринца» Гумилева вполне устраивал. Такие стихи, как, к примеру, «Маскарад» (в первое издание «Романтических цветов», впрочем, не вошедшее), «Заклинание», «Ужас», ничем не лучше и не хуже средних вещей других поэтов брюсовской школы. И даже знаменитая «Волшебная скрипка», которую Гумилев изъял из сборника, чтобы напечатать ее сперва в «Весах», — вполне брюсовское стихотворение. Точнее, скажем так: в этом стихотворении характерная брюсовская тема воплощена брюсовским языком, но на максимально доступном самому Брюсову формальном уровне и, пожалуй, с недоступной ему искренностью:
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!Авантитул книги Н. С. Гумилева «Романтические цветы» (Париж, 1908) с дарственной надписью И. Ф. Анненскому. Государственный литературный музей (Москва)
Тем интереснее те (пусть немногие) стихотворения, где Гумилев решает свою поэтическую задачу, не прибегая к искусственному пафосу и столь же искусственному мрачно-мистическому колориту. Уже в лучших местах из «Романтических цветов» его голос гибче и эмоционально точнее, чем где бы то ни было у Брюсова:
…Но ты слишком долго вдыхала осенний туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай… Далеко, на озере Чад Изысканный бродит жираф.Конечно, это лубок — но какой трогательный лубок! Это «Ты плачешь? Послушай…» — может быть, и не самое высокое лирическое искусство, но у Брюсова (при всем его мастерстве и блеске) лиризма такого типа не встретишь.
Другой пример — «Зараза», где Гумилев случайно находит очень тонкий и верный ритмический и интонационный ход, придающий экзотическому стихотворению достоверность:
На пристани толпятся дети, Забавны их тонкие тельца, Они сошлись еще на рассвете Посмотреть, где станут пришельцы. Аисты сидят на крыше И вытягивают шеи. Они всех выше, И им виднее.На Гумилева, конечно, повлияли ритмы «Золота в лазури» Белого и французский «освобожденный стих» — предшественник стиха свободного. Но он уже на пороге выработки собственной стиховой системы. В этом стихотворении впервые появился знаменитый гумилевский дольник. А резкий ритмический жест в четвертой строфе — точно найденная поворотная точка стихотворения. Дальше речь пойдет о том, что «вместе с духами и шелками пробирается в город зараза».
Эти тонкие находки, в общем, не были замечены. Зато не ускользнуло от критиков стихотворение «Умный дьявол», чуть ли не самое раннее в книге, написанное в 1905-м или в начале 1906-го, как гласит легенда, под впечатлением от очередных гимназических двоек. Как язвительно указал Левинсон, Дьявол, как всегда, оказался обманщиком и подсунул молодому поэту чужие рифмы. Действительно, стихотворение это — малоудачный ремейк сологубовского «Когда я в бурном море плавал…» (1902).
Годы спустя Гумилев так отзовется о «Романтических цветах»: «Плохая, но любимая книга».
Одновременно со стихами Гумилев в 1907–1908 годы пробует себя и как новеллист. Некоторые из его опытов в этом роде литературы публиковались в первое время после возвращения из Парижа в петербургских газетах и журналах. В 1922-м в Берлине была издана книга его юношеских рассказов — «Тень от пальмы». Большой ценности они не имеют; герои большинства из них — картонные любовники, многословно умирающие на фоне экзотических декораций (будь то Гвидо Кавальканти, в то время известный Гумилеву явно лишь по имени, или некий воин «из племени Зогар, с озера Чад»). Изысканный, но однообразный стиль восходит к Уайльду в переводах Бальмонта и Андреевой. Сюжет выстроен достаточно неуклюже. Выделяются «Последний придворный поэт» и «Скрипка Страдивариуса» (притчи, посвященные теме творчества — самой для Гумилева на тот момент острой) и милая страшилка «Черный Дик». Но каковы бы ни были эти рассказы, они стали для Гумилева еще одной школой в работе над стихами. Судя по письмам, сам он так к ним и относился.
Весной 1908 года Гумилев принимает решение вернуться на родину. 6 апреля он просит у Брюсова совета: «Обстоятельства требуют моего возвращения в Россию, но не повредит ли мне это как поэту?» Какие же внешние обстоятельства имеются в виду? Может быть, нежелание родителей и дальше спонсировать парижское безделье сына?
К сожалению, письма Гумилева родителям из Парижа до нас не дошли. Они пропали в Царском Селе, в разрушенном доме на Малой улице, где Гумилев жил в 1912–1914 годы. Ахматова была в этом доме в 1921-м и видела семейную переписку за многие годы, но взяла лишь те письма, что были адресованы ей — трогать остальные она сочла себя не вправе. Это было, по ее словам, «недели за три» до смерти Гумилева. «Конечно, если бы я поехала туда недели на три позже, я бы взяла их», — говорила она Лукницкому.
Накануне отъезда Гумилев предпринимает «мальчишескую шутку»: передает через свою знакомую, некую Богданову, стихотворение «Андрогин» для отзыва Мережковским — без имени автора. Стихотворение было горячо одобрено. Любопытна параллель с другим эпизодом из русско-парижской литературной жизни, случившимся тридцать лет спустя. Речь о стихотворении Набокова «Поэты», напечатанном под псевдонимом Василий Шишков и вызвавшем восторг Георгия Адамовича, неизменного литературного врага писателя Сирина… и ученика Гумилева.
Судя по датам под письмами Брюсову, Гумилев покидает Париж не 20 апреля, как считал Лукницкий, а не раньше 12 мая 1908 года. Сначала он направился в Севастополь, где находилась Анна Горенко. Значит ли это, что он вновь плыл пароходом из Марселя или, доехав поездом до Киева, добирался до Севастополя через Симферополь? Так или иначе, в Севастополе состоялось очередное «последнее» объяснение. Анна вновь отказала упорному влюбленному. Как рассказывала Ахматова Лукницкому, в этот раз они с Гумилевым приняли решение «не встречаться и не переписываться» и вернули друг другу прежние письма и подарки. Анна отказалась вернуть ему подаренную им чадру, сославшись на то, что она «изношена». «Чадру он хотел получить назад, потому что Анна ее носила, потому что это была самая яркая память о ней». Из Севастополя он отправился в Москву, где вновь встретился с Брюсовым, оттуда — в Царское Село.
Возможно, именно в этот раз Анна «после очень нежного свидания со мной вдруг заявила: «Я влюблена в негра из цирка. Если он потребует, я все брошу и уеду с ним». Я отлично знал, что никакого цирка в Севастополе нет, но все равно по ночам кусал руки и сходил с ума от отчаяния» (Одоевцева). Разумеется, шутка про «негра» была аллюзией на африканские мотивы «Романтических цветов».
Казалось, юношеские «годы странствий» подходят к концу. Но Гумилеву предстояло еще одно путешествие — прежде чем начнется не слишком долгий период оседлой жизни.
6
Уже в июле Гумилев пишет Брюсову о своем намерении отправиться осенью «в Абиссинию».
Откуда возникла Абиссиния? К этому мы еще вернемся ниже — когда Гумилев все же доберется до этой страны.
Намерение же вновь уехать из России — результат тяжелого душевного кризиса, пережитого, по всей вероятности, в середине 1908 года.
Лето Гумилев проводит в основном в деревне — в Березках (в последний раз — имение Гумилевы продали), а затем в Слепневе. Родовое имение Милюковых (составлявшее в тот момент 250 десятин) перешло к Гумилевым после смерти дядюшки контр-адмирала Льва Ивановича Львова (1894) и его жены Любови Владимировны (1907). Точнее, теперь у Слепнева было три владельца — Анна Ивановна Гумилева, Варвара Ивановна Лампе и Борис Владимирович Покровский, кузен Гумилева, сын Агаты Ивановны. Но Варвара Ивановна передала свою долю дочери — Констанции Фридольфовне Кузьминой-Караваевой, а часть, принадлежавшую Покровскому, Гумилевы и Кузьмины-Караваевы выкупили. Таким образом, имение принадлежало пополам двум родственным семьям. У Кузьминых-Караваевых было трое детей — Сергей, ровесник Николая, и две дочери — Ольга и Мария. О них у нас еще будет повод упомянуть. Едва ли имение приносило сколько-нибудь заметный доход. Крестьяне «тверской скудной земли» были вечно в долгах перед «барыней» и ее родственниками. Позже, в 1912 году, по случаю рождения Льва Гумилева долги за несколько лет простили; без сомнения, на смену им выросли новые.
В Царском Селе Гумилев лишь ненадолго появляется в августе — за эти две-три недели он успевает (нарушив принятое, казалось бы, в Севастополе взаимное решение) мимолетно встретиться с приехавшей сюда Анной Горенко. Видимо, любовь, обида, уязвленное самолюбие продолжали мучить его. Гумилев сделал все, чтобы остаться в памяти культуры «сильным человеком» — и у него это вышло. Но пока мы видим мальчика, буквально раздавленного двумя сильными людьми — взрослым мужчиной, который согласился стать его строгим учителем, и девушкой, которая не отвечает ему взаимностью. Человек, в конце жизни видевший доблесть в том, чтобы, получив отказ, «улыбнуться, и уйти, и не возвращаться больше», — в юности вел себя совершенно иначе.
Но это не было единственной причиной его дурного настроения.
Литературные дела Гумилева на первый взгляд шли благополучнее некуда. «Успех продолжает меня преследовать, — пишет он Брюсову 20 августа. — Мною заинтересовался Петр Пильский, пригласил в «Новую Русь». В «Речи» мне хотят прибавить гонорар. Я никогда не думал, что все это может быть так неинтересно». Тем временем «Скорпион» изъявляет желание издать со временем его следующую книгу. Но при этом молодой поэт чувствует себя еще неуверенней, чем прежде.
Все это время совершался перелом во взгляде на творчество вообще, а на мое в частности. И я убедился в своем ничтожестве. В Париже я слишком много жил и работал и слишком мало думал. В России было наоборот; я научился судить и сравнивать… Ваше творчество отмечено всегдашней силой мысли. Вы безукоризненно точно переводите жизнь на язык символов и знаков. Я же до сих пор смотрел на мир «пьяными глазами месяца» (Нитше), я был похож на того, кто любил иероглифы не за смысл, вложенный в них, а за их очертания и перерисовывал их без всякой системы… Надо начинать все сначала или идти по торной дорожке Городецкого.
Здесь любопытен трезвый взгляд на творчество сверстника, который через несколько лет станет товарищем и сподвижником Гумилева. Такое же трезвое понимание пустоты звучных стихов рано вошедшего в моду Городецкого видно и в гумилевской рецензии на книгу «Русь», напечатанной впоследствии в первом номере «Аполлона». Но по отношению к Брюсову о трезвости не было и речи. Гумилев никак не понимал, что время ученичества кончилось, что учитель больше ничего не может ему дать — особенно в том, что касается духовной сущности поэзии.
Между тем уже зимой — весной 1908-го из-под пера Гумилева выходят такие неожиданно зрелые — прежде всего по мироощущению — вещи, как «Выбор» и «Основатели». В этих стихах, может быть, впервые прорывается та весть о «месте человека во Вселенной» (цитируя его великого друга), которую несут вершинные гумилевские книги — «Костер» и «Огненный столп».
Но молчи: несравненное право — Самому выбирать свою смерть.И:
«Здесь будет цирк — промолвил Ромул, — Здесь будет дом наш, открытый всем». «Но надо поставить поближе к дому Могильные склепы», — ответил Рем.И уже совсем немного отделяло Гумилева от его первых шедевров — таких как «Заводи» или «Молитва».
5 сентября 1908 года Гумилев пишет Кривичу:
…Очень и очень сожалею, что не могу воспользоваться Вашим любезным приглашением, но я уезжаю как раз сегодня вечером. Ехать я думаю в Грецию, сначала в Афины, потом по разным островам. Оттуда в Сицилию, Италию и через Швейцарию в Царское Село. Вернусь приблизительно в декабре.
Таким образом, покидая Петербург, поэт сам не знал, куда направляется — то ли в Швейцарию, то ли в Абиссинию. Денег при этом с собой у него было очень мало — очередное «паломничество Чайльд-Гарольда» совершалось вопреки воле отца. Скорее всего, Гумилев потратил на него гонорары из «Речи».
7 сентября Гумилев приезжает в Киев, где проводит два дня.
9 сентября он выезжает в Одессу, откуда 10-го в 4 часа пополудни на пароходе Русского пароходного общества через Синоп, Бургос, Константинополь, Салоники отбывает в Александрию.
В Египет он прибыл 1 октября и провел там пять дней.
Египетская история и культура в начале XX века были для европейцев несколько более экзотичны и таинственны, чем для нас. Собственно, до наполеоновской эпохи европейцы знали о Египте только то, что поведали им греки. А для греков Египет с его пирамидами, сфинксами, царственным инцестом тоже был загадкой — соблазнительной и раздражающей, как всякая древняя, пережившая свой золотой век цивилизация для цивилизации молодой. Эллины и презирали варваров из нильской дельты, и приписывали им невероятные познания, восходящие к незапамятной древности. Эти представления унаследовала средневековая Европа. В XVI веке Европу охватило увлечение «герметическими книгами», из которых якобы почерпнули всю свою мудрость Платон и другие греческие философы. Адептами герметизма были Парацельс и Джордано Бруно. Уже спустя столетие было доказано, что эти сочинения, приписывавшиеся некоему Гермесу Трисмегисту, египетскому магу, — подделка поздней эллинистической эпохи. Но оккультисты XIX века, которых читал Гумилев в Париже, охотно ссылались на герметическую премудрость. «Египетские жрецы забыли многое, но они ничего не изменили…» — писала, в частности, Блаватская. По ее словам, «тайные знания», содержащиеся в египетских свитках, восходят к Атлантиде.
Когда генерал Бонапарт в сопровождении десятков тысяч солдат и десятков ученых прибыл в Египет, положение стало меняться. В 1822 году Шампольон расшифровал иероглифы, и настоящая египетская цивилизация, земледельческая и бюрократическая, совсем не таинственная, но богатая и сложная, возникла перед глазами европейцев. Она интересовала, к примеру, молодого Мандельштама — и не слишком интересовала Гумилева. В малоудачной пьесе «Дон-Жуан в Египте» он (метя в своего приятеля-неприятеля Владимира Шилейко) высмеивает ученых-египтологов, «лакеев», возящихся со всякими там Псамметихами.
Потом был эллинизм, великая Александрия, этот античный Петербург, эпоха Птолемеев, Антоний и Клеопатра. Подплывая к Александрии, Гумилев (должно быть) мысленно повторял чуть ли не самые знаменитые строки своего любимого мэтра:
О, дай мне тот же жребий вынуть, И в час, когда не кончен бой, Как беглецу, корабль свой кинуть Вслед за египетской кормой!(«Египетской кормой» «вся Москва» за глаза именовала Нину Петровскую.)
Впрочем, может быть, Гумилев вспоминал и «Александрийские песни» из книги «Сети» нового, недавно дебютировавшего поэта Михаила Кузмина, которую он отрецензировал для «Речи». Александрия Кузмина — это как раз город эпохи эллинизма, город ученых поэтов и безумных философов-гностиков, возвышенной любви и утонченного разврата…
…А еще потом были Рим, Византия, арабы. С 1250 года Египтом владели мамелюки — правители, называемые рабами; именно так — «раб» — переводится слово «мамелюк». Это и были сначала рабы — тюркские рабы-воины, купленные местным султаном и свергнувшие его. В 1382-м очередной султан уже новой, мамелюкской, династии, чтобы меньше зависеть от своих соплеменников, купил новых мамелюков — черкесов. История повторилась в точности: теперь к власти в Египте пришли черкесские мамелюки.
Мамелюки полтысячелетия были полными хозяевами Египта, на словах признавая верховный суверенитет Порты. Это продолжалось вплоть до начала XIX века, когда власть в стране захватил Мухаммед Али, албанец. Он добился официального признания автономии и начал модернизацию страны. Наконец в 1882 году Египет оккупировала Англия.
История предопределила структуру египетского общества. Наверху — очередная власть: мамелюки, турки, албанцы, англичане. Ниже — арабы. Еще ниже — копты, собственно египтяне, феллахи, то есть крестьяне, потомки народа фараонов.
Пусть хозяева здесь — англичане, Пьют вино и играют в футбол, И Хедива в высоком Диване Уж не властен святой произвол! Пусть! Но истинный царь над страною Не араб и не белый, а тот, Кто с сохою или с бороною Черных буйволов в поле ведет. Хоть ютится он в доме из ила, Умирает, как звери, в лесах, Он любимец священного Нила И его современник — феллах.Александрия начала XX века была типичным колониальным городом. Хотя из 227 тысяч человек, населявших город, европейцы («франки», как их по древней традиции здесь называли) составляли лишь 20 процентов, европейская часть города была гораздо больше туземной. Здесь, на главной площади, украшенной памятником Мухаммеду Али, находились консульства европейских держав. В Александрии жили греки и итальянцы, англичане и французы. Город рос и богател, превращаясь в респектабельный средиземноморский курорт. От времен Александра Македонского и Клеопатры, Феокрита и Каллимаха почти ничего не осталось. Лишь иногда, торопясь на свою муниципальную службу, проходил по улицам тихий большеглазый человек. Не исключено, что он повстречался и молодому Гумилеву. Конечно, тот не догадывался, что перед ним — соплеменник Каллимаха, великий поэт и великий знаток александрийских древностей Константинос Кавафис. Впрочем, Гумилеву его имя ничего не сказало бы. Ничего не сказало бы имя Кавафиса и автору «Александрийских песен», побывавшему здесь в 1895 году.
Мусульманская часть города находилась на перешейке между морем и озером Мареотис. Правда, и здесь, в узких улочках, среди домиков с окнами во двор, все больше появлялось особняков в «франкском стиле», принадлежавших богатым туркам. И все-таки здесь Гумилев повстречал ту экзотику, ради которой он отправился в такой далекий путь.
В дальнейших поисках экзотики он поехал (3 октября) в главный город страны, резиденцию хедива (вице-короля) — в Каир.
Каир (в начале XX века — город с четырехсоттысячным населением) моложе Александрии на тысячу с лишним лет, но нет эпохи, которая не оставила бы здесь свой след. Христианский Вавилон Египетский: античная Башня Аполлодора, а рядом — каменные коптские церкви с инкрустированными костью резными дверями, где суровые люди с лицами, напоминающими фаюмские портреты, истово отстаивают двенадцатичасовые службы (в том числе церковь Сергия — на месте, где, по преданию, жила в Египте Мария с младенцем Иисусом). Мусульманский Каир: цитадель Саладина — победителя и друга Ричарда Львиное Сердце, древние мечети Аль-Ахзар и Гассана, и новая громадная мечеть, построенная реформатором Мухаммедом Али. А совсем рядом с городом — пирамиды и Сфинкс.
Точно дивная Фата-Моргана, Виден город у ночи в плену. Над мечетью султана Гассана Минарет протыкает луну. На прохладных открытых террасах Чешут женщины золото кос, Угощают подруг темноглазых Имбирем и вареньем из роз. Шейхи молятся, строги и хмуры, И лежит перед ними Коран, Где персидские миниатюры — Словно бабочки сказочных стран. А поэты скандируют строфы, Развалившись на мягкой софе, Пред кальяном и огненным кофе Вечерами в прохладных кафе.Открытка, посланная Н. С. Гумилевым В. Я. Брюсову из Каира, 1908 год. Институт мировой литературы (Москва)
Удивительно, что в прошлом Гумилева интересуют прежде всего сказки и мифы — «Апис белоснежный, окровавленный цепью из роз», «хороводы танцующих жриц»; в настоящем же он внимателен к быту — правда, идеализированному, увиденному с чисто декоративной стороны. Впрочем, цитируемое стихотворение написано в 1918 году. В 1908-м, десятилетием раньше, Гумилев был погружен в себя, и мысли его были заняты другим: несчастной любовью и сомнениями в своем даре. Хотелось бы сказать, что инициация в саду Эзбекие и впрямь состоялась (если не годом раньше, то сейчас), что из Египта вернулся другой человек — повзрослевший, сильный, уверенный в себе. Тот, что «в каждом шуме слышал звоны лир, говорил, что жизнь — его подруга, коврик под его ногами — мир». Хотя, пожалуй, это не до конца правда… Инициация была впереди, и выглядела она несколько иначе. Но, может быть, безумная, с точки зрения здравого смысла, поездка и сделала Гумилева немного мудрее, сильнее, свободней.
Согласно Лукницкому, Гумилев побывал и в Луксоре (древних Фивах), в Верхнем, отдаленном от моря, Египте, где (помимо прочих достопримечательностей) увидел знаменитый Луксорский обелиск — двойник того, что украшает Place de la Concorde в Париже (площадь Согласия — ту самую, где некогда стояла гильотина; это ведь не российский приоритет — назвать день рокового переворота «днем национального согласия и примирения»). Стихи Теофиля Готье, посвященные двум этим памятникам, он впервые прочтет — и блистательно переведет на русский язык — несколько лет спустя.
Однако в коротком письме к Брюсову, отправленном из Каира, Гумилев печалится, что ему не удается проникнуть «вглубь страны». Вместо этого молодой путешественник собирается отправиться «в Палестину или в Малую Азию». Но тут у него совершенно неожиданно кончаются деньги.
Каким-то образом добирается он до Александрии, где день или два голодает; должно быть, ему становится худо от голода — в порту рабочие, сжалившись, кормят его хлебом и помидорами. Наконец он занимает деньги у ростовщика (заложив колечко?), покупает билет на пароход (6 октября) и возвращается, согласно Лукницкому, тем же путем — через Одессу и Киев.
Когда Гумилев вернулся в Царское Село?
Ахматова пишет, что путешествие его продолжалось «шесть недель». Значит, оно должно было закончиться примерно 20 октября. Утверждение Панкеева, согласно которому Гумилев 29 ноября (!) прибыл из Египта в Париж и уже оттуда вернулся в Россию, можно даже не комментировать.
В письме к Брюсову от 27 ноября Гумилев пишет, что вернулся в Царское недели три назад. То есть около 9 ноября.
Попробуем посчитать. Если Гумилев возвращался из Египта «тем же путем», он должен был прибыть в Одессу 27 или 28 октября, в Киев — 30-го или 31-го, в Петербург (если считать, что в Киеве он провел не больше двух дней) — между 3 и 5 ноября. Впрочем, пароход из Каира в Одессу мог доплыть и несколько быстрее: все зависело от продолжительности стоянок в портах. Существует письмо Гумилева к В. Кривичу, при публикации[49] датированное «26 октября, Каир». В этом письме он обещает «быть через несколько дней» в Царском Селе. Может быть, надо читать не «Каир», а «Киев»? (Тем более что из Каира добраться до Царского Села за несколько дней в ту эпоху было физически невозможно.) Если так, Гумилев должен был вернуться домой примерно к 1 ноября.
Таким образом, его поездка заняла не шесть, а по меньшей мере семь с половиной недель. Из них в Египте — пять дней.
Так вот путешествовали без малого сто лет назад…
Глава пятая Инициация
1
В Царском Селе Гумилев поселяется с родителями — сперва на Конюшенной улице, 35, в доме Белозеровой (ныне дом 29), потом (с 1909 года) — на Бульварной улице, 49, в доме Георгиевского. Семикомнатная квартира в доме Белозеровой была тесна для огромной семьи: больной отец, мать, Николай, Дмитрий, Александра с сыном и дочерью. Николаю было трудно, потому что уже никто в семье (кроме матери) не был для него в эти годы по-настоящему близким человеком: ни Дмитрий — заурядный молодой офицер, ни отец, ни Александра, которую В. Срезневская, общавшаяся с ней в 1910-е годы, называет «злой, завистливой и чрезвычайно неумной»[50]. У Гумилевых жила еще и собака — Молли, сука английского бульдога. Летом 1912 года она принесла щенков; в 1916-м она была еще жива и здорова. Поэт относился к ней с большой нежностью.
Нижний этаж занимала семья художников — Дмитрий Николаевич Кардовский, видный книжный график и сценограф, и его супруга Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская, живописец, с дочерью и прислугой. Гумилевы и Кардовские продолжали общаться и после переезда на Бульварную. Ольга Делла-Вос-Кардовская написала в ноябре 1908-го (т. е. сразу же по возвращении из Египта) портрет Гумилева, привлеченная не столько его поэтическим даром, сколько «какой-то своеобразной остротой в характере лица». Удивительно, что общепризнанно некрасивая внешность Гумилева становилась предметом интереса стольких художников — в течение всей его жизни.
Продолжаются и другие царскосельские знакомства.
Дмитрий Кардовский, 1900-е
Чаще, чем прежде, видится он в это время с Анненским, который, как вспоминал он позднее, «поражал пленительными и необычными суждениями». Видимо, те воспоминания, которые зафиксированы в стихотворении «Памяти Анненского», относятся именно к этому времени:
Я помню дни: я робкий, торопливый, Входил в высокий кабинет, Где ждал меня спокойный и учтивый, Слегка седеющий поэт. Десяток фраз, пленительных и странных, Как бы случайно уроня, Он вбрасывал в пространства безымянных Мечтаний — слабого меня.Мы довольно мало знаем про «живое» общение двух поэтов. Разумеется, ни в коем случае нельзя воспринимать как мемуарное свидетельство чисто беллетристический текст Г. Адамовича «Вечер у Анненского», где автор (которому в момент смерти Анненского было семнадцать лет) гостит у Анненского вместе с Гумилевым и Ахматовой (которая не была с Анненским знакома и которая в 1909 году ни разу не была в Царском Селе). Несомненно одно: только в эти годы Гумилев, сам искавший новые пути для своей поэзии, приближавшийся к черте зрелости, по-настоящему оценил гений своего гимназического «грека». Именно Гумилев открыл поэзию Анненского сверстникам и способствовал его вхождению в круг деятелей «нового искусства» — круг, от которого Иннокентий Федорович долго был отлучен обстоятельствами.
Образовательный разрыв между переводчиком Еврипида, ученейшим филологом, и недавним гимназистом-двоечником был велик. Но если Гумилев многое знал приблизительно и понаслышке, то базовые вещи помнил хорошо — и бывший директор Царскосельской гимназии имел случай оценить это. Делла-Вос-Кардовская вспоминает, что «он однажды спорил с Анненским о каких-то словах в произведении Гоголя и цитировал на память всю вызвавшую разногласие фразу. Для проверки мы взяли том Гоголя, и оказалось, что Николай Степанович был прав».
Ольга Делла-Вос-Кардовская, 1900-е
В годы, когда Гумилев находился в Париже, в Царском Селе появился еще один поэт. Человек лет под тридцать, высокого роста, плотный, коротко остриженный, с очень румяным лицом, он ежедневно подолгу прогуливался по царскосельским паркам — с тростью в руках и с завернутыми штанинами. Но царскоселы знали, что этого (на вид) здоровяка, графа Василия Алексеевича Комаровского, заставила поселиться в пригороде у пожилой тетушки неизлечимая «падучая болезнь». Сам он мог спокойно рассказывать «о своем бесновании в комнате с мягкими стенами». Юность его, как у князя Мышкина, прошла в европейских нервных лечебницах. Кроме эпилепсии, он страдал тяжелейшим пороком сердца. У него были основания не ожидать особенно долгой жизни…
Гумилев познакомился с Комаровским у Делла-Вос-Кардовской, позируя ей для портрета.
За чаем между ними возник спор о поэзии. Василий Алексеевич отстаивал необходимость полного соответствия между формой и содержанием. Н. С., насколько я помню, отстаивал преимущественное значение формы. Во время спора Комаровский сильно волновался, говорил быстро и несвязно. Гумилев был, как всегда, спокоен и сдержан, говорил медленно и отчетливо. Чувствовалось, что на Комаровского он смотрит как на дилетанта. Того это, конечно, особенно задевало. Простились они холодно и, казалось, разошлись врагами. Мне при уходе Н. С. тогда же сказал, что Комаровский большой чудак и что с ним невозможно разговаривать.
Каково же было мое удивление, когда на другой день на свой очередной сеанс Н. С. пришел вместе с Комаровским. Оказалось, что последний был у него с утра и между ними произошло полное примирение. Впоследствии они неоднократно бывали друг у друга, и их отношения окончательно наладились. Тем не менее Комаровский всегда старался как-нибудь поддеть Гумилева и иронизировал над его менторским тоном. От портрета Н. С. он был в полном востроге и говорил:
— Он вот таким и должен быть со своей вытянутой жирафьей шеей.
Шея изысканного жирафа…
Дружба эта, впрочем, всегда была довольно странной — о, мягко говоря, неоднозначных отношениях между Гумилевым и Комаровским свидетельствует вот такая, не слишком добродушная, эпиграмма последнего:
Между диваном и софою Когда на кресла с вами я сажусь, Мы как товарищ — гусь с свиньею. Не удивляйтесь: вы не гусь.Комаровский был поэтом, прозаиком и искусствоведом. Его «Таблица главных живописцев Европы с 1200 по 1800 год» была высоко оценена специалистами. Из его прозаических сочинений сохранился один рассказ Sabinula — странное для своей эпохи, какое-то «постмодернистское» сочинение, стилизация ренессансной подделки античного текста. В этом человеке жил мистификатор того типа, который расцвел именно в XX столетии. Он сочинял изобилующие мельчайшими бытовыми подробностями стихи о своем путешествии в Италию — путешествии, которого не было, которое он лишь надеялся когда-нибудь совершить, если здоровье позволит.
Николай Гумилев. Портрет работы О. Л. Делла-Вос-Кардовской, 1908 год
Единственную книгу стихов Комаровского, «Первая пристань» (1913), Гумилев отрецензировал в «Аполлоне» сдержанно хвалебно. Ахматовой он говорил в те годы, что это он «научил Васю писать — до этого его стихи были какие-то четвероногие», а у самого Комаровского допытывался: «К чьей же школе вы все-таки принадлежите — к моей или Бунина?» Но спустя несколько лет после выхода «Первой пристани» и смерти ее автора градус отношения Гумилева к полузабытому уже на тот момент царскоселу резко изменился. Гумилев читал его стихи своим студистам, а в 1921 году, за несколько месяцев до гибели, в разговоре с Адамовичем утверждал, что «единственный подлинно великий поэт среди символистов — Комаровский. Теперь, наконец, он это понял и хочет написать о Комаровском большую статью». В том же разговоре Гумилев — впервые в жизни! — отрекся от любви к Анненскому: «он поэт «раздутый» и незначительный, а главное — неврастеник». Но ведь в свое время именно Гумилевым в огромной степени была создана репутация Анненского!
Василий Комаровский. Портрет работы О. Л. Делла-Вос-Кардовской, 1909 год
Надо очень осторожно относиться к любым воспроизведениям устных суждений Гумилева. В частных разговорах он склонен был к преувеличениям и эпатажу. Вероятно, та ревизия царскосельской поэзии начала века, которую он наметил, в статье выглядела бы осторожней (ведь на занятиях своих студий в те же годы он всегда поминал Анненского с пиететом и любовью). Но, как всякий поэт и как всякий человек, он не был способен на абсолютное беспристрастие. Неприятие «неврастении» могло заставить его на время усомниться в величии Анненского; оно же могло побудить его сверх меры прославить сильный, но лишь в малой степени реализованный дар Комаровского. Пожалуй, здесь дело не только в эстетике. В творческом и человеческом складе своего давнего царскосельского знакомца Гумилев мог увидеть родственные себе черты. Поставленный жизнью в неблагоприятные условия, ставший в ранней молодости инвалидом, Комаровский не позволил себе никаких жалоб, никакой сентиментальности — на краю безумия и гибели он небрежно «фланировал» по царскосельским паркам, читал Гюисманса, вел светские беседы — а тем временем тайно корпел над искусствоведческими трудами и чеканил безупречные ледяные ямбы, в которые отливался подлинный, совсем не эстетизированный ужас:
Гляжу: на острове посередине пруда Седые гарпии слетелись отовсюду И машут крыльями. Уйти, покуда мочь? ………………………………………. И тяготит меня сиреневая ночь.Комаровский был эстетом старой закалки. Он получил отличное классическое образование, «любил читать Цезаря» и лишь зрелым человеком познакомился с азбукой декаданса — с «Портретом Дориана Грея» и «Так говорил Заратустра». Зато он превосходно знал и любил (и переводил) Бодлера — любимого поэта Гумилева.
В 1913 году Комаровский переехал в Петербург, чтобы самолично наблюдать за изданием своей «Хронологической таблицы…». Но до выхода ее он так и не дожил. Известие о начале мировой войны стало для него слишком сильным потрясением: его болезни обострились, и через два месяца он умер от сердечного приступа во время эпилепсического припадка. Ему было тридцать три года.
Окружение Комаровского составляли несколько эстетов помоложе. Каждому из этих людей суждено впоследствии занять в русской культуре свое место. Уже упоминавшийся выше Николай Николаевич Пунин (1888–1953) — выдающийся искусствовед. Судьбы Пунина и Гумилева еще несколько раз пересекутся. Князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (1890–1939) — сын известного либерализмом министра внутренних дел, в те дни — кавалергардский офицер, «преторианец», как, посмеиваясь, называл его Комаровский, человек резких и непримиримых суждений и притом вполне грамотный стихотворец символистского круга, позднее — известный литературный критик и переводчик, белогвардеец, потом — эмигрант, потом — евразиец, потом — советский писатель, потом — узник ГУЛАГа. Биография, при всей своей извилистости, достаточно характерная. Наконец, Лев Евгеньевич Аренс (1890–1967) — биолог и поэт-дилетант.
С семьей Аренсов Гумилев познакомился, вероятно, еще до отъезда в Париж, но сблизился лишь в 1908 году. Вера Евгеньевна Аренс (1883–1969), малозначительная поэтесса, впоследствии занимавшаяся детской литературой, принадлежала к числу его постоянных корреспондентов. Отношения Гумилева с ней были чисто дружескими — хотя и с оттенком возвышенной галантности; ее сестра Зоя была в Гумилева несчастно влюблена, он же относился к ней настолько равнодушно, что раз, когда Зоя Аренс с матерью пришла к нему в гости, он на минуту вышел в соседнюю комнату — и там самым неучтивым образом заснул. Третья сестра, Лидия, в кратких мемуарах Льва Аренса не упоминается[51], но о ней говорила Лукницкому Ахматова. По ее словам, увлечение Лидии Аренс Гумилевым привело к разрыву с семьей; она жила отдельно от родных, снимала квартиру… Ахматова думала о том, что, когда Гумилев в ее приезд в Царское говорил ей о своей любви, «этот роман был в самом разгаре». Но это как раз сомнительно. В июле-августе 1908 года Гумилев был в Царском Селе очень недолго и едва ли успел бы завести какой-то роман. Близкие отношения с отвергнутой семейством Лидией Аренс могли иметь место лишь в самом конце 1908-го или начале 1909-го.
Сестры Вера, Зоя и Анна Аренс, ок. 1910 года
Да и обстоятельства встречи Николая и Анны в августе 1908 года не располагали к любовным излияниям.
Когда АА была в Петербурге (АА была в Царском Селе у Валерии Сергеевны Срезневской) и послала Николаю Степановичу записку, что едет в Петербург и чтобы он пришел на вокзал. На вокзале его не видят, звонок — его нет… Вдруг он появляется на вокзале в обществе Веры Евгеньевны и Зои Евгеньевны Аренс. Оказывается, он записки не получил, а приехал просто случайно… (Acumiana)
«Просто случайное» появление в обществе двух знакомых молодых дам на железнодорожном перроне — вещь малоправдоподобная (Ахматова с ее умом должна была бы это понять). Вокзал — не место для случайных прогулок. Николай Степанович, конечно, получил записку; конечно, описанная сцена — неловкая попытка продемонстрировать свою независимость. Тем не менее для демонстрации этой Гумилев выбирает двух женщин, с которыми у него заведомо «ничего не было».
Ну а те (очередные) признания, которые Ахматова имеет в виду, происходили, скорее всего, в Киеве, по пути в Египет, две или три недели спустя.
Вокзал в Царском Селе. Открытка, 1900-е
В целом в Царском Селе у Гумилева друзей завелось немного. Тип царскосела за прошедшие годы не изменился, статус bizarre в их глазах если и повысился, то не сильно. Как писал Н. Н. Пунин (имея в виду именно эти годы), «царскосельские часы стояли на смерти Надсона. Мы жили по этим часам, время от времени ездили в Петербург и, возвращаясь, чувствовали, что живем в городе мертвых». Это высказывание по тону почти не отличается от приведенных выше отзывов Срезневской и Ахматовой. Декаденты по-прежнему были предметом насмешек. «Над ними смеялись снисходительно или нагло, в зависимости от их места в царскосельской иерархии. Вежливо смеялись в спину уходившего Анненского, хихикали над Комаровским, нагло осклабясь, смотрели в лицо Гумилеву». Место Гумилева «в царскосельской иерархии» по-прежнему было ниже, чем даже у присяжного городского чудака Комаровского. А то, что «гадкий утенок» неожиданно для окружающих стал известным литератором, печатающимся в солидных газетах, не меняло дела. Скорее литературные успехи Гумилева вызывали раздражение.
4 апреля 1908 года (еще до возвращения Гумилева из Парижа!) в газете «Царскосельское дело» появляется фельетон П. М. Загуляева «Царица-Скука» — из серии, посвященной «городу Калачеву», в котором легко узнается Царское Село. В очередном фельетоне выводится и местный «гениальный поэт».
Это был молодой человек очень неприятной наружности и косноязычный, недавно закончивший местную гимназию, где одно время высшее начальство самолично пописывало стихи с сильным привкусом декадентщины… Этот многообещающий юноша побывал в Париже, где, по его словам, приобщился к кружку, служившему черные мессы, и, вернувшись в Калачев, выпустил книжку своих стихов, которая быстро разошлась по городу, так как желавший только славы автор рассылал их совершенно бесплатно.
Баболовские ворота в Большой Каприз в Царском Селе. Открытка, 1900-е
Как мы убедимся чуть ниже, отношение к Гумилеву единственного местного периодического издания не изменилось и полтора года спустя.
С легкой руки Голлербаха имя Гумилева прочно вошло в «царскосельский миф». Но насколько неуютно чувствовал себя сам Гумилев в этом городе! Видимо, есть некая закономерность в том, что почти все ссылки на царскосельские впечатления в его стихах «зашифрованы». Их частичную расшифровку дает Ахматова в своих записных книжках. «Дворец великанов», где «конь золотистый у башен, играя, вставал на дыбы…» — Большой Каприз, башня на мосту между Екатерининским и Александровским парками, «с которой мы (я и Коля) смотрели, как брыкался рыжий кирасирский конь, а седок умело его усмирял», «ненюфары» из стихотворения «Озера» — это кувшинки в пруду между Царским Селом и Павловском. «Только говоря об Анненском, Гумилев, уже поэт-акмеист, осмелился произнести имя своего города, которое казалось ему слишком прозаичным и будничным для стихов…»
Говоря о Царском Селе (и не только о нем), ни на мгновение не надо забывать: многое из того, что сто лет спустя кажется овеянным романтикой, для людей начала XX века было прозаичным и будничным. И наоборот…
2
В основном жизнь Гумилева в 1908–1909 годы проходила все же за пределами Царского Села.
Выполняя, видимо, желание родителей, поэт поступает в Петербургский университет. Это было нетрудно: никаких вступительных экзаменов от человека, окончившего классическую гимназию, не требовалось.
В начале XX века в Санкт-Петербургском университете училось около шести тысяч студентов. Основную массу составляли радикально настроенные разночинцы-«моветоны», зарабатывающие на обучение уроками или литературной поденщиной, щеголяющие неряшливым видом и раскованными манерами. Другую группу составляли «белоподкладочники» — выходцы из чиновничьих семей, сами готовящиеся к казенной карьере, подчеркнуто аккуратные, дисциплинированные и благонамеренные. Наконец,
в 1911–1915 появился новый тип студента: этакий мускулистый аристократ, спортсмен… Не рано, не торопясь, обычно в 11–12 часов появлялись студенты-аристократы в университете, для приличия посещали одну-две лекции, а в основном собирались для того, чтобы договориться о предстоящих встречах, балах и ужинах (Н. Олесневич. Господин студент Санкт-Петербургского императорского университета. СПб., 2002).
Гумилев не принадлежал ни к одному из этих типов. После двух лет в Латинском квартале русская студенческая жизнь в любых вариантах его не привлекала. О степени его равнодушия к формальному высшему образованию свидетельствует тот факт, что первоначально он поступил на юридический факультет (10 июля 1908 года) и лишь год спустя перевелся на историко-филологический.
Таким образом, в Египет Гумилев отправился, уже будучи студентом. Для поездок за границу требовалось «увольнение» от университетского начальства. С апреля по август 1910 года, на время поездки в Париж, Гумилев такое увольнение получил. Но ни перед одним из четырех африканских путешествий, совершенных в 1908–1913 годах, он увольнения, судя по сохранившимся документам, и не запрашивал. Вероятно, этот документ был обязателен к предъявлению лишь на западной границе — благонадежность граждан, отплывающих из Одессы в Турцию и Египет, вызывала меньшие опасения.
Для брака тоже требовалось разрешение ректора. Гумилев обратился за таким разрешением 5 апреля 1910 года. По правилам, прежде чем выдать эту бумагу, ректор должен был сделать запрос соответствующему градоначальнику о нравственном и политическом поведении невесты. Делался ли такой запрос в отношении Анны Горенко, нам неизвестно.
Портрет Николая Гумилева из студенческого дела. Фотография М. А. Кана. Царское Село, 1908 год.
Центральный государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
Кроме того, в студенческом деле Гумилева[52] есть следующий забавный документ (без даты):
Его превосходительству Ректору
от секретаря по студенческим
делам И. Е. Красникова
Рапорт
Имею честь известить Ваше Превосходительство, что студент Историко-филологического факультета Н. С. Гумилев, поступления 1908 года, обратился ко мне с просьбой 2 мая выдать ему метрическое свидетельство. Получив от меня разъяснение, что по существующим правилам документы на руки не выдаются, а могут быть лишь пересланы по указанию просителя в соответствующее учреждение, г. Гумилев позволил себе заявить, что это не порядок, а безобразие, в присутствии сидевших у меня гг. казначея университета и помощника секретаря.
Интересно, когда и зачем понадобилась Гумилеву метрика?
В основном такими документами и ограничиваются свидетельства об университетской жизни Гумилева. Академическим усердием он, мягко говоря, не отличался. Данных о его успеваемости у нас нет, но есть сведения о прослушанных лекциях. На юридическом факультете он посетил шесть лекций по истории римского права, четыре — по истории русского права, четыре — по политической экономии, четыре — по государственному праву, три — по статистике… Чуть больше говорит нам перечень предметов, которые посещал он на историко-филологическом факультете. Здесь его учителями были такие прославленные ученые, как И. А. Бодуэн де Куртене (введение в языкознание), С. Ф. Платонов (русская история), А. И. Введенский (логика). Но ни по одному предмету в 1909/10 году он не был больше чем на четырех лекциях. Посещал Гумилев просеминарии по латыни и греческому, пытаясь, видимо, восполнить свои скудные гимназические познания; зачем-то записался на семинары по темам «Панегирик Исократа» и «Шестая песнь Энеиды». В шестой песни Энеиды описывается сошествие Энея в Аид, где дух Анхиза раскрывает перед ним его миссию и предсказывает грядущее величие Рима. «Панегирик» Исократа содержит призыв к походу против персов. Можно ли соотнести эти сюжеты с творчеством и биографией Гумилева? Вероятно, можно. Но тут уж мы ступим на путь произвольных интерпретаций, любезный некоторым литературоведам постструктуралистской эпохи. Скорее всего, мотивы, по которым Гумилев выбирал себе курсы для обучения, были совершенно случайными. На деле он, как мы уже заметили, университет удостаивал посещением не часто — во всяком случае, в эти годы.
Ходатайство Николая Гумилева ректору Санкт-Петербургского университета о разрешении на вступление в брак с Анной Горенко, 5 апреля 1910 года.
Центральный государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
Сдавал ли он какие-то экзамены? Вроде бы да; сам Гумилев рассказывал о профессоре[53], который на экзамене по русской литературе спросил его: «Как вы думаете, что бы сделал Онегин, если бы Татьяна согласилась уйти от мужа?» Эта история приводилась им как пример затхлого невежества и скудомыслия, царящего по крайней мере среди преподавателей-русистов.
В студентах Гумилев числился очень долго, хотя и с перерывом в год. 7 мая 1911 года он был отчислен из университета по причине невнесения платы за осенний семестр 1910 года (который он целиком провел в Абиссинии). Осенью 1912-го он был восстановлен в числе студентов, но 5 марта 1915-го уволен вновь «за невнесение платы за осень 1914-го». Как известно, осенью 1914-го и зимой 1915-го Гумилев находился в действующей армии, но это не было сочтено смягчающим обстоятельством.
Был короткий период (о нем мы скажем ниже), когда Гумилев стал уделять больше внимания академическим занятиям. А в 1908–1910 годы университет из всех сторон его жизни был едва ли не наименее значительной. Куда важнее были другие вещи — дружеское общение и литературная работа.
Кривич вводит Гумилева в уже поминавшийся кружок «Вечера Случевского». Когда-то, при жизни Константина Константиновича, на его «пятницах» бывали и Владимир Соловьев, и Фофанов, и молодой Бальмонт, и молодые Мережковские. С тех пор утекло много воды: в дни, когда туда попал Гумилев, кружок был оттеснен далеко на периферию литературной жизни. Невесть зачем Гумилев захаживал сюда до 1915 года — и один, и с Ахматовой. Никакого пиетета к нему здесь не испытывали, но терпели его — как «декадента строгого рисунка». Известен эпизод (относящийся к апрелю 1911 года), когда стихи Гумилева («И снова царствует Багдад, и снова странствует Синдбад…») на миг пробудили мирно спящего поэта с завидным — причем подлинным! — именем Аполлон Коринфский. На фоне других членов кружка Коринфский был чуть ли не классиком: его стихи обильно включались в «традиционалистские» антологии и «Чтеца-декламатора». Внешне он напоминал не столько Аполлона, сколько скифского или гуннского шамана: маленькие глазки, выступающие скулы, черные космы, густая бородища; да и родился он не в Коринфе, а в Симбирске — и был одноклассником В. И. Ульянова-Ленина. Главное же — что в свое время Коринфский (мы упоминали об этом) перевел «Старого морехода» Кольриджа. Стихи о морских странствиях, о Синдбаде недаром вывели из спячки этого посредственного стихотворца и смешного человечка…
Практически одновременно Гумилев входит в другой (куда более «актуальный») литературный круг.
Уже в ноябре 1908 года он впервые появляется на Башне Вячеслава Иванова.
Об этой квартире в доме на углу Тверской и Таврической улиц, где впервые прозвучавшая «Незнакомка» Блока была продолжена в вечность пением паркового соловья, где Мережковский после обыска тщетно искал якобы украденную жандармами шапку, а молодой социалист-богостроитель Луначарский доказывал, что пролетариат есть современное воплощение платоновского Эроса, написано много; повторяться не хочется. Дни самых раскованных и безоглядных духовных поисков обитателей Башни (поисков, зачастую переходивших и в плотскую сферу, но непременно с мистическим «вторым значением») миновали со смертью Диотимы — Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал, жены Вячеслава Иванова. Она в одночасье сгорела в 1907 году от опасной в ту допенициллинную эпоху скарлатины. В конце 1908-го вместе с «огненным Вячеславом» гостей Башни принимала молодая хозяйка — 18-летняя Вера Шварсалон, дочь Зиновьевой-Аннибал от первого брака, хрупкая и одухотворенная, не похожая на свою яркую и несколько тяжеловесную мать. Спустя три с половиной года она станет женой своего отчима; но пока об этой двусмысленной любовной истории, которая положит конец Башне, никто и не думает.
Когда-то юному читателю «Весов» казалось, что деятелей нового искусства должны связывать братские узы. До известного момента это было не так уж далеко от истины. Чувство духовного товарищества поэтов-символистов, конечно, существовало, и выражалось оно порою в формах, для современного человека странных. «Я помню, целовал его глаза (а глаза его — темные, прекрасные, подчас гениальные) неоднократно» (М. Альтман, «Разговоры с Вячеславом Ивановым»). Экзальтация, удивительная для взрослых гетеросексуальных мужчин (а Иванов, несмотря на общество «Гафиз» и прочие робкие эксперименты 1906–1907 годов, был от природы, конечно, чистейшим гетеросексуалом, как и Брюсов, о котором идет речь). Но уже к середине 1900-х стал намечаться раскол — точнее, целый комплекс расколов: между «старшими» и «младшими» символистами, между теми, кто видел в символе лишь средство передачи тонких ощущений и настроений, и теми, для кого символическая поэзия была средством мистического познания, между оккультистами и «новыми христианами», между индивидуалистами и теми, кто мечтал о «соборном действе». Так, в новой аранжировке, возобновлялись старые русские споры — споры сторонников «чистого» и ангажированного искусства, славянофилов и западников. Брюсов и Иванов были по большинству параметров в противоположных лагерях; после 1917-го интеллектуальный и духовный раскол дополнится политическим. В одном из тех же разговоров с Альтманом (происходивших, напомню, в 1920–1924 годы в Баку) Иванов скажет: «Еще посмотрим, что останется от Брюсова через десять лет… Он от отца лжи, он проституировал поэзию…» Почти столь же жесткие слова говорил он в эти годы Брюсову в лицо (в присутствии В. А. Мануйлова).
Вячеслав Иванов и Вера Шварсалон, начало 1910-х
Но пока (в 1908–1909 годы) Брюсов и хозяин Башни — соратники; разделяют их, казалось бы, лишь частности и, конечно, личное соперничество: каждый из них претендует на статус вождя русского символизма. С учетом этого любопытна явная ревность, с которой отнесся Брюсов к знакомству своего ученика с Ивановым. Гумилеву пришлось оправдываться: «Я три раза виделся с «царицей Савской» (как вы назвали Вячеслава Иванова), но в дионисийскую ересь не совратился. Ни на каких редакционных или иных собраниях, относительно которых вы меня предостерегали, не был…» — пишет он Брюсову 26 февраля 1909 года. Утопия «синтеза искусств», священной мистерии, преображающей мир, вдохновлявшая Иванова и некоторых из его друзей — от Скрябина до Чурлениса, основывалась на по-своему интерпретированных идеях раннего Ницше, на «Рождении трагедии из духа музыки». Но Гумилев вычитывал у своего любимого философа совсем другие вещи и интересовался другими его работами.
По этой или по иной причине, попытки молодого поэта строить общение с Ивановым почти в таком же почтительно-ученическом духе, как с Брюсовым, были в общем и целом неудачны. Гумилев, несмотря на уже не столь юный возраст и все сильнее дававшее о себе знать честолюбие, не торопился расставаться с ученическим статусом. Но у Брюсова он уже научился всему, чему мог. А Иванов, при всей своей «мудрости змииной», при всей своей поэтической и человеческой талантливости, был слишком от него далек.
В мае 1909-го, в период наибольшего сближения, Гумилев посвящает Иванову сонет, стилизованный в манере старшего поэта:
Раскроется серебряная книга, Пылающая магия полудней, И станет храмом брошенная рига, Где, нищий, я дремал во мраке будней. Священных схим озлобленный расстрига, Я принял мир и горестный, и трудный, Но тяжкая на грудь легла верига, Я вижу свет… то день приходит Судный. Не мирру, не бдолах, не кость слоновью — Я приношу зловещему пророку Багряный ток из виноградин сердца. И он во мне найдет единоверца, Залитого, как он, во славу Року Блаженно расточаемою кровью.Все же здесь чувствуется и брюсовская выучка («магия полудней», «зловещий пророк» — так бы Иванов не сказал), и сложность отношения к новому мэтру, в чьем облике видятся Гумилеву «зловещие» черты. Иванов отвечает сонетом на те же рифмы, начинающимся так:
Не верь, поэт, что гимнам учит книга: Их боги ткут из золота полудней.Книжник и мастер «плетения словес» как будто предупреждает молодого стихотворца об опасности злоупотребления книжным учением — и противопоставляет свое солнечное «золото» его (или брюсовскому?) «серебру».
С годами взаимоотношения поэтов менялись, иногда становясь теплее и ближе, иногда доходя до открытой враждебности. Перед войной, когда конфликт достиг апогея, Вячеслав Иванов раздраженно говорил С. К. Маковскому о вожде акмеистов: «Он глуп, да и плохо образован…» В «Разговорах…» Альтмана зафиксирован отклик Иванова на гибель Гумилева — своеобразный устный некролог, и тональность его совершенно иная:
Это был своеобразный, но несомненный поэт. Он был романтиком, конечно, и упивался экзотикой, но этот романтизм был у него не заемный, а подлинно пережитый… От его описаний действительно отдает морской пылью… Был он всегда безусловно храбр и по-рыцарски благороден.
Некоторых житейских и интеллектуальных сюжетов, связанных с Башней, нам еще придется коснуться в этой и следующей главе.
Ближе, чем с Ивановым, сошелся Гумилев с Михаилом Кузминым, на годы осевшим на Башне, в гостеприимной семье ее хозяев. Еще несколько лет назад никому не известный дилетант в литературе и музыке, Кузмин стремительно вошел в число ведущих мастеров «нового искусства». Его появление на литературном небосклоне сопровождалось скандалом, о котором Гумилев был конечно же осведомлен. Одиннадцатый номер «Весов» за 1906 год был целиком отдан роману Кузмина «Крылья», в котором (всего через одиннадцать лет после процесса Уайльда) «любовь, которая не смеет по имени себя назвать», смело называла себя по имени. Гражданские свободы, которыми Россия была обязана революции 1905 года, дали неожиданные плоды. Шум, поднятый «Крыльями», в сугубо литературном отношении далеко не лучшей книгой Кузмина, заслонил от широкого читателя частично напечатанные в том же году «Александрийские песни». Но он не помешал истинным знатокам оценить по достоинству первую книгу Кузмина-поэта, «Сети», появившуюся в 1908-м. Этой книге (как мы уже упоминали) суждено было стать одной из первых, отрецензированных Гумилевым в «Речи». Рецензия его, надо сказать, довольно сдержанна:
Кузмин — поэт любви, именно поэт, а не певец. В его стихах нет ни глубины, ни нежности романтизма.
Его глубина чисто языческая, и он идет по пути, намеченному Платоном, — от Афродиты Простонародной к Афродите Урании…[54]
Все принять, все полюбить без пафоса, смотреть на вещи как на милых бессловесных братьев, вот чего хочет его сердце…
Но Кузмина все же нельзя поставить в число лучших современных поэтов, потому что он является рассказчиком только своей души, своеобразной, тонкой, но не сильной и слишком далеко ушедшей от тех вопросов, которые определяют творчество истинных мастеров.
Михаил Кузмин, 1910-е
Тем не менее после первой же личной встречи, случившейся 5 января 1909 года в Знаменской гостинице, между поэтами завязываются добрые, а затем и дружеские отношения. Как известно, Кузмин тридцать лет вел обстоятельный дневник — жизнь его подробнейшим образом задокументирована. Потому мы точно знаем, что Гумилев навещал Кузмина (а значит, и Иванова) на Башне 26 января, 13 февраля, 4, 5, 7, 14 и 24 августа, 3, 19, 24, 29, 30 сентября, 3 октября; Кузмин же навещал Гумилева в Царском Селе 10 и 23 января, 9 августа, 27 сентября, 4 и 18 октября. Кузмин, без сомнения, должен был привлечь Гумилева своим прославленным обаянием, чувством стиля, бытовым артистизмом и экзотичностью. (Сам Кузмин четверть века спустя так — не без иронии — описывал себя в период Башни:
Небольшая вьющаяся борода, стриженные под скобку волосы, красные сапоги с серебряными подковами, парчовые рубашки, армяки из тонкого сукна, в соединении духами, румянами, подведенными глазами, обилие колец с камнями, мои «Александрийские песни», музыка и вкусы — должны были производить ошарашивающее впечатление… Я являлся каким-то задолго до Клюева эстетическим Распутиным.)
Они были на «ты», и позже, под конец жизни, Гумилев относился к Кузмину с немного насмешливой нежностью.
Про себя Гумилев говорил, что ему вечно тринадцать лет. А Мишеньке… — три. Я помню, — рассказывал Гумилев, — как вдумчиво и серьезно рассуждал Кузмин с моими тетками про малиновое варенье. Большие мальчики и тем более взрослые так уже не могут разговаривать о сладком — с такой непосредственностью и всепоглощающим увлечением (В. Н. Петров).
Но в творческой сфере поэтов многое разделяло.
Сергей Ауслендер, конец 1900-х — начало 1910-х. Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Дружеские отношения складываются у Гумилева и с начинающим прозаиком Сергеем Ауслендером (1886–1943), племянником и своего рода «литературным оруженосцем» Кузмина. По словам Ауслендера, он и Кузмин хотели познакомиться с Гумилевым, заинтересовавшись «его рассказами в газете «Речь». Вероятно, не только рассказами (в «Речи» в июне-июле 1908 года были напечатаны «Завещание», «Черный Дик» и «Последний придворный поэт»), но и рецензией на «Сети». Осенью 1908-го Ауслендер узнал в редакции журнала «Весна», что Гумилев в Петербурге. (Этот журнал, издаваемый Н. Г. Шебуевым, первоначально публиковал стихи и прозу довольно известных авторов — от Куприна до Кузмина, — но примерно с третьего-четвертого номера превратился в не слишком требовательную стартовую площадку для молодых стихотворцев и прозаиков, по типу и статусу напоминающую нынешние сайты Стихи. ру и Проза. ру. Гумилев напечатал там стихотворения «Старый конквистадор» и «Камень» и рецензию на книгу Бальмонта.) Ауслендер выразил желание познакомиться с Гумилевым — и тот навестил его. По ходу разговора
я сказал, что вечером буду на среде Вячеслава Иванова, и он выразил тоже желание поехать со мной… Я сказал Гумилеву, что надо позвонить по телефону и спросить разрешения приехать. Он это принял обиженно, сказав, что он поэт и кому же, как не ему, быть на средах.
Я вызвал Веру Константиновну… и хотя она говорила, что неудобно приезжать без предупреждения, но я все-таки упросил ее, сказав, что Гумилев сидит сейчас у меня, такой чопорный, и что трудно отказать ему.
Таким образом, с Ауслендером Гумилев познакомился раньше, чем с Кузминым, — не позднее 26 ноября 1908 года, и именно Ауслендер впервые ввел его на Башню.
Автограф стихотворения М. Кузмина «Надпись на книге», посвященного Н. Гумилеву, август 1909 года.
Институт мировой литературы (Москва)
Войдя в круг Кузмина, Гумилев столкнулся с царившим здесь духом легкомысленного сплетничества, иногда невинного, иногда не слишком. Внешность и манеры некрасивого и чопорного царскосела были легким предметом для злословия. По словам Ауслендера, «кто-то из этой компании насплетничал ему, будто я рассказывал, как он приехал ко мне ночью, что у него есть стеклянный глаз, который он кладет в стакан с водой. Страшно глупо!»[55]. Дело, однако, чуть не дошло до дуэли. Но Ауслендер и Гумилев помирились — более того, именно с этого времени началась их дружба. «Его не любили многие за напыщенность, но если он принимал кого-нибудь, — писал Ауслендер, — то делался очень дружным и верным, что встречается, может быть, только у гимназистов, в нем появлялась огромная нежность и трогательность».
Мир Кузмина был «параллелен» миру Гумилева. Кузмин чем-то привлекал его, в чем-то оставался чужд, но во всяком случае своим существованием не мешал. Этого нельзя сказать о другом поэте, которого Гумилев всю жизнь несколько недоуменно (а иногда и раздраженно), но искренне любил, зависть к которому безуспешно старался подавить, который был то его добрым знакомым, то соперником, то высокомерным недругом. Речь, конечно, об Александре Блоке. Первые книги двух поэтов вышли почти одновременно, но в рецензии на «Путь конквистадоров» Брюсов в числе повлиявших на юного Гумилева мастеров упоминает уже ставшего знаменитым автора «Стихов о Прекрасной Даме». К 1908 году стихи 28-летнего Блока были знамениты настолько, что (по отдающему анекдотом утверждению Ю. П. Анненкова) петербургские проститутки кокетливо называли себя «незнакомками» и предлагали потенциальным клиентам испытать «электрический сон наяву».
Первая личная встреча Гумилева и Блока должна была произойти именно в это время — в конце 1908-го или в 1909 году. Как раз к первой половине 1909-го относится, видимо, краткий роман Гумилева с юной поэтессой Елизаветой Пиленко, впоследствии вышедшей замуж за его родственника Дмитрия Кузмина-Караваева, а еще позже, в другой жизни, ставшей монахиней в миру и героиней Сопротивления. Напомним, что именно Елизавете Пиленко посвящено написанное несколькими месяцами раньше стихотворение Блока «Когда вы стоите на моем пути…». Творческое соперничество с Блоком — для Гумилева почти всю жизнь непосильное — подстегивалось подсознательным эротическим соперничеством. Слишком многие женщины, небезразличные Гумилеву, втайне (или не втайне) тосковали по «сероглазому королю» русской поэзии.
Список новых знакомых Гумилева в конце 1908 — начале 1909 года очень длинен. Помимо писателей (среди которых должно назвать еще и А. М. Ремизова), он включает и художников, и людей театра. Достаточно сказать, что именно в это время Гумилев знакомится с Мейерхольдом и с Евреиновым. В феврале он (вместе с Кузминым, Ауслендером, Потемкиным и Городецким) принимает участие в спектакле Евреинова «Ночные пляски», в котором «все роли исполнялись литераторами».
Петр Потемкин, конец 1900-х — начало 1910-х
Сергей Городецкий — вот еще один поэт, с которым Гумилев прежде был знаком заочно и которого теперь узнал лично. Таким образом, к февралю 1909 года Гумилев был знаком с двумя из пяти своих будущих сподвижников по группе акмеистов. Разумеется, роль Ахматовой и Городецкого и в жизни Гумилева, и в русской поэзии несопоставима.
Третьим из пяти (по порядку появления в жизни Гумилева) был Мандельштам. Встреча с ним состоялась, если верить записям Лукницкого, весной 1909 года — вероятнее всего, на Башне. Лукницкий основывался на словах самого Мандельштама; Е. Е. Степанов, однако, предполагает, что знакомство могло произойти годом раньше, и основывается на строках из стихотворного наброска Мандельштама, написанного в 1912 году и посвященного Гумилеву: «Но в Петербурге акмеист мне ближе, чем романтический Пьеро в Париже». В самом деле, трудно предположить, что, одновременно живя в Париже (Мандельштам был там с конца 1907-го по июль 1908-го) и хотя бы эпизодически слушая лекции в Сорбонне, два молодых поэта по крайней мере не видели друг друга. Впрочем, имеет ли это значение? И в Париже, и уж тем более на Башне, они едва ли были друг другу в тот момент особенно интересны. Впечатлительный 18-летний еврейский мальчик, одержимый «тоской по мировой культуре», попавший во взрослую и важную компанию, — и постоянно самоутверждающийся 23-летний, «уже взрослый», юноша: если с кем-то им и хотелось общаться, то не друг с другом. По словам Мандельштама, до 1912 года они «встречались не особенно часто».
До акмеизма и Цеха поэтов было далеко. Пока, в 1909 году, близкое литературное окружение Гумилева составляли в основном его парижские знакомцы — Толстой, Волошин. Еще одним его приятелем стал (ненадолго) его сверстник Петр Потемкин (1886–1926), к двадцати двум годам успевший заслужить скандальную славу. Имя Потемкина упоминалось в связи с историей «кошкодавов», раздутой в 1908-м петербургской желтой прессой. Речь шла о то ли обычном кутеже, то ли черной мессе, во время которой молодые «декаденты» якобы истязали невинных домашних животных. Потемкин, человек огромного роста и богатырского сложения, запойный пьяница, который, по словам Мандельштама, «даже трезвый и приличный походил на вымытого до белизны негра», отдал дань своеобразному и необычному для эпохи типу урбанизма. Он воспевал страсти писарей, приказчиков, парикмахеров — и даже манекенов в витринах. Его первая книга «Смешная любовь» имела успех, и Брюсов в рецензии на «Романтические цветы» противопоставлял раннюю славу Потемкина безвестности Гумилева. Дальнейшая литературная судьба Потемкина связана была с «Сатириконом» и театром «Кривое зеркало»; с кругом акмеистов его сближала лишь тайная влюбленность в Ахматову.
3
Говоря о литературно-бытовой позиции Гумилева в те годы, нельзя не сказать об одном примечательном противоречии, которое заметно было уже в Париже.
С одной стороны, он по-прежнему ощущает себя учеником и стремится «брать уроки» истинного мастерства. С этой целью по его, Толстого и Потемкина инициативе в начале 1909-го создается Академия стиха[56]. Суть ее первоначально заключалась в том, что Иванов, Анненский, Волошин и профессор Ф. Ф. Зелинский дали согласие читать молодым поэтам, по их просьбе, лекции по теории стихосложения. Нетрудно догадаться, от кого именно из молодых исходила идея. На деле до середины 1909 года состоялось лишь несколько лекций Иванова, проходивших на Башне. В числе слушателей этих лекций, кроме их инициаторов, были Ю. Верховский[57], В. Пяст, Е. Дмитриева и некоторые другие. В мае 1909-го Гумилев пишет Брюсову:
Вы, наверно, уже слышали о лекциях, которые Вячеслав Иванович читает нескольким молодым поэтам, в том числе и мне. И мне кажется, что только теперь я начинаю понимать, что такое стих. Но, с другой стороны, меня все-таки пугает чрезмерная моя работа над формой. Может быть, она идет в ущерб моей мысли и чувства. Тем более что они упорно игнорируются всеми, кроме Вас…
Парадоксально: философ и «общественник» Иванов «игнорирует мысли и чувство» молодого поэта, тогда как «формалист» Брюсов интересуется ими.
С другой стороны, Гумилев, еще не закончив (по собственному ощущению) ученический искус, упорно пытается выступить в роли организатора, лидера, вождя. Стремлением компенсировать неудачу «Сириуса» объясняется, видимо, затея с журналом «Остров», основанным в начале 1909 года.
Фактически «Остров» был затеей Гумилева, Толстого и Потемкина. Формально же редактором-издателем был Александр Иванович Котылев, мелкий газетчик, чье имя также упоминалось в фельетонах про «кошкодавов». Котылев охотно играл роль «зиц-редактора» в различных литературных изданиях, но в «Остров» он, похоже, действительно готов был вложить душу — или по крайней мере деловую энергию. 14 апреля он регистрирует журнал в Комитете по делам печати и весь следующий месяц активно занимается им. Но заканчивается все печально — причем по вине Гумилева.
В конце мая 1909 года Потемкин пишет В. Ф. Нувелю:
Котылев с жаром… взялся за «Остров». И, чувствуя вначале почтение и трепет к Гумилеву, напутал, как вы знаете. Но, напутав из-за желания Гумилева как можно скорее выпустить номер, он действовал все время совершенно себе в ущерб… Теперь, когда номер был готов, но лежал в типографии невыкупленный, никто ему денег на выкуп не давал… Однажды к нему является Гумилев и оставляет предерзкое письмо… «Вы должны были, — писал он, — найти издателя, продать ему номер, взяв из типографии несколько штук, меня мои товарищи уполномочили поставить Вам на вид (никто его не уполномочил), что Вы — заведующий хозяйственной частью. Это так дальше идти не может», и, одним словом, третировал его, как мальчишку на посылках. Конечно, Котылев, на другой день увидав Гумилева, выругал, передал разрешение и сказал, что отказывается от дел «Острова», потребовав свои деньги… Гумилев заявил, что он будет вести дело один.
Деньги на выкуп тиража (200 рублей) нашлись — их дал инженер-путеец, действительный статский советник Н. С. Кругликов, брат художницы, «почитатель поэзии». На радостях Гумилев затевает второй номер, но тут спонсорство Кругликова кончается; между тем из тиража первого номера в продаже разошлось, по свидетельству Толстого, лишь тридцать экземпляров. В результате второй номер «Острова» уже не удается выкупить из типографии. Сохранившиеся несколько экземпляров представляют собой библиографическую редкость.
Вся эта история очень характерна. Одной из главных человеческих слабостей Гумилева — до самой смерти! — была страсть к литературно-административной, организационной, редакторской и т. п. работе при полном отсутствии к ней способностей.
Николай Гумилев, 1907–908 годы
Между тем журнал «Остров» был проектом амбициозным, и в чисто литературном плане эти амбиции были не лишены оснований. В число «участников» (учредителей) журнала вошел (хотя и чисто формально) Кузмин, журналом «заинтересовался» Вячеслав Иванов, согласие на «сотрудничество» дали Анненский, Блок, Белый, Бальмонт. (А оформлял журнал тоже «генерал» — сам Бакст.) В числе «сотрудников» указаны также «младшие символисты» Владимир Пяст и Сергей Соловьев, а также Тэффи (Надежда Бучинская) — популярная юмористка, писавшая также лирические стихи. Воспоминания Тэффи добавляют любопытный штрих к истории возникновения журнала. По ее словам, она и Гумилев «задумали основать кружок «Островитяне». Островитяне не должны были говорить о Луне… Никогда. Луны не было. Не должны знать Надсона. Не должны знать «Синего журнала»». Запрет на упоминание о «луне» характерен. Позже, в качестве педагога, Гумилев запрещал своим ученикам писать о весне — «нет такого времени года!». Но какое отношение имел (если имел) неосуществившийся кружок «Островитяне» к журналу «Остров»? Забавно, что группа под названием «Островитяне» в русской литературе впоследствии появится, все ее участники так или иначе будут связаны с Гумилевым — и при этом никто из них, по всей вероятности, никогда в жизни не услышит и не вспомнит об эфемерной издательской затее 1909 года.
В первом номере «Острова» напечатаны стихотворения Волошина, Вячеслава Иванова («Суд огня»), газеллы Потемкина, несколько стихотворений Толстого («Трава», «В городе». «Пастух»), цикл «Праздники Пресвятой Богородицы» Кузмина и три стихотворения Гумилева — «Царица», «Воин Агамемнона» и «Лесной пожар». На новое периодическое издание отозвался Ауслендер в «Речи»: «Не может не трогать единодушное стремление учиться и делиться своими достижениями с еще не достигшими, которое объединяет разных, по существу, поэтов, чьи имена представлены на обложке «Острова»…» В «Весах» была напечатана также благожелательная рецензия С. Соловьева.
Обложка первого номера журнала «Остров». Художник Л. С. Бакст, 1909 год
Но был и еще один отклик. Почему-то именно появление первого номера «Острова» вызвало болезненную реакцию некоторых царскоселов. 2 октября (спустя полгода после выхода журнала) в «Царскосельском деле» появляется пьеса «Остов, или Академия на Глазовской улице» (на Глазовской улице, дом 15/18, официально находилась редакция — по месту жительства Толстого). Пьеса была подписана Д. В. О-в, авторами ее были бывший приятель Гумилева Д. И. Коковцев и его отец И. Н. Коковцев[58] (по другим сведениям — Дмитрий Коковцев и П. М. Загуляев, автор фельетона про город Калачев). В числе действующих лиц пьесы были поэт Гумми-Кот, редактор журнала «Остов», — «глаза вареного судака. Тощ», «поэтесса с темпераментом и весом» Пуффи, «кошкодав» Портянкин, «уволенный за пьянство из штабных писарей», щеголеватый Брильянтин Вятич, Макс Калошин, «поэт, сделавший карьеру в веселых местах Парижа. Считается знатоком всех искусств, в особенности — порнографических карточек», Сергей Ерундецкий, «специализирующийся на особенностях сексуальной жизни наших предков-славян», граф Дебелый — «новоявленная знаменитость, подобранная в Париже на «внешних бульварах». Прическа парижских апашей», и Михаил Жасмин — «не любит женщин. Завит, нафабрен, нарумянен. На щеке мушка». Пьеса не отличается сложностью интриги. Участники журнала читают свои стихи (представляющие собой пародии на конкретные стихотворения Гумилева, Городецкого, Толстого, Кузмина, Потемкина и Кривича) и расхваливают друг друга. Пародии Коковцевых по типу напоминают скорее популярные на закате советской эпохи немудреные пародии-фельетоны Александра Иванова, высмеивающие содержание стихотворения, чем изысканные стилистические имитации Измайлова или авторов «Парнаса дыбом». Лишь в случае Толстого объект для пародии взят из «Острова». У Городецкого пародируется «Весна монастырская» — одно из самых известных его стихотворений (из книги «Русь»), у Кузмина — пресловутое «шабли во льду, поджаренная булка». У самого Гумилева объектом пародирования стали целых два стихотворения, оба из «Романтических цветов», — «Жираф» и «Перчатка». Приведем полностью первую из пародий:
Сегодня особенно как-то умаслен твой кок И когти особенно длинны, вонзаясь в меня… В тени баобаба, призывною лаской маня, Изысканный ждет носорог… Вдали он подобен бесформенной груде тряпья, И чресла ему украшают такие цветы, Каких бы в порыве экстаза не выдумал я, Увидев которые пала бы в обморок ты… Я знаю веселые сказки про страсть обезьян, Про двух англичанок, зажаренных хмурым вождем, Но в платье твоем я сегодня увидел изъян, Ты вымокла вся под холодным осенним дождем. И как я тебе расскажу про дымящихся мисс, Про то, как безумные негры плясали кэк-уок… Ты плачешь… Послушай! где цепко лианы сплелись, Изысканный ждет носорог.Примечательно, что некоторые мотивы этой пародии предсказывают последующие африканские стихи Гумилева. «Жарят Пьера… а мы с ним играли в Марселе…» Не менее забавно другое: обвиняя декадентов в «порнографии» (что было общим местом), отец и сын Коковцевы сами явно предпочитают шутки, относящиеся к «телесному низу», соответствующим образом деформируя вполне целомудренные стихи Гумилева и Городецкого.
«Царскосельское дело» претендовало на статус серьезного печатного органа. Оживленное обсуждение местных новостей сочеталось с интересом к высокой политике. Поддерживая программу октябристов, редакция бурно полемизировала с кадетами по аграрному и другим важным вопросам. Но в «городке» все происходило патриархально, по-домашнему. В том же номере, где был напечатан фельетон Коковцевых, выражалась благодарность кондитеру Голлербаху, спонсирующему женскую чайную «Союза 17 октября» сладкими булочками. Чтобы предлагать читателям такой газеты памфлет против неизвестных им поэтов и фривольные пародии на неизвестные им стихи, надо было иметь в ее редакции очень хорошие связи.
Но вернемся к злополучному «Острову».
Второй номер по составу был едва ли не лучше первого. «То было на Валлен-Коски» и «Шарики» Анненского, «Покойник спать ложится…» Блока, «Родина» Белого — этими вещами альманах открывался. Но и тексты молодых авторов — Толстого, Любови Столицы, Сергея Соловьева — отличались по меньшей мере высокой формальной культурой. Обращает на себя внимание наличие в списке авторов двух киевлян — Бенедикта Лившица (чья фамилия напечатана с ошибкой — Лифшиц) и Владимира Эльснера. Еще одно имя, вероятно, ничем не задержало взгляд немногочисленных читателей — Елизавета Дмитриева. Распространенные в России имя и фамилия под грамотным, умело сделанным сонетом. Ничего особенного… Разумеется, чуть ли не все молодые — последователи Брюсова. Включая и самого Гумилева, тоже давшего один сонет — «Я — попугай с Антильских островов…».
Номер, основная часть тиража которого так и не вышла из типографии, удостоился двух рецензий, напечатанных рядом — на соседних страницах одного и того же журнала. Одна рецензия принадлежала Кузмину, вторая, в нарушение всех принятых литературных условностей, — самому Гумилеву. Гумилев взялся рецензировать им самим изданный (точнее, недоизданный!) журнал, чтобы сказать о том, о чем Кузмин предпочел умолчать, — об Анненском[59].
Что же было на Валлен-Коски, что привлекло внимание поэта?
А ничего. «Шел дождик из мокрых туч», после бессонной ночи зевали до слез, а чухонец за полтинник бросал в водопад деревянную куклу. Но… «бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обида куклы обиды своей жалчей». Слово найдено. Есть обиды, свои и чужие, чужие страшнее, жалчее. Творить для Анненского — это уходить к обидам других, плакать чужими слезами и кричать чужими устами, чтоб научить свои уста молчанью и свою душу благородству. Но… он всегда возвращается к своей ране, бередит ее, потому что только благодаря ей он может творить.
Эти слова были напечатаны в третьем (декабрьском) номере журнала, к учреждению которого и Гумилев, и Анненский имели самое прямое отношение; Анненский их прочитать уже не смог.
4
Журнал «Аполлон», оставивший в русской культуре след богатый и яркий, начал выходить в октябре 1909 года. Но зачат он был, если можно так выразиться, в первый день года. Срок беременности был почти нормальным — с небольшим даже перебором, и ребенок появился на свет крепким и долговечным — в отличие от злосчастного «Острова».
Родителем журнала был Сергей Константинович Маковский (1877–1962).
Сергей Константинович происходил из известной художественной семьи. Отец — знаменитый салонный портретист Константин Маковский, дядя — не менее знаменитый передвижник-жанрист Владимир Маковский. «Братья Маковские», принадлежавшие к противоположным школам, для следующего поколения (мирискусников) стали чуть не сиамскими близнецами. Оба они воплощали все самое затхлое и пошлое в изобразительном искусстве конца века. Но Сергей Маковский придерживался вкусов передовых и изощренных. К тридцати годам он был одним из ведущих художественных критиков молодого поколения, видным историком искусства, соредактором журнала «Старые годы». Итогом его деятельности стали трехтомные «Страницы художественной критики» и «Силуэты русских художников». Занимался он и стихотворчеством — писал сонеты в парнасском духе. Его первый сборник (вышедший в 1905-м) был замечен Брюсовым. Позднее (уже в эмиграции) Маковский выпустил еще несколько стихотворных книг, в том числе «поэму в сонетах» «Нагарэль», посвященную памяти Гумилева. Самые поздние (после Второй мировой войны) стихи Маковского не лишены достоинств, но главный след в истории поэзии Маковский оставил в молодости, в 1907 году, когда увел жену у двадцатилетнего Владислава Ходасевича. Кажется, русская муза многим обязана душевному потрясению, пережитому юным покинутым супругом. Язвительное замечание Ауслендера («Маковский был совершенно неграмотным в области современной литературы и очень пленился, узнав, что существует такая модернистская литература») — по меньшей мере сильное преувеличение. Но несомненно, что поэзия в меньшей степени, чем визуальные искусства, относилась к сфере интересов Маковского.
В начале января 1909 года Маковский организует «Салон» — выставку «живописи, скульптуры и архитектуры» в Меншиковском дворце. По словам самого Сергея Константиновича, «я затеял ее потому, что Дягилев перестал пестовать «Мир искусства» и кому-то надлежало «объединить» наиболее одаренных художников». В выставке приняло участие около сорока художников, выставивших более шестисот произведений. Среди них были Рерих, Бакст, Петров-Водкин, Кандинский, Чурленис, Врубель (это была последняя его прижизненная выставка — впрочем, сам художник уже два с половиной года был слеп и безумен; роковой приступ болезни настиг его в момент работы над портретом Брюсова). За несколько дней до вернисажа Маковский познакомился с состоятельным любителем искусств М. К. Ушковым, который играл роль посредника между Маковским и одним из художников. Увлеченный выставкой, Ушков предложил Маковскому свою помощь в издании «журнала искусств». Достойно внимания, что Ушков жил в Царском Селе, но нет никаких свидетельств его общения с Гумилевым.
Обложка журнала «Аполлон». Художник М. В. Добужинский
Вероятно, в первый момент «Аполлон» задумывался как исключительно художественный журнал. Литературный отдел его (сыгравший столь важную роль в истории российской словесности) возник благодаря встрече Маковского с Гумилевым, состоявшейся на открытии выставки 1 января.
Сам Маковский описывает ее так:
Кто-то из писателей отрекомендовал его как автора «Романтических цветов». Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким, темно-синим воротником (тогдашняя мода) и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу). Портил его и недостаток речи: Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил, вместо «вчера» выходило у него — «вцера».
То, что литературная часть задуманного журнала поначалу полностью оказалась в руках малоизвестного 23-летнего поэта, «белобрысого самоуверенно-подтянутого юноши», может объясняться только отсутствием у Маковского связей в литературной среде, а главное — особого интереса к этому роду деятельности. В поэзии он был все же дилетантом, в намеченном журнале главное внимание должно было уделяться «искусствам изобразительным».
Гумилев познакомил Маковского с Толстым, Городецким, а затем и с Анненским. Гумилев «зачитывал» своих новых знакомых строфами из «трилистников» Анненского — и при первой возможности свел с самим поэтом. В одном из писем 1909 года (недатированном) Гумилев приглашает Анненского к себе на «импровизированный литературный вечер… Будет много писателей, и все они очень хотят познакомиться с Вами». Видимо, это и было представление автора «Тихих песен» будущей редакции «Аполлона».
Сергей Маковский. Фотография В. И. Ясвоина, 1900-е
С этого момента бывший директор Царскосельской гимназии, до сих пор участвовавший в актуальной литературной жизни лишь в качестве отстраненного наблюдателя-эссеиста, становится едва ли не главным идеологом новорожденного журнала — по крайней мере в том, что касается словесности. Свои личные отношения с ним Маковский характеризует как «дружбу».
Он был весь неповторим и пленителен… Мысль его звучала как хорошая музыка: любая тема обращалась в блестящую вариацию изысканным «контрапунктом метафор» и самим слуховым подбором слов. Вы никогда не знали, задавая вопрос, наперед, что он скажет, но знали, что сказанное будет ново и ценно, отметит грань, от других сокрытую, и в то же время отразит загадочную сущность его, Анненского… В манерах, в светскости обращения его было что-то не от нашего века. Небыкновенно внимательный к окружающим, он блистал воспитанностью не нашего времени, и это была не бюрократическая выправка или чопорность, а какая-то романтическая галантность… Он принадлежал к породе духовных принцев крови. Ни намека на интеллигента-разночинца. Но не было в нем и наследственного барства. Совсем особенный с головы до пят — чуть-чуть сановник в отставке и… вычитанный из переводного романа маркиз.
Поразительно: ведь именно этот «маркиз», в котором ничего не было от интеллигента-разночинца, — автор «Старых эстонок», в которых нашли выражение самые благородные (если и не самые умные) стороны русского интеллигентского менталитета.
Если Анненским Маковский был очарован, то о Гумилеве он пишет куда строже — пожалуй, даже несколько свысока. Но в портрете, намеченном им, много верного:
Мне нравилась его независимость и самоуверенное мужество. Чувствовалась сквозь гумилевскую гордыню необыкновенная его интуиция, быстрота, с которой он схватывал чужую мысль, новое для него разумение; все равно — будь то стилистическая тонкость или научное открытие, о котором он прежде ничего не знал, — тотчас усвоит и обратит в видение упрощенно-яркое и подыщет к нему слова, бьющие в цель, без обиняков.
Я прощал ему его наивную прямолинейность, так же как и позу, потому что за мальчишеской его «простотой» проступало что-то совсем иного порядка — мука непонятости, одинокости, самоуязвленного сознания своих несовершенств физических и духовных: он был и некрасив, и не способен к наукам, не обладал памятью, не мог научиться как следует ни одному языку (даже по-русски был малограмотен). И в то же время — как страстно хотел он — в жизни, в глазах почитателей, последователей и особенно женщин, быть большим, непобедимым, противоборствующим житейской пошлости, жалким будням «жизни сей», чуть не волшебником, чудотворцем…
По словам Маковского, с иронией относился к Гумилеву не только он, но и другие «аполлоновцы». Впрочем, «самоуверенное тщеславие» молодого поэта шло, по мнению Маковского, на пользу будущему журналу. Если собственные стихи Гумилева все еще не вызывали восхищения (хотя кое-что из написанного им в 1908–1910 годы и вошедшего позднее в «Жемчуга» восхищения уже заслуживало), то его критическое чутье признавали почти все.
К концу лета было снято помещение для журнала — на набережной Мойки, д. 24, в кв. 6, в двухэтажном особнячке у Певческого моста, с видом на Дворцовую площадь, в полуквартале от дома Волконской, где умер Пушкин; более аристократического места придумать было невозможно. В том же здании, что и редакция, во дворе, находился знаменитый петербургский ресторан «Донон». На Мойке регулярно собирались, готовя первый номер журнала, Маковский, Гумилев, Кузмин, Ауслендер, А. Н. Толстой, Евгений Александрович Зноско-Боровский (1884–1954), которого выбрали секретарем редакции. «Молодой редакции», как шутя называл ее сам Зноско-Боровский, имея в виду знаменитую «молодую редакцию» «Москвитянина».
О Зноско-Боровском стоит сказать несколько слов, тем более что этот человек в 1909–1910 годы с Гумилевым довольно близко приятельствовал. Участник Русско-японской войны, журналист, критик, театровед (автор ценной для своего времени книги «Русский театр в начале XX века»), он оставил наибольший след в сфере, от словесности довольно далекой, — в шахматах. В 20-е годы его имя можно встретить в числе участников турниров мирового уровня — наряду с Алехиным, Боголюбовым, Таррашем, Тартаковером, Нимцовичем и другими великими мастерами. Некоторые его партии вошли в учебники. В то время он вел шахматный раздел в парижской газете «Последние новости» и литературном приложении к ней. Книга Зноско-Боровского «Капабланка и Алехин», вызвавшая у В. Сирина, рецензента газеты «Руль», восторг, повлияла, как считают исследователи, на «Защиту Лужина». Зноско-Боровский был в числе тех немногих друзей Гумилева, о которых Ахматова (в разговорах с Лукницким) упоминала без враждебности. По ее словам, Гумилев любил этого «маленького, розовенького, курносого» человека.
Здание редакции журнала «Аполлон» (Мойка, дом 24). Фотография М. А. Захаренковой, 2007 год
Еще одним сотрудником журнала стал Иоганнес фон Гюнтер (1886–1973), немецкий поэт, приехавший впервые в Россию в 1906 году и влюбившийся в ее культуру глубоко и безоглядно: из иностранцев это почему-то чаще других случается с немцами. Вынужденный вернуться в 1914 году на родину, он посвящает всю последующую жизнь пропаганде русской культуры, что в известные исторические периоды было просто небезопасно для жизни. В «Аполлоне» он ведал иностранной литературой и печатал переводы своих художественных произведений (пьеса «Маг»). Он очень быстро и легко освоил разговорный русский язык. Гумилев с ним был на «ты» — впрочем, Гумилев, несмотря на свою знаменитую чопорность, на «ты» переходил с гимназической легкостью.
В редакцию «Аполлона» в сентябре были перенесены заседания Академии стиха, зарегистрированной ныне под официальным названием «Общество ревнителей художественного слова». Разрешение было получено, как указывает Маковский, благодаря его личному знакомству с петербургским градоначальником генерал-майором Д. В. Драчевским. На дворе стояла так называемая «столыпинская реакция», и власти опасались, что любое невинное общество может быть лишь прикрытием для неких террористов или экспроприаторов. За разрешением Маковский ходил с Анненским и Вячеславом Ивановым. Иванов (наряду с Зелинским, Маковским и Анненским) вошел в президиум академии.
Хозяин Башни начинает принимать участие в работе над будущим журналом лишь на этом (довольно позднем) этапе. Выбора, собственно, не было: «Весы» скоро должны были прекратиться, доживало последние месяцы и «Золотое руно». «Аполлон», таким образом, превращался в единственный орган «нового искусства».
Несомненно, уже в этот период между его сотрудниками начались трения. Иванов был не в восторге от того, что отдел критики оказался в руках юного и «плохо образованного» Гумилева; вероятно, он ревниво относился и к «молодой редакции» в целом. Гумилев (что примечательно) возражал против привлечения в число «ближайших сотрудников» Блока (но быстро снял свои возражения).
За всем этим в 1909 году стояли, однако, скорее личное соперничество и личные фобии, чем идейные разногласия. Собственные эстетические взгляды Гумилева еще не сложились — он был лишь одним из изобильного числом символистского молодняка, и если Вячеслава Иванова раздражали издержки брюсовской школы, он все же не оставлял надежды переучить не в меру энергичного, но вполне почтительного молодого человека. Анненский никого, кроме себя, не представлял и на связное «мировоззрение» не претендовал — он был органическим одиночкой. Но, как вспоминал Волошин, «в редакционной жизни «Аполлона» очень неприятно действовали ускользающая политика С. К. Маковского и эстетская интригующая обстановка. Создавался ряд недоразумений, на которые жалко было смотреть».
И все же в любом случае «Аполлон» в первые годы скорее объединял, а не разъединял писателей. Причем прежде всего это относится именно к Академии стиха, среди участников которой, кроме уже перечисленных, в разные годы были Блок, Белый, Кузмин, Волошин, Н. Недоброво, Сологуб, Нарбут, Юрий Верховский, молодой В. Жирмунский, Чулков, Садовской. Разделение на «лекторов» и «учеников» вскоре исчезло. На несколько лет академия стала площадкой для дискуссий между представителями разных школ «нового искусства».
Первый номер журнала появился 25 октября. К выходу его была приурочена выставка живописца Г. Лукомского.
По случаю выхода первого номера устроили большой банкет в ресторане Кюба (Каменноостровский проспект, 24). Речи держали Анненский, «два профессора», Гумилев и Гюнтер. Вечер продолжили у «Донона». Утро застало Гумилева в комнате Гюнтера в меблированных комнатах «Рига», где хозяин и гость пытались справиться с похмельем с помощью кофе и зельцерской.
Номер «Аполлона» стоил подписчикам на год с доставкой — 10 рублей. Без доставки — 9 рублей 90 копеек. За границу — 12 рублей.
Фронтиспис первого номера журнала искусств украшала реклама боржома.
Редакционная вступительная статья гласила:
Аполлон. В самом названии — избранный нами путь. Это, конечно, — менее всего найденный вновь путь к догмам античного искусства…
Аполлон — только символ, далекий зов из еще не построенных храмов, возвещающий нам, что для искусства современности наступила пора устремлений — всех искренних и сильных — к новой правде, к глубоко сознательному и стройному творчеству: от разрозненных опытов — к закономерному мастерству, от расплывчатых эффектов — к стилю, к прекрасной форме и животворящей мечте.
Другими словами, редакция претендовала на формирование «большого стиля», который должен был сменить (или увенчать) эпоху декаданса. Маковскому казалось, что дни бури и натиска «нового искусства» миновали, пришло время делить трофеи. На самом деле все лишь начиналось: символизм был только прелюдией модернистской революции.
Умеренные и строгие эстеты, «аполлоновцы» считали своим долгом «непримиримую борьбу с нечестностью во всех областях творчества, со всеми посягательствами на хороший вкус, со всяким обманом — будь то выдуманное ощущение, фальшивый эффект, притязательная поза или иное злоупотребление личинами искусства».
С этим строгим вступлением контрастировала статья А. Бенуа «В ожидании гимна Аполлону». Профетический тон ее был необычен для мирискусника-галломана. «Мы чувствуем приближение какой-то общей смерти (поведет ли она к воскресению или только еще к метаморфозе — это нам не дано знать)… Близится бог, и уже стонет земля, извергая покойников, и уже поднялись всюду лжепророки… чтобы начать решительную борьбу.» «Для современного человека непрестанность литургического ритма в жизни — далекая (и даже еще чуждая) мечта…» — оговаривался художник. Но: «Пора готовиться. Пора учиться слагать гимны, чтобы встретить должным образом обетованный восход».
Этой странной языческой эсхатологии созвучен был и анонимный философский диалог «Пчелы и осы Аполлона». Соблазнительно интерпретировать расхождения, с самого начала существовавшие в редакции, как спор «дионисийского» и «аполлоновского» начала. Но где провести границу? Аполлон, возникавший в экзальтированном воображении его петербургских жрецов, местами сливался с Дионисом Ницше (или по крайней мере русских ницшеанцев). Едва ли снимала проблему тривиальная констатация Философа, одного из персонажей «Пчел и ос Аполлона»: «Прогресс состоит в передвижении норм и ценностей. Дионис разрушает нормы. Аполлон утверждает новые. Прогресс — равновесие обеих сил».
В том, что касалось изобразительных искусств, вкусы редакции были «мирискусническими» — то есть для 1909 года респектабельными и умеренными. Характерен список художников, чьи работы репродуцируются и анализируются в первых номерах журнала: Богаевский, Бакст, Бенуа, Сомов, Ходлер… В области театральной «Аполлон» был если не радикальнее, то созвучнее свежим тенденциям тогдашней русской и мировой культуры: среди сотрудников журнала был Мейерхольд. Но, вопреки первоначальному замыслу Маковского, наиболее значительную роль «Аполлон» сыграл именно в литературе. Может быть, потому, что в этой области редактор не считал себя до конца компетентным.
Самым ярким материалом трех первых номеров стала статья Анненского «О современном лиризме»[60], содержащая неизменно благожелательные, но часто двусмысленные характеристики нескольких десятков современных поэтов — от Брюсова, Бальмонта, Сологуба до бедняги Коковцева. Статья была разделена на две части — «Они» и «Оне», относящиеся соответственно к поэтам и поэтессам.
О Гумилеве Анненский написал так:
Николай Гумилев… кажется, чувствует краски более, чем очертания, и сильнее любит изящное, чем музыкально-прекрасное. Очень много работает над материалом для стихов и иногда достигает точности почти французской. Ритмы его изысканно тревожны… Лиризм Н. Гумилева — экзотическая тоска по красочно причудливым вырезам далекого юга. Он любит все изысканное и странное, но верный вкус делает его строгим в подборе декораций.
Статья Анненского дала многим повод к обидам. Своей характеристикой остался, в частности, недоволен Сологуб. В третьем номере «Аполлона» было напечатано открытое письмо Анненского к редактору:
Моя статья «О современном лиризме» порождает среди читателей «Аполлона», а также и его сотрудников немало недоумений: так, одни и те же фразы, по мнению одних, содержат глумление, а для других являются неумеренным дифирамбом… Я поставил себе задачей рассмотреть нашу современную лирику лишь эстетически, как один из планов в перспективе, не считаясь с тем живым, требовательным настоящим, которого она является частью… Традиции, credo, иерархия, самолюбия, завоеванная и сберегаемая позиция — все это настоящее или не входило в мою задачу, или входило лишь отчасти.
Сегодня трудно понять обиды мэтров — тот же Брюсов мог написать (и писал) о своем друге (друге-враге?) Бальмонте не в пример резче, чем Анненский. Не до конца освоившись в непривычной для себя среде, Иннокентий Федорович даже и опасался давать прямые оценки чужим стихам, но ему не простили чего-то иного. (Причем речь идет о близких по духу людях, а не о, скажем, престарелом нововременском скандалисте Буренине, назвавшем статью Анненского «гимназической классной работой»; разумеется, это был верх нелепости… но знал ли зоил, что Анненский — бывший директор гимназии?) Яростным противником статьи был влиятельный критик и искусствовед Аким Волынский. Его выход из числа сотрудников привел к тому, что издательство Ефрона, где вышел первый номер, прекратило отношения с журналом. Заключительная часть статьи — «Оно» (имелось в виду искусство) так и не была написана. Третий номер журнала, в котором Анненский, полуоправдываясь, просил Маковского «напечатать, что редакция лишь допускает мою точку зрения, но не считает ее редакционной», — этот номер вышел из типографии уже после смерти автора статьи «О современном лиризме».
Гумилев с первого номера «Аполлона» печатал в нем «Письма о русской поэзии» — критические отзывы на творения поэтов-современников. В первом номере речь шла о книгах Городецкого, Валериана Бородаевского, Садовского и Рукавишникова, во втором — об альманахе под счастливым названием «Смерть», в котором напечатана поэма Потемкина «Ева», о книгах С. Кречетова, В. Пяста и П. Сухотина, в третьем — отзывы на один из последних номеров «Весов» и на стихотворение Анненского «То было на Валлен-Коски» из второго «Острова» (эту рецензию мы уже цитировали).
Место Гумилева в истории русской литературной критики по крайней мере не менее прочно, чем его место в истории поэзии. Мало кто даже в ту эпоху умел так квалифицированно писать о чужих стихах. Как и Анненский, он стремился проникнуть в мир разбираемого поэта; как Брюсов, он не боялся прямых и жестких профессиональных оценок. Читая первые рецензии, печатавшиеся в «Аполлоне», нельзя забывать, что их автору было всего двадцать три года. С поправкой на возраст зрелость его критической мысли впечатляет. Категоричных и одномерных суждений нет, но никогда Гумилев не отказывается от своей требовательности, какой бы чрезмерной ни казалась она Маковскому и другим. Признавая живость чувства и подлинность лирической мелодии, лежащей в основе стихов Городецкого, он в то же время констатирует: «Ни о стильности, ни об интересности построений или технической утонченности тут не может быть и речи. Городецкий забыл все, что он когда-либо знал или должен был знать как поэт…» Остроумна и точна характеристика другого поэта:
Если Городецкий поет, Бородаевский говорит, а Садовской пишет, то Иван Рукавишников дерзает. Безусловно талантливый, работающий, думающий, он совершенно лишен чутья поэтов — вкуса. Иногда это даже помогает ему: как лунатик, бредет он по узкому карнизу и действительно находит благоухающие лужайки, серебряные поляны зачарованных стран. Но чаще — о, как это бывает часто! — он жалко срывается, и не в бездну, а только в грязь, и стихи его испещрены кляксами безобразных прозаизмов.
Сочувственно оценивая книгу Пяста, Гумилев не может не заметить, что
литература законна; прекрасна, как конституционное государство, но вдохновение — это самодержец, обаятельный тем, что его живая душа выше стальных законов. Я упрекаю музу Вл. Пяста в том, что она часто боится быть самодержавной, хотя и имеет на это право.
Даже у насквозь подражательного Кречетова[61] он находит «свободный и уверенный стих, особенно в анапестических размерах. Затем — звонкие, неожиданно-радующие рифмы», а у малоталантливого Эллиса — «серьезные темы и глубокие переживания». Не забывая при этом, однако, о подражательности первого и бездарности второго…
Кроме Гумилева, критические статьи в «Аполлоне» печатали и другие сотрудники. Обзорами беллетристики занимался Кривич.
Приложением к каждому номеру «Аполлона» был «Литературный альманах». Первый его номер открывало стихотворение Маковского Apollini:
Бог грозных чар и стройных песен, Ты сходишь вновь в земные долы! Священны древние престолы И лик Твой гневен и чудесен!Рядом были напечатаны «Александрийский столп» Брюсова, «Купина» и «Последняя заря» Бальмонта, два стихотворения Кузмина («Ты, именем монашеским овеян…» и «Как странно в голосе твоем мой слышен голос…»), три Волошина («Дэлос», «Созвездья», «Полдень»), одно Сологуба («Я опять, как прежде, молод…»). Анненский был представлен «ледяным трилистником»: «Ледяная тюрьма», «Дочь Иаира» и гениальный «Снег», в котором впервые вырвался на свет один из странствующих ритмов русской поэзии:
Полюбил бы я зиму, Да обуза тяжка… От нее даже дыму Не уйти в облака. Эта резанность линий, Этот грузный полет, Этот нищенски синий И заплаканный лед!Гумилев напечатал в первом «Аполлоне» «Капитанов» — одно из самых знаменитых (у широкого читателя) своих произведений.
С прозой дело обстояло хуже. «Влас» О. Дымова, повесть о гимназисте — образец приличной «беллетристики». Осип Исидорович Перельман (между прочим, родной брат знаменитого популяризатора наук), взявший в качестве псевдонима фамилию чеховского героя, усердно снабжал толстые журналы своими стильными, умелыми, в меру сдобренными изящной эротикой и либеральной политикой, не претендующими на особую духовную глубину или художественную силу повестями, а театры — соответствующими по качеству пьесами. Вторую половину жизни, в эмиграции, он писал на идише (в США, где он жил, еврейская аудитория была многочисленней русской) — примерно на том же уровне и с тем же успехом. Проза Дымова — это был балласт, мешки с песком для устойчивости, как свое время Мамин-Сибиряк в «Северном вестнике».
Второй же «Литературный альманах»… Но тут уж начинается другая история — до сих пор занимающая воображение любителей интриг и мистификаций.
5
«Ни одной легенды не возникнет вокруг современных поэтических имен. Это можно сказать почти с уверенностью» — так замечает Анненский в статье «О современом лиризме». Какое ошибочное предсказание… Весь русский Серебряный век — легенда, все биографии сплошь — легенды!
Одна из них, не самая значимая, но одна из самых эффектных, создавалась как раз в это время совместными усилиями «аполлоновцев».
В той части статьи «О современном лиризме», которая названа «Оне», Анненский пишет (наряду с Аделаидой Герцык, Любовью Столицей, Зинаидой Гиппиус, Поликсеной Соловьевой и другими) о новой, вплоть до осени 1909 года совершенно неизвестной поэтессе с нерусским именем — Черубине де Габриак.
Я думал ведь, что Она только смеет и все сметет… А оказывается, что Она и все знает, что она все передумала (пока мы воевали то со степью, то с дебрями), это рано оскорбленное жизнью дитя — Черубина де Габриак…
Зазубринки ее речи — сущий вздор по сравнению с превосходным стихом, с ее эмалевым гладкостильем…
Меня не обижает, меня радует, когда Черубина де Габриак играет с Любовью и Смертью. Я не дал бы ребенку обжечься, будь я возле него, когда он тянется к свечке; но розовые пальцы около пламени так красивы…
Эти слова (писавшиеся, по всей вероятности, в начале ноября) напечатаны в третьем номере «Аполлона». Трудно сказать, насколько они искренни; у Анненского были личные основания отнестись к загадочному юному дарованию неоднозначно. 22-летняя (по собственным словам) Черубина, полуфранцуженка-полуиспанка аристократического происхождения, в начале или скорее в середине сентября прислала в только что обустроившуюся на Мойке редакцию свои стихи по почте, «на элегантной бумаге с траурной каймой». Письма от Черубины приходили одно за другим, через некоторое время она позвонила в редакцию по телефону. Звонки стали ежедневными. У «Черубины Георгиевны», помимо изысканного почерка, оказался и «чарующий низкий голос». Свою внешность сама она описывала так: «У нее рыжеватые, бронзовые кудри, цвет лица совсем бледный, ни кровинки, но ярко очерченные губы со слегка опущенными углами и походка чуть прихрамывающая, как подобает колдуньям». От личных встреч она, однако, уклонялась. Сердце Маковского было покорено. Сотрудники журнала — Ауслендер, Зноско-Боровский, искусствовед барон Н. Н. Врангель[62], Гюнтер, Волошин, Гумилев — разделяли (искренне или притворно) увлечение papa Mako (как шутливо звали Сергея Константиновича в редакции).
Разумеется, стихи Черубины (русские стихи прекрасной юной чужестранки!) в огромной мере способствовали их увлечению. В этих стихах было все, что предполагалось ожидать: исповедник-иезуит, экзальтированная католическая страсть к небесному жениху, подавленная, но побеждающая запреты чувственность, воспоминания о предках-крестоносцах, «язык цветов», лунный свет… Все это было выражено вполне качественными, «эмалево гладкими» русскими стихами. Неправдоподобным было, однако, не качество текстов, а никогда не встречающаяся в реальности стилистическая цельность. Невозможно представить себе, что столько людей, обладавших изощренным культурным чутьем, в самом деле поверили в существование Черубины.
Некоторые из ее стихотворений и сами по себе были очень неплохи. Хотя и не более того…
Лишь раз один, как папоротник, я Цвету огнем весенней, пьяной ночью… Приди за мной к лесному средоточью, В заклятый круг, приди, сорви меня. Люби меня. Я всем тебе близка. О, уступи моей любовной порче, Я, как миндаль, смертельна и горька, Нежней, чем смерть, обманчивей и горче.Но осенью 1909 года стихи Черубины не воспринимались «сами по себе».
Волошин, охотнее других беседовавший с Маковским о загадочной красавице, взялся написать о Черубине для второго номера журнала. Его статья называлась «Гороскоп Черубины де Габриак».
Сейчас мы стоим над колыбелью нового поэта. Это подкидыш в русской поэзии. Ивовая корзина была неизвестно кем оставлена в портике Аполлона. Младенец запеленут в белье из тонкого батиста с вышитыми гладью гербами, на которых толеданский девиз: Sin miedo[63]. У его изголовья положена веточка вереска, посвященного Сатурну, и пучок capillaires, называемых «Венерины слезки».
На записке с черным обрезом написаны остроконечным и быстрым женским почерком слова: Cherubina de Gabriack. Née 1887. Catholique.
Пассаж из статьи Анненского призван был поддержать атмосферу культа, складывающегося вокруг молодой поэтессы. Огромная (12 стихотворений) подборка во втором «Литературном альманахе» стала ее первой публикацией. Подборка была столь велика, что для большинства других авторов (но не для Дымова — прерывать публикацию беллетристических произведений «с продолжением» было непрофессионально) места просто не хватило.
В числе прочего была перенесена из второго номера в четвертый и большая подборка Анненского. Реакция Иннокентия Федоровича была острой — более острой, чем можно было бы ожидать. 12 ноября он пишет Маковскому:
Я был, конечно, очень огорчен тем, что мои стихи не пойдут в «Аполлоне»… Жаль только, что Вы хотите видеть в моем желании, чтобы стихи были напечатаны именно во 2 №, — каприз. Не отказываюсь и от этого мотива моих действий и желаний вообще. Но в данном случае были разные Другие причины, и мне очень, очень досадно, что печатание расстроилось. Ну да не будем об этом говорить и постараемся не думать.
Анненский явно из последних сил сдерживает свои чувства. Написанное в тот же день стихотворение «Моя тоска» выражает их с предельной остротой:
В венке из тронутых, из вянущих азалий Собралась петь она… Не смолк и первый стих, Как маленьких детей у ней перевязали, Сломали руки им и ослепили их.Между тем речь идет всего лишь о переносе подборки из одного номера журнала в другой — причем надо учесть, что Анненский годами не предпринимал никаких попыток напечататься, что многие стихотворения из «Кипарисового ларца» ждали в столе у автора по пять, а то и по восемь-девять лет. Трудно понять, какие «другие причины» лежали за страстным желанием напечататься именно в октябре: вероятнее всего, просто предчувствие смерти. Второй номер «Аполлона» был для Анненского последним.
В числе довольно многочисленных литераторов, заходивших в редакцию, была и Елизавета Дмитриева — та девушка, с которой Гумилев познакомился в 1907 году в Париже, чьи стихи появились в не вышедшем из типографии втором «Острове», — по описанию Гюнтера,
среднего роста, почти маленького, стройная, несмотря на полноту. При этом изящна и хорошо сложена… Крупная голова, темно-коричневая шевелюра, порой отливавшая блеском красного дерева, желтоватого оттенка кожа лица. Темно-синие глаза под непропорционально высоким круглым лбом были печальны, хотя иной раз могли быть насмешливыми и веселыми. Рот ее был слишком велик, зубы выступали вперед, но ее полные губы были красивы… Торс с мягко округлыми плечами и выпуклым бюстом производил впечатление несколько неуклюжее, возможно, вследствие неудачного костюма. Она преподавала русский язык в женской гимназии и, вероятно, зарабатывала слишком мало, чтобы одеваться элегантно.
Дмитриева окончила Женский педагогический институт и преподавала в женской гимназии историю. С легкой руки Цветаевой широко известен анекдот об инспекторе, спросившем у учениц Дмитриевой имя их «любимого русского царя» и получившем в ответ хоровое: «Гришка Отрепьев!» Понятно, что Цветаеву это восхищало: для нее Отрепьев был героем, авантюристом, бунтовщиком. Исторический Отрепьев был, однако, прежде всего самозванцем…
(В русской истории было много самозванцев. Прославленней всех, наряду с Отрепьевым, женщина, которая называла себя просто «принцесса Елизавета» — тезка Дмитриевой! — и которая по недоразумению вошла в историю под именем «княжны Таракановой».)
Зарабатывала Дмитриева 11 рублей 50 копеек в месяц. Это было ничто. Путиловский чернорабочий получал больше.
В целом Дмитриева, по словам Гюнтера, была не красивой, «но весьма своеобразной, и флюид, от нее исходивший, сегодня обозначили бы словом sexy.
Прошлое девушки было, кажется, необычным.
В семь лет Елизавета заболела костным туберкулезом и до шестнадцати была прикована к постели. Всю свою жизнь до семи лет она забыла. В шестнадцать встала и пошла — памятью болезни на всю жизнь осталась едва заметная хромота. Сначала ходить было больно — девочка вспоминала сказку про Русалочку и радовалась, что она, по крайней мере, не немая.
Это из позднейшей автобиографии. Вероятно, это была одна из историй, которые Елизавета Дмитриева рассказывала о себе.
Черубина де Габриак (Е. И. Дмитриева), 1910-е
Другие ее устные рассказы сохранились в записи Волошина:
— Однажды брат мне сказал: «Ты знаешь, что случилось? Только ты не говори никому об этом: Дьявол победил Бога. Этого еще никто не знает.
И он взял с меня слово, что я никому этого не скажу до трех дней. Я спросила, что же нам делать. Он сказал, что, может быть, теперь было бы более всего выгодно, чтобы мы перешли на сторону Дьявола. Но я не согласилась. Через три дня он мне сообщил, что Богу удалось как-то удрать. Я тогда почувствовала маленькое презрение к Богу и перестала молиться…
Однажды, недели на две, брат стал «христианином». Они со школьным товарищем решили «бить жидов» и вырезывать у них на лице крест. Поймали мальчика еврея и вырезали у него на щеке крест, но убить не успели.
Когда мне было 10 лет, брат взял с меня расписку, что шестнадцати лет я выйду замуж и что у меня будет 24 человека детей, которых я буду отдавать ему, а он будет их мучить и убивать. Тоня, сестра, сказала: «А если никто не возьмет ее замуж?» — «Тогда я найду человека, который совершил преступление, и под угрозой выдать его заставлю на ней жениться».
Брат посылал меня на дорогу и заставлял просить милостыню, говоря: «Подайте дворянину!» Деньги потом отбирал, бросал в воду и говорил, что стыдно тратить милостыню на себя.
Сестра умерла в три дня от заражения крови. Ее муж застрелился. При мне.
Дмитриева рассказывала, что сестра заставляла ее совершать жертвоприношение — кидать в огонь игрушки, а однажды они чуть не принесли в жертву живого щенка, что брат пытался творить чудеса (как маленький Гумилев!) — превращать воду в вино… Где здесь правда, где вымысел — понять невозможно. Если вымысел, то по-своему талантливый. Но не свидетельствующий о душевном здравии.
Время от времени Дмитриева начинала рассказывать о своей умершей дочери Веронике. Дочери у нее не было никогда — это известно. Современница Дмитриевой Елена Гуро посвятила чуть не все свои произведения вымышленному умершему сыну. То, что в случае Гуро стало литературным фактом, у «принцессы Елизаветы» было лишь очередной мистификацией. Но, похоже, в свои вымыслы Дмитриева через какое-то время начинала верить со всей искренностью.
Дмитриева бывала и на Башне. Там она познакомилась с Гюнтером. В обществе немца-«аполлоновца», Веры Шварсалон, Любови Дмитриевны Блок, Анастасии Чеботаревской, жены Сологуба, и своей подруги Лидии Брюлловой, внучатой племянницы художника (за которой Гюнтер ухаживал), она посмеивалась над Черубиной, утверждая, что знатная иностранка, должно быть, уродлива, если так долго прячется от своих поклонников. Дмитриева и в других случаях не щадила насмешками новоявленную звезду русской поэзии, позволяя себе даже сочинять на нее пародии.
Чуть позже, разговорившись с Дмитриевой наедине, Гюнтер обиняками выяснил, что девушка хорошо знакома с Волошиным и Гумилевым, и с тевтонским простодушием высказал пришедшую ему в голову идею: «А-а, теперь вы издеваетесь над Черубиной де Габриак, потому что ваши приятели, Гумми и Макс, влюбились в эту испанку?»
В ответ Дмитриева сделала страшное признание: «Черубина — это я».
Как ни странно, Гюнтер не поверил. Дмитриевой нетрудно было доказать истинность своих слов:
Вы ведь знаете, что Черубина ежедневно в послеобеденные часы звонит в редакцию для беседы с Сергеем Константиновичем?.. Завтра я позвоню и спрошу о вас… Я спрошу об иностранных сотрудниках, и когда он назовет ваше имя… тогда я вас опишу и спрошу, не вы ли тот человек, с которым три года назад я встретилась в Германии в поезде. Мое имя ему осталось неизвестным…
На следующий день Гюнтер убедился в том, что обаятельная хромоножка Дмитриева и неотразимая (но тоже хромоногая) Черубина — в самом деле одно лицо.
Так выглядит эта история в изложении Гюнтера. По всей вероятности, он не искажал истину. Те же, кто знал об этом разговоре от Дмитриевой, представляли себе его совершенно иначе. Якобы Гюнтер применил какие-то свои оккультные или по крайней мере гипнотические способности, чтобы выведать у девушки ее тайну.
Разговор с Гюнтером, судя по всему, примерно совпал по времени с письмом Анненского Маковскому.
Это было только начало, потому что в течение некоторого времени Елизавета Дмитриева являлась ко мне ежедневно. Она рассказывала о себе и своих милых печалях — и все ей было мало! Читала свои любезные стихи — и все ей было мало! Выслушивала мои утешения — и все ей было мало!.. Скоро я уразумел, что литературное чудо, именуемое Черубина де Габриак… созрело не только на ее собственной грядке, но что тут было акционерное общество. Но кто был акционером?
Итак, девушка изливает новому знакомому душу и, между прочим, жалуется «на Гумилева, который в Коктебеле клятвенно обещал жениться на ней. С ним она вернулась в Петербург и предала Волошина. А в Петербурге он ее бесцеремонно оттолкнул».
Внимание: названо имя нашего героя.
У нас чуть ниже будет возможность сравнить эту слезную историю, изложенную Дмитриевой Гюнтеру, с другой, ее же собственной, версией событий, а также с несомненными фактами.
Забавно, что Гюнтер, не сразу поверивший в тождество Елизаветы и Черубины, в историю «бедной Лизы» уверовал сразу же… и решил выступить в роли свата.
Он стал убеждать Гумилева, что тот «должен жениться на Дмитриевой»:
Вы будете превосходной парой, как Роберт Браунинг и его Элизабет, бессмертный союз двух поэтов. Ты должен жениться на поэтессе, только настоящая поэтесса может тебя понять и вместе с тобой быть великой… Кроме того, она великолепная женщина, а ты и без того обещал жениться на ней.
Не замечая ярости, в которую привело друга последнее сообщение, Гюнтер доказывает Гумилеву, что Дмитриева любит только его, что «с Волошиным, этим антропософом, у нее были чисто духовные отношения», касается и житейской стороны: «Она — учительница, он — писатель, вместе они могли бы снять в Петербурге хорошую квартиру, он был бы окружен заботой, в которой нуждался…»
Какой там оккультизм, какой гипноз! Драматические ситуации часто провоцирует доброжелательный простак.
Гумилев делает вид, что соглашается. Гюнтер «торжествовал, так как объяснение должно было произойти у ее подруги, Лидии Брюлловой, и после их несомненного примирения мы образовали бы две пары». Девушки в нарядных платьях. Изящно накрытый стол…
И тут происходит то, чего Гюнтер меньше всего ожидал:
С небрежным и заносчивым видом Гумилев приблизился к обеим дамам.
— Мадемуазель, — начал он презрительно, даже не поздоровавшись, — мадемуазель, вы распространяете ложь, будто я собирался на вас жениться. Вы были моей любовницей. На таких не женятся. Вот что я хотел вам сказать.
Гюнтер шокирован. Действительно, смысл фразы Гумилева (если Гюнтер понял и воспроизвел ее верно) — неблагороден, а с учетом вполне свободных нравов эпохи — еще и донельзя нелеп.
Но даже если фраза Гумилева передана неточно, несомненно, что он оскорбил женщину. Без причины сделать этого он не мог.
Теперь обратимся к автобиографическому тексту Дмитриевой, озаглавленному «Черубина де Габриак. Исповедь».
Итак, была случайная встреча в Париже в 1907 году. Прошло два года.
Весной уже 1909 г. в Петербурге я была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств — был Максимилиан Александрович Волошин, который казался тогда для меня недосягаемым идеалом во всем… На этой лекции меня познакомили с Н. Степ., но мы вспомнили друг друга. Это был значительный вечер «моей жизни». Мы все поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Н. Степ. — об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно…: «Не надо убивать крокодилов». Ник. Степ. отвел в сторону М. А. и спросил: «Она всегда так говорит?» — «Да, всегда», — ответил М. А.
…Эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Н. С. Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча» и не нам ей противиться.
Начался роман; по словам Дмитриевой (к которым надо относиться весьма осторожно), Гумилев сделал ей предложение — она отказала ему, будучи помолвлена с неким Всеволодом Васильевым, инженером, и «связана жалостью к большой, непонятной мне любви».
25 мая Гумилев и Дмитриева выезжают в Коктебель к Волошину. Инициатива исходила от Дмитриевой; впрочем, Гумилев и сам всю весну переписывается с «дорогим Максом Александровичем», упражняясь, как с Вячеславом Ивановым, в сонетах на заданные рифмы. Дмитриева тоже участвовала в этих играх мастеров. Холодные точеные сонеты в духе парнасца Хосе Мария Эредиа — этот жанр был близок молодому Волошину. Гумилев более или менее успешно с ним соперничал.
26 мая они проездом (на полтора дня) посещают Москву, где останавливаются в «Славянском базаре». Гумилев представляет свою подругу Брюсову; встреча происходит в кафе. Мэтр почему-то говорит с молодыми поэтами о графе Петре Бутурлине — «русском Эредиа», изысканном сонетописце, затерянном в надсоновскую эпоху. Гумилев послушно покупает книгу забытого поэта.
Ученические соревнования в сочинении искусных и холодных, несколько вымученных сонетов — как обрамление пылких и (со стороны Дмитриевой) не свободных от экзальтации страстей.
Все путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его Гумми, не любила имени Николай, — а он меня, как зовут дома, Лиля, — «имя, похожее на серебристый колокольчик»…
Впрочем, ехали они без удобств, вагоном третьего класса — и ехали не одни. Судя по письму Дмитриевой Волошину, ее и Гумилева попутчиками до Москвы были «Майя (Кудашева? — В. Ш.) и ее отец», а дальше — некая Марго.
30 мая в семь утра Гумилев с Дмитриевой прибыли в Феодосию; к середине того же дня они были в Коктебеле.
Коктебельский дом Волошина, построенный в 1903 году, в 1909-м еще не стал местом постоянного летнего отдыха художественной интеллигенции — звездный час его настал в последние предреволюционные, а особенно в нэповские годы, когда за одно лето через коктебельскую «колонию» проходило триста — четыреста человек; тем не менее гостеприимством Макса пользовались многие уже тогда.
В числе тех, кто оказался в Коктебеле в июне 1909 года, был и А. Н. Толстой. Его стихотворное письмо в подробностях воспроизводит коктебельскую идиллию:
Прищурясь, поп лежит в песке, Под шляпою торчит косица; Иль, покрутившись на носке, Бежит стыдливая девица. Стихом пресытившись, поэт На берег ходит и дельфину Вверяет мысли. Зной и свет… Болят глаза, спалило спину… Но вот раскатистый рожок Пансионеров созывает — И кофе (им язык обжег) В штанах хозяйка наливает… Творить расходимся потом. В 12 ровно — час купанья. Затем обед, и на втором, Мой Бог, всегда нога баранья. И чай. Потом гулять идут В деревню, в лавочку иль в горы, И на закате ужин ждут, Кидая нищенские взоры… Но нет, нарушила вчера Наш сон и грусть одноообразья На берегу в песке игра: «Игра большая китоврасья». Описывать не стану я Всех этих дерзких ухищрений, Как Макс кентавр, и я змея Катались в облаке камений, Как сдернул Гумилев носки И бегал журавлем уныло, Как женщин в хладные пески Мы зарывали… Было мило…«В штанах хозяйка» — это Елена Оттобальдовна, мать Волошина, известная своим пристрастием к мужской одежде.
Николай Гумилев. Фотография М. А. Кана. Царское Село, 1909 год
Для Гумилева, который по ходу игры отчего-то «бегал журавлем уныло», все оборачивалось не так весело. Жил он в комнатке длиной шесть с половиной, шириной три с половиной шага, с покатым деревянным потолком на шести балках, с деревянной кроватью и белым столиком, с окнами на Сюрью-Кай и Святую гору. Позднее, после смерти Гумилева, Волошин повесит на двери комнаты нечто вроде мемориальной таблички. Хотя именно из-за злосчастного пребывания в Коктебеле смерть Гумилева могла произойти на двенадцать лет раньше — от руки Волошина. Или смерть Волошина — от руки Гумилева…
Здесь, среди лунного киммерийского пейзажа — бугристых каменных гор, степных трав, галечных пляжей, — сочинял Гумми пресловутые строки про тех, кто «отряхает ударами трости клочья пены с высоких ботфорт», про «королевских псов, флибустьеров», про «капитана с ликом Каина». К «Капитанам» трудно относиться до конца всерьез… Но — по крайней мере — это уже стихи Гумилева в полном смысле слова: они написаны «в образе», они соответствуют литературной и житейской маске, которую Гумилев для себя избрал. (Пока чисто теоретически.) В маске этой много детского. Но если есть беллетристика для юношества — Майн Рид или Фенимор Купер, имеют право на существование специально «подростковые» стихи.
И карлики с птицами спорят за гнезда, И нежен у девушек профиль лица… Как будто не все пересчитаны звезды, Как будто наш мир не открыт до конца!Первой читательницей «Капитанов» была Дмитриева; по ее собственному свидетельству, Гумилев обсуждал с ней каждую строчку. Если так, Дмитриева была конфиденткой тех стихов и тех сторон личности Гумилева, которые были донельзя чужды Анне Горенко. (Ахматова утверждала, что Гумилев «Капитанов» «ненавидел». Не вернее ли предположить, что скорее сама она ненавидела эти стихи?)
Достойно внимания, что строки про властных людей, которые, «бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвут пистолет», рождались на фоне ситуации, достаточно для Гумилева унизительной. Дмитриева все больше времени проводила в обществе Волошина. Гумилев отводил душу, устраивая в своей комнате тараканьи бои. В конце концов Лиля, ничего не объясняя, попросила его покинуть Коктебель.
Дмитриева описывает это так:
…Самая большая любовь моя в моей жизни, самая недосягаемая, это был Максимилиан Александрович. Если Н. Ст. был для меня цветением весны, «мальчик»… то М. А. для меня был где-то вдали, кто-то никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую…
То, что девочке казалось чудом, — свершилось. Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно — к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Гумилеву — я буду тебя презирать».
В действительности Дмитриева и Волошин напряженно переписывались с 1908 года — и это была переписка если не любовная, то на грани влюбленности. Они не раз встречались в Париже и в Петербурге; резонно предположить, что и в Коктебель «маленькая и молчаливая» Лиля поехала не без задней мысли. Во всяком случае, в письме Волошину накануне отъезда она сообщает: «Гум<илев> напросился, я не звала его, но т<ак> к<ак> мне нездоровится, то пусть». Рассуждая совсем уж цинично: учительского жалованья могло не хватить на билет даже в третьем классе, а так за себя и за свою девушку платил, конечно, Николай Степанович.
Физически мощный и красивый 32-летний Волошин вовсе не был непобедимым ловеласом. Напротив, он, судя по его дневнику («История моей души»), страдал мучительными комплексами; для него почти невозможным было физическое сближение с женщиной, к которой он испытывал по-настоящему сильные чувства. Во многом именно это разрушило его первый брак — с М. Сабашниковой (Амори). Возможно (хотя не обязательно), что с Дмитриевой ему удалось преодолеть эти болезненные черты своей природы.
По ее собственным словам, после отъезда Гумилева из Коктебеля она (с июля до сентября) «пережила лучшие дни» своей жизни.
Судя по дневнику Волошина, это были довольно странные дни.
Лиля пришла смутная и тревожная. Ее рот нервно подергивался. Хотела взять воды. Кружка была пуста. Мы сидели на кровати, и она говорила смутные слова о девочке… о Петербурге… Я ушел за водой. Она выпила глоток. «Мне хочется крикнуть»…
— Нет, Лиля, нельзя! — Я увел ее в комнату. Она не отвечала на мои вопросы, у нее морщился лоб, и она делала рукою знаки, что не может говорить. «У тебя болит?»
Она показывала рукою на горло. Так было долго, а может, и очень кратко. Я принес снова воды и дал ей выпить. И тогда она вдруг будто проснулась: «Который час?»
— Половина четвертого.
— Половина четвертого и вторник?
— Да, Лиля. («Это час и день, в который умер мой отец», — сказала она позже.)
— Лиля, что с тобою было?
— Не знаю, я ведь спала…
— Нет, ты не спала. — Она мучительно и долго старалась что-то вспомнить.
— Макс, я что-то забыла, не знаю, что. Что-то мучительное. Скажи, ты не будешь смеяться? Нет, если я спрошу. Можно? Я всё забыла. Скажи, Аморя твоя жена?.. Да… И она любила… Да, Вячеслава… Нет, был еще другой человек, ты говорил… Другой… Нет, я всё забыла… Макс, я ведь была твоей… Да, но я не помню… Я ведь уже не девушка… Ты у меня взял… Тебе я всё отдала, только тебе. Ты ведь меня никому не отдашь? Но я совсем не помню ничего, Макс. Я не помню, что я была твоей. Но я еще буду твоей. Ведь никто раньше тебя… Я не помню… <…>
Я называю ей некоторые имена (В. Н.), и она не понимает и не знает их. «Макс, напомни, о чем мы говорили до тех пор, как я заснула».
Девочка — это «дочь Вероника». В. Н. — жених, Васильев. Так до конца и невозможно понять, кем была Елизавета Дмитриева — циничной особой, использующей мужчин, или визионеркой на грани психопатии, не способной отличить реальность от своих фантазий. Скорее второе…
В отношениях Дмитриевой и Волошина важную роль играли их теософские увлечения. Теософия представляла собой несколько более утонченную разновидность эклектической мистики, чем оккультизм Папюса и Элифаса Леви. (Впрочем, утонченность эта относительна: как раз будучи в Коктебеле, Макс и Елизавета посещают некоего «доктора арабских наук Гасана Байрама-Али», который предсказывает им будущее, основываясь на «аравийский наука каббалистика». Все это описывается в «Истории моей души» совершенно всерьез, без малейшей усмешки.) Волошин был увлечен гностическими идеями; Дмитриеву еще в 1908 году глубоко заинтересовали его попытки духовной реабилитации Иуды Искариота.
Если житейские поступки мистически интерпретируются, вроде бы и невозможно оценивать их по нормам бытовой морали. Как в свое время Волошин, парализованный атмосферой Башни, пассивно следил за романом своей жены с Вячеславом Ивановым, так теперь, напротив, он и Дмитриева не видели ничего двусмысленного в своем поведении по отношению к Гумилеву.
В Коктебеле и зародилась Черубина. Волошин впоследствии изложил историю ее возникновения по-своему в тексте, названном «История Черубины» и сохранившемся в записи Т. Шанько.
Маковский, Papa Mako, как мы его называли, был чрезвычайно аристократичен и элегантен. Я помню, он советовался со мной — не внести ли такого правила, чтоб сотрудники являлись в редакцию «Аполлона» не иначе как в смокингах. В редакции, конечно, должны были быть дамы, и Papa Mako прочил балерин из петербургского кордебалета.
Лиля — скромная, не элегантная и хромая, удовлетворить его, конечно, не могла, и стихи ее были в редакции отвергнуты.
Тогда мы решили изобрести псевдоним и послать стихи письмом. Письмо было написано достаточно утонченным слогом на французском языке, а для псевдонима мы взяли наудачу чорта Габриака[64]. Но для аристократичности чорт обозначил свое имя первой буквой, в фамилии изменил на французский лад окончание и прибавил частицу «де»: Ч. де Габриак.
Впоследствии «Ч.» было раскрыто. Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на Ч., пока наконец Лиля не вспомнила об одной Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины[65].
Изображение Маковского тенденциозно, дальнейшая же история игр, в которые коктебельские любовники играли с Papa Mako, нуждается в уточнении. Волошин рассказывает, как Маковскому сообщали (через «княгиню Дарью Владимировну», родственницу де Габриаков, — ее изображала Лидия Брюллова) о болезни Черубины или намекали на ее намерение уйти в монастырь, а Дмитриева, придя на заседание Академии стиха, наблюдала за страданиями влюбленного редактора… Как Волошин помогал Маковскому писать письма и стихи к Черубине, а тот называл его «моим Сирано», «не подозревая, до какой степени он был близок к истине». Как Черубине придумали кузена, португальского атташе Гарпию де Мантилья, к которому Маковский ревновал ее. Как «Черубина на Пасху на две недели уехала в Париж» и «в отсутствие Черубины Маковский так страдал, что Иннокентий Федорович Анненский говорил ему: «Сергей Константинович, да нельзя же так мучиться. Ну, поезжайте за ней. Истратьте сто — ну, двести рублей, оставьте редакцию на меня… Отыщите ее в Париже». «Отъезд Черубины за границу» относится (по воспоминаниям Маковского) к октябрю 1909 года — Пасхи в это время не бывает даже у мистиков и оккультистов. Красавица испанка должна была провести за границей около двух месяцев, но вернулась раньше срока — после выхода первого «Аполлона». Именно после этого счастливого возвращения (между 25 октября и 12 ноября) Маковский спешно изымает из второго номера подборки Анненского и других и заменяет их стихами Черубины. Кроме того, ни про Гарпию де Мантилья, ни, скажем, про учиненный Маковским и Врангелем «опрос всех дач на Каменностровском» (аристократический район, где Черубина «жила») с целью найти незнакомку, никто, кроме Волошина, не рассказывает. Зато Маковский упоминает о предложении Константина Сомова, которому «нравилась до бессонницы» внешность рыжей хромоножки, ездить на Острова в карете с завязанными глазами, чтобы писать ее портрет. Художник Сомов отнюдь не был экзальтированным поклонником женской красоты — его интересы, как и интересы Михаила Кузмина, лежали в несколько иной области. Невольно создается впечатление, что чуть ли не все сотрудники «Аполлона» (кроме редактора) с самого начала относились к Черубине лишь как к увлекательной литературной игре. По словам Волошина, в мистификации подозревали самого Маковского. Но по крайней мере проведший все лето в Коктебеле А. Н. Толстой знал разгадку, а Гумилев легко мог о ней догадаться. Вячеслав Иванов несомненно догадывался. Не был ли секрет Черубины секретом Полишинеля?
В то время как в воображении Волошина и Дмитриевой рождался образ роковой аристократки, Гумилев, покинув Коктебель, отправился в Люстдорф под Одессой, где проводила лето Анна Горенко, чтобы сделать ей очередное (пятое по счету) предложение и получить пятый отказ. Именно в эту встречу Анна сказала ему: «Не люблю, но считаю Вас выдающимся человеком». Николай Степанович улыбнулся и спросил: «Как Будда или Магомет?» Сравните разговор у Мережковских в начале 1907 года.
Между тем Дмитриева утверждает, что и после возвращения из Коктебеля (то есть в сентябре-ноябре 1909-го) Гумилев продолжал любить ее (не зная о ее романе с Волошиным) и несколько раз делал ей предложение. Но «я собиралась замуж за Волошина». В конце концов, получив очередной отказ,
в «Аполлоне» он остановил меня и сказал: «Я прошу Вас в последний раз: выходите за меня замуж». Я сказала: «Нет!»
Он побледнел. «Ну тогда вы узнаете меня».
Это была суббота. В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Н. С. на Башне говорил бог знает что обо мне. Я позвала Н. С. к Лидии Павловне Брюлловой, там же был и Гюнтер. Я спросила Н. С., говорил ли он это. Он повторил мне в лицо.
В волошинской «Истории…» понятие «бог знает что» раскрывается: Гумилев якобы рассказывал всем о «большом романе», который был у него с Дмитриевой, — «в самых грубых выражениях». Нет никакого сомнения, что именно Дмитриева изложила своему другу такую версию событий. Волошин был влюблен: вполне достаточное основание, чтобы принять на веру слова любимой, которая рассказывает о нанесенном ей оскорблении. Даже если знаешь по опыту, что она плохо умеет отделять свои фантазии от яви. Конечно, о разговоре в мастерской Брюлловой (и о тех оскорбительных для Дмитриевой разговорах, которые Гумилев якобы вел на Башне и в других местах) Волошин услышал не от Гюнтера: в «Истории…» он пишет, что немецкий поэт «был с Гумилевым на «ты» и, вероятно, на его стороне».
Как обстояло все на самом деле, мы уже знаем. «Принцесса Елизавета» зачем-то рассказывает Гюнтеру лживую и сентиментальную историю о себе и Гумилеве, как будто нарочно провоцируя оскорбление, а потом, чтобы объяснить случившееся в глазах окружающих (а может быть, и в своих собственных), придумывает еще одну новеллу, также отдающую бульварным романом и такую же неправдоподобную. Никаких предложений осенью 1909 года Гумилев ей, по всей вероятности, не делал, и трудно представить себе, чтобы он «из мести» сплетничал об отказавшей ему девушке.
Как раз в эти месяцы он, опять отвергнутый Анной, без особых видов на успех ухаживал за молодой художницей Надеждой Савельевной Войтинской, нарисовавшей его самый знаменитый (а возможно, и лучший) портрет. Как вспоминает Войтинская, «он проповедовал кодекс средневековой рыцарственности… Меня он всегда называл «дамой». Ни капли увлечения ни с его, ни с моей стороны, но он инсценировал поклонение и увлечение. Это была чистейшая игра». Игра не совсем безобидная: Войтинская, гуляя с Гумилевым и своей подругой в Териоках по берегу моря, «бросила что-то на лед… Вот, рыцарь, достаньте эту штуку. Лед подломился, и он попал в ледяную воду в хороших ботинках». Это происходило, вероятно, в ноябре — если не весной 1910-го, когда Гумилев уже был женихом Анны Горенко.
Гумилев позировал Надежде Савельевне днем; вечерами у Войтинских — художницы и ее родителей — бывали в гостях Зноско-Боровский, Ауслендер, Кузмин. Со слов Войтинской мы узнаем какие-то подробности о жизни Гумилева в эти месяцы: например, о «маленьком ателье», украшенном шкурами экзотических животных (где он их взял?), которое он снимал на Гороховой. В этом «ателье» он, в свою очередь, как-то заставил «даму» позировать, а сам, глядя на нее и якобы импровизируя, «слагал» стихи: «Сегодня ты придешь ко мне…» (В действительности стихотворение это было написано годом раньше и, по словам Ахматовой, посвящено Лидии Аренс.) Больше никто об этом «ателье» не упоминает, да и у самой «дамы» неувязки: видимо, спать в «ателье» Гумилев не мог; опоздав на поезд в Царское, он ночевал у Войтинских — «у папы в кабинете». Может быть (да и наверняка), «ателье», в которое «рыцарь» привел «даму», было чужим. Еще Гумилев подарил Надежде Войтинской живую ящерицу — на счастье. Ящерица — синкретическое существо: здесь интерес к зоологии, присущий поэту с детства, переплетался с мистическими интересами. Не он ли когда-то устраивал жуткий «музей», сажая ящериц на кол? Художница сделала ответный подарок — металлическую ящерку-безделушку. Перед дуэлью с Волошиным Гумилев говорил, что ящерка эта сохранит его от пули.
Николай Гумилев. Автолитография Н. С. Войтинской, 1909 год
Гумилев, которого описывает Войтинская, и похож, и не похож на себя в зрелости. С одной стороны — мальчишеское хвастовство и театральность поведения («В его репертуаре огромную роль играло самоубийство. «Вы можете потребовать, чтобы я покончил с собой» — была мелочь…»). С другой — «я не видела, чтобы он когда-нибудь рассердился. Я его дразнила, изводила… Он никогда не обижался. Он был недоступен насмешке. Приходилось переставать смеяться. Так он серьезно отвечал и спокойно». В непрезентабельном эстете вновь появилась сила и уверенность — как в последние царскосельские годы. Неуклюжий подмастерье становился мастером, знающим свое ремесло, умеющим внушать к себе уважение.
Оставалось пройти формальную инициацию. Она не заставила себя ждать.
6
Девятнадцатого ноября (на другой день после сцены у Брюлловой) члены редакции «Аполлона» и постоянные сотрудники журнала собрались в Мариинском театре, в мастерской художника-мирискусника Александра Головина, сценографа и станковиста, который должен был написать групповой портрет. Это был второй сеанс — на первом лишь обсуждалась композиция. Как вспоминал сам Головин,
при таком обилии людей трудно было расположить их так, чтобы не получилось скучной «фотографической» группы. Центральным пятном намечался пластрон И. Ф. Анненского, который был во фраке или смокинге. Его прямая, стройная фигура с гордо приподнятой головой, в высоком, тугом воротнике и старинном галстуке должна была служить как бы стержнем всей композиции; вокруг него располагались остальные, кто стоя, кто сидя. Кузмин стоял вполоборота, в позе как бы остановившегося движения…
Портрету суждено было, однако, остаться ненаписанным из-за сцены, разразившейся во время сеанса.
Волошин описывает ее так:
В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к «Орфею». Все были уже в сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел «Заклинание цветов». Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского: «Достоевский прав, звук пощечины — действительно мокрый». Гумилев отшатнулся от меня и сказал: «Ты мне за это ответишь» (мы с ним не были на «ты»). Мне хотелось сказать: «Николай Степанович, это не брудершафт». Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: «Вы поняли?» (То есть: поняли ли — за что?) Он ответил: «Понял».
То, что под пером Волошина выглядит почти водевилем, в описании Маковского напоминает грубый фарс.
Волошин казался взволнованным, не разжимал рта и только посапывал. Вдруг, поравнявшись с Гумилевым, не говоря ни слова, он размахнулся и изо всей силы ударил его по лицу могучей своей дланью. Сразу побагровела правая щека Гумилева и глаз припух. Он бросился было на обидчика с кулаками. Но его оттащили — не допускать же драки между хилым Николаем Степановичем и таким силачом, как Волошин! Да это и не могло быть ответом на тяжкое оскорбление. Вызов на поединок произошел сразу же.
Волошин собирался «дать пощечину по всем правилам дуэльного искусства», как сам Гумилев его годом раньше учил.
Странные были у молодых декадентов представления о дуэльном кодексе и «дуэльном искусстве».
Обычай дуэли восходит к рыцарским поединкам Средневековья. Дуэль в нынешнем понимании сложилась веке в XVI. В России первая документально зафиксированная дуэль относится ко временам Алексея Михайловича: дрался на шпагах знаменитый Патрик Гордон с другим служилым иноземцем. При Петре, в 1716-м, был издан свирепый «Патент о поединках», каравший смертью обоих дуэлянтов и их секундантов за один лишь выход на поле. Массовый характер дуэли приобрели начиная с екатерининского царствования. В 1791 году литератор Страхов так описывал установившиеся нравы: «Бывало, хоть чуть-чуть кто-либо кого по нечаянности зацепит шпагою или шляпою, повредит ли на голове волосочек, погнет ли на плече сукно, так милости просим в поле…» Нравы русских д’Артаньянов… При Александре I рапиру и саблю сменило огнестрельное оружие — и тут уж смертоубийства стали повальными. В России стрелялись жесточе, чем где бы то ни было в Европе: не с пятнадцати — двадцати, а с десяти, восьми, шести шагов, стрелялись «до результата», то есть до смерти. Появились «дуэлисты»-профессионалы, вроде знаменитого Толстого-американца. Самые нашумевшие поединки (кроме пушкинского и лермонтовского) относятся к александровской эпохе: «двойная дуэль» Шереметева — Завадовского — Грибоедова — Якубовича в 1817–1818 годах, поединок генералов Киселева и Мордвинова в 1823-м, ужасное взаимное убийство Чернова и Новосильцева в 1825 году, почти напрямую спровоцированное членами Северного общества накануне решительного выступления. Александр Благословенный видел в дуэлях неизбежное зло. Николай I пытался с ними бороться. Пушкина и Лермонтова это не спасло.
Впрочем, и Европа в XIX веке недосчиталась многих известных личностей, сложивших головы на поле чести, — от Эвариста Галуа до Фердинанда Лассаля. Смерть последнего — социалиста, вождя немецких рабочих! — на поединке с офицером из-за женщины особенно примечательна. Кажется, Маркс не осудил способ, которым покинул мир его друг и соперник: он и сам в студенческие годы считался виртуозом рапиры. Для парижских журналистов еще в конце XIX века дуэль была приемлемым выходом из многих щекотливых ситуаций, связанных с их профессией (см. «Милый друг» Мопассана). Аристократический обычай проник и в демократии Нового Света. В 1804 году Александр Гамильтон, внебрачный отпрыск древней шотландской фамилии, первый министр финансов США (изображен на десятидолларовой купюре), пал на поединке с вице-президентом Бэрром. Право на поединок de facto распространилось на всех образованных людей; и все же оно означало, хотя бы теоретически, признание «рыцарского» достоинства за тем, кто еще недавно был парией. Например, французские и германские офицеры-евреи в 1890-е отстаивали свою честь, систематически вызывая к барьеру замеченных в антисемитизме однополчан (в германской армии в конце концов евреям стали «отказывать в удовлетворении»), а основатель сионизма Герцль (парижский репортер!) придавал особое значение легализации в грядущем Yudenstadt поединков: для поднятия боевого духа нации.
В России во второй половине века дуэль стала редкой экзотикой вне военной среды. В 1894 году военные дуэли были — чуть ли не единственный случай в мировой практике! — фактически легализованы. Речь идет лишь о поединках между офицерами по решению суда чести полка. Механизм довольно точно описан в известной повести Куприна.
В штатской среде начало XX века тоже принесло с собой возрождение поединков. После 1905 года дуэль становится актуальным методом политической борьбы. Лидер октябристов А. И. Гучков, человек со взглядами Черчилля и темпераментом Че Гевары, который должен был бы очень Гумилеву импонировать, дрался на дуэли шесть раз, в том числе дважды — в бытность председателем Государственной думы. Представители более левых партий к дуэли относились отрицательно. Милюков, вызванный Гучковым, драться не стал. Кадет Родичев, которого вызвал на дуэль П. А. Столыпин (премьер-министр!) за употребление в речи выражения «столыпинский галстук», по решению партии принес ему извинения. Все это вызвало насмешки над кадетами, «легко относящимися к своей чести», в октябристской печати. Милюков мог доказывать, что он в качестве лидера думской оппозиции отказался от дуэли с лидером большинства и что это было чисто политическим актом. Но вне зависимости от распределения голосов в Думе бывший офицер, участник нескольких войн (в том числе Англо-бурской) Гучков стрелял гораздо лучше кабинетного ученого Милюкова, и того можно было заподозрить в малодушии. Может быть, поэтому еще один кадет, В. Д. Набоков, в ответ на оскорбление, нанесенное ему «Новым временем», счел необходимым вызвать на дуэль редактора газеты. (Эта история описана в «Других берегах» Набокова-сына.) Набоков был не менее убежденным противником дуэлей, чем Милюков и Родичев, как публицист и юрист он поломал немало копий, обличая «варварский обычай». Но чувство чести (дворянской или партийной) в данном случае оказалось сильнее убеждений. Другой кадет, О. А. Пергамент, вызвал на дуэль депутата Н. Е. Маркова (известного «Маркова Второго») и отказался выполнить решение ЦК своей партии, потребовавшего отозвать вызов. Отметим, что дворянину-черносотенцу Маркову (в отличие от немецких офицеров) не пришла в голову мысль отклонить вызов еврея Пергамента. Отчасти, возможно, потому, что Пергамент пользовался репутацией хорошего стрелка. Отказ от дуэли мог, опять-таки, быть неправильно истолкован.
«Теоретически дуэль — глупость… Ну а практически — совсем другое дело» — такой образ мысли приписал Тургенев нигилисту Базарову. Так же в начале XX века рассуждали многие либералы — и дворянин Набоков, и разночинец Пергамент.
Немедленно после «разрешения дуэлей» в 1894 году в России были переведены и изданы «Правила дуэли» Франца фон Болгара. В это же время В. Дурасов стал работать над русским дуэльным кодексом. Кодекс Дурасова появился в печати в 1908 году, как раз накануне дуэли Гумилева с Волошиным (в 1912-м вышло второе издание).
Первый пункт кодекса гласит: «Дуэль может и должна происходить только между равными». Оскорбление, объяснял автор кодекса, может быть нанесено лишь равным равному: в противном случае имеет место не оскорбление, а «нарушение прав», и удовлетворения следует искать по суду. Но что такое «равный»? Для Дурасова ответ очевиден — дворянин. Дуэль дворянина с разночинцем невозможна. Но если это было естественно для начала XIX века, когда понятие «офицер» автоматически означало потомственное дворянство, а понятие «чиновник» — дворянство личное, то в начале века XX младший офицер вполне мог иметь лишь личное (как бы не совсем полноценное) дворянство. На практике это не служило основанием для отказа от дуэли. Когда Кузмин в 1912 году, отказываясь драться с пасынком Вячеслава Иванова поручиком Сергеем Шварсалоном, сыном разночинца, сослался на «неравенство сословий», его поведение было сочтено позорным. Между прочим, в «Правилах…» фон Болгара пункта об исключительном праве дворян на поединки нет, и, как мы видим, во всех странах на дуэлях в конце века дрались и дворяне и буржуа — без всякого различия.
Оскорбления, которые могут повлечь за собой вызов на дуэль, делились на три степени. Оскорбления первой степени — «направленные против самолюбия, не затрагивающие честь». Второй степени — оскорбления против чести и достоинства, диффамация, оскорбительные жесты. Третья, высшая, степень — оскорбление действием, или попытка, или даже угроза физического оскорбления. Тяжесть оскорбления, нанесенного женщине, повышается на одну степень. Любое оскорбление, нанесенное женщиной, считается оскорблением первой степени. При взаимных оскорблениях одной и той же степени оскорбленным считается получивший оскорбление первым; при оскорблениях различных степеней оскорбленным считается получивший более тяжкое оскорбление.
Вся эта казуистика (которую мы здесь излагаем еще с сильным упрощением) имеет прямое влияние на условия поединка. В случае оскорбления первой степени оскорбленному предоставляется выбор только оружия (но без права его замены по ходу поединка — что имело место, например, в дуэли Лермонтова с де Барантом), при тяжком оскорблении оскорбленный также может выбрать между законными родами и видами дуэли (непрерывная или периодическая дуэль на шпагах или саблях либо один из шести видов дуэлей на пистолетах: на месте по команде, на месте по желанию, на месте с последовательными выстрелами, с приближением, с приближением и остановкой, с приближением по параллельным линиям). При оскорблении действием оскорбленный вправе выбрать расстояние (при дуэли на пистолетах) и драться собственным оружием (при условии, что такое право признается и за его противником). Остальные условия решаются соглашением секундантов (желательно, чтобы их было по два с каждой стороны) или жребием.
Нам особенно интересны, естественно, пункты, касающиеся оскорбления, нанесенного женщине. Право заступиться за женщину имеет либо ее близкий родственник (напомним, что Елизавета Дмитриева имела родного брата и официального жениха, — Волошин утверждает, что испрашивал у «Воли Васильева» разрешения защитить честь его невесты, и Васильев разрешение дал — хорош жених! На что он еще дал разрешение Волошину?), либо мужчина, в присутствии которого оскорбление было нанесено. Другими словами, Гумилева мог вызвать на дуэль Гюнтер. Лишь при отсутствии родственников женщина могла обратиться за заступничеством к постороннему лицу. Но Волошин не вызвал Гумилева на дуэль в ответ на оскорбление, нанесенное им даме (формально Волошину совершено посторонней), — он сам нанес ему тяжкое физическое оскорбление (третьей степени), спровоцировав ответный вызов.
В дальнейшем наши герои старались правила соблюдать, хотя неважно их знали. Слово Волошину:
Следующим, кого я встретил, был Вяч. Иванов. Он тоже был растерян и шел ко мне с протянутой рукой и расширенными глазами. «Макс, я, конечно, узнаю твой характер… Но взвесил ли ты, насколько слова г. В., сказанные о г-е Н., были правдой или выдумкой». Он явно был сбит с толку. Этот удивительно умный и тактичный человек в первый момент совершенно растерялся, не знал, какой взять тон, но, помятуя правило «Дуэльного кодекса» о том, что, обменявшись оскорблениями, сразу забывают имена друг друга и, говоря друг с другом, называют друг друга г-н А. и г-н Б., он, совершенно растерявшись, перенес это правило на частный разговор… (Подобного правила в дуэльном кодексе нет. — В. Ш.)
Я ему ответил: «Вячеслав, мне кажется, дело вовсе не в том, чтобы проверять слова Гумилева, если он говорит правду, то поведение его не облегчается, а, напротив, становится еще хуже».
Тем не менее в конечном итоге Иванов, возможно разобравшись в ситуации, а может, просто по душевному движению, стал на сторону Гумилева. Сутки перед дуэлью (и сутки после нее) Николай Степанович провел на Башне, «окруженный трагической нежностью» (Кузмин, «Дневник»). «Спокойный и уравновешенный, как всегда, но преувеличенно торжественный», он говорил с Ауслендером на отвлеченные литературные темы и ничем не выдавал беспокойства. В середине дня появился простодушный Гюнтер, невольный виновник ссоры, и сообщил, что он — «на стороне Гумилева».
Тем временем были назначены секунданты — Кузмин и Зноско-Боровский со стороны Гумилева, художник князь Шервашидзе-Чачба[66] и Толстой — со стороны Волошина. Вечером 21 ноября, за поздним обедом, они выработали условия дуэли. Гумилев желал драться с шести шагов (неизбежная смерть по крайней мере одного дуэлянта!) и по кодексу Дурасова мог настоять на своем, но секунданты очень не хотели крови. Конечные условия были такими: двадцать пять шагов (по словам Шервашидзе, Толстой и Волошин сообщают о пятнадцати шагах, газеты — о двадцати), выстрелы по команде сразу. Шервашидзе даже сделал совсем уж неподобающее ему, потомку горских властителей, предложение — заменить пули бутафорскими. Скандальную идею, конечно, отвергли. И все же (по утверждению Никиты Алексеевича Толстого) его отец тайком засыпал в пистолеты тройную порцию пороха — чтобы уменьшить отдачу. За пистолетами отправились к Борису Суворину, сыну знаменитого издателя и брату Михаила Суворина, которого вызывал впоследствии Набоков. У него оружия не оказалось; отправились к юристу А. Ф. Мейердорфу — у того пистолеты нашлись, гладкоствольные, чуть не пушкинской поры. Врача («без огласки») достали через Ауслендера — точнее, через его дядю по отцу.
Ранним утром 22 ноября Гумилев встал, помолился, позавтракал и в обществе секундантов отправился на Мойку к редакции «Аполлона», а оттуда в таксомоторе через Старую Деревню на Лахтинскую дорогу. Во второй машине ехал со своими секундантами Волошин, по пути читая им импровизированную лекцию по истории дуэлей. Северо-западная окраина — то же направление, что и Комендантская дача на Черной речке. Не забудем: редакция «Аполлона» ровно на полпути (по набережной Мойки) между кондитерской Вольфа и Беранже, откуда отправились на Черную речку Пушкин и Данзас, и домом Волконской, куда раненого поэта привезли спустя несколько часов. В ста метрах от места, которое выбрали аполлоновцы, незадолго до того состоялся нашумевший поединок Гучкова с товарищем по фракции — графом Уваровым.
Дуэль по команде проходит так (цитируем Дурасова):
Противники становятся на расстоянии от 15 до 30 шагов друг от друга, держа пистолеты вертикально дулом вниз или вверх.
По команде «раз» противники поднимают или опускают пистолеты и имеют право стрелять до команды «три».
Между командой «раз, два, три» промежуток в одну секунду.
По команде «три» противники теряют право стрелять, и секунданты обязаны прекратить дуэль.
Сопоставим с описаниями поединка Гумилева — Волошина. Описаний этих несколько, наиболее красочное, конечно, принадлежит Толстому:
Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом… Меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко…
Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он бросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, пока я выберусь, — взял пистолет, и только тут я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего, раздвинув ноги, без шапки.
Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: раз, два (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов)… три! — вскрикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот господин стрелял». В. проговорил в волнении: «У меня была осечка». — «Пускай он стреляет во второй раз, — крикнул опять Гумилев, — я требую этого…» В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Подбежал к нему. Выдернул у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало пальцы. Гумилев продолжал неподвижно стоять. «Я требую третьего выстрела», — упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям.
На сей раз Толстой точен. Свидетельства Шервашидзе и самого Волошина соответствуют его словам, внося в них лишь незначительные дополнения. Если верить Шервашидзе, Волошин, перед тем как сделать второй выстрел, «вдруг сказал, глядя на Гумилева: «Вы отказываетесь от своих слов?». Гумилев: «Нет». Волошин говорит, что «боялся, по своему неумению стрелять, попасть в Гумилева»; но, по словам Шервашидзе, он «довольно долго целился». Вячеслав Иванов (который сам свидетелем дуэли не был) утверждал, что это Гумилев «стрелял для приличия только, почти в воздух»[67], а Волошин «в упор и даже нарушив правила несколько». Нарушения правил, конечно, были, причем со всех сторон: нельзя напрямую разговаривать с противником на поле (для этого есть секунданты), предлагать противникам примирение следует прежде, чем заряжены и розданы пистолеты, а главное — в дуэли по команде осечка считается за выстрел, и Волошин не должен был поддаваться на требования Гумилева и стрелять вторично. По существу, Гумилев, как Сильвио, заставил своего противника ответить двумя выстрелами на один. Выстрел в воздух тоже, впрочем, был нарушением правил.
Полицейские Новодеревенского участка заметили дуэлянтов, записали номера таксомоторов и в тот же день допросили шоферов. На следующее утро к Шервашидзе на квартиру явился квартальный и спросил имена участников дуэли и секундантов, которые тот без запирательства назвал. Неизвестно, откуда информация попала в газеты. Ахматова обвиняла в разглашении подробностей поединка Волошина, но простая логика доказывает, что это не так. Репортеры получали сведения из полицейских источников — потому так и путали.
Дуэль «декадентов» заведомо должна была привлечь внимание прессы. Откликов было по меньшей мере шесть, причем все в двух газетах — «Биржевые ведомости» и «Русское слово».
«Биржевка» в вечернем выпуске за 23 ноября поместила статью «Две дуэли». Первая дуэль — легальный офицерский поединок: «гусар N. из полка N. приревновал жену к Иксу. Общество офицеров признало основания для дуэли достаточными». С гораздо большим сладострастием повествует газета о поединке между «модернистским критиком и поэтом М. А. Волошиным-Кириенко и художественным критиком и беллетристом Н. С. Гумилевичем (Немзером)». Откуда взялся этот «Немзер»? Утверждалось, что «дуэль проходила на пистолетах, на расстоянии двадцати шагов. Противники стреляли одновременно и после одного выстрела протянули друг другу руки».
Последнее, как мы знаем, неправда.
Главное же сообщение газеты, привлекшее всеобщее внимание, заключалось в следующем: «При осмотре места поединка в снегу была обнаружена калоша одного из участников дуэли».
Галоша принадлежала, кажется, Зноско-Боровскому. Гумилев галош почему-то принципиально не носил — полагал это немужественным или неизящным. Для фельетонистов «Биржевки» именно галоша эта стала, как нетрудно догадаться, особенно лакомым кусочком. 24 ноября там появляется фельетон Андрея Колосова (А. Е. Зорина) «Галоша»:
Жили-были два писателя, два поэта, два критика, и вдруг воспылали друг к другу ненавистью лютою, непримиримою.
Тесно им стало жить на белом свете и решили, что надо им друг друга истребить.
— Ради Бога, что вы делаете? — умоляли их друзья-приятели. — На кого вы литературу русскую оставляете? Осиротеет она, бедная. Подумать только: варварский обычай дуэли уже лишил русскую литературу Пушкина и Лермонтова, а теперь, пожалуй, останется литература русская и без Волошина и Гумилева.
Но писатели и слышать не хотели…
…Когда дым рассеялся, на снегу вместо двух поэтов осталась одна только галоша.
Говорят, что страха полицейского ради и Волошин, и Гумилев притворяются живыми и показывают вид, что с ними ничего не произошло.
Никто, конечно, такому вздору не поверит.
Разве могут остаться живыми люди, от которых осталась одна галоша.
В надгробных речах необходимо будет подчеркнуть скромность безвременно погибших писателей.
Люди, которые владеют пером, мыслью и словом, настолько скромного мнения о своих силах, что предпочитают этому своему естественному оружию глупую стрельбу из пистолетов.
Граждане великой республики слова — правда, маленькие, незаметные граждане — берут на себя чужие роли, наряжаются в доспехи чужих варварских племен и смело идут на всеобщее посмешище.
И как апофеоз, как неизменный чеховский штрих — эта старая калоша, оставленная на поле битвы.
Какой необыкновенный символизм, какой необычный стиль в этой старой галоше.
Господина Гумилева, каюсь, я совершенно не знал при жизни. Только из «Биржевки» я узнал, что был такой писатель земли русской. А теперь его имя и его память для меня нераздельно связаны с этой проклятой галошей.
На следующий день «Биржевка» поместила эпиграмму А. Измайлова:
На поединке встарь лилася кровь рекой, Иной и жизнь свою терял, коль был поплоше, На поле чести нынешний герой Теряет лишь… галоши.Над чем же смеялись фельетонисты — над «нелепой стрельбой из пистолетов» или над тем, что она обошлась без жертв?
Возрождение «феодальных предрассудков» было модернистской реакцией на достоевское бесстыдство и чеховскую беспомощность среднеинтеллигентского поведения. Пророки революционной демократии в свое время провозгласили внесословное достоинство личности, но у их паствы в крови, в детском воспитании не было традиции человеческого достоинства. Бурсацкие и мещанские корни давали о себе знать. Освободительная риторика слишком часто оборачивалась «правом на бесчестье». «Новые люди» умели противостоять государственной власти — но только ей. При столкновении с равным себе человеком они часто вели себя унизительно.
В начале XX века писатели-модернисты возомнили себя (все поголовно!) не гражданами «республики слова» (наравне с мелкими газетчиками), а аристократами духа — и стали вести себя по аристократическим канонам. И все же это была только стилизация — как цилиндр, который носил Гумилев в 1909 году, как пушкинские бакенбарды молодого Мандельштама. В лихое александровское время расстояния между барьерами были меньше, и чувствительные секунданты не прятались за докторским саквояжем. Измайлов, хороший пародист, почувствовал это. Не случайно Гумилев до смерти не простил ему этой эпиграммы. При всем своем добродушии он мог быть злопамятным.
Почувствовав, что перегнули палку, «Биржевые ведомости» в том же номере напечатали более или менее благожелательную заметку об «Аполлоне».
В «Аполлоне» нет изуверства и кликушества «Весов», но есть выверты модернизма, и та искусственная взвинченность языка… какая неприятна для людей, привыкших к честному и умному в своей простоте русскому языку… Журнал хороший и полезный, но, к сожалению, слишком для немногих.
«Галоша» тем временем продолжала жить своей жизнью, порождая апокрифы. Один из них сохранен Николаем Чуковским:
Местом дуэли выбрана была, конечно, Черная речка… Гумилев прибыл к Черной речке с секундантами и врачом в точно назначенное время… Но ждать ему пришлось долго. С Максом Волошиным случилась беда — оставив своего извозчика в Новой Деревне и пробираясь к Черной речке пешком, он потерял в глубоком снегу калошу. Без калоши он ни за что не соглашался двигаться дальше и упорно, но безуспешно искал ее вместе со своими секундантами. Гумилев, озябший, уставший ждать, пошел ему навстречу и тоже принял участие в поисках калоши.
Живучесть «галоши/калоши» связана с совершенно случайным обстоятельством — созвучностью «смешного» (и нового для той поры — промышленное производство резиновых изделий только налаживалось) слова с фамилией Волошина. Вакс Калошин — это прозвище задолго до дуэли в Старой Деревне фигурировало во многих текстах, от знаменитых стихов Саши Черного («Назовет меня Пильский дешевой бездарностью, а Вакс Калошин — разбитым горшком…») до дурацкого фельетона в «Царскосельском деле».
Калоша материализовалась на поле брани так же, как спустя три четверти века материализовался придуманный «Биржевкой» критик Немзер.
Приговор окружного суда последовал лишь в октябре 1910 года: семь дней домашнего ареста Гумилеву (как формальному инициатору поединка), одни сутки — Волошину. Едва ли дуэлянты отбывали это наказание на самом деле. Гумилев в момент вынесения приговора вообще находился в Абиссинии.
Гумми и Макс остались врагами. Время от времени им приходилось встречаться в редакциях и на заседаниях Академии стиха. Они делали вид, что незнакомы. Гумилев, по свидетельству Ахматовой, «старался вовсе не упоминать об этом человеке». Потом началась война. В 1921 году (когда Гумилев приехал в Крым с поездом адмирала Немитца) они встретились вновь. Существуют воспоминания Волошина об этой встрече:
…Я сказал: «Николай Степанович, со времени нашей дуэли произошло слишком много разных событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, подать друг другу руки». Он нечленораздельно пробормотал мне что-то в ответ, и мы пожали друг другу руки.
Я почувствовал совершенно неуместную потребность договорить то, что не было сказано в момент оскорбления: «Если я счел тогда нужным прибегнуть к такой крайней мере, как оскорбление личности, то не потому, что сомневался в правде Ваших слов, но потому, что Вы об этом сочли возможным говорить вообще». — «Но я не говорил. Вы поверили словам той сумасшедшей женщины… Впрочем… если Вы не удовлетворены, то я могу отвечать за свои слова, как тогда…»
На этом разговор прервался: Гумилева позвали. Миноносец адмирала отчаливал. Жить Николаю Степановичу оставалось полтора месяца.
Некий полковник Старов, дравшийся с молодым Пушкиным на случайной дуэли, после поединка сделал поэту комплимент: «Вы так же хорошо стоите под пулями, как пишете». Гумилев в первый раз в жизни стоял под пулями 22 ноября 1909 года. Он выдержал испытание с честью. Нет нужды, что по нему не было сделано ни одного выстрела: он не мог этого знать. У него не было оснований предполагать, что человек, который сначала отбил у него девушку, а потом при всех дал пощечину (если удар, от которого припухает глаз, можно назвать пощечиной), — что этот человек не выстрелит в него. Инициация, несмотря ни на что, состоялась.
А его противник? И для него дуэль была инициацией своего рода. «Он заступается за Черубину и хладнокровно подставляет грудь под снайперскую пулю Гумилева…» — конечно, эти слова из стихов Георгия Шенгели, посвященных памяти Волошина, наивны. Какая там «снайперская пуля» — в 1909 году. Повторим еще раз: декадент «с глазами судака» не был похож на героического гусара смерти и непререкаемого мэтра, каким стал Гумилев в зрелости. Но и не уверенный в себе эстет-увалень Волошин не походил на мудрого и бесстрашного «киммерийского царя», каким остался он в памяти культуры.
Может быть, без дуэли 1909 года оба они и не стали бы такими.
7
Перед дуэлью и после нее слово «Черубина» не было произнесено ни разу. Но через несколько дней (или — максимум — пару недель) Кузмин подошел к Гюнтеру и спросил: если он, Кузмин, публично объявит, что Черубина — Дмитриева, подтвердит ли Гюнтер его слова? Гюнтер согласился.
Так был раскрыт секрет.
Можно строить разные версии того, почему это случилось. Согласно одной, гомосексуалист Кузмин не мог быть увлечен образом испанской красавицы так же пылко, как его гетеросексуальные коллеги, и сохранял холодный рассудок. Но неужто все так уж сразу потеряли голову? Можно предположить другое: Гумилев (как и велит кодекс Дурасова) рассказал своему секунданту «всю правду» о предшествовавшей оскорблению истории. Но и это маловероятно: Ауслендер, очень близкий к Кузмину человек, о том, что дуэль вообще имела какое-то отношение к Черубине, узнал лишь годы спустя.
Не разумнее ли предположить, что Кузмин просто объявил вслух то, что уже знали все или почти все?
Как раз для Маковского известие стало откровением, но он галантно скрыл это. Посетив Дмитриеву (по другим сведениям, пригласив ее в редакцию), он объявил ей, что «давно обо всем знал», но «хотел дать Вам возможность дописать Вашу красивую поэму».
В конечном итоге Дмитриева должна была радоваться. Ведь не вечно же ей было жить под маской! Все шло так, как было задумано. Молодой поэтессе удалось привлечь внимание к себе. В 1910 году ее дважды печатают в «Аполлоне» — один раз в качестве «Черубины» (13 стихотворений) и один раз под собственным именем. Скромная учительница становится знаменитостью. В начале 1910-го некая Марина Цветаева, 17-летняя поэтесса из Москвы, присылает ей свои стихи с восторженным письмом.
Но почему-то на душе у Лили неспокойно. Она по-прежнему мечется: весной 1910-го прерывает роман с Волошиным, а в следующем году выходит замуж за Васильева — и исчезает с горизонта на несколько лет. Ее литературная карьера прерывается так же стремительно, как и началась. Оказалось, что без маски она просто не в состоянии реализовать себя. Все, написанное ею в стихах под собственным именем, довольно посредственно. В том числе и стихотворения, посвященные Гумилеву, в которых она пытается через годы довыяснить запутанные отношения. Определенный вклад в русскую литературу Елизавета Васильева внесла как автор пьес для детей. Одно ее произведение, написанный в соавторстве с Маршаком «Кошкин дом», даже стало классическим. Само собой, она продолжала заниматься теософией, в советские времена пострадала из-за этого и закончила свои дни в 1928 году в ташкентской ссылке, сорока одного года от роду.
По словам Ахматовой, «в русской поэзии открылась тайная женская вакансия — Елизавета Ивановна почувствовала это и устремилась туда…». Скажем иначе: русская поэзия ждала Императрицу — не скромную Элизабет Браунинг или Каролину Павлову, а женщину, способную стать центральной фигурой эпохи и соперницей лучших из мужчин. Пришли сразу две Императрицы — и обоим досталось по трону. Но Дмитриева была, как оказалось, всего лишь бедной самозванкой, княжной Таракановой.
Редакцию «Аполлона» подстерегала другая утрата — несравненно более тяжкая для русской поэзии. Иннокентий Федорович Анненский отреагировал на физическое оскорбление своего ученика и молодого друга как на разбитую соусницу — изящным афоризмом, призванным снять неловкость, но в данной конкретной ситуации звучавшим вполне макабрически. Он, вероятно, чувствовал в глубине души, что ему уже можно вести себя таким образом. В самом деле, с человека, которому осталось жить одиннадцать дней, спрос другой. Страсти и обиды тех, кому предстоит жить, для него уже чужды и мелки. «Обиды кукол»…
30 ноября 1909 года Анненский уезжает в столицу из Царского, забыв взять сердечное лекарство. Несколько лекций, несколько заседаний (в Учебном комитете, в Обществе классической филологии) — напряженный рабочий день. Вечером, почувствовав себя скверно, он вместо Высших женских курсов Раева, где его ждут на студенческой вечеринке, идет на Царскосельский (Витебский) вокзал, чтобы ехать домой — и падает без чувств на ступеньки. Этой же ночью его сердце перестает биться.
Спустя несколько месяцев лучшие русские читатели прочтут «Кипарисовый ларец» — и узнают, кого они потеряли.
Попытки связать смерть Анненского, историю Черубины и дуэль предпринимаются давно — по инициативе Ахматовой. Вот как выглядит история в ее изложении (переданном Л. К. Чуковской):
Брюсов отверг его (Анненского. — В. Ш.) стихи в «Весах», а Маковский решил напечатать их в № 1 «Аполлона», он очень хвалил эти стихи, вообще выдвигал Анненского в противовес символистам. Анненский всей игры не понимал, но был счастлив… А тут Макс и Васильева придумали Черубину де Габриак, она начала писать Маковскому надушенные письма, представляясь испанкой и пр. Маковский и напечатал в № 1 вместо Анненского — Черубину.
Это и фактически неверно (в первом номере как раз стихи Анненского были), и по существу. Пытаясь представить всю историю (включая и дуэль) как начальную стадию борьбы символизма с акмеизмом (и его предшественником Анненским), Ахматова проецирует на эпоху, предшествовавшую ее вхождению в литературу, конфликты 1911–1913 годов. Если даже воспринимать все происходившее в сентябре — ноябре 1909-го как «борьбу за «Аполлон», в этой борьбе невозможно сколько-нибудь четко обозначить стороны, и тем более — приписать им какие-то определенные идеи. Башня, оплот символизма, в дни дуэли была всецело на стороне Гумилева. Анненский вместе с другими принял участие в прославлении Черубины, а во время дуэли подчеркнуто самоустранился. Наконец, именно Волошин способствовал выходу в «Грифе» «Кипарисового ларца».
Нет никаких свидетельств сколько-нибудь проявленного расхождения между Вячеславом Ивановым и Волошиным — с одной стороны, и Анненским — с другой. В Гумилеве Волошина, видимо, многое изначально раздражало просто по-человечески: например, по-юношески бескомпромиссная, невзирая на дружбу и «духовную общность», эстетическая требовательность. Для Гумми всегда существовала строгая, а может быть, и чрез меру жесткая иерархия поэтических имен, а сам он смолоду носил в ранце маршальский жезл. Волошину это казалось «литературным карьеризмом», в насаждении последнего он и обвинял Гумилева в письме к А. М. Петровой вскоре после дуэли. Дмитриева тоже говорит о присущем Гумилеву «недоброжелательном отношении к чужим стихам». Конечно, это несправедливо. В русской поэзии было мало людей, более внимательных к чужому творчеству, чем Гумилев. Но он был и взыскателен, а это не всем нравится.
Гумилев в момент смерти Анненского уже был далеко от Петербурга.
24 ноября у него в Царском Селе состоялась прощальная вечеринка (были Кривич, Кузмин, Зноско-Боровский и др.), а 26 ноября он выехал в Киев — вместе с Потемкиным, Толстым и Кузминым. Местный поэт Владимир Эльснер пригласил их принять участие в вечере «Остров Искусств». Эльснер пользовался репутацией двусмысленной. В 1909 году он составил «Чтеца-декламатора», где напечатал без согласия авторов стихи ряда столичных знаменитостей — а среди них и свои. Блок раздраженно называл его «выездным лакеем из Киева». Писал он в добротном брюсовском духе. Не в пример талантливее был его друг, студент Университета святого Владимира Бенедикт Лившиц, с которым Гумилев в этот приезд познакомился. Прежде Лившиц печатался в «Острове», а его первая книга «Флейта Марсия», выдержанная в символистском духе, была Гумилевым положительно оценена. Позднее литературная биография развела их — Лившиц стал футуристом; но в какой-то момент их имена оказываются рядом: Гумилев и Лившиц одновременно, осенью 1914 года, ушли добровольцами на фронт — и ни один сколько-нибудь заметный русский поэт, кроме них, не оказался с оружием в руках в окопах Первой мировой. Среди других его встреч две дамы — Александра Экстер, молодая художница, впоследствии видная авангардистка, и Ольга Форш, прозаик, спустя двадцать лет запечатлевшая Гумилева в своем самом известном романе — «Сумасшедший корабль».
Но литературная жизнь на сей раз была заслонена для Гумилева другими событиями.
На вечер «Острова Искусств» пришли Андрей и Анна Горенко. Гумилев пригласил Анну выпить чашку кофе в гостинице «Европейская», очередной раз сделал ей предложение… И немедленно получил согласие.
Видимо, что-то круто и неожиданно изменилось в его судьбе.
Между тем в Киеве он был лишь проездом. Путь его пролегал дальше. Как год назад, он собирался отправиться в Одессу, а оттуда пароходом — в Африку. Только не в Египет, а в настоящую, черную Африку.
30 ноября, в день смерти Анненского, Гумилев сел на поезд и отправился в Одессу.
Глава шестая Сладкий воздух
1
Для Гумилева путешествия — перемещения в пространстве — всегда были одной из главных форм самовыражения и (с другой стороны) психотерапевтии. Видимо, это было просто психофизиологическое свойство: есть люди, у которых «номадизм» в крови. Загадочные и манящие «страны, куда не ступала людская нога», для них — в пространстве, а не в прошлом или грядущем времени и не в собственном сознании.
Но на рубеже первого и второго десятилетий века Гумилев был окружен людьми, для которых каждое внутреннее и внешнее движение должно было как-то философски или мистически обосновываться.
Отсюда — тот довольно загадочный комплекс идей, который Гумилев называл «геософией» (как вариант «теософии» и альтернативу «антропософии»?) и который поспешил в 1909 году провозгласить, но не озаботился отчетливее сформулировать.
О задуманном Гумилевым «геософском обществе» мы знаем, в частности, из письма Веры Шварсалон к брату. Из ее же полемического стихотворения («в шутливом обороте и без претензий на стихосложение»), обращенного к Гумилеву, мы можем судить (хотя бы гадательно) о сути их споров в последние месяцы 1909 года:
Мой друг поэт! ты ищешь «чудо» Чрез «пустоту», Мое же чудо, знаю верно, Там — наверху. Идти к нему мне не «скачками» Судьба велит В короткой юбке и с очками Английской мисс[68] Сжимать скалу гвоздем сапожным[69] И твердо лезть — Вот мой удел. И где же место Здесь «пустоте»?..Видимо, каждое из выделенных слов содержит отсылку к неизвестным нам текстам (или словам) Гумилева. И все же нам кажется, вопреки мнению Н. А. Богомолова, впервые опубликовавшего это стихотворение (в своей статье «Гумилев и оккультизм», в книге «Русская литература начала XX века и оккультизм». М.: НЛО, 1999), что хотя бы в известной мере оно поддается интерпретации. Видимо, Гумилев говорил Вере и ее отчиму о постоянном передвижении в горизонтальном пространстве, в «пустоте», как средстве обретения «чуда». Естественно, хозяева Башни противопоставляли этому традиционную для христианской цивилизации вертикально ориентированную картину мира[70].
Споры носили не только теоретический характер. Гумилев настойчиво убеждал Веру и Вячеслава отправиться в Африку вместе с ним — и был не так далек от успеха. 3 января 1910 года Иванов писал Брюсову: «Чуть не уехал с Гумилевым в Африку. Но был болен, оцеплен делами — и беден, очень беден деньгами». Судя по письмам с дороги, Гумилев, уже отправившись в путь, продолжал ожидать, что Иванов поедет вслед за ним и соединится с ним в Египте.
В Африку звал Гумилев и Анну Горенко во время объяснения в Люстдорфе в июле.
Скорее всего, интерес к Черному континенту возник у Гумилева еще в детстве (под влиянием книжек о географических путешествиях) и укрепился позднее, в парижский период. В «Романтических цветах» есть по меньшей мере три стихотворения, связанных с африканскими сюжетами: «Жираф», «Озеро Чад» и «Невеста льва».
Эфиопия была наиболее известной европейцам африканской страной, и со времен Геродота о ней ходили красочные легенды. До Гумилева легенды эти могли дойти через оккультную литературу. В фантастическом мире Блаватской, Папюса и пр. эфиопам и «кушитам», живущим «вверх по Нилу», приписывается важное значение как непосредственным преемникам (и антиподам) атлантов и предшественникам белой расы.
Но были и другие причины, которые могли вызвать в 1909 году у молодого русского поэта интерес к Эфиопии (Абиссинии, по общепринятой тогдашней терминологии).
Чтобы понять их, необходимо сказать несколько слов об истории этой весьма необычной страны.
Историческая Эфиопия (включающая ныне территории трех независимых государств — Эфиопии, Джибути и Эритреи) расположена на Африканском Роге (который большинство антропологов считают родиной вида homo sapiens) недалеко от экватора; но благодаря горному ландшафту климат в этой стране не так жарок, как в соседних областях Аравии. Эфиопское нагорье — Вайна-Дега — один из древнейших центров земледелия. В этом качестве Абиссиния привлекла внимание Николая Вавилова, посетившего ее в 1920-е годы в ходе одной из своих экспедиций. Среди культур, которые выращивали эфиопские крестьяне, — бананы, финиковая пальма, дурро, пшеница и, конечно, кофе. Эфиопия — историческая родина этого благороднейшего напитка. Как и везде в Африке, главное домашнее животное в Эфиопии — корова; здешние коровы — длиннорогие и (в отличие от тех, что разводят несколько южнее, в нынешних Танзании и Кении) безгорбые. Позднее на Африканский Рог были завезены индийские буйволы — зебу.
Современные эфиопы, темнокожие горбоносые люди, — потомки древних коренных жителей страны, кушитов, и сабейцев, переселившихся сюда около 500 года до н. э. с той стороны Баб-эль-Мандебского пролива, из Южной Аравии, примерно из тех мест, где века за четыре до этого правила со славой царица Савская, легендарная супруга царя Соломона. Сабейцы (семитский народ) принесли свой язык, который, пройдя известную эволюцию, лег в основу геэза («языка свободных»), вплоть до XIX столетия остававшегося главным языком эфиопской письменности. К семитской группе относятся и некоторые живые эфиопские языки, в том числе самый распространенный из них — амхарский. Когда в 343 году (одной из первых!) Эфиопия крестилась, правители ее сочинили себе почетную, по христианским представлениям, родословную, восходящую к Соломону и царице-южанке. Встреча Соломона с царицей Савской — один из главных сюжетов эфиопской иконописи. В эфиопской церкви в Иерусалиме в наши дни можно видеть одну такую икону: царь Соломон и его приближенные-израильтяне изображены в рыцарских доспехах… и с пейсами.
Первое государство в Эфиопии (в северной части страны, на плато Тигре) существовало еще V–IV веках до н. э. К III–VII векам н. э. относится расцвет Аксумского Царства. Потом страна пережила несколько периодов раздробленности; собственно название Эфиопия (заимствованное из Библии) возникло в XIII веке, с восстановлением «Соломоновой династии». Как восточнохристианская страна, далекая Эфиопия принадлежит одному ареалу, одному «сверхнароду» с Россией. Ее церковь до 1959 года относилась к Александрийскому патриархату, а духовная литература переведена с коптского и сирийского языков. Не случайно Гумилев называл Эфиопию «младшей сестрой Византии». Хотя, может быть, больше общего у древней, но скромной Эфиопии не со Вторым или Третьим Римом, а с Грузией, в которой Гумилев провел три года в юности: издавна христианская (православная) многоплеменная гористая страна, задержавшаяся в Средневековье (не забудем, кстати, что и грузинские цари так же, как абиссинские, возводили свой род к царям Израиля)[71].
Впрочем, как раз с православием в случае Эфиопии есть сложности. Формально эфиопская церковь относится к «древним восточным дохалкидонским[72] церквам». Но в IV веке страна была лишь частично христианизирована. Начиная с VI века страна эта испытывала сильнейшее влияние монофизитов (отрицающих или принижающих человеческую природу Христа). Именно в монофизитской трактовке христианство распространилось среди широких слоев населения. Однако эфиопское монофизитство — довольно умеренное, в нем есть различные течения, и некоторые из них близки к каноническому православию. Подобно русским и в отличие от византийцев, эфиопы всегда были довольно веротерпимы. Сложность религиозной жизни Рога усиливалась соседством этнически близких мусульманских народностей, не говоря уж о фалашах, эфиопских иудеях (или, скорее, «иудействующих» — наподобие русских субботников).
В XVII веке Эфиопия была в очередной раз объединена; центром ее стал Гондар. В дни Гумилева об эпохе процветания этой столицы вспоминали как о прекрасных былых днях; эти сетования, романтически украшенные, отразились и в стихах Гумилева. Вот как выглядит гондарская эпоха в его описании:
Под платанами спорил о Боге ученый, Вдруг пленяя толпу сладкозвучным стихом, Живописцы писали царя Соломона Меж царицею Савской и ласковым львом.К середине XIX века, однако, страна разделилась на полунезависимые княжества, а власть негуса негести, верховного правителя, стала номинальной. В 1855 году появился сильный и решительный объединитель — Феодор (Теодрис) II, прежде — Лидж Каса Хайлю. Имя было избрано им не случайно: приход царя-избавителя Феодора был предсказан в одном из апокрифов, имевших хождение в Эфиопии. Феодор не был соломонидом. И тем не менее ему удалось объединить под своей властью и Бегондар, и Тигре, и Шоа, и современную Эритрею.
Феодор запретил работорговлю (первая отмена работорговли в Эфиопии — в общей сложности это пришлось делать не менее пяти раз, и каждый следующий реформатор ставил освобождение рабов себе в заслугу… Впрочем, рабство носило в Абиссинии, стране патриархальной, «домашний» характер, и обращение с рабами не было особенно жестоким). Он реформировал армию и довел ее численность до 150 тысяч человек. Он пригласил мастеров из Европы и наладил в Эфиопии производство ружей. Он завел артиллерию и даже пытался построить флот (на озере Тан). Но судьба не благоприятствовала ему — а может быть, в какой-то момент негусу негести изменило чувство реальности. Недовольный тем, что Англия отказалась продать ему оружие, он арестовал британского консула. В 1860-е годы это было примерно то же самое, что сейчас — арестовать консула американского, и чревато такими же последствиями. Если учесть, что к тому времени собственный народ, утомленный поборами, разлюбил Феодора, а феодальные правители по горло сыты были самоуправством этого выскочки, что армия стала разбегаться и в итоге уменьшилась в десять раз, — непонятно, на что он рассчитывал. Феодору пришлось наблюдать, как по дороге, которую в считаные дни построили через горные перевалы его солдаты, наступают победоносные англичане. Осажденный в одной из крепостей с жалкими остатками войск, он принял все условия, согласился отпустить консула и всех пленных, но «солдаты королевы» не сняли осады. Тогда Феодор распустил войско. Некоторое время он с кучкой верных ему людей сражался против штурмующих крепость британцев, а под конец застрелился.
Такова была судьба первого из трех эфиопских царей-реформаторов. Два других (в правление первого из них Гумилев прибыл в Абиссинию, со вторым встретился лично) правили дольше и успешнее, но финал жизни обоих был горек. История «догоняющих цивилизаций» драматична — нам это известно не понаслышке. Эфиопия как будто застыла в X или XII столетии — споры схоластов, княжеские свары… Разумеется, общественный строй был не совсем сходен с «классическим феодализмом»; сеньориально-вассальной лестницы не было, земля в центральной части страны была императорской собственностью, отличившиеся простолюдины поднимались к самым вершинам власти. Закрепощение крестьян во многих провинциях лишь начиналось. Абиссинцы жили, как их предки, в круглых домах без перегородок, крытых бамбуком, под одной крышей со скотом, в будни питались черными блинами и гороховой похлебкой, по праздникам лакомились сырым мясом, одевались в белые штаны и матерчатую накидку — шамму. Разница между бедняками и богачами была невелика. Соприкосновение с Европой должно было положить конец этому убогому, но самодостаточному быту.
После тигрейца Иоанна IV, пытавшегося восстановить древние порядки и погибшего в походе против возникшего в Судане воинственного мусульманского государства Махди, императором стал представитель Шоанского дома Менелик II. Менеликом I был самый первый, сугубо легендарный правитель Эфиопии, — сын царя Соломона и царицы Савской. Новый император перенес столицу в свой удел — в Аддис-Абебу.
Абиссинцы в стихах Гумилева так описывают новые порядки:
В Шоа воины хитры, жестоки и грубы, Курят трубки и пьют опьяняющий тэдш, Любят слушать одни барабаны и трубы, Мазать маслом ружье да оттачивать меч. Харраритов, галла, сомали, данакилей, Людоедов и карликов в чаще лесов Своему Менелику они покорили, Устелили дворец его шкурами львов.Интересы объединенной Менеликом Абиссинии столкнулись с колониальными амбициями европейских держав. В 1894 году началась двухлетняя война с Италией (ранее захватившей Эритрею и часть Сомали и нацелившейся на весь Рог) — для Менелика успешная. Завоевать Эфиопию итальянцам удалось лишь при Муссолини — и ненадолго.
Войны требовали оружия — и его ввозилось в страну все больше. Список же экспортируемых Эфиопией товаров частью напоминал волшебную сказку: золото, слоновая кость, мускус… (Из менее романтических продуктов — кофе, хлопок и кожа.) В 1889-м, в год воцарения Менелика, один французский коммерсант, возглавлявший факторию в Харраре, уже девять лет проведший на африканском континенте и уставший от бесперспективной торговли хлопком и кожами, затеял крупную спекуляцию: попытался продать императору партию устаревших французских ружей. Увы, сделка сорвалась: Менелик только что приобрел партию более нового оружия на заводах Круппа. Этот ничтожный эпизод не стоил бы упоминания, если бы не имя незадачливого предпринимателя. Его звали Артюр Рембо. Когда-то, отправляясь на Черный континент, он мечтал: «Я вернусь с железными мускулами, с темной кожей и яростными глазами… Женщины заботятся о свирепых калеках, возвращающихся из тропических стран». Но африканская эпопея автора «Пьяного корабля» была, судя по всему, довольно прозаичной и даже тоскливой. Никто из его харрарских знакомых, видимо, не догадывался о его прошлом.
Эфиопия нуждалась не только в оружии, но и в союзниках. И тут кстати оказалась Российская империя, никогда не имевшая африканских колоний, но (вслед за западными соседями) начинавшая приглядываться и к этому континенту. Разумеется, русский империализм был, как всегда, изначально идеалистическим и основывался на идее помощи православным братьям. (В прямой зависимости от практических намерений МИДа Эфиопия описывалась русскими наблюдателями то как православная, то как монофизитская страна.)
Менелик II. Портрет работы Е. В. Сенигова
Впервые русская духовная миссия достигла эфиопской земли в 1847 году. Первая попытка русской колонизации Эфиопии относилась еще к 1888 году. Некто Николай Иванович Ашинов, терский казак, вместе с архимандритом Паисием основал колонию «Московская станица» близ Джибути. В романе Юрия Давыдова «Судьба Усольцева» Ашинов описывается социальным утопистом-народником; для такой трактовки, кажется, нет оснований. Целью Ашинова был контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Его формально приватное предприятие было тайно поддержано правительством, но, когда станица пала, обстрелянная с моря французским крейсером, никто за Ашинова не заступился. Спустя несколько месяцев товарищ министра иностранных дел Ламздорф писал в своем дневнике:
Государь очень обозлен против Ашинова… Капитан Пташинский с «Нижнего Новгорода», встретивший эту банду в Порт-Саиде, доносит: Ашинов играет в рулетку и сорит золотом, большинство его товарищей шатаются оборванные, пьяные по улицам и по кабакам…
Гумилев в «Африканском дневнике» упоминает (не называя имени Ашинова) об «искателе приключений, который почти приобрел эти земли для России». Вероятно, эта характеристика справедлива. Впрочем, в комментарии к трехтомному собранию сочинений[73] эта фраза отнесена к полковнику Л. К. Артамонову. Этот офицер, в 1897 году «добравшись на фелуке из Джибути в Обок… вступил в переговоры с султаном Рахэйты, который пожелал перейти в русское подданство». Но Артамонова, кадрового офицера, участника и историка туркестанских походов, много сделавшего и для изучения Африки, нельзя назвать «искателем приключений». Да и история его поездки в Обок в предисловии к книге Артамонова «Через Эфиопию к берегам Белого Нила» (на которое ссылается комментатор) трактуется несколько иначе. У Артамонова не было планов присоединения берегов Красного моря к Российской империи.
Александр Булатович, 1902 год
Если захват Эфиопии оказался для России непосильным, включение этой страны в свою сферу влияния представлялось еще вполне возможным. Россия оказала Эфиопии помощь в ходе войны с итальянцами; в 1896 году в Аддис-Абебу прибыла русская санитарная миссия, основавшая в столице госпиталь. Годом позже между странами были установлены официальные дипломатические отношения. В эскорте посланника Власова в Аддис-Абебу прибыло несколько молодых офицеров. Один из них, Петр Николаевич Краснов, известен как генерал Добровольческой армии и как литератор. Другой, Александр Ксаверьевич Булатович, заслуживает едва ли не большего интереса.
Историческая память — вещь парадоксальная; так случилось, что одному из крупнейших русских исследователей Африки суждено было остаться в сознании большинства «гусаром-схимником Алексеем Булановым» из «Двенадцати стульев» — тем, что сражался с итальянцами в войсках негуса Менелика, крутил роман с «княгиней Белорусско-Балтийской», привез из Африки черного лакея Васю, а потом ушел в монахи и спасал душу, пока не потерпел поражения в сражении с клопами, повадившимися терзать его бренную плоть. Финал вставной новеллы пародирует «Отца Сергия», но сюжетная основа реальна. Александр Булатович действительно стал иеромонахом отцом Антонием. Ильф и Петров узнали о его судьбе из первого номера журнала «Искры» за 1913 год. Там были напечатаны и фотографии Булатовича. Одна из них — с Васькой, только не лакеем, а усыновленным эфиопским мальчиком-инвалидом (вот пример того, как деформируется реальность в сознании и под пером смешливого современника). Булатович участвовал в военных экспедициях Менелика и в своих книгах выступал горячим апологетом завоевательной политики абиссинских правителей, противопоставляя ее европейской колонизации. По его словам, абиссинцы —
древняя культурная нация, только отставшая в своем развитии… Для абиссинцев египетская, арабская и, наконец, европейская цивилизация, которую они мало-помалу перенимали, не была пагубной: заимствуя плоды ее, в свою очередь побеждая и присоединяя соседние племена и передавая им свою культуру, Абиссиния не стерла их с лица земли, не уничтожила самобытность ни одного из них, но всем дала возможность сохранить свои индивидуальные черты («С войсками Менелика II»).
Булатович первым пересек с севера на юг Каффу (провинцию, от названия которой происходит слово «кофе»), он описал новоприсоединенные провинции, населенные народом галла (оромо)… «Вдыхал он воздух сладкий белому неведомой страны» — эти гордые слова скорее могут быть отнесены к нему, чем к самому Гумилеву. В его книгах, написанных до пострижения, по-средневековому цельная библейская картина мира (Булатович пытается проследить родословную эфиопского народа начиная от Хама и Сима и, конечно, не подвергает сомнению происхождение правителей этой страны от Соломона и царицы Савской) сочетается с деловой обстоятельностью и достоверностью при описании хозяйства, быта и нравов Абиссинии. Последний раз он побывал там, уже будучи монахом, в 1911 году. На сей раз он отправился в Африку с духовной миссией, соскучившись по Ваське (мальчик в монастыре не прижился, и его пришлось отправить на родину) и втайне мечтая исцелить своими молитвами престарелого Менелика, уже два года лежавшего в параличе. В порядке редчайшего исключения он и впрямь был допущен к негусу негести, но помочь ему не смог. С Гумилевым он разминулся, как указывает А. Давидсон, на три месяца. Желчная Анна Васильевна Чемерзина, супруга посла (о ней и ее письмах — несколько ниже), так характеризует его: «Властолюбивая, эгоистичная и лишенная какой-либо деликатности <натура>… Верит в чертей, во всякую нечисть, в силу колдовства и заговоров, и во все это верит так же глубоко, как в символ веры православной». Финал биографии гусара-схимника был куда печальнее, чем это описывает своим попутчикам «сын турецко-подданного»: Булатович был лишен сана за поддержку монахов-имябожцев (воспетых Мандельштамом: «И поныне на Афоне древо чудное растет…»), в нищете и болезнях мыкался в революционные годы и был убит в 1919 году в родной усадьбе некими бандитами.
Булатович был не единственным русским исследователем Эфиопии. В 1898-м уже упомянутый Артамонов совершил путешествие в западные области Эфиопии, на границу Судана, в это же время В. П. Щусев исследовал течение Голубого Нила, а пять лет спустя Н. Курманов пересек страну с востока на запад. Впрочем, в дни Менелика Эфиопию наводнили выходцы из самых разных европейских стран — торговцы, ученые, авантюристы. Особенно много было французов и греков. Если Феодор был эфиопским Борисом Годуновым, то Менелик напоминал Петра Великого — только без его свирепости. Любопытство негуса не знало пределов. Не считаясь с этикетом, он общался накоротке с заморскими гостями, ассистировал врачам во время операций, часами пропадал в большом автомобильном гараже, устроенном у главного дворцового входа, беседуя с механиками. По словам первого русского посла П. М. Власова, «моторы, турбины, кинематографы, ружья, фотография, электрическое освещение — ничто не ускользало от внимания Менелика». Сорок юношей из хороших семей Менелик, точь-в-точь как Петр, послал учиться за море, в том числе и в Россию. Благодаря любви негуса к технике европейские новшества проникали в его отсталую страну. В 1894 году началось строительство железной дороги Джибути — Аддис-Абеба. Всерьез обсуждался проект устройства в столице трамвайной линии. В 1901 году в Аддис-Абебе появился телеграф, год спустя — телефон. Реформы государственного управления носили характер скорее косметический. Так, в 1907 году были введены европейские названия для высших государственных должностей. Старые названия употреблялись наравне с ними, и в результате сановника титуловали так: «военный министр фитоорари Абто Георгис», «государственный секретарь аляка Габроселяси», «министр финансов бальджерон Мулигата».
Чтобы стимулировать развитие экономики, Менелик раздавал бедным иностранцам (европейцам и индусам), желающим натурализоваться в стране и заниматься сельским хозяйством, ссуды под небольшой процент; его примерам следовали абиссинские аристократы. Другими словами, Абиссиния в то время являла собой редчайший пример независимой, открытой и более или менее успешно развивающейся неевропейской страны.
Медовый месяц русско-эфиопских отношений приходился на 1895–1904 годы. Согласно регламенту, принятому в 1902-м, штат посольства был определен в пятнадцать человек (не считая обслуги), во главе с министром-резидентом, действительным статским советником. Но два года спустя России, увязшей в войне с Японией, а потом в революции, стало не до африканских проектов. Обсуждался даже вопрос о закрытии дипломатического представительства в Аддис-Абебе. В конце концов было принято соломоново решение (что в данном случае звучит как каламбур): миссию сохранили, сократив ее состав. Министр иностранных дел Извольский писал в 1906-м в записке на высочайшее имя:
После пережитых Россией событий сокращение поля деятельности Императорского правительства в сфере международных отношений истолковано было бы в неблагоприятном для России смысле, как признак умаления роли России как великой державы…
Но и независимо от этой общей мысли сохранение миссии представляется весьма желательным. Хотя Россия и не имеет прямых политических и торговых интересов в Абиссинии, тем не менее миссия в этой стране представляет значение, как надлежащий пост, позволяющий следить за соперничеством скрещивающихся там важных политических интересов.
Тем не менее долгое время в Аддис-Абебе не было ни одного русского дипломата, а обязанности главы миссии исполнял врач Н. И. Кохановский. Однако интерес к «младшей сестре Византии» не угас вовсе. Так, в 1908-м в Петербурге прошла выставка, посвященная «стране черных христиан».
В любом случае Гумилев не мог не слышать в юности об Абиссинии и помимо своих оккультных штудий. Не забудем к тому же, что именно эта страна считалась в то время родиной Ибрагима Ганнибала. Хотя Гумилев нигде об этом не упоминает — он не мог не держать этого в уме. В действительности же, как ныне установлено, черный пращур Пушкина родился близ озера Чад, где изысканный бродит жираф[74].
2
Итак, 1 декабря 1909 года Гумилев прибыл в Одессу.
Дальше — уже проделанный однажды путь морем. Варна (3 декабря) — Константинополь (5 декабря) — Александрия (8–9 декабря) — Каир (12 декабря)[75]. Можно представить себе этот постепенный путь из русской зимы через дождливое декабрьское черноморье к египетскому вечному лету. По пути Гумилев «высаживался в Пирее, был в Акрополе и молился Афине Палладе». Таким образом, путь поэта пролегал через Афины.
С дороги он пишет Вячеславу Иванову (из Одессы) и Брюсову (из Варны). Без сомнения, он пишет и Анне Горенко, но, как мы уже упоминали, переписка Ахматовой и Гумилева до лета 1910 года была ими уничтожена. Из Каира он пишет Вере Шварсалон:
Здесь очень хорошо. Каждый вечер кажется, что я или вижу сон, или, наоборот, проснулся в своей родине. В Каире, вблизи моего отеля, есть сад, устроенный на английский лад, с искусственными горами, гротами, мостами из цельных деревьев. Вечером там почти никого нет, и светит большая бледно-голубая луна.
Имеется в виду все тот же сад Эзбекие; любопытно сравнить описание этого места в стихах и в эпистолярной прозе. Любопытно, что тут же вновь возникает (хотя бы и в ироническом ключе) тема самоубийства:
Но каждый день мне приходит в голову ужасная мысль, которую я, конечно, не приведу в исполнение, — это отправиться в Александрию и там не утопиться подобно Антиною, а просто сесть на корабль, идущий в Одессу. Я чувствую себя очень одиноким, и до сих пор мне не предоставлялось ни одного случая выпрямиться во весь рост (это не самомнение, а просто оборот речи). Но сегодня я не смогу вытерпеть и отправлюсь на охоту. Часа два железной дороги, и я буду на границе Сахары, где водятся гиены. Я знаю, что это дурно с моей стороны. Я сижу в Каире, чтобы кончить статью для «Аполлона» — как она меня мучит, если бы Вы знали, — денег у меня мало. Но лучше я буду работать в Абиссинии, там, кстати, строится железная дорога от Харрара до Аддис-Абебы, и нужны руки, и лучше пусть меня проклянет за ожидание Маковский.
Статья для «Аполлона» — это скорее, как указывает Р. Д. Тименчик, рецензия на «Первую книгу рассказов» Кузмина (и тогда так кстати упоминание об Александрии и Антиное!), а не очередное «Письмо о русской поэзии» (как считает Лукницкая). Рецензия на Кузмина напечатана в майском номере журнала, а «Письмо» — лишь в июльском. Так загодя заказные материалы для журналов не готовят даже при нынешних черепашьих темпах редакционной работы, а уж в 1909 году тем более. Намерение зарабатывать на жизнь на строительстве железной дороги в тропиках — со стороны молодого человека, никогда не занимавшегося никаким физическим трудом, да и вообще никаким трудом, кроме литературного, — выглядит бравадой. Позднее Чуковский поражался скромному бюджету путешествий Гумилева; он и впрямь был достаточно экономен — но до весны 1910 года, когда после смерти отца он сам смог распоряжаться наследственным состоянием, даже эти ограниченные средства изыскивались непросто. В данном случае, видимо, переведенный по почте аполлоновский гонорар выручил поэта — и он, хоть и с опозданием, отправляется через Порт-Саид и Джедду в Джибути. По Лукницкому, в Джибути Гумилев провел два дня, с 22 по 24 декабря. Но, вероятно, эта датировка ошибочна, так как еще 6 января 1910 года Гумилев пишет из Джибути Вячеславу Иванову:
Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны… Приветствую отсюда Академию стиха… Передайте, пожалуйста, Вере Константиновне, что я все время помню о теософии, и Михаилу Алексеевичу, что я тщетно ищу для него галстук. Здесь их не носят.
Самому Михаилу Алексеевичу (Кузмину) Гумилев пишет уже из континентальной части страны — из Харрара:
Вчера ехал двенадцать часов (70 километров) на муле, сегодня мне предстоит ехать еще 8 часов (50 километров), чтобы найти леопардов… Я в ужасном виде: платье мое изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и меднокрасного цвета, левый глаз воспален от солнца, нога болит, потому что упавший на горном перевале мул придавил ее своим телом. Но я махнул рукою на все. Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжелый для тела, другой восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о последнем и забываю о первом…
В письме к Иванову Гумилев пишет о своем намерении добраться до Аддис-Абебы, «устраивая по пути эскапады», в письме к Кузмину — о скором возвращении в Петербург. Видимо, для более дальнего пути не хватило денег или физических сил. Судя по письмам, Гумилев не мог выехать из Джибути 7 января, как указывает Лукницкий. Но не позднее 5 февраля он был уже в Петербурге. Если учесть, что по пути он провел два дня в Киеве, в Одессу он должен был приехать не позднее 28 января, а значит, выехать из Каира где-то 15–20 января. Вероятно, охотничья «эскапада» в Харрар состоялась между 5 и 10 января и заняла меньше недели, а всего в Абиссинии Гумилев провел в этот раз дней десять.
Следующий раз Гумилев оказывается на африканском континенте всего через полгода. Но эти несколько месяцев оказываются для него переполнены событиями.
Буквально на следующий день после возвращения сына из страны негуса в возрасте 74 лет скоропостижно умирает доктор Гумилев.
…Степан Яковлевич умер скоропостижно, сидя на своем диване, в то время, когда Анна Ивановна, наскучив слушать какие-то клокотанья в груди мужа, послала за доктором, а сама села в гостиной и стала читать. Приехавший доктор нашел его уже мертвым. Сыновья отнеслись к смерти отца довольно равнодушно (А. Сверчкова).
Одно из свидетельств «равнодушия»: Николай с неприличной (с точки зрения матери) быстротой въехал в отцовский кабинет.
Дальше события развиваются быстро.
26 февраля в Царское Село приезжает Анна Горенко. Гумилев встречает на вокзале ее — и одновременно своих приятелей, приглашенных в тот вечер к нему в гости: Кузмина, Зноско-Боровского, Мейерхольда. Все они ехали, как оказалось, в одном вагоне с Анной; Гумилев представляет ее им — но не как свою невесту. Он все еще не был уверен, что свадьба вновь не сорвется. По словам Ахматовой, Гумилев предложил всем «ехать прямо к нему», а сам отправился на кладбище — «на могилу Анненского». Очень странно: за три недели у Гумилева была возможность посетить могилу учителя. На царскосельском Казанском кладбище, где был предан земле Анненский, он был совсем недавно: там хоронили Гумилева-отца. Может быть, Гумилев хотел показать могилу кому-то из гостей?
Через несколько дней — «в брюлловском зале Русского музея» — Гумилев дает Анне прочитать корректуру «Кипарисового ларца», потрясшую ее и определившую ее судьбу как поэта.
Недели через две Гумилев провожает Анну в Киев, а сам уезжает (19 марта) зачем-то с Ауслендером в гости к его родственникам — на станцию Окуловка в Новгородской губернии, где проводит пять дней. Сергей Абрамович вспоминал об этой короткой поездке:
И вот Гумилев в деревенском окружении, в фабричном местечке, среди служащих и мелкой интелигенции. Он ходил играть с ними в винт. Всегда без калош, в цилиндре, по грязи вышагивал он журавлиным шагом, в сумерках…
В первый раз в те дни он говорил о своей личной жизни, говорил, что хочет жениться, ждет писем… Я тоже хотел тогда жениться, и это нас объединяло.
Там было написано стихотворение «Маркиз де Карабас», посвященное мне.
Иногда о «Маркизе де Карабасе» говорится как о «подарке» к свадьбе Ауслендера (тот женился на сестре Зноско-Боровского). Но свадьба состоялась лишь в августе — стихотворение написано пятью месяцами раньше. По поводу этого стихотворения существует любопытная статья К. Дегтярева «Карабас-Барабас, или Золотой ключик к Евангелиям». Не будем подробно излагать все тезисы ее автора; Дегтярев связывает (не без остроумия, но и не без натяжек) события, имевшие место в Александрии в 38 г. н. э.[76], Евангелие от Марка, «Жемчуга» и провоцирующую все новые и новые неожиданные толкования детскую книжку А. Н. Толстого. Связующим звеном, само собой, оказываются теософия и «новое религиозное мышление» русских модернистов. Но даже если подойти к сюжету стихотворения попросту, без учета сложных культурных ассоциаций, он примечателен. Молодой поэт как будто не верит своим удачам, он кажется себе самозванцем, «маркизом Карабасом» — и «сидит под ивой, роняя камни в тихий пруд», вместо того чтобы пользоваться своим достоянием. Другими словами — играет в винт и слушает тетеревов в Окуловке.
Но покоя ему нет и здесь. По словам Ауслендера, Гумилев
посылал запрос в Царское, есть ли письма из Киева, беспокоился, как будто не был уверен в ответе, и, получив утвердительный ответ, попросил лошадей и тут же выехал на вокзал, хотя знал, что в это время нет поезда. Я провожал его, и мы ждали часа два с половиной. Он не мог сидеть, нервничал, мы ходили и курили.
О душевном состоянии Гумилева в первые месяцы 1910 года свидетельствуют воспоминания поэтессы Софьи Семеновны Дубновой (впоследствии по мужу Эрлих, 1885–1986), дочери известного еврейского историка и общественного деятеля. Гумилев встречался с ней в редакции «Аполлона» в связи с подборкой, посланной Дубновой в журнал (стихи — малопримечательные — вскоре были опубликованы). Воспоминания Дубнова писала в более чем преклонном возрасте, кое-что напутала (по ее словам, разговор с Гумилевым шел не только о Брюсове и Готье, но и об акмеизме, что в 1910 году невозможно).
Беседу прервал угрюмый сторож, появившийся со связкой ключей и заявивший, что должен запереть квартиру. Гумилев предложил продолжить нашу беседу в находящемся неподалеку ресторане. Я была удивлена, когда он ввел меня не в общий зал, а в отдельный кабинет, и сразу почувствовала, как изменился тон разговора. Приглушенный свет лампы под темно-красным абажуром, вино в бокалах — Гумилев часто подливал себе и мне, но я отпивала понемногу — создавал кажущуюся мне неожиданной и несколько тягостной атмосферу интимности. Понизив голос, Гумилев заговорил о себе, рассказал, что у него есть невеста в Царском Селе, и уже шьют подвенечное платье, а потом спросил, читала ли я недавно напечатанное стихотворение Брюсова — смелый поэтический манифест. Я знала эти чеканные стихи: они говорили о том, что «все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов» и что душевные переживания ценны для поэта не сами по себе, а как материал для творчества. Для Гумилева эти слова были символом веры; повторяя их, он разгорячился, на лбу выступили красные пятна; он рассказывал, что недавно, мучась желанием писать, он прижал к ладони зажженную папиросу и заставил себя терпеть боль, а потом сел к столу и написал стихи. Поэтическое творчество требует преодоления; поэтому девушка, которая хочет быть поэтом, должна научиться преодолевать девичью стыдливость.
Я сказала, что считаю Брюсова большим мастером поэтического слова и люблю некоторые его стихи, но я не собираюсь следовать его совету: мне думается, что, превращая самые интимные наши переживания в средство для писания стихов, мы не достигнем полноты ни в любви, ни в поэтическом творчестве.
Атмосфера становилась все более напряженной. Я почувствовала, что должна уйти, и сказала, что придется закончить нашу беседу — меня ждут. Пристально и почти вызывающе глядя мне в глаза, он спросил: «Вас ждет друг?» Я поняла, что надо ответить утвердительно, чтобы подняться и уйти. Гумилев проводил меня, усадил в сани. При свете фонарей его лицо показалось мне серым, осунувшимся. Мы молча расстались[77].
Что это — не особенно удачный флирт с едва знакомой молодой женщиной (впрочем, Николай Степанович сразу честно сообщает, что помолвлен), мужское позерство… или действительно серьезный разговор об искусстве? Если второе — как же далек Гумилев 1910 года, еще всецело верный идеалам символистского жизнестроительства (в брюсовском, литературоцентрическом, изводе), от будущего акмеиста! И конечно, он и в такой ситуации все время помнит об Анне. Даже говоря о «девушке, которая хочет быть поэтом», он, скорее всего, думал о ней.
После возвращения в Петербург едва ли не все время Гумилева, кроме приготовлений к свадьбе, должно было занимать издание «Жемчугов» — третьей (или «второй» — от «Пути конквистадоров» Гумилев отрекся) книги стихов; первой и до 1917 года последней, изданной не за счет автора. «Жемчуга» появились в «Скорпионе», что означало принятие Гумилева в символистскую элиту. Но радовало ли это его сейчас?.. Впрочем, повороты литературной судьбы Гумилева в 1910–1912 годах — тема следующей главы.
«Жемчуга» выходят 16 апреля. Через девять дней, 25 апреля, в Николаевской церкви села Никольская Слободка Остерского уезда Черниговской губернии студент Санкт-Петербургского университета, дворянин, сын статского советника Николай Степанович Гумилев был обвенчан с дочерью коллежского советника, дворянкой Анной Андреевной Горенко.
Шаферами Гумилева были поэты Владимир Эльснер и Иван Аксенов. О первом мы уже писали. Второго Гумилев лично не знал и согласился на его участие в свадьбе наудачу — «спросил только, порядочный ли человек». Между тем человеком Аксенов был весьма примечательным.
Иван Александрович Аксенов (1884–1935) был кадровым офицером (в дни войны — на фронте), а после 1917-го — красным командиром и председателем ВЧК по борьбе с дезертирством. Помимо этого, он переводил Шекспира и драматургов-елизаветинцев, написал книгу о Пикассо, служил ректором театральных мастерских при театре Мейерхольда. В числе его учеников был, между прочим, Сергей Эйзенштейн. Входя в умеренную футуристическую группу «Центрифуга» (вместе с Пастернаком), он при этом слагал весьма радикальные авангардистские стихи. Но это еще не все, что можно сказать об Аксенове. В воспоминаниях Е. Рапп (свояченицы Бердяева) поминается полковник А., «человек утонченнейшей культуры, переводивший Кальдерона, что не мешало ему с удовольствием присутствовать при казнях революционеров». После революции полковник стал чекистом. Несмотря на то что Аксенов был не полковником, а штабс-капитаном, и переводил не Кальдерона, а его английских современников, Н. Л. Елисеев убедительно доказывает[78], что в воспоминаниях Рапп имеется в виду именно он. Елисеев характеризует Аксенова как «ренессансного имморалиста, человека из трагедий елизаветинских драматургов» (которые он переводил). Вот таким был второй шафер Гумилева на свадьбе с Ахматовой: «сильный, злой и веселый».
Любопытно, что беглая встреча Гумилева с человеком столь эффектной политической биографии (от «присутствия на казнях»… — к присутствию на других казнях?) произошла близ Киева — города, где проходили самые, может быть, болезненные гражданские и этнокультурные разломы тогдашней России. Год спустя в древней столице убьют Столыпина; еще два года спустя именно здесь начнется процесс Бейлиса. Аполитичный Гумилев ко всему этому был глух (впрочем, так ли уж глух? — в августе того же года в разговоре с Ауслендером он вдруг начал, как-то даже по-блоковски, пророчить грандиозные грядущие потрясения, мятежи, катастрофы…). Равнодушен он был и к древним красотам города. Киев присутствует в его стихах лишь однажды — как «город змиев», город Лысой горы, ведовская столица. (Этот ореол Киева и вообще Украины восходит к русской романтической традиции — вспомним хотя бы пушкинского «Гусара» и «Вечера на хуторе…», не говоря уж о многочисленных произведениях более скромных авторов, таких как Антоний Погорельский, Иван Козлов или Орест Сомов.) Эти строки рождаются вскоре после женитьбы — и рождаются далеко не случайно. Молодая жена ассоциируется уже не с Царским Селом, а с чужим, мрачно-таинственным городом, в котором она провела годы разлуки.
Пока молодожены отправляются (1 мая) в Париж. О многочисленных литературных встречах в этом городе в мае 1910 года — во многом этапных для литературной судьбы Гумилева — мы еще поговорим. Для нас существенно, что именно в эти месяцы произошло нечто, роковым образом повлиявшее на его психологическое состояние и предопределившее его вторую поездку в Эфиопию.
Для Анны Горенко (теперь уже Гумилевой) первое время брака было, видимо, счастливым временем. Она открыла в Гумилеве человека, совершенно не похожего на того чопорного юношу в цилиндре и с моноклем, которого знала до сих пор. Она рассказывала Лукницкому о простодушии, ребячливости своего молодого мужа, о том, как в Париже он ни с того ни с сего присоединился к «бегущей за кем-то толпе»… Гумилев оказался легким спутником, и с ним можно было говорить о том деле, которое для обоих было самым важным в жизни. Вероятно, на большее Анна и не рассчитывала — а потому была удовлетворена своей жизнью. Но вот воспоминания ее ближайшей подруги — В. Тюльпановой-Срезневской:
Вскоре (после свадьбы. — В. Ш.) приехала Аня. И сразу пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что ничего в ней не изменилось; у нее не было совсем желания, как это часто бывает у новобрачных, поговорить о своей судьбе. Как будто это событие не может иметь значения ни для нее, ни для меня.
А Гумилев? Как считала Ахматова, они «слишком долго были женихом и невестой… К моменту свадьбы он уже во многом растерял свой пафос». Но они не были женихом и невестой все эти пять или шесть лет.
Мы не знаем, что случилось в июне-июле 1910 года. Вполне беллетристический рассказ Б. Носика о столкновении Гумилева в парижском кафе с Амедео Модильяни, влюбленным в его молодую жену, едва ли основан на фактах. В воспоминаниях Ахматовой о Модильяни эта история излагается так: «Николай Гумилев, когда я… спросила его о Модильяни, назвал его «пьяным чудовищем» и упомянул о ссоре, случившейся между ними в Париже из-за того, что Гумилев говорил в какой-то компании по-русски». Этот разговор относится к 1918 году. С какой же стати было бы Гумилеву рассказывать Ахматовой о ссоре, которая произошла восемь лет назад при ней и из-за нее? Вероятно, роман Ахматовой с Модильяни сыграл, в числе прочего, роковую роль в судьбе ее брака с Гумилевым, но он начался не в 1910 году, а год спустя, когда она, уже во многом сложившаяся поэтесса, была в Париже одна, а столкновение Гумилева с итальянским художником имело место, скорее всего, в 1917 году[79].
Будем следовать за достоверными свидетельствами современников. Маковский:
…На обратном моем пути из Парижа в Петербург случайно оказались мы в том же международном вагоне. Молодые тоже возвращались из Парижа, делились впечатлениями об оперных и балетных спектаклях Дягилева… Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только как законная жена Гумилева, повесы из повес, у кого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов «без последствий»…
Гумилев и Маковский были знакомы всего полтора года, и сам же Маковский пишет чуть выше, что «второй лик Гумилева» открылся ему лишь после истории Черубины — до этого он знал его лишь как литератора; но назвать роман Гумилева с Дмитриевой «романом без последствий» трудно… Вот характерный пример того, как последующие события деформируют воспоминания о прошлом. В 1910-м у Маковского не было никаких оснований считать Гумилева «повесой» и ловеласом. «По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он полюбил ее серьезно и горд ею. Не раз до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и впоследствии о своей настоящей любви… с отроческих лет».
Идиллия, одним словом. Но вот свидетельство Ауслендера, относящееся к августу того же года. Друг Гумилева (чья свадьба должна была состояться в середине августа в Окуловке) захотел пригласить Гумилева к себе шафером и приехал к нему в Царское Село.
Анны Андреевны не было дома. Он был один в садике, был нежен. Но чувствовалось, что у него огромная тоска. «Ну вот, ты счастлив. Ты не боишься жениться?» — «Конечно, боюсь. Все изменится, и люди изменятся». И я сказал, что он тоже изменился.
Он провожал меня парком, и мы холодно и твердо решили, что все изменится, что надо себя побороть, чтобы не жалеть старой квартиры, старой обстановки. И это было для нас отнюдь не литературной фразой.
Гумилев сразу повеселел и ожил: «Ну, женился, ну, разведусь, буду драться на дуэли, что ж особенного!»
Загадочное (Ауслендер то ли небрежен, то ли сознательно недоговаривает) и впечатляющее место. Через три месяца после свадьбы Гумилев думал о разводе и о дуэли — с кем?
Существуют вещи, не менее оскорбительные для мужчины, чем измена.
Перед свадьбой Гумилев спросил у Анны, разрешит ли она ему путешествовать. «Когда хочешь, когда хочешь», — ответила она. Но выслушивать его рассказы об Африке она отказывалась — выходила в другую комнату и просила дать знать, когда он закончит. Все, связанное с «чужим небом», со «сладким воздухом», казалось ей скучным, комичным, ненужным. Между тем подвиги в сказочных странах были «адресованы» во многом именно ей.
В начале своей второй абиссинской экспедиции Гумилев пишет одно из своих самых «киплинговских» (скорее даже — джек-лондоновских), самых бутафорских и потому — самых популярных стихотворений.
«Древний я открыл храм из-под песка, Именем моим названа река, И в стране озер пять больших племен Слушали меня, чтили мой закон. Но теперь я слаб, весь во власти сна, И больна душа, тягостно больна; Я узнал, узнал, что такое страх, Погребенный здесь в четырех стенах…» …………………………. И, тая в глазах злое торжество, Женщина в углу слушала его.Каким бы бутафорским ни был антураж — за этими стихами стоит вполне конкретный опыт. Может быть, несколько романтизированный.
…В августе 1910 года (за исключением нескольких дней, проведенных в Окуловке) Гумилев и впрямь сидел в одиночестве в царскосельском доме Георгиевского. Анна Андреевна была у матери в Киеве. Именно в эти дни созрела мысль о втором путешествии — что было все же лучше развода и самоубийства. Гумилев сделал выбор в пользу той стороны своей жизни, которая была чужда его молодой жене, в пользу того, что он (в отличие от поэзии) даже на вербальном уровне не мог разделить с ней.
В первых числах сентября он срочным письмом вызывает Анну из Киева, сообщая ей о своем намерении отправиться в Африку. 13 сентября он устраивает прощальный вечер, четыре дня спустя идет в театр с Кузминым и Зноско-Боровским — что примечательно, на «негритянскую оперетку» (по отзыву Кузмина, она «оказалась вздором»). Возможно, речь шла о пьесе М.Н. Волконского «Вампука, принцесса африканская» — пародии на штампы классической оперы, написанной для театра «Кривое зеркало» и позднее шедшей в других театрах миниатюр. Надо думать, Гумилева пригласили на этот фарс, в котором действуют «эфиопы, противники Европы», не без умысла.
25 сентября Гумилев отправился в Одессу и оттуда, через Черное и Средиземное море, в Красное. С дороги он писал Вячеславу Иванову, Маковскому, Зноско-Боровскому. Е. Е. Степанов на основнии почтовых штемпелей делает правдоподобное предположение: 13 сентября Гумилев сделал остановку в Порт-Судане, чтобы побывать в Верхнем Египте и Нубии, увидеть Луксор и Асуанские пороги (может быть, Лукницкий неправ — и в 1908 году поэт до этих мест не добрался?). Совершив короткое путешествие по Нилу, Гумилев к 26 сентября (8 октября) вернулся в Порт-Судан и уже дальше отправился по знакомому маршруту — в Джибути.
Затем следы его как будто теряются. Никаких писем близким, никаких известий — вплоть до весны. Впрочем, через три с половиной недели по прибытии в Джибути Гумилев «всплывает» в новой столице Абиссинии — Аддис-Абебе, что в «каменистом Шоа».
30 октября 1910 года в Аддис-Абебу наконец прибыл русский посланник Б. А. Чемерзин. 19 ноября его жена, А. В. Чемерзина, пишет своей матери:
Сегодня у нас завтракал русский корреспондент «Речи» и журнала «Аполлон» (декадентский) Н. С. Гумилев, приехал изучать абиссинские песни. Он сообщил нам, что приехал одновременно с нашей горничной… и заботился о ней, служа ей переводчиком в Джибути и Дире-Дау.
Путь Чемерзиных пролегал из Джибути через Дире-Дау (Дыре-Дау), Харрар (Харэр) и поросшие тропическим лесом Черчерские горы. («В пути мы все время питались куропатками и цикарками, которые здесь водятся в диком состоянии…») Тот же путь, вероятно, проделал и Гумилев.
Гумилеву всегда приходилось непросто, когда он вынужден был объяснять здравым обывателям, профессионалам, чиновникам род своих занятий. Несколько рецензий, напечатанных в почтенной кадетской газете, позволили ему с чистой совестью называть себя ее корреспондентом. Но он пытался объяснить малознакомым людям и другое.
В мае месяце он женился на киевлянке, а уже в августе, в конце, выехал в Абиссинию и пребывает здесь неизменно. Мы, конечно, не спрашиваем его о причинах, побудивших его покинуть жену, но он сам высказался так, что между ним и его женой решено продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюбленность (письмо от 1 января).
Вероятно, эти объяснения предназначались во многом для себя самого.
Актеры Интимного театра участвуют в спектакле «Вампука, принцесса африканская», конец 1900-х
Чемерзины, кажется, принадлежали к тем довольно многочисленным людям, которые совершенно глухи к экзотике, для которых весь мир — одно более или менее жаркое или влажное, более или менее обустроенное и удобное провинциальное пространство. Этот тип был характерен для эпохи колониализма, когда мирные граждане, не имевшие никакого вкуса к дальним странствиям, срывались с места и ехали невесть куда в поисках заработка или карьеры, когда викторианские джентльмены средней руки, облеченные в черные смокинги, обливаясь потом, упрямо ели свою овсянку и пили tea-milk на глазах у удивленных мангустов. Милейшая Анна Васильевна была, судя по письмам, не чужда любви к природе, но даже в Черчерских горах она видела и слышала привычное — соловья, жасмин, шиповник, а эвкалиптовая роща у ворот посольства напоминала ей сад в родной Белоцерковке. Более чуждых Гумилеву людей было не придумать, тем не менее «декадентский поэт» жене посланника понравился: «Видимо, он богатый человек, очень воспитанный и приятный в обращении». (С какой стати небогатый человек будет предпринимать путешествие «за три моря» ради каких-то песенок? А у богатых — свои причуды. Так, должно быть, рассуждали Чемерзины.)
Накануне, 25 декабря, Гумилев присутствовал на парадном приеме при дворе негуса, с участием дипломатического корпуса и трех тысяч абиссинцев. Подавали европейские блюда. Под конец обеда угощали ветеранов императорской гвардии; старые вояки сидели в отдельной зале на коврах и циновках у низких столов — и им выносили туда сырое мясо и черные блины с соусом из меда и хмеля. Сам его императорское высочество Лидж Иясу восседал на троне за занавесью.
Здесь необходимо еще одно отступление: о событиях, случившихся в Эфиопии накануне. Для начала процитируем статью Гумилева «Умер ли Менелик?», в которой изложены слухи, циркулировавшие в Аддис-Абебе в 1910–1911 годах:
Императору дали яд, но страшным напряжением воли, целый день скача на лошади, он поборол его действие. Тогда его отравили вторично уже медленно действующим ядом и старались подорвать бодрость его духа зловещими предзнаменованиями. Для суеверных абиссинцев мертвая кошка указывает на гибель увидавшего ее. Каждый вечер, входя в спальню, император находил у постели труп черной кошки. И однажды ночью императрица Таиту объявила, что после внезапной смерти Менелика правительницей становится она, и послала арестовать министров. Те, отбившись от нападавших, собрались на совет в доме митрополита Абуны Матеоса, наутро арестовали Таиту и объявили, что Менелик жив, но болен и видеть его нельзя.
С тех пор никто, кроме официальных лиц, не мог сказать, что видел императора. Даже европейские посланники не допускались к нему. Именем еще малолетнего наследника, Лиджа Иассу, управлял его опекун рас Тасама, который во всем считался с мнениями министров. В судах и при официальных выступлениях, как прежде, все решалось именем Менелика. В церквах молились о его выздоровлении.
Так прошло шесть лет, и Лидж Иассу вырос. Несколько охот на слонов, несколько походов на еще не покоренные племена — и у львенка загорелись глаза на императорский престол. Рас Тасама внезапно умер от обычной среди абиссинских сановников болезни: от яда; и однажды, тоже ночью, Лидж Иассу со своими приближенными ворвался в императорский дворец, чтобы доказать, что Менелик умер и он может быть коронован. Но правительство не дремало: министр финансов Хайле Георгис, первый красавец и щеголь в Аддис-Абебе, собрав людей, выгнал Лиджа Иассу из дворца, военный министр Уольде Георгис прямо с постели, голый, бросился на телеграфную станцию и саблей перерубил провода, чтобы белые не узнали о смутах в столице. Лиджу Иассу было сделано строжайшее внушение, после которого он должен был отправиться погостить к отцу, в Уолло. Европейским посланникам было категорически подтверждено, что Менелик жив.
В действительности события развивались так. Стремление Менелика ограничить власть удельных князей (расов) вызывало раздражение. Двор сотрясали тайные интриги. В 1906 году при загадочных обстоятельствах умер родственник императора, харрарский владетель рас Маконнен. Некто доктор Витальен, возглавлявший госпиталь в Аддис-Абебе (француз, но чернокожий — уроженец Мартиники), пользовался огромным влиянием, как говорили, потому что знал тайну смерти популярного князя и полководца. В 1907 году здоровье Менелика, по всем отзывам, ухудшилось. Весной 1908-го он перенес первый удар, в июне официально назначил своего внука, сына своей дочери и крещеного галлаского вождя Уоло (раса Микаэля) 12-летнего Лидж Иясу наследником, а раса Тэсэму — регентом. 1 декабря Менелик был полностью разбит параличом. Поползли слухи о смерти императора; 27 сентября он в последний раз показался на людях. Реальная власть оказалась в руках императрицы Таиту, пока 21 марта 1909 года регент Тэсэма и военный министр Хабтэ-Гийоргис не организовали переворот. В соборе Святого Тэкле министры дали обязательство «не слушать советов императрицы». На следующий день дипломатам было объявлено, что императрица «более не является политическим лицом». В июле того же года в Тигре был подавлен мятеж, поднятый братом императрицы — расом Уали.
(Когда в 1913 году Менелик все же умер, Лидж Иясу официально унаследовал престол. Три года спустя, в 1916-м, он перешел в ислам и объявил, что предок его — не царь Соломон, а пророк Мухаммед. Его свергли. Императрицей стала его тетка Заудиту.)
Такой была политическая обстановка в Аддис-Абебе в момент, когда Гумилев посетил этот город.
В Аддис-Абебе он жил в Hôtel d’Imperatrice, потом в Hôtel Terrasse. В последнем его обокрали. Такие провинциально-прозаические подробности… В сборе песен (которым он действительно занимался) ему помогал некий поэт «ата-Йосеф». Что означало «поэт» применительно к Эфиопии того времени? По Булатовичу, в стране существовало два вида певцов: «азмари» и «лалибала»:
Азмари поют, аккомпанируя себе на однострунном инструменте вроде скрипки, называемом «массанка»; лалибала же поет героические куплеты со страшным пафосом, и при нем состоит хор из нескольких мальчишек или девочек, которые поют припев. Эти певцы представляют из себя совершенно отдельное сословие, не подчиняющееся общим законам. Никто не имеет права тронуть их под угрозой самого строгого наказания, и певец имеет право высмеивать кого угодно, хоть самого императора в глаза.
Подобный статус поэта устроил бы, пожалуй, даже Гумилева.
В перерывах между фольклористическими штудиями поэт (как годом раньше) выезжает в горы на охоту. Вероятно, именно в эту зиму ездил он «за полтораста верст» в имение некоего лиджа Адену (эта поездка красочно описана в «Африканской охоте»). Гумилев охотился на гиен, убил одного леопарда… Со львом, вопреки легенде, он встретился лишь единожды и не сумел его подстрелить.
Охота была всего лишь развлечением, но она давала новые ощущения, может быть более поэтически плодотворные, чем претендующие на серьезность фольклористические штудии.
Ночью, лежа на соломенной циновке, я долго думал, почему я не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову и я, истекая кровью, аплодирую умению палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно («Африканская охота»).
«Голову срезал палач и мне…» Такие видения проходят через всю жизнь человека, в самом деле обреченного (как мы знаем) умереть от руки палача. Но подобная смерть в Абиссинии — это нечто совсем другое. Это — то же самое, что смерть зверя от руки доблестного чернокожего охотника. Или охотника — от руки зверя. Это та магическая и свирепая «связь с миром», которую дарует погружение в мир первобытных, архетипических чувств, верований, отношений. Здесь нет места угрызениям совести, потому что — «как подобает мужу, заплачу непоправимой гибелью последней»; потому что мертвый леопард все равно позовет своего убийцу через много лет и тысячи верст — на гибель…
«…Брат мой, враг мой, ревы слышишь, Запах чуешь, видишь дым? Для чего ж тогда ты дышишь Этим воздухом сырым? Нет, ты должен, мой убийца, Умереть в стране моей, Чтоб я снова смог родиться В леопардовой семье».Перед этим африканским мотивом оказалась бессильна даже Ахматова — поневоле восхитившись этими «страшными» стихами. Стихами о предстоящей смерти, написанными накануне смерти.
3
В начале января Гумилев «после тысячи самых невероятных проектов» (еще в Петербурге он собирался побывать на озерах Виктория и Родольфо — в верховьях Белого Нила, к западу от Эфиопии, уже в Центральной Африке) решил возвращаться домой тем же путем — через Черчер[80]. Накануне он празднует у Чемерзиных Рождество («привезли деревцо, напоминающее нашу елку»). 25 марта (по свидетельству Ахматовой) он приезжает в Царское Село совершенно больной: подхватил по дороге африканскую лихорадку.
По возвращении из путешествия Гумилев сделал (5 апреля 1911 года) доклад о путешествии в редакции «Аполллона». В архиве Вячеслава Иванова сохранился набросанный Гумилевым, с трудом поддающийся расшифровке план начала этого доклада, опубликованный в 1991 году К. Ю. Лаппо-Данилевским[81].
Публика восприняла сообщение скептически. Кузмин записал в дневнике, что доклад «интересен, но туповат»; поэт Александр Кондратьев сравнивал Гумилева с Тартареном из Тараскона (по его словам, «Гумилев описал свою охоту на льва и то, как его мотал на рогах африканский буйвол»). Чуковский писал Брюсову: «Не понравился мне этот Ваш «вскормленник»… Одна голая изысканность — без ума, чувства действительности, без наблюдательности — жалка и смешна. В лучшем случае карикатурен». Позднее Чуковский, изменивший свое отношение к Гумилеву, описал этот доклад так — анекдотически ярко и неправдоподобно:
Помню: стоит в редакции «Аполлона» круглый трехногий столик, за столиком сидит Гумилев, перед ним груда каких-то пушистых, узорчатых шкурок, и он своим торжественным, немного напыщенным голосом повествует собравшимся (среди которых было много посторонних), сколько пристрелил он в Абиссинии разных диковинных зверей и зверушек, чтобы добыть ту или иную из этих экзотических шкурок.
Вдруг встает редактор «Сатирикона» Аркадий Аверченко — неутомимый остряк, и, заявив, что он очень внимательно осмотрел все эти шкурки, спрашивает у докладчика очень учтиво, почему на обороте каждой шкурки отпечатано лиловое клеймо петербургского ломбарда. В зале поднялось хихиканье…
На самом же деле печати на шкурках поставлены отнюдь не ломбардом, а музеем Академии наук, которому пожертвовал их Гумилев.
Но среди вещей, которые Гумилев (не весной 1911-го, а полтора года спустя) пожертвовал Кунсткамере (Музею антропологии и этнографии АН), его охотничьих трофеев нет. Да и зачем бы они этнографам?
Гумилев верхом на жирафе. Шарж Н. Э. Радлова, 1920–921 (?) годы
Другой сюжет — про обезьяньи шкуры, будто бы подаренные Гумилевым Мережковским (!) и взятые у них на время (для маскарада) А. Н. Толстым; по возвращении шкур владельцам выяснилось будто бы, что у них нет хвостов: хвосты отрезал Ремизов (вероятно, для нужд «великой и вольной обезьяньей палаты»). Конфликт якобы дошел до третейского суда. Эта история сохранена в мемуарах А. Я. Брюсова-младшего. Самое забавное, что она основана на реальных фактах: только принадлежали пострадавшие шкуры не Мережковским, а Сологубу, и Гумилев здесь решительно ни при чем[82].
Реакция литературной публики была предсказуема. Путешествия Гумилева в Африку воспринимались как «анекдот». Акцент — отчасти и самим Гумилевым — ставился не на Абиссинии, «стране черных христиан», а на Африке в целом, экзотической до комизма. В России, не имевшей тропических колоний, крокодил всегда воспринимался как комическое существо, а на берегу Лимпопо, по русским представлениям, могло происходить действие разве что веселых детских стишков. «Не ходите в Африку, в Африку гулять! В Африке акулы, в Африке гориллы…»
Это, разумеется, писалось годы спустя, и на первый взгляд не в связи с Гумилевым (хотя Мирон Петровский убедительно доказывает: в «Бармалее» пародируется именно гумилевский «Мик»). Однако есть два непосредственных стихотворных отзыва на два первых африканских путешествия Гумилева. Оба достаточно любопытны.
Первый — иронический — принадлежит Александру Кондратьеву (1876–1967), третьестепенному поэту-символисту: «Песнь торжественная на возвращение Николая Гумилева из путешествия в Абиссинию»:
Братья, исполните радостный танец! Прибыл в наш круг из-за дальнего Понта, Славу затмить мексиканца Бальмонта, С грузом стихов Гумилев-африканец! Трон золотой короля Менелика Гордо отвергнув, привез он с собою Пояс стыдливости, взятый им с бою У эфиоплянки пылкой и дикой. Славы Синдбадовой гордый наследник Рас-Мангашею пожалован в графы, Он из страны, где пасутся жирафы, Вывез почетный за храбрость передник. ………………………………………. И возвратившись к супруге на лоно, Ждавшей героя верней Пенелопы, Он ей рога молодой антилопы С нежной улыбкой поднес благосклонно.Последние строки, конечно, особенно двусмысленны.
Что касается «эфиоплянки», якобы покоренной Гумилевым, то это стало чуть не непременной частью слухов об африканских путешествиях поэта. Дивишься скудости воображения современников. Как будто, чтобы переспать с чернокожей красавицей, требовалось в те дни ехать в Африку![83]
Второе стихотворение вошло в книгу Аркадия Фырина «Голова медузы» (1910). Этот единственный сборник никак больше не проявившего себя в литературе (ни одной публикации!) автора был замечен прессой по следующей причине: в составе своего цикла «Песни мудреца» Фырин напечатал стихотворение Пушкина «Виноград». Псевдоним Фырина был раскрыт лишь в 1988 году: под ним скрывались Петр Губер (впоследствии известный литературовед) и Николай Шубной[84]. В книге Фырина, одного из бесчисленных потомков Козьмы Пруткова, тексты явно пародийные чередуются с вполне серьезными опусами на хорошем среднем уровне эпигонов символизма.
Стихотворение «Гумилеву» входит в цикл «Вожди». (Два других стихотворения этого цикла посвящены, соответственно, Мережковскому и Леонардо да Винчи.) Вот как воспевает Фырин своего 24-летнего «вождя»:
Душно-знойных пустынь молодой император, Мореход и поэт Гумилев. Ты отважно спустился за темный экватор, Где в затылок впился пуме лев. В озареньях твоих воскресают пампасы, Шею гибкую клонит жираф. Гимн богине луны вопиют папусы И сжимается в кольца удав. Продолжай же свой путь через дальние страны, Через Анды и цепь Кордильер. Через степи, саванны, леса, где лианы В непреступный слилися барьер. Принеси нам из дали обеих Америк Ожерелия рифм золотых. Будешь славен за то, когда выйдешь на берег, Среди рати певцов молодых.Еще один поэт — гораздо более крупный и гораздо более близкий Гумилеву — отправился в Абиссинию по его стопам. Речь идет о Владимире Нарбуте. Его краткая африканская эпопея (в октябре 1912 — феврале 1913 года) еще нуждается в изучении. Пока она известна в основном по анекдотическому описанию в полубеллетристических «Петербургских зимах» Георгия Иванова.
Приехал Нарбут из Абиссинии какой-то желтый, заморенный. На «приеме», тотчас же им устроенном, он охотно отвечал на вопросы любопытных об Абиссинии — но из рассказов его выходило, что «страна титанов золотая Африка» — что-то вроде русского захолустья: грязь, скука, пьянство. Кто-то даже усомнился, да был ли он там на самом деле?
Нарбут презрительно оглядел сомневающихся:
— А вот приедет Гумилев, пусть меня проэкзаменует.
<…>
— Как же я тебя экзаменовать буду, — задумался Гумилев. — Языков ты не знаешь, ничем не интересуешься… Хорошо, что такое «текели»?
— Треть рома, треть коньяку, содовая и лимон, — быстро ответил Нарбут. — Только я пил без лимона.
— А… — Гумилев сказал еще какое-то туземное слово.
— Жареный поросенок.
— Не поросенок, а вообще свинина. Ну ладно, а скажи мне теперь, если пойдешь в Джибути от вокзала направо, что будет?
— Сад.
— Верно. А за садом?
— Каланча.
— Не каланча, а остатки древней башни. А если повернуть еще направо, за башню, за угол?
Рябое, безбровое лицо Нарбута расплылось в масленую улыбку.
— При дамах неудобно.
— Не врет, — хлопнул его по плечу Гумилев. — Был в Джибути. Удостоверяю.
Конечно, это грубая карикатура на незаурядного поэта — и незаурядного человека. Достаточно прочитать «абиссинские» стихи Нарбута, чтобы увидеть: он сумел почувствовать эту страну по-своему и по-своему воплотить ее в русских словах. Сказочное Средневековье оборачивается Средневековьем другим — уродливым, смрадным. Пожалуй, судя по стихам, скорее можно было бы усомниться в том, действительно ли ездил в Абиссинию Гумилев. Нарбут увидел в Джибути и Харраре прокаженных, которые «сидят в грязи, копаясь часто в плащах, где в складках вши засели». Такое не придумаешь. Он увидел
Мимозы с иглами длиной в мизинец, и кактусы, распятые спруты, и кубы плоскокрышие гостиниц, и в дланях нищих конские хвосты…О существовании этой Абиссинии мы тоже не должны забывать — хотя как раз о ней Гумилев не сказал нам ничего.
В конце 1912 года (к тому времени в жизни Гумилева, и личной, и творческой, очень многое изменилось) поэт решает передать собранные в Абиссинии предметы Академии наук. Это стало толчком к его последней — и самой значительной биографически и плодотворной творчески — поездке в Эфиопию.
Но тут уж предоставим слово самому поэту. Здесь и ниже мы цитируем его «Африканский дневник». Первая его половина, хранившаяся у А. С. Сверчковой, была в 1950 году передана ею О. Н. Высотскому, который опубликовал ее в 1987 году в журнале «Огонек» (№ 14, 15). Вторая часть — «две тетрадочки без обложек, сброшюрованные железными скрепками», попавшая в руки коллекционера профессора В. В. Бронгулеева (купившего ее в 1961-м у другого коллекционера, В. Г. Данилевского), была частично опубликована им в журнале «Наше наследие» (1988. № 1). Первая половина «Дневника» — художественное произведение (причем очень своеобразное: Гумилев описывает события, от которых его отделяет от нескольких недель до нескольких дней, как будто из отдаленного будущего — бесстрастным тоном мемуариста). «Я пишу так, чтобы прямо можно было печатать», — сообщает он в письме Ахматовой. Фрагмент и был позднее напечатан (включен в рассказ «Африканская охота»). Но вторая часть дневника (с 4 июня по 21 июля) велась в полевых условиях — и это именно дневник, даже «записная книжка».
Итак:
Однажды в декабре 1912 г. я находился в одном из тех прелестных, заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога, которому принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки абиссинский складень: Деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой. В этом маленьком собраньи мой складень имел посредственный успех: классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влияньи, обесценивающем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать.
В конце разговора профессор Ж. спросил, был ли я уже с рассказом о моем путешествии в Академии наук. Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами, допытывающихся, кого именно я хочу видеть; и, наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами, что у Академии есть свои исследователи, и тому подобные обескураживающие фразы. Кроме того, как литератор я привык смотреть на академиков как на своих исконных врагов. Часть этих соображений, конечно в смягченной форме, я и высказал профессору Ж. Однако не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судеб.
По указанию Ахматовой, «Ж.» — Б. А. Тураев (1868–1920), не только египтолог, но и эфиопист, между прочим, автор статьи об эфиопской поэзии. «Один из вершителей академических судеб» — это либо В. В. Радлов (1837–1918), тогдашний диретор Кунсткамеры, либо Л. Я. Штернберг, ее ученый хранитель. Дальнейшую переписку Гумилев вел со Штернбергом.
Гумилев передал в Кунсткамеру материалы своих предыдущих экспедиций. Это произведения амхарской культуры, ныне составляющие фонд 2131. В нем всего пять предметов — деревянный гребень, кинжал и три детали конской упряжи. В сравнении с собранием, привезенным из экспедиции 1913 года, эта коллекция чрезвычайно бедна. Тем не менее Кунсткамера приняла ее и (что особенно важно) согласилась частично проспонсировать следующее путешествие.
Гумилев мечтал
пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваша, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится еще один сочлен.
Данакили — устаревшее название кушитских народностей сахо и афар. Сегодня их земли входят в состав эфиопских провинций Уолло и Тигре и независимых государств Эритрея и Джибути.
Академия сочла этот маршрут слишком дорогостоящим; тогда Гумилев предложил другой — в юго-восточную часть Эфиопии, близ границы с нынешней Кенией.
Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харрару, потом, составив караван, на юг, в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования.
Гумилев должен был
делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции.
Гумилеву разрешили взять с собой спутника. Выбор пал на племянника — Николая Леонидовича Сверчкова. По словам Гумилева, «он отличался настолько покладистым характером, что уже из-за одного желания сохранить мир пошел бы на всевозможные лишения и опасности».
Николай Сверчков, Коля Маленький, как его звали в семье, был на восемь лет моложе Коли Большого и относился к нему скорее как к старшему брату — боготворил его, верил в его гениальность. По словам Гумилева, он «интересовался естественными науками»; А. С. Сверчкова указывает, что ее сын нужен был Гумилеву «в качестве фотографа и препаратора». Действительно, все экспедиционные снимки сделаны Сверчковым. Жизнь Коле Маленькому выпала короткая: он был отравлен газами на фронте, и в годы Гражданской войны (которые он провел в Бежецке, где заведовал краеведческим музеем) у него развился туберкулез; в поисках исцеления он отправился в Грузию (его жена была урожденной княгиней Амилахвари) и по дороге умер в Екатеринодаре от воспаления легких, двадцати пяти лет. Тема Грузии возникает снова — теперь в качестве недостижимого рая. Памяти Сверчкова посвящен вышедший спустя два года после его смерти (но написанный еще при его жизни) «Шатер».
Николай Сверчков в студенческом мундире. Фотография Л. Городецкого. Царское Село, 1914–915 годы
26 марта Гумилеву выдали «открытый лист» на приобретение экспонатов, тысячу рублей наличными, билеты на проезд до Джибути и несколько винтовок с патронами. 7 апреля 1913 года Коля Большой и Коля Маленький выехали в Одессу. Перед отъездом Гумилев заболел. По свидетельству Георгия Иванова[85], Гумилев бредил, говорил
о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал.
Когда я прощался, он не подал мне руки: «Еще заразишься, — и прибавил: Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду».
На другой день я вновь пришел его навестить, так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что и читающие кролики, то есть бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».
В данном случае Иванову можно верить. Гумилев сам признается, что в день отъезда «лежал в жару». И все же уехал. Право, это мальчишество впечатляет.
4
Первые путевые впечатления Гумилева связаны с Одессой. Этому городу посвящены довольно язвительные заметки.
Странное впечатление производит на северянина Одесса. Словно какой-нибудь заграничный город, русифицированный усердным администратором. Огромные кафе, наполненные подозрительно-изящными коммивояжерами. Вечернее гуляние по Дерибасовской, напоминающей в это время парижский бульвар Сен-Мишель. И говор, специфический одесский говор, с измененными удареньями, с неверным употребленьем падежей, с какими-то новыми и противными словечками. Кажется, что в этом говоре яснее всего сказывается психология Одессы, ее детски-наивная вера во всемогущество хитрости, ее экстатическая жажда успеха…
Несомненно, в Одессе много безукоризненно-порядочных, даже в северном смысле слова, людей. Но не они задают общий тон. На разлагающемся трупе Востока завелись маленькие юркие червячки, за которыми будущее. Их имена — Порт-Саид, Смирна, Одесса.
Это взгляд человека «феодальных» представлений на буржуазный город; и это взгляд человека, так сказать, «нордического» на понтийский еврейско-греческий город, который кажется ему «восточным». Между тем именно здесь, в этом чуждом для него городе, с его жутким для петербургского уха говором, взрослели подлинные ученики Гумилева-акмеиста, всерьез воспринявшие и его высокий формализм, и его героический пафос. Спустя несколько лет Нарбут, вместе с Бабелем, возглавит «юго-западную» (или «южнорусскую») школу. Но пока, в 1913 году, все эти юноши ходят в гимназии и коммерческие училища неутомимого нерусского города, читают долетающий сюда «Гиперборей» и только пробуют писать первые стихи и рассказы. Еще учится в Талмуд-торе (еврейской религиозной школе второй степени)[86] человек, который «при толпе народа» застрелит императорского посла; давно уже покинул Одессу выросший здесь Корней Чуковский (Николай Корнейчуков), как и два его друга — Борис Житков и Владимир Жаботинский (с обоими Гумилев, без сомнения, нашел бы общий язык). Тем не менее литературная жизнь бьет ключом. Около 9–10 апреля (по датировке Давидсона) поправившийся в дороге («даже горло прошло») Гумилев пишет Ахматовой: «…Здесь я видел афишу, что Вера Инбер прочтет в пятницу лекцию о «новом женском одеянии, или что-то в этом роде; тут и Бакст и Дункан и вся тяжелая артиллерия».
Гумилев иронически упоминает об одесской подражательнице акмеистов (кузине еще никому не известного Льва Троцкого и будущей известной советской поэтессе). Литературные темы вообще занимают немало места в этом и следующем письме. Это письма не столько мужа к жене или любящего к любимой, сколько поэта к поэту. Их адресат — не та Анна Андреевна Горенко-Гумилева, к которой писал он тремя годами раньше. Рождение поэта Анны Ахматовой произошло как раз в ту зиму 1910–1911 годов, которую Гумилев провел в Эфиопии. Оказавшись на Черном море, Гумилев вспоминает стихи Ахматовой о ее черноморском детстве. И именно через поэзию он пытается объяснить ей то, что она «не любит и не хочет понять»:
…Мне не только радостно, но и прямо необходимо по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, углублять и выдвигать в себе мужчину; я никогда бы не смог догадаться, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца, но ведь и ты никогда бы не смогла заняться исследованием страны Галла и понять, увидев луну, что она алмазный щит богини воинов Паллады[87].
10 апреля Гумилев и Сверчков на пароходе «Тамбов» отправляются в Стамбул. Турецкая столица встречает гостей «необычной тишиной и запустением». Умирающая Османская империя терпит неудачи в Первой Балканской войне против Греции, Болгарии и Сербии. «Только что пришло известие о падении Скутари». На чьей стороне Россия, объяснять не нужно. Тем примечательнее явное сочувствие Гумилева вековому врагу, затравленному «великими державами». С такой приязнью из русских к туркам относился разве что Константин Леонтьев, очарованный «цветущей сложностью» левантийского быта.
В Стамбуле Гумилев посещает Айя-Софию. «Я еду в Африку и прочел «Отче наш» в священнейшем из храмов. Несколько лет тому назад, тоже на пути в Абиссинию, я бросил луидор в расщелину храма Афины Паллады в Акрополе и верил, что богиня незримо будет мне сопутствовать. Теперь я стал старше». О посещении храма Афины Паллады, «богини воинов», Гумилев писал в 1909-м Вере Шварсалон.
В Константинополе Гумилев познакомился с молодым турецким консулом Мозар-беем, направляющимся в Харрар, и путь они продолжили вместе.
Мы подолгу с ним беседовали о турецкой литературе, об абиссинских обычаях, но чаще всего о внешней политике. Он был очень неопытный дипломат и большой мечтатель. Мы с ним уговорились предложить турецкому правительству послать инструкторов на Сомалийский полуостров, чтобы устроить иррегулярное войско из тамошних мусульман. Оно могло бы служить для усмирения вечно бунтующих арабов Йемена, тем более что турки почти не переносят аравийской жары.
Равнодушие к политике уже в эти годы, как видим, сочеталось у Гумилева с приступами энергичной активности и прожектерства в этой малопонятной для него области. В свою очередь консул обещал Гумилеву содействие в сборе абиссинских песен.
Порт-Саид был закрыт из-за карантина; дальше путь пролегал через Суэцкий канал.
Стаи дней и ночей Надо мной колдовали, Но не знаю светлей, Чем в Суэцком канале, Где идут корабли Не по морю, по лужам, Посредине земли Караваном верблюжьим.Сравните гораздо более выразительное описание из «Африканского дневника»:
На африканском берегу, где разбросаны домики европейцев, — заросли искривленных мимоз с подозрительно темной, словно после пожара, зеленью, низкорослые толстые банановые пальмы; на азиатском берегу — волны песка, пепельно-рыжего, раскаленного. Медленно проходит цепь верблюдов, позванивая колокольчиками. Изредка показывается какой-нибудь зверь, собака, может быть, гиена или шакал, смотрит с сомненьем и убегает. Большие белые птицы кружат над водой или садятся отдыхать на камни. Кое-где полуголые арабы, дервиши или так бедняки, которым не нашлось места в городах, сидят у самой воды и смотрят в нее, не отрываясь, будто колдуя. Впереди и позади нас движутся другие пароходы. Ночью, когда загораются прожекторы, это имеет вид похоронной процессии.
Потом — Красное море.
Самое жаркое из всех морей, оно представляет картину грозную и прекрасную. Вода как зеркало отражает почти отвесные лучи солнца, точно сверху и снизу расплавленное серебро. Рябит в глазах, и кружится голова. Здесь часты миражи, и я видел у берега несколько обманутых ими и разбившихся кораблей.
Начинается восточная сказка, яркая и жуткая.
На твоих островах в раскаленном песке, Позабыты приливом, растущим в ночи, Издыхают чудовища моря в тоске: Осьминоги, тритоны и рыбы-мечи.Помимо прочего, Красное море — центр арабской работорговли; Гумилев упоминает об этом в стихах «Шатра». Но не в «Дневнике». Здесь главное внимание уделено охоте на акулу, описанной с изысканным натурализмом. «Полилась вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два величиною, губчатая печень и кишки вывалились и закачались в воде, как странной формы медузы».
Наконец Джибути. Здесь Гумилев встречает русского вице-консула (и греческого коммерсанта — практика назначения вице-консулами кого-нибудь из местных жителей, готовых принять на себя необременительные обязанности, связанные с правовой помощью изредка забредающим в эти края русским, была довольно распространена) Галеба. В прошлое путешествие Гумилев с ним поссорился, сейчас они помирились и даже совершили (вместе с Мозар-беем) прогулку в загородный сад.
Железную дорогу на Дире-Дауа (следующий пункт на пути в глубь страны) уже построили; поезд отходил, однако, лишь через три дня, и Гумилев со Сверчковым не без удовольствия провели эти дни в «очаровательном городке» Джибути — тогда французской колонии, ныне столице небольшой независимой республики. В дороге Гумилев «отдыхает как зверь» от «безумной зимы» (что это была за зима, расскажем ниже) и понемногу переводит Готье. Сомалийские вожди приходят с подарками к турецкому консулу — и Гумилев покупает у них кое-какие предметы. С помощью Мозар-бея он начинает собирать песни; правда, фольклор сомалийцев не слишком его впечатлил. Из Джибути пишет Ахматовой и посылает открытку (с изображением местных танцующих «дикарей») «его превосходительству Льву Яковлевичу Штернбергу» («Завтра едем в глубь страны. Дождей не будет еще полтора месяца. Путешествие обещает быть удачным. Русский вице-консул Галеб уже оказал мне ряд услуг…»)[88].
Николай Сверчков на пароходе по пути в Африку. Фотография Н. С. Гумилева (?), 1913 год. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
Из Джибути Гумилев посылает Ахматовой новые стихи и просит послать отзыв о них в Дире-Дауа. Давидсон видит здесь свидетельство оперативности тогдашней почты, но письма не могли ходить быстрее, чем пароходы. Вероятно, Гумилев рассчитывал получить ответ на обратном пути — в июле — августе. Очевидно, что разумнее всего было писать в то место, где заканчивалось на тот момент железнодорожное сообщение.
Железная дорога, однако, работала плохо: Гумилев упоминает о пренебрежительном отношении французских колониальных властей к ее строительству и эксплуатации. «Паровозы носят громкие, но далеко не оправдываемые названия: Слон, Буйвол, Сильный и т. д. Уже в нескольких километрах от Джибути, когда начался подъем, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы». На станции Айша, в 260 километрах от Джибути, пассажирам было объявлено: дождями размыло пути (хотя Гумилев писал Штернбергу, что «дождей не будет еще полтора месяца»), на ремонт их потребуется восемь дней и поезд дальше не пойдет. Большинство пассажиров вернулось в Джибути. Гумилев, Сверчков и соблазненный ими Мозар-бей рискнули проехать 80 километров поврежденного пути на дрезине, выпрошенной у ремонтных рабочих.
С нами поместились ашкеры (абиссинские солдаты), предназначенные нас охранять, и курьер. Пятнадцать рослых сомалийцев, ритмически выкрикивая «ейдехе, ейдехе» — род русской «дубинушки», не политической, а рабочей, — взялись за ручки дрезин, и мы отправились. Дорога, действительно, была трудна. Над промоинами рельсы дрожали и гнулись, и кое-где приходилось идти пешком. Солнце палило так, что наши руки и шеи через полчаса покрылись волдырями. По временам сильные порывы ветра обдавали нас пылью.
В Дире-Дауа Гумилев нанял слуг — ашкеров (охранников, солдат) и переводчика. Сам он описывает их так: «Хайле, негр из племени мангаля, скверно, но бойко говорящий по-французски, был взят как переводчик, харрарит Абдулайе, знающий лишь несколько французских слов, но зато имеющий своего мула как начальник каравана, и пара быстроногих черномазых бродяг как ашкеры». По утверждению эфиопа О. Ф. Е. Абдуи (приславшего в 1987 году письмо в газету «Московские новости»), переводчиком Гумилеву служил его дядя, нанятый в Дире-Дауа, — воспитанник католической миссии Х. Мириам. Вероятно, это и был «негр Хайле».
В связи с этим поэт упоминает следующую подробность: «Чтобы быть уверенным в своих ашкерах, необходимо записать их и их поручителей у городского судьи. Я отправился к нему и имел случай видеть абиссинский суд». Судебное дело между абиссинцем и арабом из-за больного мула (сравните: «Кто сто талеров взял за больного верблюда, сев на камень в тени, разбирает судья» — «Абиссиния», из «Шатра») Гумилев описывает иронически. По его словам, в абиссинском суде выигрывает тот, кто дал судье больший подарок. «Тем не менее абиссинцы очень любят судиться, и почти каждая ссора кончается традиционным приглашением во имя Менелика (ба Менелик) явиться в суд». Булатович описывает абиссинский суд подробнее и почтительнее.
Любопытно, что существует другое описание эпизода с переводчиком и судьей, изложенное со слов Коли Маленького его матерью. Не стоит забывать, что это рассказ 80-летней женщины, передающей слышанную ею тридцать с лишним лет назад историю.
Понадобилось найти проводника, знающего французский язык. Отцы иезуиты прислали несколько молодых людей. Никто из них не желал идти в неизведанные места к дикарям. Нашелся один — Фасика, который знал даже несколько слов по-русски. Но вот беда: его не пускала тетка, и в то время, как надо было выступать каравану, прислала людей, чтобы его увести. Начался спор. Фасику тянули вправо, тянули влево, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы вдруг не появился какой-то абиссинец, размахивающий палочкой над головой. Н. С. недолго думая вырвал у него из рук палочку и замахнулся на него. «Что вы, что вы! — закричал Фасика. — Ведь это же судья!» Все кончилось вполне благополучно, судья, рассмотрев бумаги, разрешил взять переводчика и даже подарил Н. С. свою палочку, после чего все пошли к тетке Фасики, где засиделись дотемна.
Дальше — путь конным караваном в Харрар. Любопытно сравнить описание этой дороги Гумилевым с письмом уже упоминавшейся Чемерзиной и с путевыми записками доктора Д. Л. Глинского, возглавлявшего русскую санитарную миссию в Эфиопии в 1896 году[89].
Чемерзина:
В настоящее время местность эта довольно красива, ибо деревья мимозы, молочаи, кактусы и масса других лиственных растений зелены и очень красивы, трава и кустарники тоже окрашены в чудный изумрудный оттенок… Но, говорят, в обычное время, до тропических дождей, это настоящая пустыня, и нет ни травинки, ни листика на деревьях… Местами приходилось проходить по откосам каменистым и довольно узким тропинкам, впрочем, пропастей больших я не видела, скорее встречались мне ложбины, в которых масса зелени и трав напоминала мне швейцарские долины и ущелья…
Глинский:
Приближаясь к Харрару все ближе и ближе, мы, благодаря усталости, высказывали все большее нетерпение скорее увидеть этот абиссинский Париж. Наше нетерпение подогревалось… томительной надеждой, что там, в этом Харраре, получим хорошую воду и там не будет этого жестокого сомалийского солнца… Но… когда мы вступили в харрарские окрестности, где обилие быстротекущих речек, свежесть роскошной листвы и прохлада тенистых лужаек освежила нас, и мы стали думать о Харраре не только как о воде и о тенистом крове, а как о городе, который представляет несомненный интерес для всякого интеллигентного европейца… Отряд наш гуськом тянулся то по глубоким оврагам с шумящими водопадами, то по крутым спускам и подъемам. Возделанные участки полей здесь точно шахматные доски то на том, то другом склоне выских гор… Часто слышалась незатейливая по мотиву песня трудолюбивого галласа, готовящего в середине мая свою ниву дурры, ячменя и тефи — этих насущных хлебов Абиссинии.
Сам город издалека произвел на русских гостей величественное впечатление, но, достигнув его, они увидели немощеные узкие улочки, «небеленые стены, кое-как сложенные из необтесанного каменного туфа, незатейливую, чтобы не сказать более, архитектуру домов с неопрятными надворными постройками… улицы с наваленными на них как бы нарочно каменными глыбами». Дальше описания в таком же духе — овраги за городской стеной, заваленные белыми костями животных, болезни, грязь, нищета.
А вот как описывает путь в Харрар Гумилев:
Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде…
…Когда наконец, полузадохшиеся и изнеможденные, мы взошли на последний кряж, нам сверкнула в глаза так давно невиданная спокойная вода, словно серебряный щит: горное озеро Адели. Я посмотрел на часы: подъем длился полтора часа. Мы были на Харрарском плоскогорье. Местность резко изменилась. Вместо мимоз зеленели банановые пальмы и изгороди молочаев; вместо дикой травы — старательно возделанные поля дурро.
Сам же Харрар — «совсем Багдад времен Гаруна-аль-Рашида. Узкие улицы, которые то подымаются, то спускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади, — все это полно прелести старых сказок».
В Харраре Гумилев должен был купить мулов для дальнейшего путешествия, при этом он столкнулся с новыми сложностями:
Кто думает, что в Абиссинии легко купить мулов, тот очень ошибается. Специальных купцов нет, мулиных ярмарок тоже. Ашкеры ходят по домам, справляясь, нет ли продажных мулов. У абиссинцев разгораются глаза: может быть, белый не знает цены и его можно надуть.
Рынок в Харраре. Фотография Н. Л. Сверчкова, 1913 год. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
На несколько дней он задерживается в городе. Между прочим, он встречает старых аддис-абебских знакомых — «подозрительного мальтийца Каравана», «чистенького пожилого копта, директора местной школы», «русского подданного Артема Ихаджана». Здесь же он прогоняет за мошенничество («он не только не искал мулов, но даже, кажется, перемигнулся с хозяином отеля, чтобы как можно дольше задержать нас там») переводчика Хайле. Гумилев обратился в католическую миссию в поисках нового переводчика.
Епископ, возглавлявший миссию,
француз лет пятидесяти с широко раскрытыми, как будто удивленными глазами… был отменно любезен и приятен в обращении, но года, проведенные среди дикарей, в связи с общей монашеской наивностью, давали себя чувствовать. Он как-то слишком легко, точно семнадцатилетняя институтка, удивлялся, радовался и печалился всему, что мы говорили.
Давидсон предполагает, что епископ этот — иезуит Жером. В таком случае Гумилев не догадался спросить Жерома о другом французе, возглавлявшем здешнюю факторию два с половиной десятилетия назад. Вероятно, он сам не догадывался о том, по чьим стопам — шаг в шаг! — идет в стране черных христиан. Имя Рембо ни разу не упоминается в «Африканском дневнике». А ведь Жером вроде бы был другом французского поэта…
Рас Тафари (впоследствии Хайле Селассие I). Фотографии Н. Л. Сверчкова, 1913 год. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
Чуть позже Гумилев встретился с учеником Жерома — дездемачем (дедъязмагом) Тафари — губернатором Харрара, сыном некогда правившего здесь раса Маконена. Разрешение на проезд по стране, присланное по запросу Гумилева (и ходатайству Чемерзина) из Аддис-Абебы, было направлено к начальнику харрарской таможни Бистрати, который выдать пропуск отказался, адресовав русских исследователей к дедъязмагу. К последнему следовало идти с подарком; Гумилев и Сверчков пришли в губернаторский дворец, «напоминавший хорошую дачу где-нибудь в Парголове или Териоках», с ящиком вермута. Губернатор, юноша двадцати одного года (а не девятнадцати, как пишет Гумилев), принял гостей любезно, но заявил, что помочь им ничем не может без приказа из Аддис-Абебы. Любезность его простиралась, однако, так далеко, что он разрешил себя сфотографировать. Через несколько дней Гумилев и Сверчков пришли с фотоаппаратом и сняли Тафари и отдельно — его жену, сестру Лидж Иясу (которая, как указывает Гумилев, «находилась в интересном положении»).
Дедъязмаг проявлял к ней самое трогательное вниманье. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять ее несколько раз, чтобы наверняка иметь успех. При этом выяснилось, что он говорит по-французски, но только стесняется, не без основанья находя, что принцу неприлично делать ошибки. Принцессу мы сняли с ее двумя девочками-служанками.
(Застенчивый дедъязмаг говорил, кроме того, по-английски и по-итальянски — как раз в 1913 году Гумилев безуспешно пытался изучить эти языки. А также, разумеется, на трех-четырех абиссинских наречиях…)
Супруга раса Тафари со служанками. Фотографии Н. Л. Сверчкова, 1913 год. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
Тафари был назначен губернатором в память отца — по требованию харрарского войска. «Первый флаг поднялся над Харраром — это город раса Маконнена…» Рас Маконнен был первым наместником императора-христианина в завоеванной мусульманской провинции. Сын его был (в то время) «мягок, нерешителен и непредприимчив». У него зато был суровый старый вице-губернатор, фитауари Габре, поддерживавший строгий порядок с помощью бича из жирафьей кожи, а иногда и с помощью виселицы.
Прошло, однако, три года — и на престол взошла Заудиту, дочь Менелика, а Тафари (получивший титул раса — князя, принца) был провозглашен ее наследником. А поскольку абиссинские обычаи допускали присутствие на престоле женщины, но требовали, чтобы ей помогал регент, Тафари и стал регентом. Спустя четырнадцать лет он под именем Хайле Селассие I взошел на эфиопский престол, на котором восседал сорок четыре года. Занимался он, собственно, тем же, чем Менелик, а до него Феодор, — проводил прогрессивные реформы, боролся с иноземными завоевателями (главным образом итальянцами) и казнил заговорщиков. Закончилось все это печально — коммунистическим переворотом. Коммунисты во главе с товарищем Менгисту Хайле Мариамом задушили престарелого императора… и захоронили в полу зала заседаний Политбюро. Вероятно, рассчитывали, что тело царя-соломонида придаст им сил.
Потом коммунистов тоже свергли. Сейчас в Эфиопии, говорят, демократическая республика, население возросло до 67 миллионов (сто лет назад было 10 миллионов), экономика растет, перспективы широки, но при плохом урожае кофе целые провинции по-прежнему голодают. Прах последнего императора перезахоронен в главном аддис-абебском соборе. Национальный вопрос разрешен, как это обычно происходит в полиэтнических государствах, за счет самой многочисленной и некогда «государствообразующей» нации — амхарцев. Амхарцы недовольны. Многие из них поддерживают 90-летнего Амха Селассие I, сына Хайле Селассие, считающего себя императором и живущего в США. Именно им была беременна жена раса Тафари, когда ее фотографировал Коля Маленький.
Но Хайле Селассие — не только царь, но и живой бог. Известия о международных визитах чернокожего раса Тафари, а затем о его восшествии на престол, случайно долетевшие до забитых ямайских негров, оказали на них магическое воздействие. Так возникло новое учение — растафарианство. Растафарианцы (растаманы) считают, что древние иудеи были чернокожими и что Хайле Селассие, потомок царя Соломона и воплощение бога Джа (Иеговы), должен возродить уничтоженное белыми вавилонянами черное царство. Приверженцы этой религии не едят свинины, не пьют вина, но курят марихуану и не стригут волос. Среди них, как ни странно, есть и белые. Когда в 1966 году Хайле Селассие прибыл на Ямайку с визитом, в аэропорту его встретила охваченная экстазом коленопреклоненная толпа. Растроганный император предложил своим приверженцам земли в малообжитой южной части страны. Но воспользоваться этой льготой успели немногие: сравнительно скоро Хайле Селассие был низложен и, как полагают растафарианцы, вознесся на небо.
Вот с таким человеком общался в 1913 году Гумилев…
Остается добавить, что четыре года спустя, находясь во Франции и узнав о назначении своего «знакомого» регентом, Гумилев пишет предназначенную для французского правительства «Записку об Абиссинии» — «относительно могущей представиться возможности набора отрядов добровольцев для французской армии в Абиссинии». Только абиссинских наемников французам и не хватало. Мало было им сенегальцев… Видимо, записка так и не была подана в соответствующие инстанции: иначе Гумилев, вероятно, показал бы ее носителю французского языка, который исправил бы грамматические и орфографические ошибки (не будучи принцем, Гумилев не так боялся их делать). В конце записки русский подпоручик утверждает, что «три месяца» прожил в Харраре и четыре в Аддис-Абебе. Но мы знаем наверняка: в Харраре Гумилев в 1913 году провел не больше трех недель.
Уже 20 мая Гумилев пишет Штернбергу, что купил мулов и нанял четырех слуг — двух абиссинцев (т. е. амхарцев) и двух галласов, и переводчика-галласа. Но из-за отсутствия пропуска отъезд задержался до 4 июня.
Сверчков занимался энтомологией; Гумилев же собирал «дикарские вещи»: скупал старье, рылся в мусорных корзинах, угощал катом (наркотическим растением) старого шейха, выманивая у него чалму. Побывали в индийском театре, который завел здесь будущий император. Наконец разрешение было получено, и путешественники двинулись дальше. На этом месте заканчивается первая (литературная) часть дневника.
Дальше путь пролегал «сквозь Черчерские дикие горы», мимо зарослей молочая, полей дурро, редких хижин. По ночам путешественники отгоняли ружейными выстрелами подходящих гиен. В деревне Беддану их приветливо принял геразмач (такой титул) Мозлекие, дядя переводчика экспедиции. Там же они встретили некоего русского доктора. Дальше путь пошел вверх. Началось прохладное нагорье — дега. Потом дорога вновь пошла вниз по склону. 11 июня Гумилев записывает в дневнике:
Шли 6 часов на юг; пологий спуск в Аппия; дорога между цепью невысоких холмов; странные цветы: один словно безумный с откинутыми назад лепестками и тычинками вперед. Отбились от каравана; решили идти в город; поднимались над обрывами полтора часа; спящий город; встречный вице-губернатор доходит до каравана и пьет с нами чай, сидя на полу; город называется Ганами, по-галасски Утренитб (то есть хороший); в нем живет начальник области фитуатури Асфау с 1000 солдат гарнизона; домов сто. Церковь Святого Михаила; странные дома-камни с дырами и один на другом; есть даже три друг на друге. Одни напоминают крепостцу с бойницей, другие сфинкса, третьи циклопические постройки. Тут же мы видели забавное приспособление для дикобраза (джарта): он ночью приходит есть дурро, и абиссинцы поставили род телеграфной проволоки или веревки консьержа, один конец которой в доме, а на другом подвешено деревянное блюдо и пустые тыквы. Ночью дергают за веревку. Раздается шум, и джарт убегает. В дне к югу есть львы, в двух днях — носороги.
Дальше путь спустился в «колу» — раскаленную межгорную низменность. Нормальная температура воздуха в «коле» 35–40 градусов Цельсия. Взбунтовались ашкеры, пришлось увеличить их паек. Здесь же Гумилеву вновь повстречался его зверь-тотем — леопард… И — редкие, нищие, желанные селения… Быт «дикарской страны» даже в мелочах поражал грубой физической осязаемостью, вещностью. Той вещностью, за которую в эти годы затеяли литературный поход Гумилев и его друзья.
Стали просить продать молока, но нам объяснили, что его нет. В это время подъехали абиссинцы… Они тотчас проникли в дом и достали молока. Мы выпили и заплатили. Абиссинцы не пили, была пятница, они старались для нас и, отыскивая нас по следам, заехали в эту трущобу. Мы не знали дороги и схватили галласа, чтобы он нас провел. В это время прибежали с пастбища мужчины — страшные, полуголые. Особенно один, прямо человек каменного века. Мы долго ругались с ними, но наконец они же, узнав, что мы за все заплатили, пошли нас провожать и на дороге, получив от меня бакшиш, благодарили…
Сравните: «Мне в Африке нравится обыденность. Быть пастухом, ходить по тропинкам, вечером стоять у плетня…» (разговоры с О. Мочаловой, 1916).
Поскольку Гумилев не дал в отделанной части «Дневника» характеристики быта и культуры народа, который тогда называли «галласы» или, точнее, «галла», а сейчас «оромо», мы попытаемся сделать это, основываясь на сочинениях Булатовича и других авторов того времени.
Галласы, древний кушитский народ, делились на земледельцев и скотоводов. На западе преобладало земледелие, в восточных провинциях — скотоводство. Из ремесел распространено было кузнечное дело и ткачество. Галласы обожали торговать, но главной обменной единицей у них была соль (австрийских талеров, которыми расплачивались в Абиссинии, здесь катастрофически не хватало). На соль меняли кофе, золото, слоновую кость… Среди галласов были и христиане, и мусульмане, но в основном они держались древних языческих верований.
Что еще?
Галлас — поэт, он обожает природу, любит свои горы и реки, считая их одушевленными существами. Он страстный охотник.
Галласы вполне боевой народ. Они очень храбры, и убийство у них, как и у других народов, возведено в культ. Еще недавно были некоторые племена галласов, где юноша не имел права вступать в брак, пока не убил слона, льва или человека (Булатович. «От Энтото до реки Баро»).
Галласы еще не вышли из родового строя и не изжили примитивных демократических структур, свойственных на определенном этапе развития всем народам.
Другими словами, народ, который звали «галла», по уровню развития и менталитету напоминал… ну, хотя бы почти соименных им галлов времен Юлия Цезаря. В роли же Рима выступала Абиссинская держава.
17 июня Гумилев впервые услышал, как молятся местночтимому святому Шейх Нура-тукейну. Но прошло еще шесть дней, прежде чем экспедиция достигла «тропического Рима» — селения Шейх-Гусейн. Дни эти были самыми тяжелыми во всей экспедиции. 19 июня с огромным трудом удалось переправиться через быстроводную и кишащую крокодилами реку Уаби. Мул Коли Маленького не удержался на ногах, и крокодил сорвал с ноги всадника гетру (это вовсе не смешно!).
Сверчков рассказывал матери, что через Уаби перебирались в корзинах, подвешенных на канате, привязанном к деревьям на противоположных берегах реки. «Перебирая канат руками, можно было двигать корзину к берегу». Возможно, такой странный способ переправы применялся на обратном пути. Но как же переправляли мулов?
Потом начались трудности с провизией и водой. Охотиться приходилось уже не только для пополнения трофеев. У Гумилева заболели почки. Судя по всему, он страдал хроническим почечным заболеванием, обострявшимся в экстремальных условиях; следующий раз это произошло в 1915-м на фронте.
Сам Шейх-Гусейн выглядит в записях Гумилева также довольно прозаически. Святого, давшего имя этому городу, давно не было в живых, но в городе жил его наследник — духовный наставник его почитателей, человек с замечательным именем Аба Муда, которому приписывали пророческий дар.
Аба Муда прислал провизии. Мы пошли к нему; он принял нас в доме с плоской крышей, где было три комнаты — одна отгороженная коврами, другая — глиной. Была навалена утварь. Хотел войти осел. Аба Муда подражает абиссинским вождям и важничает.
Сравните:
Жирный негр восседал на персидских коврах В полутемной неубранной зале, Точно идол, в браслетах, серьгах и перстнях, Лишь глаза его дивно сверкали. …………………………….. Все расспрашивал он, много ль знают о нем В отдаленной и дикой России…Конечно, именно в этих строках заключен главный «мессидж» стихотворения: относительность всех представлений, «многополярность мира», говоря современным языком. Ради этого поэт несколько деформирует реальность. Существует фотография Аба Муда, выполненная Сверчковым. Вовсе не жирный, не негр, а кушит, и без особого блеска в глазах. Да и сам «тропический Рим» был всего лишь жалкой галласской деревушкой.
Вечером того же дня гостям показали гробницу Шейха Гусейна и священную пещеру, из которой не выбраться грешнику. «Надо было раздеться донага и пролезть между камней в очень узкий проход. Если кто застревал — он умирал в страшных мучениях: никто не смел протянуть ему руку, никто не смел подать кусок хлеба или чашку воды». Гумилев, само собой, решил испытать себя. Потребовалось бы, вероятно, съездить в Эфиопию, чтобы проверить истинность всех этих легенд.
Со слов двух адептов Шейха Гусейна — Хаджи Абдул Меджиба и Кабир Аббаса — Гумилев записал его житие. Эта запись не сохранилась.
Дальше караван двинулся к городу Гинир, которого достиг 30 июня. Это была крайняя южная точка пути. С водой было по-прежнему плохо. К тому же накопившийся багаж стеснял передвижение. Самым большим приобретением была местная машина для обработки хлопка.
Простояв у Гинира четыре дня и пополнив запасы продовольствия, Гумилев, Сверчков и их спутники двинулись на северо-запад, на Метакуа. У Гумилева остаются силы лишь на то, чтобы делать беглые записи: «Базар без деревни; начальник в будке; объявление о беглом рабе; женщина с зобом…» Все это никогда не было расшифровано и использовано. Шли тяжело, когда дорога спускалась в «колу»; легче, когда поднимались в гору. 26 июля Гумилев обрывает дневник на слове «Дорога…».
Все это уже отчасти напоминает описания странствий Ливингстона и Стенли в джунглях или, скажем, Седова в полярных льдах. В один прекрасный день исследователь обрывает записи в дневнике, а через десять лет его череп, ледоруб или заржавевшее ружье находит следующая экспедиция. На самом деле, однако, в данном случае все было не так мрачно и не так романтично. Путь Гумилева пролегал в краях с трудным для европейца климатом, в отсталой стране, но все-таки не среди белых медведей или кровожадных людоедов, и не слишком далеко от телеграфа и железной дороги. Это была отчасти обычная полевая работа этнографа, отчасти экстремальный туризм.
Аба Муда. Фотографии Н. Л. Сверчкова, 1913 год. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
11 августа Гумилев, если верить господину Абдуи, оказывается в доме его деда и бабки в долине Дера (между горами Черчер и массивом Ариси к северу от озера Зивай). Каким образом оказался поэт-путешественник в доме родителей изгнанного им «низкого» Хайле? Или Х. Мариам — это не «Хайле», а другой воспитанник католической миссии, Франсиско, тоже из Дире-Дауа, упомянутый в «Дневнике»? Или безымянный переводчик-галлас из письма к Штернбергу?
Так или иначе, в Дера Гумилев лечит хозяйку от малярии таблетками, освобождает работника, которого жестокосердный хозяин привязал к дереву, отвозит его в Дире-Дауа и поручает заботам местных миссионеров — в общем, ведет себя как добрый самаритянин. 13 августа у хозяина рождается сын, которого называют в честь гостя (в некоторых районах Эфиопии есть такой обычай) — Гумило. В тот же день Гумилев уехал в Харрар.
Однако документальные свидетельства противоречат этой датировке.
Гробница Шейх-Гусейна. Фотографии Н. Л. Сверчкова, 1913 год. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
Еще в мае Гумилев просил Штернберга перевести Лионским кредитом деньги (200 рублей) в Дире-Дауе, чтобы он мог расплатиться с ашкерами и выехать на родину. Но почему-то это не было сделано, и Гумилев вынужден был обращаться за помощью в русскую дипмиссию.
27 октября Чемерзин направил Радлову письмо, в котором говорится: «8 августа г. Гумилев, в бытность свою в Харраре, перед выездом в Россию, обратился ко мне с просьбою о высылке ему 140 талеров… ввиду задержки обещанных Академией денег». Чемерзин просил директор Кунсткамеры «не отказать в содействии к возвращению указанной суммы».
26 ноября Радлов ответил Чемерзину, что
по получении письма Вашего Превосходительства… был приглашен мною в музей Н. С. Гумилев, который сообщил мне, что уже месяц назад деньги им были переведены в Миссию через Лионский кредит. Задержка в высылке денег произошла оттого, что г. Гумилеву пришлось ждать около трех недель в Джибути.
Книга Шейх-Гусейна. Фотографии Н. Л. Сверчкова, 1913 год. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
Итак, Гумилев уже 8 августа был в Харраре, оттуда выехал в Джибути, но почему-то застрял там на три недели. Значит, в Россию он выехал пароходом лишь около 1 сентября. 20 сентября он возвращается в Петербург, а 26 сентября передает в Кунсткамеру свои коллекции.
Коллекции Гумилева — Сверчкова (фонды 2154, 2155 и 2156) довольно объемны. Они включают 44 харрарских, 40 сомалийских и 28 галласаских предметов, причем представлены обе этнические группы народа галла (оромо) — кота и арусси. Разумеется, Гумилев был дилетантом. Как сердито замечают авторы позднее (в 1983 году) сделанной научной описи, «в описи, составленной собирателем, почти нет описания предметов, не указаны их местные названия, а иногда и способ употребления». Этнографы ворчат на «случайный характер» коллекции, ее бессистемность.
Тем не менее список предметов довольно разнообразен. Тут и «подвеска из слоновой кости продолговатая, слегка расширенной книзу формы», и палица — «будчь» — «темно-красного твердого дерева, напоминающая по форме грушу… В свое время в Харраре такие палицы служили оружием…», и желудок — «джемма-гога» — для нюхательного табака («употребляется только старухами»), и детская игрушка, и ткацкий станок, и более сотни фотографий и негативов. Судя по заявлению Гумилева от 8 января 1914 года, за все эти коллекции от Академии наук ему и Сверчкову причиталось 400 рублей. Вероятно, эти деньги были выплачены.
В настоящее время в экспозиции Кунсткамеры выставлено две вещи из коллекции Гумилева — кувшин из Харрара и подойник из Оромо. Остальное — в запасниках.
Отдельное место занимают «картины эфиопских мастеров» — четыре акварельки, купленные за бесценок и подаренные Кругликовой. В 1936 году она передала их Кунсткамере. Одна — «изображение религиозного содержания» (Архангел Рафаил?), два анималистических произведения — «Лев в пустыне» и «Бегемоты», и жанровая картинка — «Обработка поля мотыгой». Собственно эфиопского в них — только изображение неба: красно-желтыми полосами, а не синим, как в европейской живописи. Гумилев интересовался африканским искусством и даже начал писать о нем статью, но едва ли он в состоянии был отличить хорошую африканскую картину или скульптуру от посредственной.
5
Больше Гумилев в Африке не был никогда.
Существует примечательное свидетельство Ахматовой. Гумилев говорил ей, что ищет в своих африканских странствиях «золотую дверь». Вернувшись в Петербург в 1913 году, он признался: «золотой двери» нет… Можно спорить о том, что перед нами — просто поэтический образ или оккультный символ (как считает Богомолов). Но в любом случае «золотая дверь» — это связь с иным и лучшим миром. Это — спасение. Это — творчество.
Ахматова не верила, что перемещение в пространстве может помочь творческой судьбе поэта. Она не верила, что «золотая дверь» — вдали. Она могла бы торжествовать. Ее мнение о ненужности «экзотических» странствий и мотивов поэзии Гумилева разделяли многие. Казалось бы, и сам Гумилев разделил его.
Но почему-то спустя полтора года (и каких года!) ушедший добровольцем на фронт, ставший в одночасье предметом всеобщего восхищения, он пишет Лозинскому:
…Мне досадно за Африку. Когда полтора года тому назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпенья выслушать мои впечатления и приключения до конца. А ведь правда, все то, что я выдумал один и для себя одного, ржанье зебр ночью, переправа через крокодильи реки, ссоры и примиренья с медведеобразными вождями посреди пустыни, величавый святой, никогда не видевший белых в своем африканском Ватикане, — все это гораздо значительнее тех работ по ассенизации Европы, которыми сейчас заняты миллионы рядовых обывателей, и я в том числе.
Пусть африканские впечатления уже успели преобразиться в поэтическом воображении, пусть жалкий сельский колдун Аба Муда превратился в «величавого святого», да еще «никогда не видевшего белых» (в любом случае речь идет о белых, так сказать, в культурном смысле — арабы, тоже принадлежащие к европеоидной расе, не в счет). В стихах это противоречие разрешится диалектически: там «жирный негр», жрец Шейха Гусейна, одновременно смешон и величественен. Но суть ясна: для Гумилева индивидуальный путь поэта, сказка для себя, ценнее трудов и опасностей, делимых «с гурьбой и гуртом».
Не забудем и об еще одной важной подробности: о возникшей у Гумилева уже в 1916–1917 годы мечте о путешествии на Мадагаскар. Мадагаскар — островная страна с очень своеобразной культурой, населенная мальгашами — выходцами из Юго-Восточной Азии. В 1896 году Мадагаскар стал французской колонией, и, скорее всего, Гумилев мог почерпнуть информацию о нем именно из французских источников. Гумилева должен был вдохновлять образ мадагаскарской королевы — Раванилуны I, которой преданно служили мужчины-воины. Один из них («королевы мадагаскарской самый преданный генерал») становился на короткое время супругом государыни…
Исчезла ли «золотая дверь»? Что именно вынес поэт из своих африканских странствий? Насколько они важны были для его дальнейшего творчества?
Все это — тема отдельного и сложного разговора.
Уже в «Чужом небе» появляется цикл «Абиссинских песен», совершенно непохожих на те реальные песни, которые сохранились в записях поэта, но, по всей вероятности, имеющих какие-то соответствия в абиссинском фольклоре. Во всяком случае, именно здесь — больше чем где бы то ни было раньше или позже — Гумилеву удается достичь того эффекта подлинности, эффекта личного присутствия, которого (по мнению многих критиков и исследователей) недостает его поэзии. Каждая из четырех песен удивительно конкретна (кроме «Невольничьей», которая обращена скорее не к эфиопскому, а к общеафриканскому опыту, — и, сложись судьба Гумилева иначе, стала бы неизменной принадлежностью всех советских антологий). Военный и крестьянский быт страны, специфически африканское сочетание непосредственности и лукавства — все это передано с такой убедительностью, что, пожалуй, по мастерству стилизации лишь «Александрийские песни» да китайские стихи Паунда можно здесь поставить в ряд (и лишь отчасти — «Фарфоровый павильон» самого Гумилева). Не забудем, однако: Паунд и Кузмин имели дело с признанными человечеством «культурными ценностями». Гумилев говорил от лица людей, считавшихся «дикарями». В каком-то смысле это его устраивало. Монументальная и жестокая простота нравов, мир, действительно находящийся «по ту сторону добра и зла», — вот что привлекало его в Африке:
Опись собрания Н. С. Гумилева, сделанная рукой Н. Л. Сверчкова. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
Сомалийский кувшин для воды.
Сомалийская деревянная подставка для головы во время сна.
Начало ХХ века. Из собрания Н. С. Гумилева. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
По лесам, полям и плоскогорьям Бегают свирепые убийцы, Вы, перерывающие горло, Свежей крови вы напьетесь нынче. От куста к кусту переползайте, Как ползут к своей добыче змеи, Прыгайте стремительно с утесов — Вас прыжкам учили леопарды. Кто добудет в битве больше ружей, Кто зарежет больше итальянцев, Люди назовут того ашкером Самой белой лошади негуса.Можно пожалеть, что этот «африканский акмеизм» не получил продолжения: может быть, потому, что никто из литературных соратников Гумилева не разделил его увлечений.
Последующие африканские стихи Гумилева, написанные во время путешествия 1913 года и позднее, совершенно иные. Африканский опыт осмысляется символически. В «Африканской ночи» (1913) страна Сидамо видится местом столкновения двух неафриканских по происхождению цивилизаций — христианства и ислама («Им помогает черный камень, нам — золотой нательный крест»)[90]. В «Мике» реальность эфиопской жизни (упоминаются даже конкретные имена: фитоорари Хабте Гийоргис — у Гумилева Авто-Георгис, — к примеру) и острая «колониальная» тема растворяется духом романтической сказки. Прообраз друга Мика, французского мальчика Луи, «обезьяньего царя», — конечно, новорожденный Лев Гумилев, «гумильвенок», которому отец (см. письмо к Ахматовой из Одессы) собирался привезти «своего негритенка». Николай Гумилев, автор «Невольничьей» абиссинской песни, хорошо знал реальную цену такой дружбы между господином и рабом. Но в душе Гумилева одинокий тринадцатилетний мальчик, сочиняющий для себя бесконечную волшебную сказку, и трезвый взрослый человек существовали параллельно, не смешиваясь.
Это необходимо принимать в расчет, обращаясь к главной африканской книге Гумилева — к «Шатру». Как известно, книга эта, включающая в окончательном варианте 16 стихотворений, была написана в конце 1917 — начале 1918 года. Она должна была стать частью задуманного Гумилевым грандиозного и странного проекта — «учебника географии в стихах». Аванс на этот «учебник» поэт получил 24 сентября 1917 года в издательстве «Петербург» (вероятно, аванс был выслан в Париж, где находился поэт в это время).
Гумилев мечтал описать в рифму всю обитаемую сушу — задача странная и бессмысленная, одна из тех масштабных и бессмысленных задач, которые Гумилев всю жизнь ставил перед собой и которые скорее замедляли его развитие как поэта. Проект включал Европу (все страны, кроме почему-то Швейцарии — но включая Албанию), Азию (Индия, Китай, Индокитай, Япония, Северная Сибирь, Центральная Сибирь, Монголия, Бухара и др.), Америку (18 стихотворений, посвященных всем областям от Гренландии до Огненной Земли; США Гумилев собирался посвятить пять стихотворений — одно Восточным Штатам, одно Западным, третье и четвертое — соответственно Кордильерам и Флориде, пятое — почему-то занявшим его воображение мормонам), Австралию и Океанию (без расшифровки).
Африканский проспект был таким: Египет, Триполи, Тунис, Алжир, Марокко, Сахара, Сенегамбия, Западный берег, Трансвааль, Родезия, Лесная область, Мадагаскар, озеро Виктория, Абиссиния, Сомали, Нил, озеро Чад, Красное море. Из этого плана написано лишь девять стихотворений («Египет», «Сахара», «Озеро Чад», «Сомалийский полуостров», «Экваториальный лес», «Красное море», «Мадагаскар», «Абиссиния» и не вошедшее в окончательную редакцию книги «Алжир и Тунис»). «Западному берегу» Африки посвящены стихотворения «Либерия» и «Дагомея». Шесть стихотворений — «Нигер», «Дамара», «Замбези», «Суэцкий канал», «Галла», «Судан» — не имеют соответствий в списке. Ко всему прочему, существует два варианта книги «Шатер» — «короткий», изданный в июле 1921 года в Севастополе стараниями Сергея Колбасьева, и «полный», появившийся в 1922-м в Ревеле. Книги отличаются не только составом, но и текстологически. По традиции, текст ревельской, посмертной книжки считается окончательным. Противоположное мнение высказал в книге «Неизвестный Николай Гумилев» (1996) А. Л. Никитин, но его аргументация носит почти исключительно вкусовой характер. Строфы севастопольского издания кажутся ему более совершенными и потому — более поздними. Возможно, впрочем, что они действительно «более поздние» — нельзя пренеберечь предположением комментаторов двухтомника 1991 года, что Гумилев, оказавшись в Крыму и получив неожиданно для себя предложение издать книгу, не имел при себе рукописи и восстановил стихи по памяти. Этим, кстати, можно объяснить отсутствие в севастопольской книжке таких важных стихов, как «Нигер» и «Замбези», — при наличии «Либерии» и «Экваториального леса», которые, по любым критериям, трудно отнести к вершинным удачам поэта. «Либерия», впрочем, отражает тот скепсис по отношению к европеизации «дикарей», который сквозит и в других произведениях Гумилева (рассказ «Черный генерал»). Уже здесь видно его отличие от Киплинга. «Адвокаты, доценты наук, пролетарии, пасторы, воры», получившиеся из буйных дикарей в результате вековой муштровки на американских хлопковых плантациях, меньше всего умиляют его. Half-children, half-devils или бесстрашные «рыболовы из племени Кру» гораздо ближе его сердцу романтика и не кажутся ему просто сырьем для перевоспитания.
Стоит процитировать «Африканскую охоту»:
…Это нам здесь, в Европе, кажется, что борьба человека с природой закончилась или, во всяком случае, перевес на нашей стороне. Для побывавших в Африке дело представляется иначе.
Узкие насыпи железных дорог каждое лето размываются тропическими ливнями, слоны любят почесывать свои бока о гладкую поверхность телеграфных столбов и, конечно, ломают их. Гиппопотамы опрокидывают речные пароходы. Сколько лет англичане заняты покореньем Сомалийского полуострова — и до сих пор не сумели продвинуться даже на сто километров от берега. И в то же время нельзя сказать, что Африка не гостеприимна — ее леса равно открыты для белых, как и для черных, к ее водопоям человек приходит раньше зверя. Но она ждет именно гостей и никогда не признает их хозяевами.
Концовка ревельского издания книги Н. С. Гумилева «Шатер». Рисунок Н. К. Калмакова, 1922 год
Применительно к «Шатру» остается открытым вопрос об источниках, которыми пользовался поэт. В случае «абиссинских» стихотворений он основывается на собственном опыте. Это же можно сказать о таких текстах, как «Египет», «Суэцкий канал», «Красное море». Но в других текстах Гумилев использует, по всей вероятности, книжные источники. Какие?
Где-то («Экваториальный лес», «Замбези») Гумилев черпал информацию, видимо, не столько из научных монографий, сколько из романов Хаггарда и других не самых серьезных беллетристов конца XIX века, или из «Истории великих путешествий» Жюля Верна. Не надо забывать и о выходившем с 1861 года в Петербурге журнале «Вокруг света». Оттуда (если не из газет) мог почерпнуть Гумилев имена Чаки и Дагмары — зулусских вождей первой половины XIX века, основателей воинственной южноафриканской империи. Не случайно в первоначальном списке присутствуют Трансвааль и Родезия: Англо-бурская война была в 1900–1902 годы (когда юный Гумилев был к политике совсем не равнодушен!) любимой темой застольных разговоров.
Но несколько стихотворений («Дамара», «Дагомея», «Нигер») свидетельствуют о более серьезном изучении поэтом географии и фольклора той части африканского контиента, где самому ему побывать не пришлось. По оценке А. Б. Давидсона (профессионального африканиста!), Гумилевым использован очень широкий материал — и допущено «поразительно мало ошибок». Откуда же этот материал взят? «Шатер» писался в Париже. Видимо, в поисках источников этих стихов следовало бы просмотреть прежде всего французскую африканистскую литературу начала XX века. Не будем забывать, в частности, о дружбе поэта в 1906–1908 годы с семьей Ж. Деникера. А в 1910 году, приехав с молодой женой в Париж, Гумилев, по свидетельству Иванова, находил время для посещения этнографических музеев. Во всяком случае, в популярных многотомных географических сочинениях Э. Реклю («Земля и люди») и Ф. фон Гельвальда, выходивших в русском переводе в конце XIX века и, без сомнения, Гумилеву известных, ничего подобного сюжетам этих стихотворений нет.
«Мик» появился в 1918 году — в не самое удачное для сказочной «африканской поэмы» время. Иванов-Разумник иронизировал:
Старый мир рушится; новый рождается в муках десятилетий; А. Блок, А. Белый, Клюев, Есенин откликаются потрясенной душой на глухие подземные раскаты — какое паденье! какая профанация искусства!.. И утешительно видеть пример верности и искусству, и себе… Прошлое Н. Гумилева является ручательством за его литературное настоящее и будущее. Десятилетием раньше, в годы первой русской революции, этот начинающий тогда поэт, верный сладостной мечте, рассказывал в книжке стихов «Романтические цветы» все о том же, о том, как
Далеко, далеко на озере Чад Изысканный бродит жираф.Этот «изысканный жираф» поистине символичен, он просовывает шею из-за каждой страницы стихов Н. Гумилева. Мы можем быть спокойны: искусство стоит на высоте. Пусть мировые катастрофы потрясают человечество, пусть земля рушится от подземных ударов: по садам российской словесности разгуливают павианы, рогатые кошки и, вытянув длинную шею, размеренным шагом «изысканный бродит жираф» (Знамя. 1920. № 3/4).
Так же ироничен был Э. Голлербах, чья рецензия на севастопольский «Шатер» (Жизнь искусств. № 806. 30 августа 1921) называлась «Учебник географии в стихах». «Искренне желаем, — с притворным энтузиазмом восклицал рецензент, чьи отношения с Гумилевым на тот момент были далеко не дружескими, — чтобы книжка эта получила широкое распространение среди детей младшего возраста и облегчила им изучение Африки». Рецензия увидела свет уже после гибели Гумилева, но за два дня до того, как о ней стало известно. Тональность откликов, появившихся после 1 сентября 1921-го, была, конечно, иной. Сам Голлербах в неотправленном письме в журнал «Вестник литературы» выражал сожаление, что его заметка «приобрела тягостный смысл», но при этом отказаться от своей оценки «Шатра» не желал.
Концовка отдельного издания поэмы Н. С. Гумилева «Мик».
Рисунок М. В. Добужинского, 1918 год
В «Огненном столпе» африканский (абиссинский) мотив возникает дважды. Первый раз — в «Леопарде», второй — в знаменитых «Моих читателях»:
Старый бродяга в Аддис-Абебе, Покоривший многие племена, Прислал ко мне черного копьеносца С приветом, составленным из моих стихов.Поскольку два других «читателя» имеют легко распознаваемые прототипы (Блюмкин и Колбасьев), логично предположить, что и «старому бродяге» есть соответствие в реальности. Судя по процитированным строкам, «бродяга» — белый (иначе не нужно было бы упоминать о расовой принадлежности копьеносца) и, вероятно, русский, причем русский, знакомый с современной поэзией.
А. Давидсон находит двух людей, которые могли быть прототипами этого «старого бродяги». Оба — русские офицеры, натурализовавшиеся в Абиссинии, женившиеся на местных уроженках и служившие на новой родине в высоких чинах. Один — Иван Филаретович Бабичев (1871–1955), прибывший в страну в 1897 или 1898 году в составе русской миссии и ставший фитаутари (полковником) императорской гвардии; его сын, «Мишка» Бабичев, стал первым эфиопским летчиком, а в 1946 году был временным поверенным Абиссинии в СССР. Второй (его кандидатура кажется Давидсону предпочтительной) — Евгений Евгеньевич Сенигов (1872 — после 1923), художник по призванию, социалист по взглядам, проживший жизнь средневекового кондотьера. Выпускник Александровской военной гимназии, он начинал службу в Фергане, а в 1898 году — примерно тогда же, когда и Булатович, и Краснов, и Бабичев, — попал в Абиссинию. Оставшись в стране — по личным или по политическим причинам, — он три года служил у поминавшегося уже Леонтьева, с 1901 по 1918 год был начальником левого крыла армии раса Вальдегеоргиса и управляющим провинцией Уалле. Русские дипломаты несколько раз неодобрительно упоминают этого «совершенно абиссинившегося» русского офицера, не имевшего — в отличие от Бабичева — никакой связи с русской общиной и даже «недружественно относящегося» к своему отечеству. Подлинным его увлечением была живопись; называть его, как иногда делали, «русским Гогеном», оснований нет — его акварели выполнены в кондовой передвижнической манере и едва ли обладают большой художественной ценностью, но их этнографическое значение переоценить трудно. Такой человек мог из любопытства достать стихи заезжего декадента и заставить своего подчиненного-абиссинца заучить их наизусть. Встреча с ним могла произойти в 1910–1911 годы — в 1913-м Гумилев в Аддис-Абебе не был, и в «Дневнике» 1913 года Сенигов не упоминается.
После 1918 года Сенигов фермерствовал на реке Уаллеги. В 1921-м, в год смерти Гумилева, он отправился в Советскую Россию, но был на два года задержан в Румынии и Болгарии, где, по собственным словам, вступил в коммунистическую партию. Прибыв наконец в Москву, он написал письмо Г. В. Чичерину, предлагая свои услуги в деле создания Абиссинского отдела Коминтерна. Предложение было отвергнуто. Нарком — нервный эстет, друг Михаила Кузмина, ницшеанец и музыковед-любитель — не считал целесообразным использование антиколониальной борьбы африканских народов в деле Мировой революции. В этом он, между прочим, серьезно расходился с политикой партии. Так что, возможно, дальнейшая судьба Сенигова была бы иной, попади его записка на другой стол. Так или иначе, больше об этом человеке мы не знаем ничего.
А ведь с ним мог бы встретиться Лукницкий…
Тогда бы мы, конечно, знали об африканской эпопее Гумилева гораздо больше.
Глава седьмая Утро акмеизма
1
Как бы ни хотел Гумилев почувствовать себя «мореплавателем и стрелком» — он всегда оставался в первую очередь поэтом, и не только поэтом, но и литератором. Путешествия были сказкой, которую он сам для себя писал. Явь — иногда веселая, иногда не очень — разворачивалась в совсем иных декорациях.
«Жемчуга», появившиеся накануне свадьбы поэта, между первым и вторым путешествием в Абиссинию, вызвали множество рецензий. Оба мэтра — Брюсов и Иванов — сочли необходимым отозваться о книге.
Рецензия Иванова напечатана в седьмом номере «Аполлона». Уже ее начало поражает двусмысленностью — мудрый и тонкий хозяин Башни был большим ее мастером: «Подражатель не нужен мастеру; но его радует ученик… Н. Гумилев не напрасно называет Валерия Брюсова своим учителем: он — ученик, какого мастер не признать не может; и он — еще ученик».
Иванов чутко отреагировал на то, что книга Гумилева посвящена Брюсову; он усмотрел в этом известный выбор, сделанный молодым поэтом. Не был ли, в свою очередь, этот выбор спровоцирован отказом Иванова — в последнюю минуту — от участия в африканском путешествии 1909–1910 годов? В таком случае Вячеслав не остается в долгу. Великодушно уступая Брюсову потенциального ученика, он слишком красноречиво (хотя, по видимости, более чем доброжелательно) перечисляет брюсовские темы и образы, перешедшие в стихи Гумилева: «Адам и Ева; Улиссы, Агамемноны, Семирамиды, Варвары… Одним словом, весь экзотический романтизм молодого учителя воскресает в видениях молодого ученика, порой преувеличенный до бутафории и еще подчеркнутый шумихой экзотических имен». Но можно спросить, разве «Адам и Ева» или «Улисс» — поэтическое изобретение или литературная собственность Брюсова?
Однако, продолжает рецензент,
острота надменных искусов жизни реальной, жадное вглядывание в загадку обставившего личность бытия… и в лик бытия нарастающего, упорное пытание смысла явлений, ревниво затаивших свою безмолвную душу… — все это, что в изобилии есть у Брюсова… и его определяет как ставшего и совершившегося, при всей незавершенности его окончательного лика и поэтического подвига, еще не сказалось, не осуществилось в творчестве Н. Гумилева, но лишь намечается в возможностях и намеках. И поскольку наметилось — обещает быть существенно иным, чем у того, кто был его наставником в каноне формальном и Вергилием его романтических грез…
Здесь Иванов переходит к тому, что является, на его взгляд, самобытным в молодом поэте:
Н. Гумилев подчас хмелеет мечтой веселее и беспечнее, чем Брюсов, трезвый в самом упоении… ибо непрестанно испытующий мыслию и волей судьбу и Бога… Золотые полудетские сны оптимистически окрашивают мир в глазах, затаенно надеющихся на реальность самой волшебной сказки искателя «Жемчугов черных, серых и розовых»… в противоположность омраченному гению того, кто в мятежной гордости, в «унылой злобе» однажды воскликнул:
Но последний царь вселенной — Сумрак, сумрак за меня!..Десять лет спустя в разговоре с Альтманом Иванов с несколько иной интонацией вспомнит эти брюсовские строки. Но пока он учтив, если уже не нежен, с «молодым учителем» (Брюсов моложе Иванова на семь лет), а «юного ученика» упрекает за «стесненность поэтического диапазона и граничащую подчас с наивным непониманием… неотзывчивость на все, что лежит вне пределов его грезы». Вся надежда на то, что «страданьем и любовью купленный опыт души разорвет завесы, еще обволакивающие перед взором поэта сущую реальность мира».
Неотправленное письмо Э. Ф. Голлербаха в редакцию журнала «Вестник литературы» по поводу публикации рецензии на «Шатер» Н. С. Гумилева, сентябрь 1921 года
Любопытно соотносится с этим отзывом рецензия самого Брюсова, напечатанная в журнале «Русская мысль» (1910, № 7):
Лет двадцать тому назад русская поэзия под влиянием ложно понятых принципов реалистического искусства почти совсем чуждалась фантастики. Поэты как-то стыдились всего, на чем лежал отсвет «романтизма», и во что бы то ни стало хотели оставаться в пределах не только современного, но непременно повседневного. Всем еще памятна борьба, которую повело с этими принципами поколение поэтов, выступившее в начале 90-х годов. Оно защищало равноправность мечты с так называемой действительностью и в разгар борьбы, как то всегда бывает, даже решительно отдавало предпочтение фантастике…
За пятнадцать лет борьбы новые идеи у нас, как на Западе, одержали победу. Реализм должен был сдать те свои позиции, которые пытался он было занять в 80-х годах. Но в то же время тем ощутительнее стало, что он из числа исконных, прирожденных властелинов в великой области искусства. Стало яснее, что начало всякого искусства — наблюдение действительности… Будущее явно принадлежит какому-то еще не найденному синтезу между «реализмом» и «идеализмом».
Этого синтеза Н. Гумилев еще не ищет. Он еще всецело в рядах борцов за новое, «идеалистическое» искусство. Его поэзия живет в мире воображаемом и почти призрачном.
Нельзя не обратить внимание на историко-литературный парадокс. Любой десятиклассник и уж по крайней мере любой студент-филолог знает, что Николай Гумилев — вождь акмеизма и что акмеизм «в противовес символистской поэтике… провозгласил возврат к земле, к материальному миру, к предмету» (Краткая литературная энциклопедия. Т. 1. 1962; автор статьи — А. Д. Синявский). Но вот два вождя русского символизма в один голос упрекают его за пренебрежение «сущей реальностью мира», «наблюдением действительности», за чрезмерный уход в мир мечты. Причем речь не идет о первых, незрелых опытах начинающего поэта — многие стихотворения из «Жемчугов» стали классикой, а до возникновения акмеизма и Цеха поэтов оставалось лишь два с половиной года.
И все же между двумя рецензиями есть существенное различие. Иванов надеется, что молодой поэт нащупает путь к «сущей реальности мира», наполнив свой «бутафорский», романтический мир собственной семантикой (которая будет оптимистичнее, и, подразумевается, возвышеннее, чем у Брюсова). Брюсов имеет в виду чисто экстенсивное тематическое расширение. При этом московский мэтр не готов признать Гумилева только своим последователем: Брюсов помнит, что тот — «ученик Анненского, Вячеслава Иванова и того поэта, которому посвящены «Жемчуга». По Иванову, гумилевский «романтический антураж» заимствован у Брюсова. Брюсов же иронически дистанцируется по отношению к гумилевским сюжетам:
…Если встречаются нам в этом мире имена, знакомые нам по другим источникам: античные герои, как Одиссей, Агамемнон, Ромул, исторические личности, как Тимур, Данте, Дон-Жуан, Васко-да-Гама, некоторые местности земного шара, как степь Гоби, или Кастилия, или Анды, — то все они как-то странно видоизменены, стали новыми, неузнаваемыми.
Все эти оттенки не случайны. За ними стоят, по всей вероятности, сложные изгибы взаимоотношений двух старших поэтов, их идейные споры и личные счеты. Времена, когда Вячеслав Иванов целовал глаза Брюсова, давно прошли. Не случайно оба пишут о книге молодого автора, которая далеко не привела их в вострог, куда пространнее и подробнее, чем это было в практике тогдашнего рецензирования. Разговор идет не только о Гумилеве, его книга — лишь повод. О сущности расхождений между вождями символизма, обнажившихся в 1910 году, — чуть ниже, а пока обратимся к другим рецензиям.
Из друзей и сверстников поэта отозвался Ауслендер (Речь. 1910. № 181):
В опасные битвы приходилось вступать первым поэтам-модернистам, приходилось отказываться от всякой связи со старым, чтобы тверже и яснее выявить новое. Но в настоящее время, когда многое уже достигнуто, когда внешние победы выдвигают новые опасности: опасность успокоения… или опасность бесформенных порывов, фальшивого горения… все это — новый лозунг спокойного и взыскательного ученичества делает единственно спасительным.
Не изменить ни одному слову великих, тайных заветов; долгой, упорной работой добиться твердости и верности руки, чтобы каждый удар шпаги был не только проявлением природной смелости и ловкости, но и сложным, благородным искусством, — таковы законы рыцарства, когда оно становится великим цехом.
Произнесено важнейшее для дальнейшей биографии Гумилева слово — «цех».
Ауслендер, представитель кружка, в котором выше всего ценится непосредственность и импровизационная свобода, хвалит Гумилева (похоже, искренне) за готовность истово и неустанно совершенствоваться в своем ремесле, но не может не добавить: «Юношеское целомудрие, скромность ученика, быть может, не всегда позволяет Гумилеву быть вполне свободным, все последние тайны души отдавать своим строкам».
Б. Кремнев (псевдоним поэта и прозаика Георгия Чулкова, 1879–1939) также снисходительно-благожелателен:
Среди учеников Брюсова выделяется даровитый Н. Гумилев. Он не хуже мэтра умеет пользоваться сокровищами пушкинской речи и украшать свой стих жемчугами во вкусе изысканного парнасца… В стихах Гумилева есть прелесть романтизма, но не того романтизма, которым чаруют нас Новалис или Блок с их влюбленностью в Прекрасную Даму, а того, молодого, воинствующего, бряцающего романтизма, который зовет нас в страны, «где, дробясь, пылают блики солнца».
Забавна рецензия М. Чуносова (Новое слово. 1911. № 3):
Стих у г. Гумилева отточенный, звонкий, красивый и красочный. Он недаром называет себя учеником Валерия Брюсова. У г. Гумилева шаловливая, а временами необузданная фантазия; от крайних изломов и вывертов его спасает вкус, его образы благородны, хотя контуры их стерты и затушеваны каким-то колоритным туманом…
Но: «миросозерцание его туманно и загадочно». Вывод: «Г. Гумилев — поэт очень избранного кружка… каких-то особых, очаровательных, но для большинства запретных и недоступных эстетических наслаждений, и даже не наслаждений, а упоений, подобных упоению расцветающих цветов в сумеречный вечерний час».
Разве эта рецензия сама по себе не говорит больше любых исследований о «предсеверянинской» эпохе — эпохе стремительного шествия модернизма в массы? Однако еще любопытнее становится, когда мы узнаем подлинное имя человека, скрывавшегося под невзрачным псевдонимом. Чуносов — это Иероним Иеронимович Ясинский (1850–1931) — одна из примечательных фигур российской словесности конца XIX — начала XX века. В молодости Ясинский печатал нравоописательно-обличительные рассказы под именем Максим Белинский; вернувшийся с каторги автор «Что делать?» ценил его выше всех современных писателей. В начале века Белинский, любимый автор Чернышевского, стал беллетристом охранительного направления, в то же время отдал дань «запретным упоениям» декаданса — в меру собственного понимания, конечно.
«Перу И. Ясинского» посвящено стихотворение Северянина «Кривая яблоня». После революции он немедленно «перешел на сторону советской власти», стал деятелем Пролеткульта и переводил стихи Фридриха Энгельса. С Гумилевым он общался на «Вечерах Случевского».
Как ни странно, книга Гумилева вызвала отклики двух критиков-марксистов, стремления к «запретным упоениям», вообще говоря, не разделявших. Один из них — Л. В. (Лев Наумович Войтоловский, 1876–1941), чья сдвоенная рецензия «Парнасские трофеи» (посвященная «Жемчугам» и книге А. Рославлева) напечатана в газете «Киевская мысль» (1910. 11 июля. № 189).
Все решительно таинства постиг, очевидно, Н. Гумилев. Маги, кудесники и чародеи, зелья и наговоры, «немыслимые травы» и «нездешние слова» так и кишат в его стихах. Одному лишь таинству он не сумел научиться — таинству неподдельной поэзии.
Стоит заметить, что Войтоловский с подчеркнутым пиететом говорит о Брюсове — «большом художнике слова», уважительно поминает о Верлене, о Блоке, о Сологубе. Главный упрек Гумилеву — подражательство. Войтоловский обвиняет его в заимствовании не только у Брюсова, но и у Тургенева, Гейне, и даже у современников — вплоть до Саши Черного. При этом имеется в виду заимствование «размеров» и «настроений» — ответить на эти упреки обычно нечего.
Но, конечно, больше и смелее — на правах ученика — берет он у Брюсова… Но там, где Брюсов поражает своей классической строгостью и величавой формой, Гумилев — напыщен и вылощен… Где у Брюсова гармоническое движение образов, там у копииста его шуршат картонные маски, напяленные равнодушной рукой. Всюду, где Гумилев обнаруживает свое собственное лицо, в глаза бросается множество прозаизмов, тяжеловесных эпитетов, избитых фраз и эстетических несообразностей.
В конце рецензент прибегает к непритязательному, но эффектному приему:
В общем, по произведенному мною утомительному, но полезному подсчету, на страницах «Жемчугов» г. Гумилева фигурирует 6 стай здоровых собак и 2 стаи бешеных, одна стая бешеных волков, несколько волков-одиночек, 4 буйвола, 8 пантер (не считая двух, нарисованных на обложке), 3 слона, 4 кондора, несколько «рыжих тюленей», 5 барсов, 1 верблюд, 1 носорог, 2 антилопы, лань, фламинго, 10 павлинов, 4 попугая (из них один — антильский), несколько мустангов, медведь с медведицей, дракон, 3 тигра, росомаха и множество мелкой пернатой твари.
Полагаю, что при таком неисчерпаемом изобилии всех представителей животного царства книге стихов г. Гумилева правильнее было бы именоваться не «Жемчуга», а «Зверинец», бояться которого, конечно, не следует, ибо и звери, и птицы — все, от пантеры до малейшей пичужки — сделаны автором из раскрашенного картона. И это, по-моему, безопаснее. Ибо за поддельных зверей и ответственности никакой не несешь. Совсем не то, что за фальшивые камни, особенно если питаешь тенденцию выдать их за настоящие жемчуга.
Рецензия В. Львова-Рогачевского (Василий Львович Рогачевский; 1873/74–1930), бывшего члена «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», в настоящем — меньшевика, в конце жизни — советского литературоведа из «вульгарных социологов», очень похожа по тональности на рецензию Войтоловского:
Свои «Жемчуга» поэт Н. Гумилев посвящает своему учителю Валерию Брюсову, но смело он мог бы ее посвятить и многим другим — и Г. Гейне, и К. Бальмонту, и французским лирикам. У безглазой музы поэта хорошая память. Она плохо видит, но она хорошо запоминает. Размеры брюсовские, выражения бальмонтовские, грустная усмешка гейневская, экзотизм французский…
Есть у поэта Н. Гумилева стихотворение «Читатель книг», где он рассказывает, как любит «неутомимо плыть ручьями строк, в проливы глав вступать нетерпеливо»… Когда такой читатель книг становится писателем и продолжает «плыть ручьями строк», журчащими в книгах его «учителей», он легко может захлебнуться даже и в ручье…
Над его поэзией тяготеют как проклятье слова Верлена: «Все прочее — литература!» Поэзия Н. Гумилева — это «литература», но при этом литература, в которой хромает грамматика (Современный мир. 1911. № 5).
Иероним Ясинский в кругу семьи, 1910-е
Модернисты старшего поколения обвиняли своих оппонентов в ненависти к «новому искусству» как таковому. Но те к концу десятилетия сменили тактику. Настойчиво демонстрируя знание (весьма поверхностное) азбуки «декаданса», учтиво расшаркиваясь перед авторами, уже завоевавшими место в литературе, они направляли свое оружие против младшего поколения поэтов-модернистов. Обвинения в «нежизненности» и «неискренности» очень характерны. Также характерны разговоры о «подражательстве» — когда речь шла об эпигонах народнической беллетристики, таких упреков, как правило, не возникало. Возможно, и в данном случае книга Гумилева оказалась лишь поводом, — слишком уж много страсти и творчества, да и слов многовато вкладывают Войтоловский и Львов-Рогачевский в ее обличение. Но, должно быть, было в ней нечто, вызывавшее у известного рода критиков особенно сильное раздражение. Характерно, что действительно насквозь подражательный декадент Рославлев сердит Войтоловского меньше.
Еще одна неблагожелательная рецензия, подписанная Росмер, появилась в газете «Против течения» (1910. 3 декабря. № 8). Псевдонимом этим обычно пользовался Василий Гиппиус (1890–1942), будущий член Цеха поэтов. Гораздо любопытнее, впрочем, версия Н. А. Богомолова, согласно которой в данном случае под именем Росмер выступил Сергей Городецкий, который всего через год станет, хоть и ненадолго, ближайшим соратником Гумилева. Характерный критический стиль Городецкого и впрямь можно усмотреть в рецензии; можно прочитать ее и как «ответ» на гумилевский отзыв о «Руси» — напомним, что автор «Писем о русской поэзии» упрекал Городецкого за нежелание всерьез изучать секреты поэтического ремесла.
Наши отцы и деды презирали пышную внешность версификации, но это имело хорошие стороны: в примелькнувшихся одеждах терялось обычное и тусклое, душевно большое умело себя выкричать.
Наше время воскресило культ формы…
Что же открылось на новых путях? За яркостью формы — пустота души, которой нечего сказать. За пестрыми обложками стихотворных сборников — вялость и бледность, бескровная изысканность, утонченность без тонкости.
За пестрой обложкой книги Н. Гумилева больше 150 страниц стихов. Здесь и античность, и Средневековье, и Азия, и Африка, и раджи, и маги, и маркизы, и конквистадоры, и больше 60 разных зоологических названий, — нет только биения живого сердца. Здесь все необычайно: тропический полдень — полярный холод — легенда — сказка, но увы! это внешняя необычайность. Под каждой расцвеченной личиной — слишком обычное лицо равнодушного эстета. Кажется, вот сейчас оживится, зажжется, явит душу это лицо (иные страницы «Жемчугов» будят эту надежду: «Орел», «Сон Адама» в конце), вот грандиозная (грациозная? — В. Ш.) сказка «Карабас», но уже на следующей странице:
Что же тоска нам сердце гложет, Что мы пытаем бытие? Лучшая девушка дать не может Больше того, что есть у нее.Здесь и вялость, и дерзкая развязность. Ученик бесстрастного Брюсова, Гумилев умеет улыбаться, но у него неприятная и нечистая улыбка…
И разве не характерно, что в книге молодого поэта почти нет любовных мотивов, а если есть — это и холодно, и не просто, и не свое… Впрочем, зачем Гумилеву любовь и смерть? Темы его и так неисчерпаемы. Из тысячелетий мировой истории затронуто едва несколько столетий. Почти не использована Австралия. Многие животные породы не упомянуты ни разу.
А ведь не под тропиками и не у полюсов, а в любом уголке нашей родины любят, молятся, гибнут и тянутся к свету людские души. Но что знает об этом Гумилев?..
Лучшая характеристика поэзии Гумилева в четырех строках его стихов:
У нас как точеные руки, Красивы у нас имена, Но мертвой, мучительной скуке Душа навсегда отдана.Нельзя не заметить, что тональность и лексика Гиппиуса или Городецкого поразительно совпадают с интонацией марксистов — Львова-Рогачевского и Войтоловского. Вообще о тогдашнем отношении Городецкого к Гумилеву лучше всего свидетельствует его письмо к Вячеславу Иванову, где он прямо называет Гумилева и аполлоновцев «отбросами декадентства», насаждающими в русском искусстве «голый формализм, прикрывающий внешней якобы красотой пошлость и бездарность». Избалованный похвалами, плодовитый автор «Яри» не мог простить строгих отзывов о своих новых книгах.
Наконец, еще одна рецензия, в которой совсем уж явно сводятся личные счеты, напечатанная в газетке «Столичная молва» (1910, 14 мая) и подписанная Е. Я.
Есть поэты и стихи, о которых трудно спорить, — так очевидна их ненужность и ничтожность. И о таких поэтах очень трудно высказаться. В самом деле, что можно сказать о Гумилеве? Все, что есть ходячего, захватанного, стократно пережеванного в приемах современного стиходелания… все г. Гумилевым с рабской добросовестностью использовано. Раз навсегда решив, что нет пророка кроме Брюсова, г. Гумилев с самодовольной упоенностью, достойной лучшего применения, слепо идет за ним. И то, что у Брюсова поистине прекрасно и величаво, под резцом Гумилева делается смешным, ничтожным и жалким.
Лексика Паниковского — «жалкий, ничтожный человек».
Нельзя не обратить внимание на всеобщий культ Брюсова. Никто из тех, кто старался с особенным сладострастием унизить и обидеть «ученика», не забыл отдать предварительно поклон «учителю».
Е. Я. — это Ефим Янтарев (Бернштейн, 1880–1942), о чьей книге «Стихи» Гумилев в шестом (мартовском) номере «Аполлона» за 1910 год писал: «Невозможно ни читать ее, ни говорить о ней. Попробуйте буквально ни о чем не думать, смотреть и не видеть того, что вокруг. В девяноста девяти случаях вам это не удастся. А стихи Е. Янтарева приближают вас к этой отвратительной нирване дешевых меблированных комнат». Незадачливый стихотворец отвечает Гумилеву буквально его же словами.
Как реагировал на все эти выпады сам поэт? Похоже, почти никак. От многозвучного шума, неожиданно разыгравшегося вокруг его книги, он «бежит» сначала в Киев — потом в Париж — потом в Окуловку — потом в Аддис-Абебу. Впрочем, сложные гумилевские маршруты 1910 года мы уже описывали в предыдущей главе.
Конечно, «Жемчуга» были перегружены — в том числе и посредственными стихами. 67 стихотворений второй книги плюс приложенные к ним 46 стихотворений первой — явный перебор для 24-летнего поэта. Впрочем, умение трезво оценивать собственные тексты в молодости — вообще редкость.
И разумеется, в экзотических образах молодого поэта был элемент «бутафории», — но он носил в известной степени сознательный характер. Лишь Росмер сквозь зубы признал, что Гумилев «умеет улыбаться», — и никто не почувствовал тонкой иронии, сквозящей местами за нагромождением невероятных ландшафтов, звучных имен и непривычных русскому глазу животных. Посвящение многих сбило с толку: критики не заметили, что экзотизм молодого Гумилева, в сущности, не брюсовский. Ведь и сам Брюсов в этой стороне своего творчества восходит к парнасцам, которых Гумилев, естественно, знал в оригинале. Этот невинный экзотизм, зародившийся на ледяных леконт-де-лилевских высотах, постепенно становился частью массовой культуры эпохи. Через шесть-семь лет, уже перед самой революцией, попугаи запорхают и корабли заплещут парусами «в синем и далеком океане» песенок Вертинского — чтобы благополучно, невзирая ни на что, допорхать и доплескать до поздней сталинской эпохи. Молодой Гумилев изящно балансировал на грани того, что позднее назовут кичем. Едва ли он совсем не отдавал в этом себе отчета.
Брюсовское влияние ощущается в книге прежде всего на уровне интонации. Характерно, что почти все рецензенты сочувственно отмечают именно те стихотворения, где это влияние всего сильнее, — «Волшебная скрипка», «Сон Адама», «Варвары», «Царица», «Орел», самые «брюсовские» фрагменты «Капитанов». Сюда можно добавить и «Семирамиду», и «Портрет мужчины», и еще около десятка стихотворений. Но это далеко не все «Жемчуга». В большинстве стихотворений уже нет брюсовского искусственного напора. Кажется, что красочный, сказочный мир, созданный рукой молодого мага, для него самоценен и ему не нужно форсировать голос, чтобы повысить в собственных и чужих глазах значимость этого мира.
И — при всех сделанных выше оговорках — в «Жемчугах» уже есть несколько стихотворений, отчетливо предсказывающих его поздние шедевры, а иногда и приближающихся к этим шедеврам по качеству. Увы! Лишь одно из этих стихотворений, «Маркиз де Карабас», было отмечено Ивановым («бесподобная идиллия») и Росмером. Анненский еще в 1908 году обратил внимание на «Лесной пожар» (да Львов-Рогачевский посмеялся над обезьяной, которая — подумать только! — «держит финик и пронзительно визжит»). Никто не сказал доброго слова про «Молитву»:
Солнце свирепое, солнце грозящее, Бога, в пространствах идущего, Лицо сумасшедшее, Солнце, сожги настоящее Во имя грядущего, Но помилуй прошедшее!Между тем едва ли у Брюсова есть что-нибудь подобное по энергии, точности и лаконизму выражения поэтической мысли — и по смелости самой мысли. Наконец, возможно, вершинное стихотворение «Жемчугов» — «Заводи», посвященные Н. В. Анненской, тоже осталось незамеченным:
Солнце скрылось на западе За полями обетованными, И стали тихие заводи Синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, Пролетела летучая мышь, Рыба плеснулась в омуте… …И направились к дому те, У кого есть дом С голубыми ставнями, С креслами давними И круглым чайным столом. Я один остался на воздухе Смотреть на сонную заводь, Где днем так отрадно плавать, А вечером плакать, Потому что я люблю Тебя, Господи.Лишь Росмер процитировал последнюю строчку, прибавив, что в религиозность Гумилева «не веришь». Между тем такого открытого и точно организованного дыхания, вдруг сужающегося и взрывающегося в последней строке, у Гумилева не будет еще очень долго. Это один из пленительных и случайных юношеских прорывов в собственную зрелость, которые есть у каждого поэта. Цитируя самого Гумилева: «Шестнадцатилетний Лермонтов написал «Ангела» и только через десять лет смог написать равное ему стихотворение…» («Читатель»). Но и «Ангел» не был замечен современниками…
Техническое замечание: в «Жемчугах» Гумилев экспериментирует с составными рифмами, которые позже станут «визитной карточкой» его литературного неприятеля — Маяковского. Эти эксперименты («тоску нести» — юности», «омуте — дому те») были строго осуждены критиками. Составная рифма считалась вульгарной.
Что еще было «не замечено» в «Жемчугах»? «Товарищ»… «У меня не живут цветы…» Собственно, самые «гумилевские», наиболее самобытные стихи! Случайно ли это?
Никто не обратил внимания и на происхождение названия книги. Между тем оно восходит к рассказу «Скрипка Страдивариуса», напечатанному в седьмом номере «Весов» за 1909 год. Сюжет рассказа таков: знаменитый композитор Паоло, охваченный гордыней, стремится сотворить невиданный шедевр. Он владеет лучшей скрипкой в мире — «любимым созданием великого Страдивариуса». «Только ей он был обязан лучшими часами своей жизни, она заменяла ему мир, от которого он отрекся для искусства, была то стыдливой невестой, то дразняще покорной любовницей». Но сейчас скрипка отказывалась служить ему: она, «покорная и нежная, как всегда, смеялась и пела, скользила по мыслям, но, доходя до рокового предела, останавливалась, как кровный арабский конь, сдержанный легким движением удил. И казалось, что она ласкается к своему другу, моля простить ее за непослушание». Мэтра охватывает смятение. «Внезапно его мозг словно бичом хлестнула страшная мысль. Что, если уже в начале его гений дошел до своего предела и у него не хватит силы подняться выше? Ведь тогда неслыханное дотоле соло не будет окончено! Ждать, совершенствоваться? Но он слишком стар для этого, а молитва помогает только при создании вещей простых и благочестивых». В этот момент ему является во сне «невысокий гибкий незнакомец с бородкой черной и курчавой и острым взглядом, как в старину изображали немецких миннезингеров. Его обнаженные руки и ноги были перевиты нитями жемчуга серого, черного и розового».
Именно так называются разделы новой книги: «жемчуг серый», «жемчуг черный», «жемчуг розовый».
Незнакомец, само собой, оказывается Дьяволом. Сам он, впрочем, рекомендуется так:
…Я только отец красоты и любитель всего прекрасного. Когда блистательный Каин покончил старые счеты с нездешним и захотел заняться строительством мира, я был его наставником в деле искусства. Это я научил его ритмом стиха преображать нищее слово, острым алмазом на слоновой кости вырезать фигуры людей и животных, создавать музыкальные инструменты и владеть ими… После мир уже не слышал такой музыки. Хорошо играл Орфей, но он удовлетворялся ничтожными результатами… И когда Страдивариус сделал свою первую скрипку, я был в восторге и тотчас предложил ему свою помощь. Но упрямый старик и слушать не хотел ни о каких договорах и по целым часам молился Распятому, о Котором я не люблю говорить. Я предвидел страшные возможности. Люди могли достичь высшей гармонии, доступной только моей любимой скрипке Прообразу, но не во имя мое, а во имя Его. Особенно меня устрашало созданье скрипки, которая теперь у тебя.
Еще одно тысячелетие такой же напряженной работы, и я навеки погружусь в печальные сумерки небытия. Но, к счастью, она попала к тебе, а ты не захочешь ждать тысячелетия, ты не простишь ей ее несовершенства. Сегодня ты совершенно случайно напал на ту мелодию, которую я сочинил в ночь, когда гунны лишили невинности полторы тысячи девственниц, спрятанных в стенах франконского монастыря. Это — удачная вещь. Если хочешь, я сыграю тебе ее оконченную.
Дьявол играет свое произведение на собственной скрипке — Прообразе. Потрясенный его игрой, Паоло разбивает несовершенную скрипку Страдивариуса и заканчивает свои дни в доме умалишенных.
Напомним: первое стихотворение «Жемчугов» называется «Волшебная скрипка». Какая же это скрипка, обрекающая скрипача на «славную смерть», кому же она служит — «отцу красоты» или Распятому? Для Брюсова с его полупозитивистской, полуоккультной картиной мира этот вопрос не имел смысла. Но мировосприятие Гумилева 1909–1910 годов было уже иным. Манихейский дуализм, гностицизм, розенкрейцерство — все эти доктрины, скорее всего, понаслышке усвоенные в кругу Иванова и Волошина, причудливо смешивались в его сознании. Поэтому мы можем очень по-разному понять заглавие его книги. Например: пестрый и пышный мир, населенный красочными тварями (так истово систематизированными Войтоловским) и призрачными героями, — лишь жемчуга на одежде Дьявола. И все его бесчисленные обитатели — лишь «чудовища», в чьи глаза смотрит обреченный скрипач.
Выход из этого мира (созданного «древним соблазном»), напротив, лишен всякой торжественности и пышности:
Это дверь в стене, давно заброшенной, Камни, мох, и больше ничего, Возле — нищий, словно гость непрошеный, И ключи у пояса его.При такой трактовке все, удачные и не слишком, стихотворения «Жемчугов» могут быть прочтены как элементы большого текста, создающего достаточно цельный и самобытный образ мира, хотя отдельные краски, интонации, мотивы заимствованы у предшественников.
Конечно, это символистская книга. Но — и в этом принципиальное отличие Гумилева от русских поэтов-символистов, его учителей и сверстников, — на поверхности символы не читаются. Они начинают работать, лишь когда восстанавливаешь, говоря ученым языком, всю «семантическую систему».
2
Тем временем русский символизм переживал серьезный кризис. Это был «кризис победы», для любого направления на известном этапе неизбежный.
Еще в 1907 году, полемизируя с одним из давних оппонентов «нового искусства», известным критиком А. Горнфельдом, Брюсов объявил:
«Декадентство» дифференцируется, или, вернее, умирает: четверть века — это предельный возраст для жизни литературной школы… «Декадентство» ждет, чтобы передать свой скипетр в мире искусства новой, преемственно с ней связанной группе художников (Весы. 1907. № 9).
Впрочем, тут же Брюсов делает важную оговорку:
Чтобы не быть неверно понятым, считаю нужным добавить, что я историю «декадентства» как литературной школы строго отделяю от судеб «символизма» в искусстве как метода творчества. Символизм, свойственный всем великим художникам… только получил более широкое применение в «декадентской» школе.
Человек острого историко-литературного (и литературно-политического) чутья, Брюсов хотел закончить «декадентский проект» так, чтобы тотчас начать новый. Трудно поверить, что он не находил лично для себя места в новой (тоже символистской) школе, «преемственно связанной» со старой, — ему было-то всего 34 года!
Это писалось в то время, когда двадцатилетний Гумилев, восторженный адепт декадентства, еженедельно слал свои стихи в Москву из Парижа. Удивительно, но за три года ситуация практически не изменилась. Символизм продолжал существовать в странном состоянии «полусмерти» и «полураскола», а его вожди вкушали плоды признания у широкой публики и у газетно-журнальной братии. Лишь в 1910 году нарыв вскрылся.
26 марта 1910 года Иванов прочитал в Академии стиха (или «Обществе ревнителей художественного слова») речь, несколько раньше уже произнесенную в Москве, в «Обществе свободной эстетики». Уже название этой речи было обязывающим… и двусмысленным — «Заветы символизма». «Заветы» — значит ли это, что символизм мертв или умирает? Иванов, всегда чуткий к слову, не мог не учитывать такого возможного понимания. Речь начиналась знаменитой строкой Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь» (вызывающее начало для программной речи!):
Этим парадоксом-признанием Тютчев, ненароком, обнажая символическую природу новой лирики, обнажает и самый корень нового символизма: болезненно пережитое современной душой противоречие — потребности и невозможности «высказать себя».
Генезис символизма, по Иванову, таков:
Символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, усвоивших некогда словам всенародного языка особенное, таинственное значение, им одним открытое, в силу ведомых им одним соответствий между миром сокровенного и пределами общедоступного опыта. Они знали другие имена богов и демонов, людей и вещей, чем те, которыми называл их народ, и в знании истинных имен полагали основу своей власти над природой…
Символизм кажется упреждением той гипотетически мыслимой, собственно религиозной эпохи языка, когда он будет обнимать две раздельных речи: речь об эмпирических вещах и отношениях и речь о предметах и отношениях иного порядка, открывающегося во внутреннем опыте, — иератическую речь пророчествования…
Символизм кажется воспоминанием поэзии о ее первоначальных, исконных задачах и средствах.
От символизма вообще Иванов переходит к русской поэтической школе — и сразу же делает резкое, почти провокационное (по отношению к Брюсову и его кругу) заявление, отрицая сколько-нибудь глубинное влияние французского символизма на русский. Корни последнего — собственные, домашние. Первый русский символист — Тютчев.
Кризис русского символизма, по Иванову, связан не с естественным самоисчерпанием литературной школы, а с общественными процессами.
…Символизм не хотел и не мог быть «только искусством». Если бы символисты не сумели пережить с Россией кризис войны и освободительного движения, они были бы медью звенящей и кимвалом бряцающим. Но переболеть общим недугом для них значило многое; ибо душа народная болела, и тончайшие яды недуга они должны были претворить в своей чуткой и безумной душе… Образ чаемой Жены стал двоиться и смешиваться с явленным образом блудницы.
Это привело, с одной стороны, к «неприятию мира», с другой — к поверхностному эстетству, «парнасизму».
Выход из тупика может дать лишь приятие «внутреннего канона» — «свободное и цельное признание иерархического порядка реальных ценностей, образующих в своем согласии божественное всеединство последней реальности, в творчестве — живую связь иерархически соподчиненых символов, из коих художник ткет драгоценное покрывало Душе Мира…».
В заключение Иванов обращается к «молодым поэтам» со следующим парадоксальным советом: «Не нужно желать быть «символистом»; можно только наедине с собой открыть в себе символиста — и тогда лучше всего постараться скрыть это от людей… Старые чеканы школы истерлись. Новее не может быть куплено никакою иною ценой, кроме внутреннего подвига личности».
Речь Иванова не о том, что «искусство должно служить религии» (как понял ее Брюсов), — она скорее о крахе утопии, задуманной младшими символистами, учениками Соловьева. На развалинах ее Иванов намечает новую программу, куда более скромную и реалистичную. Не случайно именно в эти годы друг и (в будущем) собеседник Иванова Михаил Гершензон был инициатором самого трезвого и антиутопического политического проекта эпохи — знаменитых «Вех».
1 апреля в редакции «Аполлона» состоялось обсуждение доклада, в котором принял участие и Гумилев. Пафос Иванова не вызвал у него одобрения — как и у большинства аполлоновцев. Это выступление Гумилева (как и демонстративное посвящение книги Брюсову) должно было (в глазах Иванова) стать первым шагом, свидетельствующим о его «измене» — по крайней мере, о его дистанцировании по отношению к Башне.
К Башне — но не к символизму. В программной статье «Жизнь стиха», опубликованной в седьмом номере «Аполлона» и написанной, видимо, весной 1910 года, Гумилев, подводя итог закончившейся деятельности «Весов», пишет:
…Символизм создался не могучей волей одного лица, как «Парнас» волей Леконта де Лиль, и не был результатом общественных переворотов, как романтизм, но явился следствием зрелости человеческого духа, провозгласившего, что мир есть наше представление. Так что устаревшим он окажется только тогда, когда человечество откажется от этого тезиса — и откажется не только на бумаге, но всем своим существом. Когда это случится, предоставляю судить философам. Теперь же мы не можем не быть символистами. Это не призыв, не пожелание, это только удостоверяемый мною факт.
Наиболее развернуто на речь Иванова отозвался Блок. Его выступление состоялось 8 апреля, на следующем заседании академии.
Доклад Блока называется академично — «О современном состоянии русского символизма» и начинается стеснительно-церемонно: «Прямая обязанность художника — показывать, а не доказывать. Приступая к своему ответу на доклад Вячеслава Ивановича Иванова, я должен сказать, что уклоняюсь от своих прямых обязанностей художника…» Блоку действительно трудно было что бы то ни было «доказывать». Критика и публицистика — слабейшая часть его наследия: тревожную, идущую из глубины сознания, но притом (зачастую) тривиальную мысль выражает он выспренне, многословно и невнятно. По-настоящему Блок умел думать только стихами. Точнее — только лирическими мелодиями. То, что в стихах пленительно и певуче, в деловой прозе оборачивается тяжелой безвкусицей.
Именно из-за сбивчивости мысли и образной перегруженности «пересказать» статью Блока очень трудно. Вкратце ее идея такова: поэт «свободен в этом волшебном и полном соответствий мире», он «одинокий обладатель клада, но рядом есть еще знающие об этом кладе… С того момента, как в душах нескольких людей оказываются заложенными эти принципы, зарождается символизм, возникает школа». События, происходящие в этом мире (в том числе и политические), имеют соответствия и в «иных мирах»: их-то и призвано раскрывать символистское искусство. Но символисты «были «пророками», пожелали стать «поэтами»… Вступили в обманные заговоры с услужливыми двойниками… силою рабских дерзновений превратили мир в Балаган… произнесли клятвы демонам — не прекрасные, а только красивые…».
Выход из положения: «путь к подвигу, которого требует наше служение, есть — прежде всего — ученичество, самоуглубление, послушание и духовная диета».
В сущности, Блок говорит о том же, о чем и Иванов. О похмелье от чрезмерных «исканий». О необходимости духовного (и эстетического) «термидора». Но для обоих поэтов это не означало возвращения (хотя бы частичного) к реалистической эстетике. «Солнце наивного реализма закатилось… — утверждает Блок, цитируя (может быть, случайно) знаменитый некролог Владимира Одоевского Пушкину, — осмыслить что бы то ни было вне символизма нельзя». Символизм должен был перейти в иное качество — но не умереть.
Обе речи были напечатаны в восьмом номере «Аполлона». В десятом номере за тот же год появилась ответная статья Брюсова — «О «речи рабской», в защиту поэзии».
В отличие от своих друзей-оппонентов (впрочем, уже друзей ли?), Брюсов подчеркнуто ясен и «делен».
Как большинству людей, мне кажется полезным, чтобы каждая вещь служила определенной цели. Молотком следует забивать гвозди, а не писать картины. Из ружья лучше стрелять, чем пить ликеры… И от поэтов я прежде всего жду, чтобы они были поэтами.
Блок в своей статье цитирует четверостишие Владимира Соловьева: «…И речью рабскою — живой язык богов… он заменил…» Блок по молодости вживе не соприкасался с тем, кого называл «своим учителем»; но все помнили уничтожающе-язвительную рецензию Соловьева на первую книгу Брюсова — и многие знали о благословении, которое «рыцарь-монах» дал молодому Иванову. Поэтому Брюсову важно было доказать, что, говоря о «рабской речи», Соловьев не разумел поэзию в его, брюсовском, понимании.
«Символизм» хотел быть и всегда был только искусством, — подчеркивает он. — …Символизм есть метод искусства, осознанный в той школе, которая получила название «символической»… Нет причин, конечно, ограничивать область деятельности человека. Нам Гёте дважды дорог потому, что был не только величайшим поэтом XIX века, но и могущественнейшим научным умом своего времени… Но требовать, чтобы все поэты были непременно теургами, столь же нелепо, как настаивать, чтобы все они были членами Государственной думы.
Таким образом, на шестнадцатом году истории русского символизма выяснилось, что его вожди — «старшие» и «младшие» — изначально по-разному понимали цели и смысл движения. Иванов наметил определенную программу выхода из кризиса, и Блок согласился с ним; но для Брюсова она была неприемлема, потому что само определение кризиса, данное собратьями, было ему чуждо. При этом, судя по написанной в эти же месяцы рецензии на «Жемчуга», Брюсов признавал необходимость ревизии «крайностей» раннего символизма, поиск «синтеза» между символистским и реалистическим искусством.
Парадокс, однако, в том, что на практике искали (и успешно находили!) этот синтез именно «младшие», на словах отказывавшие «наивному реализму» в праве на жизнь. Вспомним хотя бы успешное освоение некрасовской традиции Андреем Белым в «Пепле» и Блоком в таких стихотворениях, как, к примеру, «У насыпи». Путь Блока вел его к демократической поэтике романса, к бытовому эпосу «Возмездия» — к чему угодно, но не назад к «незамутненному» демоническими энергиями аскетическому символизму «Стихов о Прекрасной Даме», как можно было бы понять из его речи.
Еще один программный текст, вышедший в 1910 году из околосимволистского круга, — знаменитая статья Кузмина «О прекрасной ясности», тоже увидевшая свет в «Аполлоне», в четвертом номере. В школьных учебниках провозглашенный Кузминым (и не отражавший даже его собственной практики) «кларизм», кажется, продолжают путать с акмеизмом. Но так или иначе, это был один из трех рожденных в 1910 году в символистском кругу проектов: намеренный уход от сложного и демонического ради ясности формы и духовной гармонии. Два других — «внутренний канон» Иванова и брюсовский «синтез символизма и реализма».
Для Гумилева все три старших поэта были «своими», каждый был по-своему дорог. В «Жизни стиха», впервые пытаясь — еще по-юношески неловко — сформулировать начальные положения своего учения о поэтическом искусстве, он приводит примеры из четырех авторов: Брюсова, Иванова, Анненского и Кузмина. Поиск собственной позиции в начавшейся дискуссии был увязан — не в последнюю очередь — с личными отношениями.
Письма к Брюсову, написанные в 1910 году, очень в этом смысле характерны. Так, в апрельском (из Киева) письме есть следующие примечательные слова:
…«Жемчугами» заканчивается большой цикл моих переживаний, и теперь я весь устремлен к иному, новому. Каким будет это новое, мне пока не ясно, по мне кажется, что это не тот путь, по которому меня посылает Вячеслав Иванович. Мне верится, что можно еще многое сделать, не бросая лиро-эпического метода, но только перейдя от тем личных к общечеловеческим…
В июле, реагируя уже на рецензию в «Аполлоне», Гумилев отвечает учителю на его упрек:
Начиная с «Пути конквистадоров» и кончая последними стихами, еще не напечатанными, я стараюсь расширить мир моих образов и в то же время конкретизировать его, делая его таким образом все более и более похожим на действительность. Но я совершаю этот путь медленно… Я верю, больше того, чувствую, что аэроплан прекрасен, русско-японская война трагична, город величественно страшен, но для меня это слишком связано с газетами, а мои руки еще слишком слабы, чтобы оторвать это от обыденности для искусства. Тут я был бы только подражателем, неудачным вдобавок; а хочется верить, что и здесь я смогу сделать что-нибудь свое.
На дискуссию о «речи рабской» Гумилев отзывается так:
С теоретической частью ее <статьи Брюсова> я согласен вполне, также и полемической, когда речь идет о Вячеславе Ивановиче, но я несколько иначе понимаю статью Блока. Может быть, под влиянием разговора с ним я вынес то впечатление, что он стремится к строгому искусству, которое ему нравится называть религией, от произвольных догадок, выкриков и подмигивания (земля в снегу), что он, конечно, совсем неосновательно называет поэзией. Пример — его стихи в «Аполлоне», где он явно учится у Вас.
Таким образом, Гумилев становится на сторону Брюсова — как, впрочем, и почти все аполлоновские «парнасцы» и «кларисты». Однако сам автор статьи «О прекрасной ясности», в которой был впервые упомянут термин «кларизм», продолжает жить в одной квартире с Ивановым и уклоняться от открытого спора с ним. В послании к Кузмину, написанном примерно в это время, Иванов сокрушался:
Союзник мой на Геликоне, Чужой средь светских передряг, Мой брат в дельфийском Аполлоне, А в том — на Мойке — чуть не враг. Мы делим общий рефекторий И жар домашнего огня. Про вас держу запас теорий: Вы убегаете меня.Гумилев был человеком другого склада и характера. Он любил литературные споры, как Иванов, но при этом был в них слишком последователен и прямодушен рядом с «премудрым змием» Вячеславом. Разрыв назревал, но решающие события произошли уже после возвращения весной 1911 года из Абиссинии.
По традиции, важное значение придается эпизоду, случившемуся на заседании «Общества ревнителей художественного слова» 13 апреля 1911 года. Только что вернувшийся из путешествия Гумилев прочитал образцы собранных им абиссинских песен, а затем — свою новую поэму «Блудный сын». Согласно «Русской художественной летописи» В. А. Чудовского, «циклическое произведение» Гумилева «вызвало оживленные прения о пределах той свободы, с которой поэт может обрабатывать традиционные темы». По воспоминаниям Ахматовой, дело обстояло так: Иванов обрушился на Гумилева «с почти непристойной бранью. Я помню, как мы возвращались в Царское совершенно раздавленные происшедшим, и потом Н. С. всегда смотрел на В. И. как на открытого врага».
Следующее письмо, отправленное Гумилевым Иванову летом (3 июня) из Слепнева, вносит коррективу в этот рассказ:
Многоуважаемый и дорогой Вячеслав Иванович, теперь, наверно, уже вышел второй том Cor ardens’a, и я очень верю, что у Вас есть несколько свободных стихотворений, которые Вы могли бы дать для августовской книжки «Аполлона», как однажды обещали мне. Если да, я буду Вам очень благодарен, если пошлете их прямо Зноско-Боровскому, чтобы он сдал их в печать, потому что номер уже набирается.
Кроме того, у меня к Вам есть еще большая просьба: я написал здесь несколько стихотворений в новом для меня духе и совершенно не знаю, хороши они или плохи. Прочтите их и, если решите, что они паденье или нежелательный уклон моей поэзии, сообщите мне или Зноско-Боровскому, который мне напишет, и я дам в «Аполлон» другие стихи. Если понравятся, пошлите в «Аполлон» их вместе с Вашими. Этим Вы докажете, что Вы относитесь ко мне достаточно хорошо, чтобы быть строгим, и еще не отреклись от всегда сомневающегося, но всегда преданного Вам ученика
Н. Гумилева.Так не пишут человеку, которого считают «открытым врагом». Несомненно, конечно, что письмо свидетельствует о трещине в отношениях старшего и младшего поэтов… Но также — о попытке Гумилева ее загладить. Он, как член редакции журнала (с весны 1911-го его влияние на литературную часть «Аполлона» стало решающим), просит стихи у собрата-поэта; и в то же время как начинающий стихотворец приносит свои опыты на суд мэтру. Двусмысленное соединение ролей! Ответное письмо Иванова было довольно сухим: от публикации он отказался, отказался и решать судьбу гумилевских стихов, которые явно не привели его в восторг, — но он уже недостаточно «хорошо, чтобы быть строгим», относился к Гумилеву. В итоге из четырех посланных Иванову стихотворений Гумилев напечатал (и включил в «Чужое небо») лишь одно — «Сон. Утренняя болтовня».
Следующим звеном в цепи стала рецензия Гумилева на большую (двухчастную) книгу Иванова — Cor arden», напечатанная в седьмом «Аполлоне» за 1911 год. По словам Ахматовой, рецензия «чем-то обидела» Иванова; нетрудно понять почему.
Если верно, — а это, скорее всего, верно, — что пламенно творящий подвиг своей жизни есть поэт, что правдивое повествование о подлинно пройденном мистическом пути есть поэзия, что поэты — Конфуций и Магомет, Сократ и Ницше, то — поэт и Вячеслав Иванов. Неизмеримая пропасть отделяет его от поэтов линий и красок, Пушкина или Брюсова, Лермонтова или Блока. Их поэзия — это озеро, отражающее в себе небо, поэзия Вячеслава Иванова — небо, отраженное в озере. Их герои, их пейзажи — чем жизненнее, тем выше; совершенство образов Вячеслава Иванова зависит от их призрачности.
Гумилев щедро признает Иванова равным Конфуцию, Магомету, Сократу («как Будда или Магомет!»)… но собственно поэтический мир автора Cor ardens оказывается ущербным в сравнении с миром Блока и Брюсова. Небо выше озера; но небо, отраженное в озере, меньше озера, которое включает в себя и отражение неба, и рыб, и водные растения, и прибрежные скалы, и рыбака на челноке. Гумилев не говорит об Иванове ни одного худого слова. И все же его похвалы почти оскорбительны.
Язык… к нему Вячеслав Иванов относится скорее как филолог, чем как поэт. Для него все слова равны, все обороты хороши; для него нет тайной классификации их на «свои» и «не свои», нет глубоких, часто необъяснимых симпатий и антипатий… Они для него, так же, как и образы, — только одежда идей…
Стих… им Вячеслав Иванов владеет в совершенстве; кажется, нет ни одного самого сложного приема, которого бы он не знал. Но он для него не помощник, не золотая радость, а тоже только средство. Не стих окрыляет Вячеслава Иванова — наоборот, он сам окрыляет свой стих. И вот почему он любит писать сонеты и газеллы, эти трудные, ответственные, но уже готовые формы стиха.
Конечно, эта рецензия должна была отдалить Гумилева от Иванова. Но Вячеслав Великолепный не был, вообще говоря, мстителен и злопамятен. Саму по себе рецензию он простил бы «всегда сомневающемуся ученику». Что-то неуловимое вставало между ними — относящееся скорее к человеческой и творческой природе обоих, чем к идеям.
Впрочем, и после рецензии Гумилев и Иванов еще общались, Гумилев с Ахматовой были приняты на Башне — вплоть до окончательного разрыва в начале 1912 года. Конфликт развивался исподволь; но есть основания думать, что выпад Иванова против «Блудного сына» и в самом деле должен был произвести на Гумилева особенно тяжелое впечатление.
Обратимся к тексту «циклического произведения». Гумилев и впрямь свободно трактует сюжет евангельской притчи. Само по себе это не могло никого шокировать: члены Академии стиха должны были хорошо помнить картины художников Возрождения, где библейские персонажи щеголяли в ботфортах и шляпах с перьями на фоне тосканского или фламандского ландшафта. В том же 1911 году Комаровский написал странное стихотворение — монолог блудного сына у родительского порога:
…Испить на дне пустой души Не уксус казни… только вши, Исчадье вавилонских дев, Испытывать внезапный гнев И устыдиться, что на суд Несешь заплеванный сосуд!Баллада Редьярда Киплинга на этот сюжет куда проще, но дерзость по отношению к первоисточнику в ней не меньшая. Его «блудный сын» — парень, вернувшийся из колоний и находящий в старой доброй Англии не самый радушный прием.
Ни стихотворения Комаровского, ни тем более Киплинговой баллады члены «Общества ревнителей художественного слова» не знали, но понятно, что всем опытом культуры они были подготовлены к восприятию сколь угодно вольной трактовки евангельских сказаний.
В стихотворении Гумилева есть конкретность не меньшая, чем у Киплинга, хотя и несколько другого рода. Действие его «Блудного сына» происходит на условном фоне эллинизированного Средиземноморья. Но опыт героя был слишком узнаваем для человека начала XX века.
История Блудного сына — это история поколения, это, если угодно, история русского декадентства, и это первый набросок той лирической автобиографии, которую Гумилев — несравненно совершеннее — начертит восемь лет спустя в «Памяти».
На то ли, отец, я родился и вырос, Красивый, могучий и полный здоровья, Чтоб счастье побед заменил мне твой клирос И гул изумленной толпы — славословья. Я больше не мальчик, не верю обманам, Надменность и кротость — два взмаха кадила, И Петр не унизится пред Иоанном, И лев перед агнцем, как в сне Даниила.Это героические и наивные мечты юности. Чтение Ницше в Тифлисе… Затем второй этап: грех эстетства, «парнасизма», вульгарного имморализма, отказ от первоначальных высоких целей.
Цветов и вина, дорогих благовоний… Я праздную день мой в веселой столице! Но где же друзья мои, Цинна, Петроний?.. А вот они, вот они, salve amici. Идите скорей, ваше ложе готово, И розы прекрасны, как женские щеки; Вы помните, верно, отцовское слово, Я послан сюда был исправить пороки… Но в мире, которым владеет превратность, Постигнув философов римских науку, Я вижу один лишь порок — неопрятность, Одну добродетель — изящную скуку.У художников Возрождения был еще один обычай: в больших композициях на библейские темы они рисовали себя на заднем плане или с краю холста. Какой же образ выбирает Гумилев для себя на этой картине? Ошибиться невозможно:
Ты, Цинна, смеешься? Не правда ль, потешен Тот раб косоглазый и с черепом узким?«Косоглазый раб» (двойник!) — напоминание Блудному сыну о предстоящей расплате, которому он не внемлет. И вот:
Я падаль сволок к тростникам отдаленным И пойло для мулов поставил в их стойла; Хозяин, я голоден, будь благосклонным, Позволь, мне так хочется этого пойла.Пройдя через испытание страданием и унижением (как Оскар Уайльд!), эстет вновь получает право на наследственные «гордые своды», более того, встречает «невесту», в которой поклонники Соловьева легко могли опознать воплощение Вечной Женственности.
«Блудный сын» — поэтически не лучшая вещь у Гумилева даже в эти годы. Но Иванов, как видно, ругал ее не просто за художественные промахи… Между тем Гумилев, казалось бы, после долгого спора с хозяином Башни именно в этом стихотворении солидаризовался с ним, принял (хотя бы частично) его концепцию истории русского декаданса, осудил «парнасизм». А Иванов вместо похвалы «набрасывается» именно на «Блудного сына»! Не потому ли, что увидел в нем вульгаризацию своих недавних мыслей?
Духовный мир Иванова был подвижен и полифоничен. На каждую тезу у него была антитеза. Те, кто благодарно усвоил идеи и опыт вчерашнего Вячеслава, с раздражением замечали, что учитель противоречит себе. Это казалось предательством — себя и тех, кого он, как Крысолов, повел за собой. Характернейший документ — «Разговоры…» М. Альтмана, где бунт слишком верного ученика так и рвется наружу. Десятилетием раньше примерно это же мог пережить Гумилев. Увы, он был слишком простодушен, чтобы играть с премудрым змием Вячеславом в его игры. Как писала Ахматова, «мальчиком он поверил в символизм, как люди верят в Бога. Это была святыня неприкосновенная, но по мере приближения к символистам, и в частности к Башне, вера его дрогнула, ему стало казаться, что в нем поругано что-то».
С самой «юной госпожой Гумилевой» у «ловца человеков» Иванова были к тому времени свои непростые отношения. Первая встреча произошла летом 1910 года, после возвращения из Парижа. Анна прочитала несколько стихотворений. Иванов отметил их «густой романтизм» — почти тот же термин, который употреблял он в случае Гумилева. Юная поэтесса, по собственным воспоминаниям, «не до конца поняла его иронию».
Но зимою 1910–1911 годов и весною следующего, дожидаясь мужа из Абиссинии, Анна написала множество стихотворений, немногим позднее ставших знаменитыми далеко за пределами литературного круга и поныне составляющих гордость русской поэзии: «Сероглазый король» (11 декабря), «Сжала руки под темной вуалью…» (8 января), «Память о солнце в сердце слабеет…» (30 января), «Я пришла сюда, бездельница…» (23 февраля), «Я живу, как кукушка в часах…» (7 марта), «Песенка» («Я на солнечном восходе…» (11 марта). Эти стихи были подписаны уже именем Анна Ахматова. Вернувшись в феврале из Киева, она встретила Иванова на Высших женских курсах Раева (куда по приезде в столицу записалась и где Вячеслав преподавал), и он пригласил ее бывать на своих «понедельниках». Так попала она на Башню — одна, без мужа. Там ее ждал успех. «Хвалили все — Толстой, Маковский, Чулков»; сам Иванов то присоединялся к похвалам, демонстративно сажая 20-летнюю поэтессу рядом с собой — на место, где двумя годами раньше сиживал Анненский, то «tete-a-tete плакал над стихами, потом выводил в «салон» и там ругал довольно едко». Так вспоминала сама Ахматова под старость. Но Ахматова под старость все вспоминала язвительно, пристрастно и хищно. Великодушие к умершим (кроме ближайших друзей) не относилось к числу ее добродетелей… По ее словам, Иванов советовал ей бросить Гумилева — «это сделает его человеком». Если это происходило зимой 1911 года, эпизод с «Блудным сыном» (случившийся немедленно по возвращении Гумилева) не был неожиданностью. Видимо, раздражение против «всегда сомневающегося ученика» копилось не один месяц[91].
Что же касается только что родившегося поэта Анны Ахматовой, Башня и успех на ней не были для нее особенно привлекательны. «Ни прельстителем, ни соблазнителем Вячеслав Иванов для нас (тогдашней молодежи) не был». Кого имеет в виду Ахматова под этим «мы»? В случае Гумилева и Мандельштама эти слова явно несправедливы: оба были Ивановым какое-то время очарованы и боролись с его властью над собой. Ахматова могла с чистой совестью сказать эти слова только о себе. Она-то, кажется, действительно не попала под чары Великолепного Вячеслава. Более того: до конца жизни она испытывала к нему резкую и, в общем, немотивированную неприязнь. В ее рассказах он предстает Гумбертом Гумбертом, соблазнившим 14-летнюю падчерицу (хотя Ахматова превосходно знала, что Вера Шварсалон в момент романа и брака со своим отчимом была взрослой женщиной)[92]. Юную Ахматову «забавляло, как этого совершенно здорового 44-летнего человека… холили седые дамы». Ей казалось, что Вячеслав «играл» кого-то, кто никогда не существовал… и не должен был существовать»…
Но Ахматова появилась на Башне, когда та уже умирала, и весь русский символизм с ней. Она не испытала хмеля, но была свидетельницей похмелья. Отсюда, быть может, ее категоричность.
По меньшей мере еще один постсимволистский проект занимал мысли Гумилева в те дни. Речь идет о французских поэтах, известных как группа унанимистов, или поэты «Аббатства». Интерес к ним Гумилев проявлял еще в 1906–1908 годы, но непосредственное тесное общение с ними относится к парижской поездке 1910 года. В группу унанимистов вошел старый приятель Гумилева — Николас Деникер. Он познакомил русского поэта с лидером движения Жаном Рене Аркосом (1881–1959), Александром Мерсеро и другими поэтами этого круга. В это, совсем краткое, пребывание в Париже у Гумилева и его молодой жены были и другие встречи — например, с Ж. Шюзевилем, переводчиком русской поэзии на французский язык. В результате в антологию, вышедшую в 1913 году, вошло четыре стихотворения из «Жемчугов» и «Романтических цветов»: «Попугай», «Камень», «Основатели» и «Озеро Чад». Но, думается, именно общение с унанимистами стало определяющим для дальнейшей судьбы Гумилева.
В 1906-м (как раз в год первого появления Гумилева в Париже) Аркос, Шарль Вильдрак, Альбер Глез, Жорж Дюамель, Жюль Ромен и другие купили дом в городке Кретей на берегу Марны, отремонтировали его и повесили на воротах надпись: «Аббатство, братская группа артистов». «Аббатство» (название — по Телемскому аббатству Рабле) было своего рода артистическим фаланстером — с собственной типографией. Через пятнадцать месяцев «Аббатство» прекратило существование, типография и издательство были проданы за долги, но на развалинах возникла новая поэтическая школа.
На унанимистов оказали влияние идеи французского философа Эмиля Дюркгейма и американца Уильяма Джеймса (брата прозаика Генри Джеймса). Центральной идеей, занимавшей их, было «единодушие» — выход личности за пределы своего «я», формирование духовного коллектива, превращающегося в самостоятельную реальность. Легко усмотреть в этом параллель с «соборностью» в понимании Вячеслава Иванова. Но во французском символизме ничего подобного ивановским идеям не было, и унанимисты вместе с декадентским индивидуализмом отвергли символистскую поэтику. Вместо сложных и многослойных образов-ребусов они обратились к наглядным, пластически выразительным зрительным метафорам. В то же время они были в числе первых французских поэтов, широко практиковавших верлибр. Здесь (да и в тематике, в основном урбанистической) на них влияли Уитмен и Верхарн.
Разумеется, прямые аналогии между унанимизмом и акмеизмом были бы неверны; символистская эпоха заканчивалась повсюду, и в разных странах намечались разные (хотя и родственные) пути выхода. В английской поэзии спорили георгианцы (в том числе Руперт Брук и Уолтер Де ла Мар) и имажисты (Т. Э. Хьюм, Эзра Паунд и др.). Между собой они были полярны, но и с теми, и с другими у Гумилева могли бы найтись общие позиции и интересы. Наконец, и путь Р. М. Рильке от прямой символики «Часослова» к полной скрытых значений, но притом самодостаточной пластике «Новых стихотворений» был родственен тому вектору развития русской поэзии 1910-х годов, одной из проекций которого стал акмеизм.
3
Таким образом, и внутренние, и внешние обстоятельства толкали Гумилева к «обособлению» от старого символистского круга.
И все же разрыв с символизмом был для него долгим и трудным…
Проведя лето 1911 года в Слепневе, затем (между 7 августа и 4 сентября) побывав в Москве, с началом осени он возвращается в Царское и начинает заниматься формированием нового литературного общества — Цеха поэтов.
Цех первоначально должен был стать тем же, чем было «Общество ревнителей художественного слова», — только без разделения на мэтров и учеников. Эстетическая программа, альтернативная символистской, сформулирована была далеко не сразу. Собственно, и в человеческом плане Гумилев не собирался поначалу бросать вызов Иванову. Он просто почувствовал, что засиделся в «учениках». Но в другом качестве принимать его никто пока что не был готов.
Именно при создании Цеха у Гумилева появился неожиданный союзник, вскоре ставший и его личным другом, — Сергей Городецкий, с которым он периодически соприкасался в предшествующие годы, чьи стихи поругивал в «Аполлоне», с которым вместе участвовал в любительских спектаклях.
Городецкий был старше Гумилева на два года. Сын чиновника и этнографа-любителя, он родился в Петербурге и уже в университетские годы получил известность в кругу поэтов-символистов. Его книги «Ярь» и «Перун», вышедшие соответственно в конце 1906-го и в 1907 году, имели почти сенсационный успех. Молодой поэт, что называется, попал в струю — как раз возник литературный «заказ» на символистскую интерпретацию славянской мифологии и фольклора. Вполне умелые и не лишенные юношеской энергии и свежести книги Городецкого появились одновременно с совершенно беспомощными переложениями былин, изданными Бальмонтом (которые не могло спасти даже «священное» на тот момент имя автора), и на несколько лет опередили первые стихи Клюева и Клычкова. Войдя в круг Башни, Городецкий стал очень близким к Иванову человеком; он, между прочим, исполнял роль «кравчего» на заседаниях общества «Гафиз», возникшего в атмосфере всеобщего интереса к однополой любви и ее отражению в искусстве. Но все эти пряные эксперименты вскоре оборвались с внезапной смертью Лидии Зиновьевой-Аннибал, а для роли скромного и усердного ученика Городецкий подходил плохо. В 1908 году он примкнул к «перевальцам»; его размашистые слова из рецензии на «Пламенный круг» Сологуба («Всякий поэт должен быть анархистом, потому что как же иначе? Всякий поэт должен быть мистическим анархистом, потому что как же иначе?») вошли чуть не в пословицу. Период «мистического анархизма», впрочем, был тоже коротким. Писал Городецкий в эти годы по-прежнему с налетом «русского стиля» — и притом все хуже; отзыв Гумилева, который мы приводили, относится к его четвертой книге…
Так началась одна из наиболее извилистых литературных биографий XX века… Городецкий в здравом уме дожил до восьмидесяти трех лет, издал множество книг, дружил и приятельствовал со множеством выдающихся людей, ко всему прочему, был еще и очень способным рисовальщиком-шаржистом — и при этом в последние десятилетия жизни не только не пользовался чьим бы то ни было уважением, но и не вызывал любопытства. Для этого надо было постараться. Ахматова в начале 60-х констатировала: «Городецкий хуже, чем мертв».
Но пока, в 1911-м, литературный статус Городецкого был выше, чем у Гумилева, и его участие в новом проекте было важно и полезно. Вместе с Гумилевым Городецкий был избран «синдиком» Цеха поэтов. Чуть позже, после возникновения акмеизма, именно Городецкий, а не Гумилев первое время был в глазах многих (особенно в далеких от Цеха поэтов и от «Аполлона» кругах) лидером нового направления.
Первое заседание Цеха прошло как раз на квартире у Городецкого (Фонтанка, 143, кв. 5) 20 сентября 1911 года. В числе участников заседания, кроме будущих шести акмеистов, была урожденная Лиза Пиленко с мужем — родственником Гумилева Кузьминым-Караваевым, Владимир Пяст, А. Н. Толстой с женой и — в первый и последний раз — Блок с Любовью Дмитриевной. Блока связывала с Городецким давняя (хотя и небезоблачная) дружба. Блок таким образом описывает это заседание в своем дневнике: «Безалаберный и милый вечер… Молодежь. Анна Ахматова. Разговор с Н. С. Гумилевым и его хорошие стихи про сердце, превращающееся в китайскую куклу. Было весело и просто. С молодыми добреешь».
Для 31-летнего, привыкшего к славе Блока члены Цеха (которым было от двадцати до двадцати семи лет) — «молодежь». Стихи Гумилева, понравившиеся ему, — конечно, «Я верил, я думал…»:
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит, Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае На пагоде пестрой… висит и приветно звенит, В эмалевом небе дразня журавлиные стаи. А тихая девушка в платье из красных шелков, Где золотом вышиты осы, цветы и драконы, С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов, Внимательно слушая легкие, легкие звоны.Вячеслав Иванов, 1910-е
Чуть позже, 14 апреля 1912 года (уже после разрыва Цеха с Башней и символистским истеблишментом), Блок в ответ на присылку «Чужого неба» пишет Гумилеву: «Милый Николай Степанович, спасибо за книгу; «Я верил, я думал…» и «Туркестанских генералов» я успел давно полюбить по-настоящему; перелистываю книгу и думаю, что смогу полюбить еще многое». Блок отличался в оценке чужих литературных произведений прямотой, доходящей до неучтивости, так что в искренности его похвал сомневаться не приходится.
Симпатии Блока к Гумилеву в это время мог косвенно способствовать литературный инцидент, случившийся через десять дней после первого заседания Цеха. В «Новом времени», некогда респектабельной газете, к началу 1910-х прошедшей вместе со своим редактором, знаменитым А. С. Сувориным, путь от либерализма до правого радикализма, регулярно появлялись литературные фельетоны уже упоминавшегося выше Виктора Буренина. Родившийся в 1841 году, Буренин начинал деятельность в кругу самых радикальных нигилистов, Писарева и Варфоломея Зайцева, — и навсегда сохранил свойственный этим критикам взгляд на искусство. При этом политические его взгляды эволюционировали вместе с направлением газеты, обозревателем которой Буренин служил долгие годы. Писарев-черносотенец — сочетание гремучее; на это накладывались еще и личные черты Буренина, чья истерическая злобность была притчей во языцех еще в его относительно либеральный период. Известна, к примеру, эпиграмма Минаева:
По Невскому бежит собака, За ней Буренин, тих и мил. Городовой, смотри, однако, Чтоб он ее не укусил.Сергей Городецкий, 1910-е
Буренин был не только критиком, но и публицистом (псевдоним — граф Алексис Жасминов), переводчиком, пародистом, романистом — в общем, литератором на все руки.
Фельетон Буренина, напечатанный 30 сентября 1911 года в «Новом времени», мог бы служить характерным образчиком его слога:
…Есть упадочный рифмоплет г. Блок; он издал вторым изданием бессмысленные нелепые вирши своей «юности». Первое издание этих виршей до сих пор гниет на витринах у букинистов вместе с другой упадочной дребеденью. Блоков, Белых, Серых, Желтых ныне даже «молодые лакеи»[93] уже не хотят читать…
Дальше — в подобном же тоне — разбирается рецензия Городецкого на второе издание «Стихов о Прекрасной Даме», напечатанная в «Речи» («жидовском листке, издаваемом Милюковым и Гессеном»).
Хорошо, — продолжает Буренин, — если бы только листы еврейских органов усыпались бедламской поэзией и критикой бедламской поэзии в таком роде… Уже не в жидовском листке, а в ежемесячном русском журнале «Аполлон» находим мы такой краткий и торжественный «критический» отзыв некоего г. Гумилева: «Александр Блок является в полном расцвете своего таланта. Достойно Байрона его царственное безумие, влитое в полнозвучный стих»…
Не угодно ли, однако, познакомиться с виршами, достойными Байрона:
Когда ж ни скукой, ни любовью, Ни страхом уж не дышишь ты… —постойте, как уж может дышать скукой и любовью?
…Читая такие истинно байронические стихи, хочется сказать и поэту, и его критику какое-нибудь поэтическое назидание в новом стиле с неизбежными «ужами»:
Когда ты так бездарен уж, Что написать двух строк не можешь, В которых ты не плел бы чушь, Зачем ты, Блок, себя тревожишь? Когда уж, Гумилев, ты мог Сказать так громко и так прямо, Что Байрону подобен Блок, — Ты уж наверно из Бедлама.Тут Буренин переходит к собственным стихам Гумилева:
В качестве рифмоплета он пускается в сочинение каких-то «абиссинских» песен, хотя сам же объявляет, что эти «песни» написаны «совершенно независимо от поэзии абиссинцев». Я не имею ни малейшего представления о том, какая настоящая поэзия абиссинцев существует и существует ли даже такая поэзия. Но если она существует, конечно, «песни» абиссинцев не похожи на такие вирши:
…выходит из шатра европеец, Размахивая длинным бичом. Он садится под сенью пальмы, Обернув лицо зеленой вуалью, Ставит рядом с собой бутылку виски И хлещет ленящихся рабов. Мы должны чистить его вещи, Мы должны стеречь его мулов, А вечером есть солонину, Которая испортилась днем.Подобных виршей можно понасочинять сколько угодно и о чем угодно, разумеется, если имеешь охоту сочинять вздор. И в Абиссинию для этого не надо улетать со своей музой, а достаточно пройтись с ней, например, хоть на Невский проспект:
Дворник метет мостовую, Метлой грязь счищает и лопатой, А потом покупает «мерзавчик», Пьет его гольем без закуски, По проспекту мчатся моторы, И давят прохожих беспрестанно, Городовые протоколы в участках О случаях с прохожими составляют, Но толку из этого не выходит……Неужели г. Гумилев думает, что он может быть ценителем и судьей в литературе только потому, что кропает поистине жалкий вздор?
Приведя несколько цитат из гумилевских обзоров современной поэзии в «Аполлоне», Буренин восклицает: «Так теперь «критикуют» не только в распивочно-жидовских листках, но даже в ежемесячных журналах».
Виктор Буренин, 1910-е
Буренин превосходно знал, что Блока на самом деле читают многие. Сам нововременский обозреватель был решительно заворожен «упадочным стихотворцем». В течение пятнадцати лет он писал про него яростные фельетоны, сочинял злобные пародии на его стихи… Усилия оказались вознаграждены. В 1919 или 1920 году Блок хлопотал во «Всемирной литератре» о подписке в пользу голодающего Буренина. Благодаря блоковской помощи или чему другому тот благополучно пережил голодные годы и умер в 1926 году восьмидесяти пяти лет от роду, пережив и Блока, и Гумилева.
Вернемся, однако, к Цеху. Второе заседание состоялось в Царском Селе у Гумилева и Ахматовой 1 ноября. Гумилев читал на нем «Туркестанских генералов» и новые стихи Брюсова, присланные из Москвы. Третье произошло десять дней спустя в отсутствие Гумилева у Кузьминых-Караваевых. На нем в Цех был принят Лозинский.
Михаил Леонидович Лозинский (1886–1955) вскоре стал одним из близких друзей и литературных сотрудников Гумилева. Сын присяжного поверенного из Гатчины, выпускник Петербургского университета, Лозинский писал стихи с юности — на добротном среднем уровне позднесимволистской лирики. Человек большого усердия, культуры и скромности, обладавший скорее версификационными способностями, чем поэтическим талантом, он в конце концов стал тем, кем должен был стать, — выдающимся поэтом-переводчиком. В созвездии акмеистов он занял, пожалуй, то же место, которое в пушкинском созвездии занимал Павел Плетнев. Впрочем, формально Лозинский акмеистом никогда не был.
В ноябре 1911 года на заседаниях Цеха появился еще один молодой поэт, которого Гумилев раньше видел лишь единожды (в Москве у Брюсова в середине августа того же года), — Николай Клюев. Описаний Клюева 1910-х годов в литературе предостаточно. «Мужичонка» в смазных сапогах и красной рубахе, захаживающий в ресторан «к Альберу» и расчетливо попадающийся на глаза собеседнику с томиком Верлена или Гейне в оригинале, — слишком уж гротескный, плакатный образ… Но этот лик Клюев — человек мощного таланта и тонкого ума — избрал для себя сознательно. Это была его маска на великом маскараде 1913 года, увековеченном Ахматовой в «Поэме без героя». Клюев подарил Гумилеву свою книгу «Сосен перезвон». Гумилев восторженно ее приветствовал:
Эта зима принесла любителям поэзии неожиданный и драгоценный подарок. Я говорю о книге почти не печатавшегося до сих пор Н. Клюева. В ней мы встречаемся с уже совершенно окрепшим поэтом, продолжателем традиций пушкинского периода. Его стих полнозвучен, ясен и насыщен содержанием…
Пафос поэзии Клюева редкий, исключительный — это пафос нашедшего… Просветленный, он по-новому полюбил мир, и лохмотья морской пены, и сосен перезвон в лесной блуждающей пустыне, и даже золоченые сарафаны девушек-созревушек или опояски соловецкие дородных добрых молодцев, лихачей и залихватчиков…
В творчестве Клюева намечается возможность поистине большого эпоса.
В течение полутора лет «поэт из народа» не только входит в Цех поэтов, но и напрямую примыкает к формирующейся группе акмеистов, которые собирались использовать его в качестве одного из своих главных козырей. Наряду с «вакансией» поэта-женщины в 1911 году была открыта еще одна «тайная вакансия» — «посвященного от народа», поэта из крестьян. Клюев был в русской поэзии гостем, которого ждали. Интеллигентское народолюбие, националистическая мистика, культурная усталость — все слилось в этом ожидании. Уроженец Олонецкой губернии, на самом деле даже не крестьянский сын (его отец был сидельцем в казенной винной лавке), искусно сумел войти в ожидаемый образ. Тем ценнее он был в качестве союзника.
К этому времени, между прочим, относятся и трогательные, романтически окрашенные стихи и письма Клюева, обращенные к Ахматовой (спустя несколько лет «Оскар Уайльд в лаптях», как не без остроумия называл его Есенин, перестанет скрывать свое полное равнодушие к женщинам). Но как только между символистами и Цехом начнется серьезный конфликт, Клюев спокойно отречется от друзей-акмеистов, чтобы начать свою игру — вместе с неутомимым Городецким… Впрочем, с Ахматовой и Мандельштамом Клюев (в отличие от Городецкого) сохранил добрые отношения до конца жизни.
Один раз в Цехе побывал Комаровский, один или два раза — Хлебников (16 февраля 1913 года — «Гилея» уже существовала! — принят в члены Цеха); чаще в 1911–1912 годы заходил Кузмин. Список других участников объединения включает Николая Бруни, Владимира Юнгера, Дмитрия Цензора, Вадима Гарднера, Всеволода Курдюмова, Михаила Лопатто… Длинный ряд третьестепенных стихотворцев. Некоторые из них любопытны как личности. Так, интересным человеком был Николай Бруни — эсперантист, авиатор, позднее священник, погибший, как и некоторые другие члены Цеха, в дни Большого террора, в 1938 году.
На заседаниях Цеха постепенно установился ритуал, который В. Пяст описывает так:
Каждому из них («синдиков». — В. Ш.) была вменена почетная обязанность по очереди председательствовать на собраниях, но это председательствование они понимали как право и обязанность «вести» собрание. И притом чрезвычайно торжественно. Где везде было принято скороговоркой произносить: «Так никто не желает больше высказаться? В таком случае собрание объявляется закрытым», там у них председатель торжественнейшим голосом громогласно заявлял: «Объявляю собрание закрытым!»
А высказываться многим не позволял. Было, например, правило, воспрещающее «говорить без придаточных». То есть высказывать свое суждение по поводу прочитанных стихов без мотивировки этого суждения…[94]
«Синдики» пользовались к тому же прерогативами… Когда председательствовал один из них, второй отнюдь не был равноправным членом собрания. Делалось замечание, если кто-либо поддевал своей речью говорившего перед ним синдика № 2. Ни на минуту «синдики» не забывали о своих чинах и титулах.
Что же, Гумилев любил «попредседательствовать» — над этой его слабостью и в 1920 году посмеивался Мандельштам. Но не забудем: он истово разбирал стихи всех членов Цеха, великих и малых, никем не пренебрегая, ни на ком заранее не ставя креста, никого равнодушно не похваливая, — сначала устно, на заседаниях Цеха, потом печатно, в «Аполлоне» и в основанном осенью 1912-го собственно «цеховом» журнале «Гиперборей». И сам Пяст признает, что Цех, несмотря ни на что, был «благодарной для работы средой — именно тою рабочей комнатой, которую провозглашал в конце своей статьи «Они» И. Анненский».
Конечно, наряду с серьезными занятиями были невинные стихотворческие развлечения, сочинение непритязательных рифмованных шуточек друг о друге:
Выходит Михаил Лозинский, Покуривая и шутя, Рукой лаская исполинской Свое журнальное дитя. У Николая Гумилева высоко задрана нога, Для романтического лова нанизывая жемчуга. Пусть в Царском громко плачет Лева — У Николая Гумилева Высоко задрана нога…Эти стишки относятся, вероятно, к 1913 году, когда выходил официально редактируемый Лозинским «Гиперборей» и уже родился Лев Гумилев.
Дмитрий Кузьмин-Караваев, юрист по профессии, сам стихов не писавший, был назначен «стряпчим» Цеха поэтов. Поскольку структура Цеха была стилизована в духе средневековых ремесленных цехов, «стряпчий» полагался по штату; но Цех поэтов никакой хозяйственной деятельности не вел, не считая издания книг за счет авторов и под их собственным наблюдением, — юридических конфликтов ожидать не приходилось. Секретарем Цеха была назначена Ахматова. Ее функцией была рассылка повесток об очередном заседании. Шутили, что она («по неграмотности») подписывает их «сиклитарь Анна Гу».
Михаил Лозинский, 1910-е
Десять лет спустя обидевшийся на Гумилева и акмеистов Блок яростно выкрикнет: «Они хотят быть знатными иностранцами, цеховыми и гильдейскими…» Идея «святого ремесла», конечно, не слишком русская — не случайно словосочетание это взято из стихов Каролины Павловой, любимой поэтессы Брюсова, трехъязычной писательницы, московской обрусевшей немки. Для Гумилева эта идея была связана с масонством, с легендами о «вольных каменщиках».
О масонстве Гумилев «болтал» в 1912-м с Кузминым, масонскими мотивами проникнуты такие стихотворения, как «Средневековье», и первая редакция «Пятистопных ямбов».
…Но тот, кто видел лилии Хирама, Тот не грустит по сказочным садам, А набожно возводит стены храма, Угодного земле и небесам. ……………………………. Все выше храм торжественный и дивный, В нем дышит ладан и поет орган. Сияют нимбы; облак переливный Свечей и солнца — радужный туман. И слышен голос Мастера призывный Нам, каменщикам всех времен и стран.Ни в какой ложе Гумилев не состоял и знал о масонском движении понаслышке. Политический аспект, приписывавшийся масонству правой прессой[95], его не интересовал вовсе; не была близка ему и этическая сторона учения, привлекавшая стольких просвещенных дворян в XVIII — начале XIX века. Но в учении «вольных каменщиков» было и другое… Масоны XIX–XX веков верили, что головокружительное искусство, с которым возведены готические соборы, основано на профессиональных секретах, передававшихся посвященными каменных дел мастерами из поколения в поколение — со времен боговдохновенного Хирама, строителя Храма Соломонова. Такие же древние секреты (должно быть, считал Гумилев) есть и в искусстве словесном.
Николай Клюев, 1915 год
Розенкрейцерская символика, «лилии Хирама», земной Храм, который строится в соответствии с тайными указаниями Великого Архитектора, — все эти вещи могли отложиться в сознании впечатлительного молодого поэта, например, в период общения с теософами — Волошиным и Дмитриевой. Есть, однако, важнейшее различие между мироощущением Гумилева и, скажем, Андрея Белого, работавшего резчиком по камню на строительстве храма в Дорнахе. Для Белого высший и тайный смысл воплощен в начертанном на камне орнаменте. Для Гумилева — в секретах строительной технологии. В ремесле. Здесь и проходил раскол.
Формальный разрыв с символистами наступил 18 февраля 1912 года. Еще накануне (23 января) Гумилев в последний раз был на Башне и слушал там чтение Андрея Белого. Именно доклады Иванова и Белого о символизме, прочитанные в Академии стиха, решили дело. С резкими возражениями обоим символистам выступили Гумилев, Городецкий и Кузьмин-Караваев. Во время этой дискуссии впервые было произнесено слово «акмеизм».
Тексты докладов Иванова и Белого были тогда же напечатаны в журнале «Труды и дни» (двухмесячник издательства «Мусагет»), в первом номере, в Москве. О чем же шла речь?
Доклад Иванова начинается таким пассажем (приводится в сокращении):
Если, поэт, я умею живописать словом… так, что воображение слушателя воспроизводит изображенное мной с отчетливой наглядностью виденного… если, поэт, я умею петь с волшебной силой… столь сладкогласно и властно, что обаянная звуками душа послушно вслед за моими флейтами тоскует моим желанием печалиться моею печалью… если, поэт и мудрец, я владею познанием вещей и, услаждая сердце слушателя, наставляю его разум и воспитываю его волю; — но если, увенчанный тройным венцом певучей власти, я, поэт, не умею… заставить самое душу слушателя петь со мной другим, нежели я, голосом… тогда я не символический поэт…
…Я не символист, если я не бужу неуловимым намеком или влиянием в сердце слушателя ощущений непередаваемых, похожих порой на изначальное воспоминание… Если мои слова не вызывают в слушателе чувства связи между тем, что есть его «я», и тем, что зовет он «не-я»…
Николай Бруни, 1920-е
Дальше Иванов провозглашает следующие тезисы: во-первых, «символизм лежит вне эстетических категорий», во-вторых, «каждое художественное произведение подлежит оценке с точки зрения символизма», в-третьих, «символизм связан с личностью как самого художника, так и переживающего художественное откровение».
Гумилев мог бы ответить на это словами из своей «Жизни стиха»: «И радость, и грусть, и отчаяние читатель почувствует только свои. А чтобы возбуждать сочувствие, надо говорить о себе суконным языком, как это делал Надсон».
Символист, по Иванову, не может быть «ремесленником» (для Иванова «ремесло» — слово бранное!) или «эстетом». Символизм «восстанавливает слово «поэт» в старом значении — поэта как личности… — в противоположность обиходному словоупотреблению наших дней, стремящемуся понизить ценность высокого имени до значения «признанного даровитым и искусным в своей технической области художника-стихотворца».
Выступление Иванова отличается от его речи 1910 года. Тогда он сам же снисходительно призывал литературную молодежь «не стремиться быть символистами». Полтора года спустя он занимает жесткую оборонительную позицию.
«Символизм умер?» — спрашивают современники. «Конечно, умер», — отвечают иные. Им лучше знать, умер ли для них символизм. Мы же, умершие, свидетельствуем, шепча на ухо пирующим на наших поминках, что смерти нет.
Это оборона. Но вот Иванов переходит в наступление:
Но если символизм не умер, то как он вырос!..
Еще недавно за символизм принимали многие прием мысли, родственный импрессионизму…
От этого (брюсовского) определения Иванов решительно отрекается, как и от «символизма поэтических ребусов».
Истинный символизм не отрывается от земли. Он не подменяет вещей и, говоря о море, разумеет земное море, и, говоря о высях снеговых, разумеет вершины земных гор… К одному стремится он… — к эластичности образа, к его внутренней жизненности и экстенсивности в душе…
Другими словами, «символизм без берегов».
О «внутреннем каноне» тоже уже речь не заходит. Всякое произведение искусства может быть отнесено к «символическому» (высшему) или «несимволическому» (низшему) роду искусства по критериям, как честно сказано, внеэстетическим и притом довольно зыбким. «Те, назвавшие себя символистами, но не знавшие… что символизм говорит о вселенском и соборном, — водили нас путями символов по светлым раздольям, чтобы вернуть нас в темницу нашего «я». Это относится, без сомнения, прежде всего к Брюсову. Похоже, что объектом раздражения Иванова был скорее он, чем Гумилев и тем более чем Городецкий.
При чтении речи Белого понимаешь, почему этот выдающийся писатель органичнее, чем другие младшие символисты, чувствовал себя в советской культуре. Кантианец и штейнерианец, он был, как писали в советских учебниках, «стихийным диалектиком».
Суть символизма, по словам Белого, — в единстве формы и содержания.
Для тех, кто помнит советские учебники литературы, аналогии выстраиваются легко.
Но:
Под содержанием разумеется символизмом не мысль и не образ; под содержанием разумеется символизмом основная стихия глубоко потрясенной души…
Символизм, оставляя в свободе певчее творчество, защищает свободу выхода из этой свободы не мысль и не образ; под содержанием разумеется символизмом основная стихия глубоко потрясенной души…
Символист — это тот, кто за крепость и кованность слова не отдаст бессловесности, безымянности ему звучащих мелодий, как и тот, кто во имя этих волнений не предаст прекрасной звучности слова, взятой самое по себе.
Н. Клюев, М. Лозинский, А. Ахматова и М. Зенкевич на заседании Цеха поэтов. Рисунок С. Городецкого, 1913 год
Последняя фраза особенно «диалектична» и заставляет вспомнить такую знакомую людям нашего и старших поколений «осознанную необходимость».
Иванов готов был отказаться от символизма как преходящей стилистической системы ради символизма как глобальной идеологии — своей собственной идеологии, большинству других символистов чуждой. Белый формулировал понятие «символизм» так, что под него можно было подверстать все, что угодно. А впрочем…
Невозможно поверить, чтобы Гумилев, а тем более Ахматова, тем более Мандельштам, или Ходасевич, или Пастернак, или даже Маяковский не знали о «бессловесных мелодиях», стоящих за поэтическим творчеством. Но для них как-то стыдно было говорить об этом вслух. Для следующего поколения, пришедшего после революции, немыслимо, нецеломудренно было говорить вслух уже и о многом другом. История русского модернизма может быть прочтена как история возрастающей речевой застенчивости, история роста зоны стыда, зоны умолчаний. Акмеизм (как и футуризм) был, помимо прочего, рожден этим — антропологическим — процессом.
Слово «акмеизм» не могло быть плодом чьей-то спонтанной импровизации во время дискуссии в «Аполлоне». Андрей Белый претендует на авторство термина и даже самой программы нового течения[96], но Ахматова опровергает его. По ее словам, решение «отмежеваться от символистов» было принято еще на втором собрании Цеха в Царском Селе (1 ноября 1911 года, стало быть). «С верхней полки достали греческий словарь… и там отыскали — цветение, вершину».
Ахматова ничего не говорит про другой термин — «адамизм», употреблявшийся первоначально наряду с «акмеизмом». Может быть, потому, что термин этот употреблял преимущественно Городецкий, о котором акмеисты предпочитали позднее не вспоминать. В историю литературы это слово по-настоящему не вошло.
Но если идея новой школы родилась еще 1 ноября, зачем ждали два месяца? Должно быть, Гумилев не решался открыто бросить вызов своим учителям. Именно Гумилев — Городецкий никогда ни минуты не сомневался, если нужно было, так сказать, «сменить вехи» и (с предполагаемой, но обычно мнимой выгодой для своей литературной карьеры) перейти в другой окоп, а Ахматовой было все равно. Но и у Гумилева «любоначалие» (порок, которого он никогда не был чужд) оказалось сильнее вассальной верности ученика. К тому же вся логика событий толкала молодых поэтов к обособлению…
Тем не менее прошел год, прежде чем манифесты акмеистов появились в печати…
4
В группу акмеистов вошло шесть поэтов.
Три из них, включая самого Гумилева, стали классиками русской литературы. Один — Владимир Нарбут — «малым классиком», ценимым специалистами. Два других — Городецкий и Михаил Зенкевич — интересны сегодня исследователям скорее как фигуры литературного «фона».
В 1912 году предвидеть такой поворот событий было невозможно.
Пожалуй, лишь в одном взгляд наблюдателя с короткой дистанции совпал бы со взглядом человека, смотрящего издалека, из будущего, — в исключительной роли, которую в новом литературном направлении играла единственная женщина, Анна Ахматова. Немного забегая вперед: никто из говоривших в 1912–1916 годы об акмеизме не сказал про поэзию Ахматовой дурного слова, и никто не умолчал о ней. Друзья акмеизма поднимали ее на щит, враги — делали для нее исключение.
И конечно, история рождения акмеизма неотрывна от истории отношений Николая Гумилева и Анны Ахматовой.
У этих отношений — две стороны. Одна — бытовая: не слишком гармоничный и не слишком удачный (чтобы не сказать больше) брак, давший современникам много поводов для сплетен.
Другая — высокий союз двух поэтов, тоже не во всем гармоничный, но в целом счастливый и плодотворный.
Эти две линии отношений никогда не сливались. Вершинная точка поэтического диалога относится, может быть, ко времени, когда брак уже невосстановимо распался? Но, не сливаясь, линии пересекались между собой; образ бледной и хрупкой молодой поэтессы, ее трагические стихи, в которых простодушные современники видели интимную исповедь, — все это заставляло сплетников сочувствовать ей, а не ее косоглазому мужу, пишущему нелицеприятные рецензии на книги собратьев по перу и всем надоедающему рассказами о своих африканских путешествиях[97]. Тем более что и реальных «улик», свидетельствующих против него, хватало: Гумилев не скрывал и не умел скрывать своих романов. Его увлечение Ницше, мужественность, которой он щеголял, — все это заставляло предположить, что он и впрямь «идет к женщине с плеткой», точнее, «с узорчатым, втрое сложенным ремнем».
Что происходило между ними на самом деле?
Сразу же выяснилось, что у нас диаметрально противоположные вкусы и характеры… Я мечтал о веселой, общей домашней жизни, я хотел, чтобы она была не только моею женой, но и моим другом и веселым товарищем… А для нее наш брак был только этапом, эпизодом в наших отношениях, в сущности, ничего не менявшим в них. Ей по-прежнему хотелось вести со мной «любовную войну» по Кнуту Гамсуну… устраивать сцены ревности с бурными объяснениями и бурными примирениями…
Придя домой, я по раз установленному ритуалу кричал: «Гуси!» И она, если была в хорошем настроении, — что случалось очень редко, — звонко отвечала «И лебеди», или просто «Мы!», и я, не сняв даже пальто, бежал к ней… и мы начинали бегать и гоняться друг за другом. Но чаще я на свои «Гуси!» не получал ответа и сразу направлялся в свой кабинет, не заходя к ней. Я знал, что она встретит меня своей обычной ненавистной фразой «Николай, нам надо объясниться!», за которой последует сцена ревности на всю ночь.
Так рассказывал Гумилев Одоевцевой. Впрочем, он разным людям разное рассказывал о своем браке. Он помнил многое — вплоть до точного списка подарков, подаренных Анне Андреевне на первое совместное Рождество (шесть пар чулок, шоколад Крафта, духи Коти, томик Корбьера)… Но о чем-то он не хотел вспоминать, а в чем-то ему больно было признаваться.
«У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца — я-то это знаю, как, вероятно, никто. Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка, занимает в жизни ее сердца скромное место. Странно, непонятно и, может быть, необычно, но это так» (Срезневская; еще раз напомним: это текст, прошедший через руки Ахматовой).
Но в то же время: «У меня есть около 15 стихотворений, которые я не решусь никому показать: это детские стихи. Я их писала, когда мне было 13–14 лет. Все они посвящены Н. С. Но интересно в них то, что я об Н. С. везде говорю, как о неживом» (Acumiana).
Эти стихи были написаны в 1903–1905 годы, во время первого, царскосельского «романа». В этих стихах она называет его «братом». Не жених, не возлюбленный — брат. Это слово возникает и в стихотворении, написанном в 1910 году, — именно его «густой романтизм» вызвал насмешку Вячеслава Иванова:
«Брат, дождалась я светлого дня, В каких ты скитался странах?» «Сестра, отвернись, не гляди на меня, Эта грудь в кровавых ранах».Сам Гумилев в этот период не относился к стихам жены всерьез. (Он, конечно, не считал, «что быть поэтом женщине — нелепость»: между тем множество мемуаристов всерьез относят эту строку к нему… К нему, который в конце жизни тратил непомерные силы, обучая поэтическому искусству девушек-студисток!) Впрочем, Ахматова сама признает, что «писала очень беспомощные стихи… Он действительно советовал мне заняться каким-нибудь другим видом искусства, например, танцами («Ты такая гибкая»)».
«Но когда 25 марта 1911-го он вернулся из Аддис-Абебы и я прочла ему то, что впоследствии стало называться «Вечер», он сразу сказал: «Ты — поэт, надо делать книгу».
К тому времени стихи Ахматовой уже появились в «Аполлоне» (в третьем номере). Это была первая публикация молодой поэтессы в многотиражном и престижном издании. А спустя три года, в канун войны (в двадцать пять лет!), она уже пользовалась известностью далеко вне литературного круга. После выхода «Четок» ее слава росла стремительно, невзирая на революцию, и, конечно, она была гораздо громче тогдашней известности Гумилева. Суммарный тираж ее книг к 1924 году превысил семьдесят тысяч экземпляров. Суммарный тираж прижизненных книг Гумилева, не считая переводов, — менее шести тысяч. «Сам поэт прекрасно знал, что такое литературный успех, и еще лучше знал, что успеха он не имел» («Листы из дневника»).
Для человека не только самолюбивого, но и сделавшего патриархальную мужественность своим идеалом, это, конечно, было небезболезненно. Но бескорыстная любовь к поэзии была для него выше любых обид самолюбия. При всех своих слабостях, Гумилев никогда не изменял этой любви. Лишь однажды у него вырвалось многозначительное признание — в предсмертном наброске:
Я рад, что он уходит, чад угарный, Мне двадцать лет тому назад сознанье Застлавший, как туман кровавый очи Схватившемуся яростно за нож. Что тело женщины меня не дразнит, Что слава женщины меня не ранит…Были и другие испытания — не легче.
Неизвестно, что именно омрачило брак Гумилевых летом 1910 года и связано ли это с Амедео Модильяни. Но осенью и зимой 1910–1911 годов итальянский художник, видевший Ахматову в Париже лишь несколько раз, мельком, пишет ей влюбленные письма. Одно из них попадает в руки Гумилева. И тем не менее в середине мая — через два месяца после возвращения из Абиссинии — он безропотно отпускает жену в Париж.
Такой вот ницшеанец. Такой вот деспот…
Впрочем, судя по записям Лукницкого, Гумилев прочитал письмо Модильяни уже после возвращения Ахматовой из Парижа (или во время ее пребывания там): «По возвращении из Парижа А. А. подарила Н. С. книгу Готье. Входит в комнату — он белый, сидит, склонив голову. Дает его письмо…»
О парижских встречах Ахматовой и Модильяни мы знаем из ее воспоминаний, полных аристократизма и изящных недоговоренностей… «Ромео и Джульетта в исполнении особ царствующего дома», — как почтительно сострил Бродский.
Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было следствием не домашнего воспитания, а высоты его духа.
…В дождик… Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь… а мы в два голоса читали Верлена, которого помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи…
Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома — эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли… в первые годы революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, чувствуются его будущие «ню»…
Каковы бы ни были детали отношений «Анны и Амадео» — «полуброшенная новобрачная» достаточно отомстила мужу за месяцы, которые он провел в Абиссинии. Можно лишь вообразить себе, какие картины рисовало его ревнивое воображение… Хотя «устраивать сцены» он себе никогда бы не позволил.
Между прочим, Модильяни именно в этот период был увлечен африканским и египетским искусством. Он рисовал Ахматову в костюме египетской царицы и в африканских бусах. С Гумилевым, который привез эти бусы из своего путешествия, у «пьяного чудовища» (или «особы царствующего дома») хватило бы при иных обстоятельствах тем для разговора.
Тем временем Гумилев проводил время в Слепневе. Свои чувства к усадьбе он откровенно излил еще в «Жемчугах»:
Мне суждено одну тоску нести, Где дед раскладывал пасьянс И где влюблялись тетки в юности И танцевали контреданс. И сердце мучится бездомное, Что им владеет лишь одна Такая скучная и томная, Незолотая старина.Право, в этих строках больше искренности, чем в последующих сусальных «русских» стихах Гумилева.
Но летом 1911 года тоску сглаживали две подружки-кузины, внучки Варвары Ивановны Лямпе, — 23-летняя Маша и 21-летняя Оля Кузьмины-Караваевы. Если отношение Гумилева к Оле не выходило за рамки обычной галантности, то Машей он не на шутку увлекся. «Высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми глазами», одетая «с большим вкусом в нежно-лиловые платья», она куда больше, чем Ахматова, соответствовала стереотипу возлюбленной конквистадора… Дальше сюжет разворачивается по всем законам мелодрамы: Маша была больна туберкулезом и не считала себя вправе кого-либо «полюбить и связать». Гумилев просиживал с книгой у спальни, где отдыхала девушка, ездил с ней и ее сестрой кататься, играл в буриме, гадал с девушками по книге стихов и заполнял их альбомы «посредственными стихами» (как язвительно замечала Ахматова). Все романтично, трогательно и невинно.
Титульный лист первой книги А. Ахматовой «Вечер» (СПб., 1912) с дарственной надписью Гумилеву: «Коле Аня. Оттого что я люблю тебя, Господи!» Надпись иронически переосмысляет последнюю строку из стихотворения Гумилева «За́води»
Осенью Гумилев навестит умирающую Машу в финляндском санатории; 20 декабря проводит ее в Италию, где она через девять дней, накануне Нового года, умрет.
В сущности, примечательна не сама по себе эта история (и Пушкин любил «чахоточных дев» — о, эта вампирическая эстетика допенициллиновой эпохи!), а та прямая связь, которую находят между ней и образом Машеньки из «Заблудившегося трамвая». Удивительным образом эта легенда пленяет не только А. А. Гумилеву-Фрейганг, «мещанку и кретинку» (по выражению, как нетрудно догадаться, Ахматовой), но и серьезных современных исследователей (например, Ю. В. Зобнина). Аргументом служит, в частности, свидетельство Н. Оцупа о том, что «Трамвай» написан 30 декабря 1919 года — стало быть, в годовщину Машенькиной смерти. Но едва ли Гумилев помнил через восемь лет, и каких, дату смерти дальней родственницы, за которой он как-то ухаживал. Видеть в Машеньке реальное лицо, искать ей житейский прототип — значит игнорировать саму природу модернистской поэзии…
Те же стихи, которые непосредственно обращены к М. А. Кузьминой-Караваевой, довольно банальны (кроме программного «Родоса», посвященного ее памяти) — и так же бесконечно банален запечатленный в них девичий образ («Героиня романов Тургенева…» — это надо произносить через «э», с интонацией северянинской героини, которую «Тургэнев вчера опять зачаровал»). Пожалуй, больше всего о тогдашнем Гумилеве говорит одно из стихотворений, посланных из Слепнева Вячеславу Иванову и оставшихся в рукописи, — «Неизвестность». Романтический антураж (горы, грот, «легкокрылая фея» и т. д.) — и неожиданное завершение:
…И поверить нельзя, что и здесь, как повсюду, всегдашний,
Бродит школьный учитель, грозя прописною моралью.
Это, конечно, ирония… Но странен этот Дон Жуан, который даже в мире своих грез видит «школьного учителя с прописною моралью» и тяготится им. Обратимся опять к мемуарам Срезневской.
Я помню, раз мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах мужчин и женщин, и он сказал: «Я знаю только одно, что настоящий мужчина — полигамист, а настоящая женщина моногамична». — «А вы такую женщину знаете?» — спросила я. «Пожалуй, нет. Но думаю, что она есть», — смеясь, ответил он. Я вспомнила Ахматову, но, зная, что ему будет это больно, промолчала.
Создается впечатление, что Гумилев, стремясь к внутренней независимости, сознательно воспитывал в себе «полигамиста», что-то преодолевая, считая это признаком мужественности. Об этом писал, между прочим, Н. Оцуп, знавший Гумилева хорошо именно в бытовом, житейском отношении: «Теперь нашли бы у Гумилева фрейдовский комплекс: считая себя уродом, он тем более старался прослыть донжуаном, бравировал, преувеличивал… Он был донжуаном из задора, из желания свою робкую, нежную, впечатлительную натуру сломать». Разумеется, он был и от природы страстным, влюбчивым человеком, и чувственный жар в самом деле ему «затмевал сознанье»; еще в 1920 году О. Арбенина отмечала его «арабский темперамент», а ведь ему было тогда далеко за тридцать, он работал с утра до вечера и питался пайковой пшенкой и воблой. «Святой Антоний может подтвердить, что плоти я никак не мог смирить» — так это выглядело в его собственном описании, но мы знаем, что Гумилев не был пылким и безответственным мотыльком, пленником мимолетных желаний. Он жестко и целенаправленно строил свою жизнь; отношения с женщинами занимали здесь свое место, как литература, Африка, война. В каком-то смысле они были средством самоутверждения. «Дон-Жуанство как результат нашего «романа», — прямо указывает Ахматова («Листки из дневника»). С годами это поведение, конечно, вошло в привычку, образовался «навык обольстителя», — но это произошло позднее, годам к тридцати.
…Пока же у нас на дворе лето 1911 года. В начале июля Гумилев уезжает в Царское, где тщетно ожидает жену, но, не дождавшись ее, возвращается обратно. 13 июля Ахматова наконец появляется в Слепневе — прямо из Парижа. В Слепневе они проводят три недели — до 7 августа. Этим (и следующим) летом они коротают время в обществе соседей — Владимира Константиновича и Веры Алексеевны Неведомских, владельцев имения Подобино, рядом со Слепневом. Госпожа Неведомская опубликовала воспоминания об этих днях.
Анна Ахматова. Рисунок Амедео Модильяни. Париж, 1911 год
Ахматова, по словам Неведомской, была «молчалива», «чувствовалось, что в доме мужа она чужая». Чужой она явно была и для Неведомских. Одевалась то в «темное ситцевое платье вроде сарафана», то в «парижские узкие юбки с разрезом» (внимание — знаменитая «узкая юбка»!). Читала стихи (которые «Гумилев ставил в музыкальном отношении выше своих»). Вот, собственно, и все…
Зато Гумилев в описании соседки выглядит очень живо и колоритно. «…Очень необычное лицо: не то Би-ба-бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые». При первой встрече одет так: «на голове — феска лимонного цвета, на ногах — лиловые носки и сандалии и к этому русская рубашка». Пьеро, одетый как Арлекин… Такое женское внимание к одежде! Гумилев у Неведомской совершенно не похож на себя в описании петербургских знакомых. Пьеро действительно превращается в Арлекина, слишком серьезный и оттого смешной клоун — в эксцентричного и изобретательного шута.
Началось с игры в «цирк». В Слепневе с верховыми лошадьми дело обстояло плохо… и Николай Степанович должен был вести длинные дипломатические переговоры с приказчиком, чтобы получить под верх пару полурабочих лошадей. У нас же в Подобине… всегда имелось еще несколько молодых лошадей… Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не умел, но у него было полное отсутствие страха. Он садился на любую лошадь, становился на седло и проделывал самые головоломные упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала, и он не раз падал вместе с лошадью[98].
В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом и т. д. Ахматова выступала как «женщина-змея»; гибкость у нее была удивительная — она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилев, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали… Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать — кто мы такие? Гумилев не задумываясь ответил, что мы бродячий цирк и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство, и мы проделали перед ними всю нашу «программу»…
Другая игра:
…Каждый из нас изображал какой-то определенный образ или тип — «Великая интриганка», «Дон Кихот», «Любопытный» (он имел право подслушивать, перехватывать письма и т. п.), «Сплетник», «Человек, говорящий всем правду в глаза» и так далее. При этом назначенная роль вовсе не соответствовала подлинному характеру данного лица… Каждый должен был проводить свою роль в повседневной жизни.
Не «перевоплощался» ли и сам Гумилев в Подобине — этом «старом дворянском гнезде» с ампирным домом, запущенным парком, верховыми лошадьми и всем причитающимся? Не входил ли он в какой-то новый, непривычный для себя образ? Впрочем, Ахматова конечно же все описанное (прежде всего собственное участие в «цирковой программе») отрицала.
Неведомская вспоминает еще и пьесу для домашнего театра, написанную Гумилевым, — «шаржированную до гротеска» испанскую драму «Любовь-отравительница». Наконец соседка роняет многозначительный намек: «В романтической обстановке старых дворянских усадеб, при поездках верхом при луне и т. п., конечно, были увлечения, более или менее явные, и игра могла привести к столкновениям…» Это место Ахматова комментирует просто: «У Веры Ал. был, по-видимому, довольно далеко зашедший флирт с Николаем С., помнится, я нашла не поддающееся двойному толкованию ее письмо к Коле, но это уже тогда было не так интересно, чтобы об этом вспоминать». «Флирт», вероятно, имел место уже в следующее пребывание Гумилевых и Неведомских в Тверской губернии, летом 1912 года, когда Ахматова, находившаяся на шестом месяце беременности, участвовать в верховых прогулках не могла (зато в них, судя по шуточным стихам Гумилева, участвовала Ольга Кузьмина-Караваева)[99]. Ахматову возмущает намек Неведомской на возможную ревность с ее стороны: «Вера пользуется тем, что в Слепневе нас, естественно, никто не видел, и пишет злостный вздор. М. б, она знала, что мы смеемся над ее очевидной ревностью (к мужу Володе), и решила отплатить той же монетой».
Дом Гумилевых в Слепневе. Фотография С. П. Лукницкого, 1987 год
Таковы две, по-видимому, первые женщины, с которыми у Гумилева «что-то было» (романтическая влюбленность или «далеко зашедший флирт») в период брака с Ахматовой. «Героиня романов Тургенева» и кокетливая соседка, приятельница по верховым прогулкам. Переживания, связанные с этими эпизодами, не шли ни в какое сравнение с внутренней драмой, прямо или косвенно отразившейся в стихах Гумилева 1910–1913 годов.
Самой страшной я становлюсь в «Чужом небе» (1912), когда я в сущности рядом (влюбленная в Мефистофеля Маргарита, женщина-вамп в углу, Фанни с адским зверем у ног, просто отравительница, киевская колдунья с Лысой горы) … Там борьба со мной! Не на живот, а на смерть! <…> А потом:
Ты победительница жизни, И я товарищ вольный твой.Однако, лишь печально констатировав: «Я проиграл тебя, как Дамаянти когда-то проиграл безумный Наль», — он смог принять это «вольное товарищество». «Пятистопные ямбы» были написаны в 1913 году, в том же году Гумилев и Ахматова «дали друг другу свободу». Вот эпизод, относящийся к 1915 году и хорошо показывающий стиль их отношений в этот период:
Н. С. и А. А. обедали вместе на Николаевском вокзале. А. А. говорит о «нем». О том, что он не идет, не пишет. Н. С. ударяет по столу рукой: «Не произноси больше его имени». А. А. помолчала. Потом робко: «А можно еще сказать?» Н. С. рассмеялся: «Ну, говори!»
Пообедав, вышли из буфета, направились к перрону. Вдруг тот, о ком говорили, появляется в дверях. Он здоровается, заговаривает. А. А. с царственным видом произносит: «Коля, нам пора», — и идет дальше.
Н. С. предлагает пари на 100 своих рублей против 1 рубля Ахматовой, что этот человек ждет ее у входа.
При следующей встрече Н. С., не здороваясь, не целуя руки, говорит: «Давай рубль!» (Acumiana).
Брат и сестра…
Любопытно, что образ Ахматовой прочитывается в «безличной» поэзии Гумилева легче, чем его образ в ее якобы исповедальных стихах. Ну конечно, тот, кто «любил стертые карты Америки» и «не любил женской истерики», — это он; «серый лебеденок», «ставший лебедем надменным», — он… Но эти стихи прямо рассчитаны на узнавание. Что касается остальных, то Гумилев не зря всю жизнь так стремился подчеркнуть, что в стихах Ахматовой «обретает голос ряд немых до сих пор существований — женщины влюбленные, лукавые, мечтающие и восторженные говорят наконец своим подлинным и в то же время художественно убедительным языком», что «Ахматова говорит не только от своего имени, но и от имени всех покинутых женщин» и что «вся сфера женских переживаний исчерпана Ахматовой». В нем говорил беспристрастный критик, историк литературы, вождь литературного направления, но также — человек, которому нужно было в конце концов доказать, что он никого никаким втрое скрученным ремнем не хлестал.
Ахматова любила подчеркивать, что «весь акмеизм рос от его наблюдения за моими стихами тех лет, так же как за стихами Мандельштама». Так ли это?
С одной стороны, у Ахматовой (в отличие от Гумилева и Городецкого) не было символистского прошлого. Она не присягала «новому искусству» и «декадансу», а если и присягала, то присяги этой никто, кроме Гумилева, не слышал. Ее самостоятельное творчество началось со стихов, которые на нынешний взгляд прямо с символистской поэтикой не связаны. Нам, знающим, в какую сторону пошло дальше развитие Ахматовой и всей русской поэзии, очевидно новаторство — по сравнению с эпохой Брюсова, Иванова, раннего Блока — таких строк:
Я на солнечном восходе Про любовь пою, На коленях в огороде Лебеду полю. Вырываю и бросаю — Пусть простит меня. Вижу, девочка босая Плачет у плетня.Но современники читали эти стихи иначе и в другом контексте.
В июне 1912 года Гумилев пишет Ахматовой из Слепнева:
Каждый вечер я хожу один по Акинихской дороге испытывать то, что ты называешь Божьей тоской. Как перед ней разлетаются все акмеистические хитросплетения. Мне кажется. что во всей вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби… Кажется, земные наши роли переменятся, ты будешь акмеисткой, а я мрачным символистом.
Итак, в 1912 году Ахматова казалась Гумилеву «символисткой»… А признаком символизма была «глубокая и вечная скорбь». «Я шутя советовал ей подписываться не «Анна Ахматова», а «Анна Горенко». Горе — лучше не придумать» (Одоевцева).
Два года спустя, рецензируя ахматовские «Четки», Гумилев писал:
…Столь естественный и потому прекрасный юношеский «пессимизм» до сих пор был Достоянием «проб пера» и, кажется, в стихах Ахматовой впервые получил свое место в поэзии. Я думаю, каждый удивлялся, как велика в молодости способность и охота страдать… Позднее, когда его <поэта> духу… начнет являться «нечаянная радость», он почувствует, что человек может радостно воспринять все стороны мира, и из гадкого утенка, каким был до сих пор в своих собственных глазах, он станет лебедем…
Гумилев — в строго-благожелательной, подчеркнуто безличной рецензии на стихи Ахматовой[100] — намекает на ее «андерсеновские» строки, обращенные (уж он-то знал это!) к нему. («Гуси… И лебеди!») Намекает, чтобы противопоставить ее «прекрасному юношескому пессимизму» — свое «радостное приятие всех сторон мира». Чувствуется, что и с поэзией Ахматовой была у него та же, что и с ней самой, любовь-борьба. Якобы принимающий мир, он на деле, как мы видели, тоже был подвержен «Божьей тоске». И ему требовалось еще немало усилий, чтобы стать достойным ее, «победительницы жизни», товарищем — «господином жизни», каковым, как он верил, и надлежит быть поэту.
С Мандельштамом все обстоит еще сложнее.
К 1911 году 20-летний Осип Мандельштам, сын купца второй гильдии, выпускник Тенишевского училища и недавний вольнослушатель Сорбонны, уже два или три года активно участвовал в петербургской литературной жизни. Конечно, легенда о «еврейской мамаше», появляющейся с сыном в редакции «Аполлона» и требующей от Маковского дать экспертную оценку его стихам, более чем сомнительна. Трудно сказать, что заставило С. К. Маковского, еще молодого и вроде бы не страдающего аберрациями памяти, выдумать в 20-е годы эту историю. Мандельштам с 1908-го переписывался с Брюсовым и Вячеславом Ивановым. В отличие от Гумилева, он был благосклонно принят даже у Мережковских. Другими словами, он был многим обязан символистам и никак ими не обижен; тем более что ему, как молчаливо подразумевалось, следовало испытывать благодарность еще и за «входной билет в русскую культуру». Взрослый Мандельштам был органически не способен ни к такого рода благодарности, ни к благоговению перед кем-либо, но в момент возникновения акмеизма он был еще юн и робок.
С учетом всего этого неудивительно, что весной 1911-го, узнав, «что вся литературная часть «Аполлона» в руках Гумилева», Мандельштам собирался забрать оттуда свои стихи. Он уже знал, что Гумилев не в ладах с Башней, и не хотел оказаться на его стороне. Но вскоре оказался.
Стихи Мандельштама до второй половины 1912 года — чисто символистские, гораздо более символистские, чем что бы то ни было написанное Гумилевым и Ахматовой. Собственно, самый ранний Мандельштам — это и есть последняя блистательная страница русского символизма.
Я так же беден, как природа, И так же прост, как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса.Резкий переход Мандельштама на акмеистические позиции (начиная со стихотворения «Нет, не луна, а светлый циферблат…»), превращение его в одного из идеологов акмеизма — во многом результат общения с Гумилевым. Стоит вспомнить, что сам Гумилев писал об этом превращении: «Мандельштам открыл двери в свою поэзию для всех явлений жизни, живущих во времени, а не только в вечности или мгновении… Я не припомню никого, кто бы так полно вытравил в себе романтика, не затронув в то же время поэта» (Аполлон. 1914. № 1–2).
Это из рецензии на первый (1913) «Камень».
Слово «романтик» здесь — синоним слова «символист». Акмеизм — это, таким образом, антипод романтизма, избавление от романтизма.
Но вспомним другое гумилевское высказывание о Мандельштаме — из рецензии на второе, расширенное издание этой книги (1916): «…Редко встречаешь такую полную свободу от каких-нибудь посторонних влияний… Его вдохновителями были только русский язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, и не всегда успешно, да его собственная видящая, слышащая, осязающая, вечно бессонная мысль» (Аполлон. 1916. № 1).
Четыре года спустя после провозглашения акмеизма у Гумилева не было иллюзий по поводу своего влияния на молодого друга. А сам Мандельштам в 1920-м не без раздражения вспоминал, как «по слабости характера позволил наклеить себе на лоб» ярлык акмеиста.
Выглядел Мандельштам в пору «Камня» так:
Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся на цыпочках, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: «Я написал новые стихи». Закидывал голову, выставляя вперед острый подбородок, закрывал глаза — у него веки были прозрачные, как у птиц, и редкие длинные ресницы веером, — и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву (К. Мочульский. «О. Э. Мандельштам»).
На щуплом теле (костюм, разумеется, в клетку, и колени, конечно, вытянуты до невозможности, что не мешает явной франтоватости: шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину и т. д.), на щуплом теле несоразмерно большая голова. Может, она и не такая большая — но она так утрированно закинута назад, так пышно вьются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы (при этом посередине черепа лысина — и порядочная), так торчат оттопыренные уши… И чичиковские баки пучками!.. И голова кажется несоразмерно большой (Г. Иванов. «Петербургские зимы»).
Быт Мандельштама заключался в его любви к самым простым вещам: он любил пирожные, которых мог съесть хоть дюжину, любил кататься часами на извозчике, восхищаясь свободой и тем, что он видел вокруг. В разгар революции, получив каким-то чудом комнату в «Астории», он по нескольку раз в день купался в ванне, пил молоко, которое ему доставляли по ошибке, и ходил завтракать к Донону, где хозяин, потеряв голову, всем оказывал кредит. Мандельштам был смешлив и очень ласков; близких своих друзей он любил гладить по лицу с нежностью, ничего не говоря и глядя на них сияющими и добрыми глазами (А. Лурье. «Детский рай»).
«Пафос ласковости», как говорил Гумилев, — удивительно точное определение неуловимой ноты, присущей мандельштамовской поэзии, а возможно, и личности.
Цитат можно приводить очень много: из Эренбурга, из Цветаевой…
К такому странному и забавному человеку — да еще такому молодому! да еще из еврейской мещанской семьи! — легко было отнестись свысока. Гумилев, видимо, избежал этого соблазна. Стоит обратить внимание на одно место в приведенной выше цитате: «…только русский язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, и не всегда успешно».
Упреки в «недостаточном знании русского языка» в адрес поэтов еврейского происхождения были обычным делом. Пожалуй, самый яркий и одиозный пример — рецензия С. Городецкого, напечатанная в четвертом «Гиперборее» (1913). Объединяя мелкого стихотворца Якова Година с Дмитрием Цензором (членом Цеха, автором сборника «Старое гетто») и Сашей Черным, Городецкий утверждает, что они «посвятили себя поэтической и литературной деятельности, не вполне владея русским языком… Печальна судьба таких поэтов, потому что даже усиленная работа над языком… не заменяет органического знания его». Примеры «органического знания русского языка» Городецким мы еще приведем ниже, сейчас же для нас интересна полемика Гумилева с бывшим (в 1916-м уже бывшим) другом. Не важно, что у Мандельштама, сына интеллигентной матери, учившегося в одной из лучших петербургских школ, едва ли были проблемы со «сложнейшими оборотами» русского языка (хотя, конечно, язык родителей Гумилева, выходцев из помещичьей среды и сельского духовенства, был несравнимо богаче). Гумилев использует пример Мандельштама, чтобы сказать: преодоление препятствий, поставленных судьбой, обществом, происхождением, не только может быть успешным — оно может стать источником самобытности писателя[101]. Говоря о Мандельштаме, он говорит о себе, утверждает свой идеал высокого сальерианства. Да, Гумилев был Сальери, который все, что получал, получал «в награду… трудов, усердия, молений». Так ему, по крайней мере, казалось тогда — накануне и во время войны. А Мандельштам… Он-то, как довольно быстро оказалось, все же был Моцартом, «гулякой праздным», который платит за свои дары не методическими трудами, а только жизнью.
Осип Мандельштам, 1910-е
У Гумилева (как рассказывала Ахматова Лукницкому) «каждый человек к чему-то предназначался». Мандельштам должен был написать «поэтику», а Ахматовой, зорко уловив генезис ее стихов, Гумилев советовал писать прозу. Но после первого же прозаического опыта Ахматовой он взял свой совет назад, а Мандельштам так и не написал учебника поэтики. Как и сам Гумилев.
Любопытно, что Мандельштам не сказал в печати о стихах Гумилева ни слова — до конца жизни. Правда, он включил его в 1923 году в свой список «поэтов не на вчера, не на сегодня, а навсегда». Но в 1935-м в Воронеже, в разговорах с Сергеем Рудаковым, он «не похвалил ни одного стихотворения Гумилева, кроме «У цыган» (условно)». Неудачами казались ему «Дракон», «Костер». Даже «Заблудившийся трамвай» вызывал у него скептическую усмешку: «Все время помнишь, что действие в Петрограде, путешествие за гривенник… А стихи он понимал лучше всех на свете, но ценил в себе не это, а свои стихи…»
Мандельштам не отрекался «ни от живых, ни от мертвых» (эти слова тоже сказаны в воронежский период), но он был «виртуозом противочувствия» (по прекрасному выражению С. С. Аверинцева), он отталкивался в 30-е годы от Гумилева, как от себя раннего, как от акмеизма в целом.
Сказал «Я лежу», сказал «в земле» — развивай тему «лежу», «земля». Только в этом поэзия. Сказал реальное, перекрой еще более реальным, его — реальнейшим, потом — сверхреальным. Каждый зародыш должен обрастать своим словарем, обзаводиться своим запасом… Все недостаточно, если нет этого. Получается канцелярская переписка, а не стихи… Этого правила не понимали некоторые акмеисты, их последыши, вся петербургская поэзия, вся советская поэзия…
Хотя — добавляет он чуть дальше: «Гумилев соответствовал этому правилу».
Такой была поэтика Мандельштама в дни его «акме». Она была далека и от того, что провозглашали акмеисты в 1912 году, и от их практики. Но и сам Гумилев, утверждая свое «я», незадолго до смерти готов был, кажется, пересмотреть свой взгляд на Анненского. Мандельштаму 30-х был ближе Хлебников (с которым он в 1913 году собирался драться на дуэли); Надежда Яковлевна во «Второй книге», споря с литературоведами, задним числом полупринудительно возвращала его в компанию Ахматовой и Гумилева — в лоно акмеизма.
Возможно, она была права. Разве не больше, чем зафиксированные Рудаковым, вырванные из контекста реплики, говорит письмо, которое Мандельштам в 1928 году написал Ахматовой: «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми — с Николаем Степановичем и с Вами… Разговор с Колей не прервется никогда».
Мандельштам, при всем «пафосе ласковости», не был сентиментальным человеком, особенно в зрелые годы, и подобными признаниями не разбрасывался. Говоря о его отношениях с Гумилевым (некоторых эпизодов мы еще коснемся ниже), нельзя ни на минуту забывать эти слова.
Третьим был Владимир Нарбут, незаурядный поэт и незаурядный человек, не только стихами, но самой личностью своей оставивший след в русской литературе XX века. В двух одинаково известных и одинаково недостоверных мемуарных книгах, относящихся к разным эпохам русской литературы, — «Петербургских зимах» Г. Иванова и романе Валентина Катаева «Алмазный мой венец» — созданы совершенно разные образы этого человека. У Иванова — грубоватый украинский барич, проживающий в Петербурге урожай, карабкающийся в пьяном виде на одного из Клодтовых коней[102], мечтающий стать «Хабриэлем Д’Аннунцио»; у Катаева — демонический Колченогий… Кроме того, как уже точно можно сказать, Нарбут послужил прототипом трагического русского Штольца XX столетия — Андрея Бабичева в «Зависти» Юрия Олеши.
Нарбут родился в 1888 году в Черниговской губернии на хуторе Нарбутовка в семье его хозяина — захудалого помещика с университетским дипломом. Его старший брат Георгий (Егор) был известным художником, мастером силуэта и геральдистом. Предки Нарбута служили при Мазепе, а уездный город Глухов, близ которого находился хутор, в те дни был столицей Левобережной Украины. Как поэт Нарбут был рожден гоголевской стихией, «Вечерами на хуторе…» и «Миргородом»: жутковатой физиологичностью малороссийской жизни и речи, мрачными поверьями про «нежить» и колдовство. Если в северной деревне Клюева, среди таких объемных и достоверных горшков, ухватов и посевов «овсеня», тайно жили благовествующие ангелы, то такие же осязаемые и пахучие южные хутора Нарбута густо населяла нечистая сила. После пристойной, но скучноватой книги «Стихотворения» (1910) он, уже в качестве акмеиста и члена Цеха поэтов, выпустил в 1912 году подряд два сборника — «Аллилуйя» и «Любовь и любовь», бросавших символистскому (и «общедекадентскому») вкусу вызов более очевидный и дерзкий, чем тогдашние стихи Ахматовой, Мандельштама и самого Гумилева.
Из вычурных кувшинов труб щуры и пращуры в упругий воздух дым выталкивают густо и в гари прожилках, разбухший, как от ящура, язык быка, он — словно кочаны капусты.А вот стихи, посвященные Гумилеву и как бы вступающие в диалог с ним, с его стилистикой:
Луна, как голова, с которой кровавый скальп содрал закат, вохрой окрасила просторы и замутила окна хат. Потом, расталкивая тучи, стирая кровь об их бока, задула и фонарь летучий — свечу над ростбифом быка…«Аллилуйя» была конфискована цензурой (случай по тем временам редкий): по желанию автора книгу, далекую от благочестия, набрали «церковным» (кириллическим) шрифтом. Это сочли кощунством. Тем не менее сборник был прочтен, замечен и оценен. Гумилев в 1913 году писал Ахматовой: «Я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй, (по-своему) Нарбут окажетесь самыми значительными».
Владимир Нарбут, 1910-е
К тому же году относится история, которую описал (на сей раз почти не соврав) Г. Иванов: Нарбут стал на некоторое время редактором «Нового журнала для всех», непритязательного марксистского издания, и начал обильно заполнять его стихами и прозой своих друзей и знакомых (среди которых, однако, в данном случае не оказалось ни Гумилева, ни Ахматовой, ни Мандельштама). Три месяца спустя он, обанкротившись, продал журнал первому, кто пожелал его купить. Скандал разразился, когда оказалось, что новый редактор, А. Гарязин, — активный член Союза русского народа[103]. Впоследствии, надо сказать, издательская деятельность Нарбута была не в пример более успешной. Но это было уже после 1917 года.
Еще накануне Октябрьского переворота Нарбут, живший на своем хуторе, вступил в партию большевиков и вскоре стал (в масштабах Глуховского уезда) видной политической фигурой. В начале 1918 года на него было совершено покушение; погиб младший брат Нарбута, сам поэт потерял кисть левой руки и охромел, навсегда став «колченогим». В последующие два года он объехал чуть не весь русский Юг; в Воронеже издавал журнал «Сирена», где печатал Блока, Ахматову, Мандельштама, Пастернака, Есенина; в Екатеринославе попал к белым и под угрозой расстрела подписал обязательство отказаться от большевистской деятельности, сыгравшее в его судьбе роковую роль; в Одессе возглавлял РОСТА, сблизился с молодыми писателями «Юго-Западной школы», стал их учителем и покровителем; у одного из них, Юрия Олеши, увел молодую жену, красавицу Серафиму Суок… Среди всей этой бурной жизни Нарбут выпустил еще три книги стихов, среди которых, «Плоть», — лучшее из написанного им.
Но, переехав в 1922 году в Москву (и постепенно перетащив туда всех своих одесских друзей — Бабеля, Багрицкого, Олешу, Катаева…), Нарбут писать стихи перестал. Не до того было: он создал и в течение шести лет возглавлял крупнейшее издательство страны «Земля и фабрика». Администратором он оказался блестящим, но закончилась его деятельность скверно: конкурент, директор издательства «Круг» Воронский, раздобыл документ, подписанный Нарбутом в Екатеринославе, и в результате директора «Земли и фабрики» исключили из партии и сняли с должности (вскоре такая же судьба постигла самого Воронского — за участие в троцкистской оппозиции). Нарбут снова занялся литературой и занимался ею (с неохотой, тоскуя по настоящему делу) до 1936 года, когда его арестовали и отправили на Колыму. Там, в лагере, он был счетоводом, ночным сторожем, ассенизатором. Весной 1938 года его не то утопили в Охотском море вместе с целой баржей непригодных к работе заключенных, не то расстреляли. Его письма жене из лагеря поразительны сочетанием деловой практичности и обстоятельности (перечень продуктов, которые он просит выслать, — на пол-листа: лимонная кислота, сухие кисели, бульонные кубики «Маги» и т. д.) и несгибаемой убежденности в праве партии послать его, своего солдата-штрафника, в любую точку пространства. «Как мне хочется, дорогая, показать себя на работе, быть стахановцем, всегда первым…»
Такие люди были среди акмеистов, среди людей «нового искусства». Или такими заново рождала их революция, чтобы, как и полагается, пожрать своих детей.
«Левый фланг» акмеистов наряду с Нарбутом включал Михаила Зенкевича. Уроженец Саратовской губернии (тоже южанин), студент-юрист, он был ровесником Гумилева[104] и прожил дольше всех акмеистов — умер он восьмидесяти семи лет. Творчески он был близок к Нарбуту, лично совсем на него не похож: тихий человек, литератор до мозга костей. После первой книги «Дикая порфира» (1912), вышедшей, как и «Аллилуйя», в издательстве Цеха поэтов, на него возлагали большие надежды, но ничего ни лучшего, ни равного он больше не создал. Зенкевич черпал темы для поэзии в палеонтологии; он первым и едва ли не единственным попытался лирически осмыслить те образы диковинных, почти сказочных животных, которые рисовали естественные науки. Гумилев писал о драконах — Зенкевич писал о динозаврах:
Истлело семя, скрытое в скорлупы Чудовищных, таинственных яиц, Набальзамированы ваши трупы Под жирным илом царственных гробниц. И ваших тел мне святы превращенья: Они меня на гребень возвели, И мне владеть, как первенцу творенья, Просторами и силами земли.«Левые» держались несколько особняком и под «акмеизмом» понимали что-то свое. 7 апреля 1913 года Нарбут писал Зенкевичу: «Знаешь, я думаю, что акмеистов всего двое: я да ты. Ей Богу!.. Какая же Анна Андреевна акмеистка, а Мандель? Сергей еще туда-сюда, а о Гумилеве и говорить не приходится».
Михаил Зенкевич, 1910-е
Потом Зенкевич пытался писать в «футуристическом» духе, подражая то Маяковскому, то Пастернаку, а с известного момента стал тихим соцреалистом второго ряда. Хранил «небольшой архив с автографами», много переводил английских поэтов, между прочим, одним из первых — Элиота. В 1991-м был посмертно опубликован его роман «Мужицкий сфинкс», написанный в конце 20-х, гротескное и игровое произведение, среди героев которого — названные собственными именами, но лишь отчасти похожие на себя настоящих Гумилев и Ахматова. К этой книге мы еще в свое время обратимся.
Гумилев, Городецкий, Ахматова, Мандельштам, Нарбут, Зенкевич — таков был к середине 1912 года внутренний круг поэтов-акмеистов, который был частью более широкого кружка, сформировавшегося внутри Цеха поэтов[105]. Гумилев с Городецким и Нарбут с Зенкевичем были на «ты», остальные обращались друг к другу тоже на «ты», но по имени-отчеству. (Речь о мужчинах, к лицу противоположного пола на «ты» можно было обращаться лишь при близком родстве… На «вы» часто были даже любовники — по крайней мере, в богемной среде.) Только Мандельштама, как самого молодого, Гумилев позволял себе называть Осип — тот же, во всяком случае в первые годы их дружбы, звал Гумилева Николаем Степановичем.
Здание, где помещалась «Бродячая собака». Фотография М. А. Захаренковой, 2007 год
Сблизившись с Лозинским, Мандельштамом, Нарбутом, Гумилев отошел от своего прежнего кружка, от таких своих друзей, как Ауслендер, А. Н. Толстой, Зноско-Боровский. По свидетельству Ахматовой, в новом кругу нравы были подемократичнее: без непременных обедов у Альбера или в «Вене». Вероятно, у акмеистов было просто меньше денег. Впрочем, Мандельштам (судя по процитированным выше воспоминаниям Лурье) не прочь был пообедать в дорогом ресторане, если кормили в кредит.
5
1912 год был богат событиями — и в жизни Гумилева, и в непосредственно окружавшем его мире.
1 января 1912 года на Михайловской площади, во втором (а не третьем, как пишет Г. Иванов) дворе дома Жаке (ныне д. 5) открылось знаменитое кабаре «Бродячая собака» (официально «Кафе художественного общества Интимного театра»), просуществовавшее всего три с половиной года, но оставившее по себе в русской культуре богатую память. Два зала и буфетная, расписанные Судейкиным, Кульбиным и Белкиным, повидали в своих стенах многих.
В числе членов-учредителей «Бродячей собаки» были А. Н. Толстой, художники-мирискусники Мстислав Добужинский и Николай Сапунов (в том же году утонувший в Финском заливе), Николай Евреинов, архитектор Иван Фомин. Образцом для Пронина, основателя кабаре, служили парижские артистические кафе, прежде всего Closerie des Lilas, но петербургская реальность наложила на проект свой отпечаток.
Описаний «Бродячей собаки» в русской мемуаристике более чем достаточно.
Проект герба «Бродячей собаки». Рисунок М. В. Добужинского, 1912 год. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
На открытие «Бродячей собаки» были написаны куплеты — как предполагается, поэтом Всеволодом Гаврииловичем Князевым, вольноопределяющимся 16-го гусарского полка, служившим в Риге и лишь наездами бывавшим в Петербурге, а в «Собаке» появлявшимся в обществе своего сердечного друга Михаила Кузмина. (Год спустя Князев застрелится, по слухам, из-за несчастной любви к актрисе Ольге Глебовой-Судейкиной, жене художника Сергея Судейкина, и это самоубийство ляжет в основу сюжета ахматовской «Поэмы без героя».)
Во втором дворе подвал, В нем — приют собачий. Каждый, кто туда попал, — Просто пес бродячий. Но в том гордость, но в том честь, Чтобы в тот подвал залезть! Гав!Борис Пронин. Рисунок Н. И. Кульбина, 1914 год
«Пролезть в подвал» и впрямь считалось честью и гордостью. С «фармацевтов», то есть людей, непричастных к искусству, «от флигель-адъютанта до ветеринарного врача» (Г. Иванов), брали за вход по три рубля; кроме того, им требовались письменные рекомендации. Но модернистское искусство входило в моду. И флигель-адъютанты, и мирные буржуа, и депутаты Государственной думы охотно платили за возможность приобщиться к богемным ужасам и извращениям и на одну ночь превратиться в «бродячего пса».
Чтобы попасть в «Собаку», надо было разбудить сонного дворника, пройти два засыпанных снегом двора, в третьем завернуть налево, пройти вниз ступенек десять и толкнуть обитую клеенкой дверь. Там же вас ошеломляли музыка, духота, пестрота стен, шум электрического вентилятора… Сияющий и вместе с тем озабоченный Пронин носится по «Собаке», что-то переставляя, шумя…
Сводчатые комнаты «Собаки», заволоченные табачным дымом, становились к утру чуть волшебными, чуть «из Гофмана». На эстраде кто-то читает стихи, его перебивает музыка… Кто-то ссорится, кто-то объясняется в любви… Ражий Маяковский обыгрывает кого-то в орлянку… Князь С. М. Волконский, не стесняясь временем и местом, с жаром излагает принципы Жака Далькроза. Барон Н. Н. Врангель, то вкидывая в глаз, то роняя (с поразительной ловкостью) свой монокль, явно не слушает птичьей болтовни своей спутницы, знаменитой Паллады Богдановой-Бельской, закутанной в фантастические шелка и перья» (Г. Иванов. «Бродячая собака»).
Примерно так же выглядит «Собака» и в описании Бенедикта Лившица. Ахматова в 60-е годы возражала им, доказывая, что «Бродячая собака» была «вполне приличным кафе поэтов» — в отличие от «Привала комедиантов», открытого Прониным же позднее, в 1916 году.
Но поэзия была для «Собаки» лишь одним из искусств — и далеко не важнейшим. Выступление балерины Карсавиной или вечер исполнительницы романсов Зои Лодий привлекали больше публики, чем поэтические чтения, на которых, по свидетельству самого Пронина, «арбитрами были Кузмин и Гумилев». Тем не менее такие чтения бывали довольно часто, и Гумилев, Ахматова и их новые друзья вскоре стали завсегдатаями «Собаки». «Собачьи» бдения акмеистов отражены в гимне, написанном Кузминым к первой годовщине кабаре:
Наши девы, наши дамы, Что за прелесть глаз и губ! Цех поэтов — все «Адамы», Всяк приятен и не груб. Не боясь собачьей ямы, Наши шумы, наши гамы Посещает, посещает, посещает Сологуб.Из символистов, кроме Сологуба, в «Собаке» мелькал, наездом из Москвы, «едва держащийся на ногах» Бальмонт. Для Иванова cabaret poétique было местом слишком уж вульгарным, а Блок, презирая праздную богему, предпочитал «Собаке» самые злачные кабаки Петербургской стороны и Загородного проспекта, дававшие доподлинное ощущение «бездны». Да и сам Кузмин с середины 1913-го бывал в «Собаке» редко.
Гумилев и Ахматова, появляясь в «Собаке», обычно оставались до утра — до первого поезда на Царское Село (к одиннадцати, официальному часу открытия, в кабаре приходили лишь «фармацевты»: «настоящая» публика собиралась за полночь). Б. Лившиц так описывает их появление:
Затянутая в черный шелк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова, задерживаясь у входа, чтобы по настоянию кинувшегося ей навстречу Пронина вписать в «свиную» книгу свои последние стихи, по которым простодушные «фармацевты» строили догадки, щекотавшие только их любопытство.
В длинном сюртуке и черном регате, не оставлявший без внимания ни одной красивой женщины, отступал, пятясь между столиков, Гумилев, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь «кинжального» взора в спину.
Это описание относится к началу 1914 года, но то же, вероятно, было и в 1912-м, и в 1913 году (за исключением августа — декабря 1912-го, когда Ахматова бывать в «Собаке» не могла из-за беременности).
Ночи в ожидании поезда коротали, играя в стихотворные игры. Не слишком надежная память Георгия Иванова сохранила плоды одной из них:
Каждый должен сочинить стихотворение, в каждой строке которого должно быть сочетание слогов «жора». Скрипят карандаши, хмурятся лбы. Наконец время иссякло, и все по очереди читают свои шедевры.
Обжора вор арбуз украл Из сундука тамбур-мажора. «Обжора! — закричал капрал, Ужо расправа будет скоро».Или:
Свежо рано утром. Проснулся я наг, Уж орангутанг завозился в передней…Что касается «красивых женщин», то их и впрямь было немало. Именно в «Собаке» 12 января 1912 года на заочном чествовании Бальмонта в связи с 25-летием литературной деятельности, Гумилев познакомился с 27-летней Ольгой Николаевной Высотской, актрисой студии Мейерхольда (и бывшей любовницей великого режиссера). О романе Гумилева с этой женщиной нам известно гораздо меньше, чем о последующих его связях. Во время абиссинского путешествия 1913 года Ахматова нашла в бумагах мужа письма какой-то дамы и по возвращении «с торжеством показала их ему». Возможно, Высотская и была этой дамой. Высотской посвящено по меньшей мере одно стихотворение — сонет «Ислам», отразивший «левантийские» впечатления 1910-го или 1913 года. Достоверно известно одно: 13 октября 1913 года у Высотской родился сын Орест, носивший отчество Николаевич. В 30-е годы Высотская пришла к Ахматовой и рассказала ей, что отец ее сына — Гумилев. «Анна Андреевна сразу признала его сыном Гумилева. «У него руки как у Коли», — утверждала она. Лева был счастлив. Ночевал с Ориком вместе и, просыпаясь, бормотал, Brother» (Э. Герштейн). Мать и сын Высотские жили в провинции, она работала режиссером любительского театра и преподавателем в музыкальной школе, вершиной его карьеры стала должность директора мебельной фабрики. Как ни странно, именно этот сын Гумилева, о существовании которого сам поэт, видимо, так и не узнал никогда, сделал больше других для увековечения его памяти: составил генеалогическое древо Гумилевых, опубликовал «Африканский дневник».
Осенью 1913 года, когда родился Орест, Гумилев здесь же, в «Бродячей собаке», безуспешно оказывал знаки внимания некой Мариэтте (по всей вероятности, Шагинян), звал ее в «Гиперборей» — и однажды прочитал с эстрады адресованное ей лирическое стихотворение (вызвавшее стихотворный же ответ ее кавалера, А. А. Книге).
В числе других «собачьих» увлечений была и «какая-то лесбийская дама» — адресат стихотворения «Жестокой»; по предположению Ахматовой, это могла быть сама Паллада Богданова-Бельская — посредственная поэтесса и знаменитая петербургская «вамп». В «Собаке» же, в ожидании поезда, Гумилев ухаживал за А. Губер[106]. «Я поджимала губки и разливала чай… А Николай Степанович усиленно флиртовал…» (Ахматова). Наконец, именно в «Собаке» произошло в начале 1914 года знакомство с Татьяной Адамович, привязанность к которой оказалась одной из самых долгих и серьезных в жизни Гумилева.
В «Бродячей собаке» Гумилев и Ахматова провожали 1912 год и встречали следующий — последний мирный, относительно свободный и сытый, ставший на многие десятилетия недостижимым сном, золотой мечтой России. Современники видели его иным. Акме, цветение, вершина — и предсмертный маскарад на финском гноище: два лица петербургской культуры столетней давности.
Вернувшись домой, Ахматова встретила этот год стихами, вошедшими в хрестоматии:
Все мы бражники здесь, блудницы, Как невесело вместе нам! На стенах цветы и птицы Томятся по облакам.Это роспись «Собаки». Стихи, как все помнят, заканчиваются строчками:
А та, что сейчас танцует, Непременно будет в аду.Что это — пророчество или высокое поэтическое кокетство? На свете много грехов посерьезней, чем легкая жизнь околохудожественных мотыльков, которых в «Собаке», наряду с настоящими мастерами, было немало. А настоящие мастера, «каменщики всех времен и стран», — «достойны рая», как ответил Гумилев своему «вольному товарищу» два года спустя.
В «Собаке» акмеисты встречались со своими сверстниками, участниками конкурирующего и куда более многочисленного литературного течения — футуристами. 1912 год стал годом рождения русского футуризма как явления не только литературно-художественного, но и общественного, взахлеб обсуждаемого прессой.
Слово «футуризм», как известно, возникло в Италии, в Милане. Филиппо Маринетти и его сподвижники напечатали свой манифест в «Фигаро» 2 февраля 1909 года. В России об этом течении ходили слухи смутные и противоречивые. Гумилев в одной из рецензий 1909 года с похвалой упоминает о художниках новой школы, которые на несколько лет уговорились не писать обнаженную женскую натуру, чтобы избежать банальности. Но новации молодых футуристов были посерьезнее: предполагалось разрушить синтаксис, убить лунный свет, построить на развалинах венецианских музеев макаронные фабрики.
Вероятно, первый в России человек, взявший слово «футуризм» на вооружение, Игорь Васильевич Лотарев, он же Игорь Северянин, узнал его из газет. Семь лет, с 17-летнего возраста, влачил он долю провинциального графомана (если полупригородную Гатчину, где он жил, можно считать провинцией), издавая за свой счет тоненькие книжечки стихов и рассылая их по редакциям и «знаменитостям». Константин Фофанов, тоже гатчинец, небольшой, но, что называется, «задушевный» лирик, импрессионист 80-х годов, сверстник Надсона, до известной степени предшественник символистов, тяжелый алкоголик, страдавший приступами безумия, был первым, кто отнесся к нему с лаской. Став всероссийской знаменитостью, «гений Игорь Северянин» объявил Фофанова предтечей своей поэтической школы.
Впрочем, уже в 1911–1912 годы, когда Северянин основал и возглавил эту новую школу — эгофутуризм, его стихи снискали благосклонное внимание символистских мэтров. Брюсов снисходительно благословил его, Сологуб написал предисловие к «Громокипящему кубку» — собранию «поэз», вышедшему в 1913-м и вскоре ставшему всероссийским бестселлером наравне с надсоновским томиком 1885 года (аккуратно переиздававшимся каждый год чуть не до самой революции). Сегодня признание Северянина символистами кажется гораздо более необъяснимым, чем успех у широкого читателя. Как раз читатели-то таких стихов заждались — курсистки-медички и студенты-политехники, «телеграфисты» и «фармацевты», декадентствующие светские львицы и начитанные приказчики… Но почему строгий Брюсов, почему аскетичный и сдержанный в собственных стихах Сологуб так влюбились в эти аляповатые образы и наивные словообразования, почему сам Блок сдержанно, но внятно приветствовал «поэта с открытой душой»? Усталость от хорошего вкуса? Или налет «всемирной пошлости людской» жил и в их сердцах?
Гумилев тоже поначалу с живым интересом отнесся к гатчинскому стихотворцу. В 1911 году он отзывался о Северянине так:
Там, где он хочет быть элегантным, он напоминает пародии на романы Вербицкой, он неуклюж, когда хочет быть изящным, его дерзость не всегда далека от нахальства… Но зато его стих свободен и крылат, его образы подлинно, а иногда и радующе, неожиданны, у него есть уже свой поэтический облик…
Спустя два с половиной года, рецензируя «Громокипящий кубок», Гумилев рассматривает его в принципиально другом аспекте. На сей раз он подходит к Северянину так, как, вероятно, и должно было — социологически:
Уже давно русское общество разбилось на людей книги и людей газеты, не имевших между собой почти никаких точек соприкосновения. Первые жили в мире тысячелетних образов и идей, говорили мало, зная, какую ответственность приходится нести за каждое слово, проверяли свои чувства, боясь предать идею, любили как Данте, умирали как Сократы, и, по мнению вторых, наверное, были похожи на барсуков… Вторые, юркие и хлопотливые, врезались в самую гущу современной жизни, читали вечерние газеты, говорили о любви со своим парикмахером, о бриллиантине со своей возлюбленной, пользовались только готовыми фразами или какими-то интимными словечками, слушая которые каждый непосвященный испытывал определенное чувство неловкости. Первые брились у вторых, заказывали им сапоги, обращались с официальными бумагами или выдавали им векселя, но никогда о них не думали и никак их не называли. Словом, отношения были те же, как между римлянами и германцами накануне великого переселения народов.
И вдруг — о, это «вдруг» здесь действительно необходимо — новые римляне, люди книги, услышали юношески-звонкий и могучий голос настоящего поэта, на волапюке людей газеты говорящего доселе неведомые «основы» их странного бытия (Аполлон. 1914. № 1–2).
Наступление массовой культуры и массового человека — вот что увидел «формалист» Гумилев там, где другие видели лишь эффектные, свежие, хотя и несколько безвкусные образы и ритмы. Но Северянин был даровит, а этому Гумилев придавал большое значение.
Два члена Цеха поэтов первоначально входили в группу Ego — в свиту молодого Короля поэтов: Георгий Иванов и Грааль Арельский. Однако осенью 1912 года и сам Северянин фактически распускает свою группу и на короткий момент, по-видимому, сближается с Цехом. Во втором номере «Гиперборея» напечатано два письма. Первое подписано самим Северянином и сообщает о его выходе из кружка Ego (что по сути означало его ликвидацию) и отказе от сотрудничества с газетой «Петербургский глашатай» — органом эгофутуристов. Второе, принадлежащее Иванову и Граалю Арельскому, гласит: «Кружок Ego продолжает рассылать листки манифеста Ego-футуристов, где в списке членов «ректориата» стоят наши имена. Настоящим доводим до общего сведения, что мы из настоящего кружка вышли и никакого отношения к нему, а равно и к газете «Петербургский глашатай» не имеем».
18 октября 1912 года вождь эгофутуристов навещает Гумилева вместе с Александром Тиняковым — молодым поэтом, на чьей репутации уже в то время лежал легкий отблеск мрачной скандалезности. Тиняков бывал в Цехе поэтов, общался с Гумилевым и в «Бродячей собаке», но все же о нем мы подробнее скажем позднее — когда задатки этого человека, достойного пера Достоевского, смогут реализоваться вполне.
Этой встрече посвящен сонет Северянина, начинающийся словами: «Я Гумилеву отдавал визит, когда он жил с Ахматовою в Царском». Отдавал визит» — значит, Гумилев навещал Северянина прежде. Личные отношения продолжались еще некоторое время. Так, 20 декабря Северянин пишет Гумилеву: «Дорогой Николай Степанович, я только третьего дня встал с постели, перенеся инфлюенцу, осложнившуюся в ветроспу… Я сожалею, что не смог принять Вас, когда Вы — это так любезно с Вашей стороны — посетили меня: болезнь из передающихся, и полусознание».
Вскоре, однако, контакты Северянина с акмеистами прекратились. Слишком далеки были творческие принципы и взгляды на искусство. К тому же автора «Громокипящего кубка» ждала великая всероссийская слава. Прежние сподвижники по кружку Ego (Шершеневич, Ивнев, Иван Игнатьев и др.) опять составили его окружение. Георгий Иванов остался с Гумилевым. Этого Северянин ему не простил[107].
В 1926 году он посвятил бывшему сподвижнику сонет:
Во дни военно-школьничьих погон Уже он был двуликим и двуличным: Большим льстецом и другом невеличным, Коварный паж и верный эпигон.Заканчивается сонет так: «Он выглядит «вполне под Гумилева», что попадает в глаз, минуя бровь…»
Жоржик 1912 года, недавний кадет (отсюда «военно-школьничьи погоны»), и в самом деле во многом соответствовал этой характеристике. Ученик сперва Северянина, потом Гумилева, мальчик из свиты Кузмина, знакомый и собеседник Блока, завсегдатай чуть не всех литературных сборищ и салонов, сплетник («Модистка с картонкой, разносящая сплетни» — так говорил о нем Кузмин, который и сам в этом отношении был далеко не безгрешен), врун, щеголь и бонвиван без определенных занятий, бисексуал, «своеобразным способом достававший деньги на легкую жизнь и кукольные костюмчики» (Ахматова, со ссылкой на Зенкевича), Иванов вызывал чувства в диапазоне от легкой иронии до отвращения. Писал он для своего возраста на редкость бойко (а было ему всего восемнадцать), но в том, что он писал, не было своего лица. Спустя десять лет Иванов был почти таким же; спустя двадцать — может быть, остался сплетником и интриганом, но оказался большим, тонким и умным поэтом. И с учетом его поэзии, в отраженном свете его поэзии жизнь и молодость Иванова выглядят уже иначе… Гумилев прозорливо видел в Жоржике, «модистке с картонкой», то, чего не видел никто[108].
Любопытно, что о самом Гумилеве Северянин всегда продолжал отзываться с пиететом — и посвятил его памяти, кроме уже процитированного, еще один сонет (приводим только терцеты):
Кто из поэтов спел бы живописней Того, кто в жизнь одну десятки жизней Умел вместить? Любовник, Зверобой, Солдат — все было в рыцарской манере. …Он о Земле тоскует на Венере, Вооружась подзорною трубой.Поначалу более или менее корректно складывались и отношения акмеистов с футуристами (или, точнее, будетлянами) группы «Гилея», чья история началась со сборников «Садок судей» (1910). В самом конце 1912 года появился второй сборник — «Пощечина общественному вкусу», принесший гилейцам, или кубофутуристам, широкую известность.
Георгий Иванов. Шарж Н. И. Альтмана, 1913–914 годы
В декларациях и стихах этих поэтов таился вызов, не понимать которого Гумилев не мог. Весной 1913-го по дороге в Джибути, на пароходе он «попробовал однажды писать в стиле Гилеи, но не смог. Это подняло мое уважение к ней…».
В статье «Наследие символизма и акмеизм» он называет футуристов «гиенами, следующими за львом» (символизмом). Это относится, конечно, и к Северянину, и к «Гилее». Но спустя несколько месяцев (Гиперборей. № 5) Гумилев характеризует гилейцев сдержанно, но в целом позитивно:
Кружок писателей, объединившихся для издания этого сборника, невольно внушает к себе доверие, как и несомненной своей революционностью в области слова, так и отсутствием мелкого хулиганства. Главное внимание он уделяет пересмотру стилистических проблем и стремится вернуть слову ту крепость и свежесть, которая утеряна им от долгого употребления. К сожалению, в погоне за стилем упускаются из виду требования ритмики и композиции, и таким образом произведения не имеют той цельности, которая сделала бы их значительными.
Более развернуто из гилейцев Гумилев высказывался лишь о Хлебникове:
Его творчество распадается на три части: теоретические исследования в области стиля и иллюстрации к ним, поэтическое творчество и шуточные стихи. К сожалению, границы между ними проведены крайне небрежно, и часто прекрасное стихотворение портится примесью неожиданной и неловкой шутки или еще далеко не продуманными словообразованиями…
Как поэт, Виктор Хлебников заклинательно любит природу. Он никогда не доволен тем, что есть. Его олень превращается в плотоядного зверя, он видит, как на «вернисаже» оживают мертвые птицы на шляпах дам, как с людей спадают одежды и превращаются — шерстяные в овец, льняные в голубые цветочки льна…
В общем, В. Хлебников нашел свой путь, и, идя по нему, он может сделаться поэтом значительным. Тем печальнее видеть, какую шумиху подняли вокруг его творчества, как заимствуют у него не его достижения, а его срывы, которых, увы, слишком много. Ему самому еще надо много учиться, хотя бы только у самого себя, и те, кто раздувают его неокрепшее дарование, рискуют, что оно в конце концов лопнет (Аполлон. 1913. № 1).
Интерес к чужой до мозга костей поэтике, значительность которой поэт-критик не может не понимать, но которую он все же не в состоянии воспринять в целом, сочетается здесь с литературной политикой. Гумилев не прочь был бы оторвать Хлебникова — своего в конечном счете человека, выходца с Башни, недавнего гостя Цеха — от его футуристического окружения.
Хлебников и Гумилев иногда общались: 28 ноября 1913 года они, судя по дневнику Хлебникова, содержательно беседовали про абиссинских кошек, не умеющих мурлыкать. «Жирафопевец» Гумилев поминается и в хлебниковских стихах.
К поэзии Маяковского Гумилев всю жизнь относился гораздо суровее. Пожалуй, здесь можно говорить даже о враждебности. «Маяковский очень талантлив. Тем хуже для поэзии. То, что он делает, — антипоэзия. Очень жаль…» (высказывание, зафиксированное Одоевцевой). Но это — уважительная враждебность. Не принимая поэтики Маяковского, Гумилев отдавал себе отчет, что имеет дело с серьезным явлением. Сам же Маяковский, втайне очень жадный и любопытный к чужому творчеству (некоторые стихи Ахматовой и Мандельштама он помнил наизусть — это был секрет, о котором знали лишь ближайшие друзья), пожелал с Гумилевым познакомиться. Вождь акмеистов поинтересовался, не говорил ли Маяковский худо о Пушкине. Оказалось, нет — не считая подписи под известной декларацией про пароход современности. Узнав, что Маяковский невинен в грехе богохульства, Гумилев согласился с ним встретиться и поговорить; но Мандельштама, подружившегося было с верзилой футуристом, призвали к порядку. С Бенедиктом Лившицем вести дружбу еще разрешалось: в конце концов, это был благовоспитанный молодой человек, заочный ученик Брюсова, автор журнала «Остров» и знаток петербургской архитектуры.
Позднее всякой дружбе пришел конец. До поры до времени взаимные выпады носили лишь, так сказать, профессиональный характер. Гумилев называл футуристов «гиенами», Маяковский (23 марта 1913 года на диспуте Союза молодежи в Троицком театре) говорил, что акмеисты «слащавы, фальшивы, крикливы», — но «тут не лицо, а только литератор». Однако в начале 1914 года появляется новая декларация футуристов — «Идите к черту», открывающая сборник «Рыкающий Парнас». Почувствовав, что вкус скандала притупился, что футуризм становится чрезмерно респектабельным, гилейцы и соединившийся на сей раз с ними Северянин создали текст, содержащий личные оскорбления в адрес практически всего петербургского литературного мира. «Рыкающий Парнас» не вышел из печати (цензура усмотрела порнографию в украшавших альманах рисунках Филонова), но несколько экземпляров разошлось по рукам — и запланированный скандал состоялся.
Про акмеистов было сказано следующее:
…А рядом выползала свора Адамов с пробором — Гумилев, С. Маковский, С. Городецкий, Пяст, попробовавшие прицепить вывеску акмеизма и аполлонизма на потускневшие песни о тульских самоварах и игрушечных львах, а потом начала кружиться пестрым хороводом вокруг утвердившихся футуристов…
После этого Гумилев, «не отделявший литературных убеждений от личной биографии, избегал всяких встреч с будетлянами» (Лившиц). Впрочем, Хлебников рискнул отправиться к нему в Царское и попросить денег в долг («Я сначала выложу ему все, что думаю о его стихах, а потом потребую ленег. Он даст») — и вернулся с деньгами.
В круг акмеистов с тех пор допускался лишь Николай Бурлюк, подписать декларацию отказавшийся. Он даже участвовал в стихотворных забавах в «Собаке». Но младший брат Давида Бурлюка, тихий юноша-романтик, и футуристом-то стал лишь по родству.
В апреле 1912 года появляется (с издательским грифом не Цеха поэтов, а журнала «Аполлон») «Чужое небо» — четвертая (на самом деле) или третья (как указано на титуле) книга стихов Гумилева.
В числе отозвавшихся на книгу был Брюсов. Краткость и кисловатый тон его отзыва могли бы насторожить Гумилева:
По-прежнему холодные, но всегда продуманные стихи Н. Гумилева оставляют впечатление работ художника одаренного, любящего свое искусство, знакомого со всеми тайнами его техники. Н. Гумилев не учитель, не проповедник; значение его стихов гораздо больше в том, как он говорит, нежели в том, что он говорит. Надо любить самый стих, самое искусство слова, чтобы полюбить поэзию Н. Гумилева. Но так как он мыслит, много читал, много видел, то в его стихах есть также интересные мысли, заслуживающие внимания наблюдения над жизнью и над психологией. В «Чужом небе» Н. Гумилев разрабатывает темы, которых он ранее не касался, пользуется, и умело, метрами, которыми раньше не писал: интересны его «Абиссинские песни», интересен психологический анализ настроений женщины, душа которой «открыта жадно лишь медной музыке стиха», есть у него интересные, самобытные черты в картинах Востока… Гумилев пишет и будет писать прекрасные стихи: не будем спрашивать с него больше, чем он может нам дать…
С резкой враждебностью откликнулся на книгу Борис Садовской. Человек не слишком уравновешенный, смолоду тяжело больной (что не помешало ему дожить — парализованным, но дееспособным — до семидесяти с лишним лет). Садовской обиделся на Гумилева за отзыв о собственной книге в «Письмах о русской поэзии» и попросту свел счеты — как двумя годами раньше Янтарев:
О «Чужом небе» Гумилева, как о книге поэзии, можно бы не говорить совсем, потому что ее автор — прежде всего не поэт. В стихах у него отсутствует совершенно магический трепет поэзии, веяние живого духа, того, что принято называть вдохновением, той неуловимой, таинственной силы, которая заставляет «листок, что иссох и свалился, золотом вечным гореть в песнопеньи», и одна дает писателю право называться поэтом.
Сами по себе стихотворения г. Гумилева не плохи: они хорошо сделаны и могут сойти за… почти поэзию. Вот в этом-то роковом почти и скрывается непереходимая пропасть между живой поэзией и мертвыми стихами г. Гумилева… В книге г. Гумилева не найти и одного бриллианта: сплошь стеклярус, подделанный подчас с изумительным мастерством. Г-н Гумилев легко и ловко фабрикует свои стихи: между ними нет ни превосходных, ни неудачных, — все на одном уровне, а это самый дурной знак, указывающий на полную безнадежность автора как поэта. По-видимому, сам г. Гумилев вполне искренно считает себя «новым поэтом», своего рода Колумбом, «конквистадором», по собственному его определению. Но что такое конквистадор в поэзии, и как можно им быть? Не то же ли это, что в религии быть спортсменом? От Гомера и до наших дней все поэты пели и поют о том, что каждому из них с рождения открыто, о том, «что душу волнует, что сердце томит», о том, «пред чем язык немеет», — и поют лишь тогда, когда «божественный глагол до слуха чуткого коснется». Поэт никогда ничего не «ищет», а его самого находит Бог; отсюда выражение: поэт Божией милостью. И ни родные, ни «чужие небеса» не дадут «понять органа жизни глухонемому»…
Все открытия г. Гумилева, искателя спокон века открытых Америк, сводятся исключительно к сочинению головоломных рифм, к подбору небывалых созвучий. Теперь подобными фокусами даже гимназистов не удивишь. У настоящих поэтов как-то совсем не замечается это присущее им богатство стиха, эта позолота на благословляющей чаше… (Современник. 1912. № 4).
Любопытно, что бывший критик «Весов» почти слово в слово повторяет марксиста Войтоловского, но заметно уступает ему в изобретательности.
В том же году Садовской резко отзовется на первые выпуски «Гиперборея». В начале следующего года в «Бродячей собаке» состоится его личное знакомство с Гумилевым, который вызовет своего зоила на соревнование: продолжить наизусть любое место из Пушкина (Садовской справедливо считался большим знатоком русской поэзии XIX века). Из-за позднего часа эта «дуэль» не состоялась.
Отозвался на книгу и неутомимый Чуносов-Ясинский (Новое слово. 1912. № 7) — суровее, чем на «Жемчуга»:
Г. Гумилев принадлежит к настоящим поэтам, в которых много музыки, оригинальных настроений, нового романтизма и точности языка… Но при всех достоинствах г. Гумилев чересчур много пишет стихов… Стихотворения… г. Гумилева, которые мы читаем в его третьей книжке, очень часто напоминают обыкновенные упражнения поэтов, которые пишут и ищут, пока не найдут…
Резкую реакцию вызывал у Чуносова «Дон-Жуан в Египте»: «Дон-Жуан, побывав в аду, сделался невероятным пошляком».
Благосклонно отнесся к книге молодой Владислав Ходасевич. В статье «Русская поэзия», напечатанной в 1914 году в альманахе «Альциона», он пишет:
И в «Пути конквистадоров», и в «Романтических цветах», и в «Жемчугах» было слов гораздо больше, чем содержания, ученических подражаний Брюсову — чем самостоятельного творчества. В «Чужом небе» Гумилев как бы снимает маску. Перед нами поэт интересный и своеобразный. В движении стиха его есть уверенность, в образах — содержательность, в эпитетах — зоркость. В каждом стихотворении Гумилев ставит себе ту или иную задачу и всегда разрешает ее умело.
Ну а что друзья?
Нарбут начинает рецензию (Новая жизнь. 1912. № 9) с утверждения: слова «Я вижу один лишь порок — неопрятность, одну добродетель — изящную скуку» «можно поставить эпиграфом ко всей книге». Но мы помним, что по прямому смыслу стихотворения «Блудный сын» подобное отношение к миру резко осуждается. А ведь Нарбут хотел Гумилева похвалить! Правда, «ощущая мир по-своему, Н. Гумилев находит-таки выход из повседневного бытия: вечность». Каков оригинал!
Так мало понимали Гумилева даже те, кого он считал ближайшими сподвижниками, и не худшие из них.
Другого сподвижника, Городецкого, интересует в первую очередь соответствие книги Гумилева акмеистическим декларациям.
Это книга не символов, это книга жизнеспособных образов. Поэзия здесь разгружена от тяжестей, наваленных на нее в последнее время. Ни мистики, ни магии, ни каббалистики, ни теософии нет в этих стихах. Эти стихи просто и откровенно хотят быть только стихами и достигают своей цели. Правда, они не охватывают всей сложности, всей сумятицы русской жизни, они и не подозревают о многих безднах духа… (Речь. 15 декабря 1912).
Видимо, Городецкому принадлежит и анонимная рецензия, напечатанная в первом номере «Гиперборея», почти совпадающая по мысли с рецензией в «Речи». Рецензент, хваля Гумилева за «борьбу с перегрузкой поэзии философским балластом», упрекает его за то, что его муза «скользит преимущественно по периферии духа, а не устремляется к его тайникам».
Тому, о каких «безднах» и «тайниках» духа был осведомлен Городецкий, живое свидетельство — его дальнейшая жизнь.
Позднее многие исследователи (особенно советские) рассматривали «Чужое небо» как начало «самостоятельного» творчества Гумилева. Действительно, в книге нет стихотворений, где ощущалось бы прямое влияние Брюсова и кого-либо из символистов. Более того, в книге есть совершенно несимволистские, «реалистические» стихи. Некоторые из них написаны еще до провозглашения акмеистической доктрины — так что скорее можно было бы сказать, что новая школа родилась из наблюдения за собственным творчеством. Но, став главой нового направления, Гумилев уже не мог отступить от провозглашенных принципов, сколько бы он ни размышлял наедине с собой (и с Ахматовой) о возможном возвращении к поэтике «Жемчугов» и даже «Романтических цветов». Отсюда некоторая нарочитость, старательность, ощущающаяся уже скорее в некоторых стихах «Колчана», чем в «Чужом небе».
Этот «новый реализм» — в сочетании с экзотической тематикой — выводил Гумилева на неожиданные дороги. «Паломника», к примеру, мог бы написать презираемый модернистами Бунин:
И каждый вечер кажется, что вскоре Окончится терновник и волчцы, Как в золотом Багдаде, как в Бассоре Поднимутся узорные дворцы И Красное пылающее море Пред ним свои расстелет багрецы, Волшебство синих и зеленых мелей… И так идет неделя за неделей.Ницшеанство Гумилева в «Чужом небе» тоже получило новую окраску. Обратившись к миру «людей газеты», «детей Марфы», по выражению Киплинга, он в какой-то момент становится действительно похож на этого английского поэта:
Я так часто бросал испытующий взор И так много встречал отвечающих взоров, Одиссеев во мгле пароходных контор, Агамемнонов между трактирных маркеров.В 1910 году Гумилев «понимал, что аэропланы прекрасны», но не умел сказать об этом в стихах. В 1912 году место древних «капитанов» — Синдбада и Ганнона, Васко да Гамы и Колумба — занимают их преемники:
Нам брести в смертоносных равнинах, Чтоб узнать, где родилась река, На тяжелых и гулких машинах Грозовые пронзать облака.Ахматова отмечала пророческий характер последней строки: ведь аэропланы 10-х годов были легкими, фанерными. Но и они были «тяжелыми» в сравнении с аэростатом. Сама мысль о возможности полета вещи тяжелее воздуха была революционной. Соперник Гумилева, Модильяни, рвался познакомиться с авиаторами — и был разочарован: они «оказались обычными спортсменами». Гумилев видел их другими: наследниками и носителями вечного героического духа, внуками крестоносцев. Шесть лет спустя он сам в какой-то момент всерьез задумается о службе в воздушном флоте.
Авиации посвящали стихи и Блок и Ходасевич. Зато, кажется, никто, кроме Гумилева, не воспел единственную настоящую (по английскому образцу) колониальную авантюру России, в результате которой некоторые жители Ферганской долины и подданные Туркмен-баши до сих пор читают и даже пишут стихи по-русски. И пусть из «Туркестанских генералов» неясно, в какой именно части света находится Туркестан: ведь и это вполне реалистически передает взгляд военного человека, который помнит лишь «ночные возгласы: «К оружью!»…
А все же лучшие стихи в «Чужом небе» — по-прежнему стихи сновидца. К примеру, «Я верил, я думал…», где страшный (символистский) сон переходит в сон как будто светлый, совершенно избавленный от символов и смыслов, но оттого еще более пугающий. «Превращение сердца в куклу», — записал Блок; но Гумилев никогда не забывал, что «обида куклы обиды своей жалчей». На тему сна написана «Маргарита» — это сон Ахматовой: о том, что Фауст — выдумка Маргариты. Гумилев не бросает окончательно этого пути: он как будто чувствует, что многое в его поэтическом будущем связано именно с этой линией. Он вообще никогда не отрекался от своего писательского прошлого; он не принадлежал к поэтам, чей путь — прямая линия, которые равнодушно оставляют пройденное и ставшее невозвратным за спиной. Так Мандельштаму в 20-е и 30-е годы было не вернуться, хоть бы он и захотел, к поэтике «Камня». Гумилев скорее шел по спирали. Ранние стихи всегда были для него актуальны, всегда служили материалом для новых свершений.
К сожалению, в «Чужом небе» много просто слабых вещей — больше, чем в «Жемчугах». В чем-то Ясинский был прав.
В момент выхода книги Гумилев и Ахматова находились в Италии. Выехали они 3 апреля, провожали их Кузмин и Зноско-Боровский. Гумилев взял с собой Готье, Ахматовой же купил «Мадам Бовари» Флобера, которого она прежде не читала. Но она (по собственному признанию) «проглотила» книгу до отъезда. Через Берлин и Лозанну приехали в Оспедалетти (маленький городок в Лигурии, на Итальянской Ривьере), где жили родственники Кузьминых-Караваевых. Оттуда их путь пролегал в Сан-Ремо (курорт на берегу Генуэзского залива), пароходом в Геную, в Пизу и во Флоренцию.
Во Флоренции Гумилев оставляет Ахматову и сам на неделю отправляется в Рим и Сиену. Ахматова не присоединилась к нему будто бы по нездоровью (она была беременна), но, возможно, было и другое. Почему-то Ахматова с ее отличной памятью плохо помнила (или не хотела помнить) подробности путешествия в Италию: «Вероятно, мы были уже не так близки с Николаем Степановичем…» В Риме она побывала лишь жизнь спустя — в 1964 году. Видимо, во Флоренции возникли серьезные сложности с деньгами, потому что Гумилев телеграммой попросил Чуковского выслать ему 9 рублей 50 копеек, причитавшиеся за переводы Оскара Уайльда для собрания сочинений писателя, готовившегося в издательстве Маркса.
Теофиль Готье. Фотография Надара, ок. 1855 года
Потом, уже вдвоем, Гумилев с Ахматовой посетили Болонью, Падую и Венецию, прожили там десять дней и через Вену и Краков вернулись в Россию — сперва в Киев (17 мая). Оставив Ахматову у матери, Гумилев отправляется оттуда через Москву в Петербург. 26 мая он прибыл в столицу и через два дня, проделав самые необходимые литературные дела, уехал в Слепнево.
Памятником итальянского путешествия стали лишь стихи. Итальянский цикл Гумилева («Рим», «Венеция», «Пиза», «Болонья») стоит сравнить с «туристическими» циклами Блока, Комаровского и Кузмина. Первый создан несколько раньше (в 1909-м), непосредственно по впечатлениям путешествия, третий — в 1919–1920 годы и отражает воспоминания двадцатилетней давности. Как и их предшественники (Аполлон Майков и Каролина Павлова), поэты Серебряного века видели в Италии прежде всего художественные памятники и исторические воспоминания античности, позднего Средневековья, Ренессанса и барокко. Кроме стандартного «бедекера» и классической книги И. Винкельмана, источником могли служить «Образы Италии» П. Муратова, впервые изданные в 1911 году, — этот замечательный образец русского высокого эстетства. Лишь Комаровский, чей цикл написан по воображению, стремился для достоверности ввести в него снижающие бытовые детали — будь то дождь в Неаполе или окурки в вагонной пепельнице.
И все-таки в итальянском цикле каждого поэта можно выделить, как ныне говорят, «месседж» — то, ради чего поэт решил потревожить и без того не знающие покоя тени. У Блока — «Тень Данта с профилем орлиным о Новой Жизни мне поет». У Кузмина — «Забудешь ты пылающую Трою и скажешь: «Город на крови построю». Итальянским стихам Гумилева право на существование дает, быть может, одно четверостишие, которое им самим осознавалось, вероятно, как программное:
Есть Бог, есть мир, они живут вовек, А жизнь людей мгновенна и убога, Но все в себя вмещает человек, Который любит мир и верит в Бога.Это заключительное четверостишие стихотворения «Фра Беато Анджелико». Итальянский художник, которому оно посвящено, родился в 1387-м или около 1400 года, был монахом доминиканского ордена — и умер в 1455-м. Со времен Рескина и прерафаэлитов он высоко ценился в Европе. В начале XX века он входит в моду и в России. Анненский упоминает его «Мадонну звезды» в статье про «Портрет» Гоголя в «Книге отражений», Бальмонт посвящает ему стихотворение:
Если б эта детская душа Нашим грешным миром овладела, Мы совсем утратили бы тело, Мы бы, точно тени, чуть дыша, Встали у небесного предела. Там, вверху, сидел бы добрый Бог, Здесь, внизу, послушными рядами, Призраки с пресветлыми чертами Пели бы воздушную, как вздох, Песню бестелесными устами.Муратов не касается специально работ Фра Беато Анджелико, но, описывая фреску его младшего современника Луки Синьорелли в Opera del Duomo, на которой художник-доминиканец запечатлен, дает ему такую характеристику: «Монах с откинутым назад капюшоном, с умным и добрым, полным достоинства лицом… Это Фра Дино де Фьезоле, он же Фра Анджелико, отличный и веселый сердцем живописец, каким он был, не святоша и не визионер, каким его хотят видеть многие».
Трудно сказать, знал ли эти слова Гумилев, но он как будто сознательно противопоставляет свое понимание творчества итальянского художника (и вообще искусства) — бальмонтовскому. Идеал того — «бестелесность» (так называется одно из лучших стихотворений Бальмонта). Идеал Гумилева — гармоническое единство тела и души, земного и небесного, перед которым и зло бессильно:
…Не страшен связанным святым Палач, в рубашку синюю одетый, Им хорошо под нимбом золотым, И здесь есть свет, и там — иные светы.В целом «Фра Анджелико» — отнюдь не шедевр, это стихотворение многословно и затянуто, и даже последнее четверостишие его не спасает, но я думаю, что внимательные читатели и любители Гумилева, знающие его позднейшее творчество, не должны обходить вниманием этого палача «в синей рубашке»[109].
И именно это стихотворение, призванное, возможно, стать манифестом акмеизма, вызвало резкую отповедь у второго «синдика» Цеха поэтов и второго вождя новой поэтической школы. Побывавший в Италии вслед за Гумилевым, Городецкий в первом номере «Гиперборея» печатает свой ответ:
Ты хочешь знать, кого я ненавижу? Конечно, Фра Беато Анджелико! Я в нем не гения блаженства вижу, А мертвеца гробницы невеликой. Нет, он не в рост Адаму-акмеисту! Он только карлик кукольных комедий, Составленных из вечной и пречистой Мистерии, из жертвенных трагедий. Ужель он рассказал тебе хоть мало Из жертвенной легенды христианской, Когда в свой сурик и в свое сусало Все красил с простотою негритянской? …………………………….. О, неужель художество такое, Виденья плотоядного монаха, Ответ на все, к чему рвались с тоскою Мы, акмеисты, вставшие из праха?В этом стихотворении впервые было употреблено в печати слово «акмеизм».
После такой рифмованной дискуссии — и после стихов такого качества! — казалось бы, стало очевидно, что иметь дело с Городецким как другом и литературным союзником невозможно… Но отступать было поздно.
Ужин участников романо-германского семинара в ресторане «Мало-Ярославец». Гумилев в заднем ряду, у зеркала. Пятый справа в первом ряду — Ф. Ф. Фидлер. Фотография К. К. Буллы, 8 февраля 1914 года.
Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
«Тоска по мировой культуре», которую резко усилило в Гумилеве итальянское путешествие, долго не утихала. Летом в Слепневе он пытается (хотя и без большого успеха) самостоятельно учить английский и итальянский языки и читать в оригинале Данте и Байрона. Неведомская об этом не пишет: о своей интеллектуальной жизни, о напряженной литературной работе, продолжавшейся и летом в усадьбе, галантный кавалер с дамами на конных прогулках не распространялся.
Именно в 1911–1912 годы Гумилев переживает увлечение Теофилем Готье (чью книгу привезла ему Ахматова из Парижа). В этом относительно второстепенном поэте, предшественнике «Парнаса», Гумилев в эти годы почему-то находит больше важного для себя, чем в «креоле с лебединой душой», холодном и гордом Леконте де Лиле, и чем в трагическом Бодлере. Готье, эстет с головой австралийского аборигена, привлек его сочетанием формального совершенства и варварской силы образов, неведомой Леконту де Лилю и другим мэтрам зрелого «Парнаса»; а еще — пафосом преодоления трудностей, пониманием сакральной и гибельной природы творческого усилия:
Прочь легкие приемы, Башмак по всем ногам, Знакомый И нищим, и богам. …Твори сирен зеленых С усмешкой на устах, Склоненных Чудовищ на гербах.В этом своем эстетическом пафосе автор «Эмалей и камей» почти смешон — и великолепно равнодушен к возможным насмешкам. Это было близко Гумилеву. Гордая самоирония Готье получилась у него лучше всего:
И я в родне гиппопотама: Одет в броню моих святынь, Иду торжественно и прямо Без страха посреди пустынь.В собственных стихах Гумилева эта нотка проявится лишь в самом конце — в таких, как «Персидская миниатюра», «Индюк», «Слоненок».
Переводы «Эмалей и камей» были частично включены в «Чужое небо». Полностью они были изданы 1 марта 1914 года в издательстве М. Попова, и Гумилев получил за них 300 рублей. Это был, вероятно, самый большой полученный им когда-либо гонорар. Более того: возможно, ни одна книга Гумилева не удостаивалась такого количества хвалебных рецензий. Почти все рецензенты признавали, что переводчик «почувствовал душу оригинала», хвалили его «усердие» и «бескорыстие — в том смысле, что личность переводчика остается в стороне», отмечали «чуткость и тонкость в передаче выражений»; хотя, разумеется, «русский Готье бледнеет перед французским». Отозвались традиционно писавшие о Гумилеве Л. Войтоловский, А. Левинсон, С. Городецкий; всего появилось около десяти откликов. Однако аполлоновские снобы посмеивались над ошибками в понимании оригинала, которые Гумилев допустил в первой редакции переводов. (Знаменитая ошибка — превращение французского chat Minet, кота Мине, в православные «Четьи-Минеи»).
Именно через Готье Гумилев пришел к высоко ценимой им французской поэзии Ренессанса, к Ронсару, Маро, Вийону.
АА говорила, что Николай Степанович читал Готье, который «открыл» французских поэтов, до этого забытых, стал сам изучать их, вместо того чтобы воспринять от Готье этот прием и перенести его на русскую почву, самому обратиться к русской старине — напр., к «Слову о полку Игореве» (Acumiana).
Почему же к «Слову о полку Игореве»? Разве это забытое произведение? И почему поэт должен обращаться к «старине» непременно собственной культуры? Можно сказать, что в 1912–1914 годы Гумилев находился под двойственным влиянием. С одной стороны, собственные творческие поиски и интеллектуальные интересы естественно вели его «на запад» (и «на юг»). С другой — Городецкий и (в несравнимо большей степени и на несравнимо более высоком интеллектуальном уровне) Ахматова подталкивали его к «национальным» темам и образам. У самой Ахматовой эти образы и темы были естественны. У Гумилева принудительное почвенничество выжало такие, в общем, лубочные стихи, как «Старые усадьбы» и «Городок».
О Русь, волшебница суровая, Повсюду ты свое возьмешь. Бежать? Но разве любишь новое Иль без тебя да проживешь?Нет ничего более противоречащего духу и смыслу поэзии и судьбы Гумилева, чем эти достаточно неуклюжие строчки. «Ты научила меня верить в Бога и любить Россию», — сказал он Ахматовой в 1916 году, комментируя их «в общем, несостоявшийся брак» и почти буквально цитируя «Фра Беато Анджелико». Но «любить Россию» можно по-разному. Гумилев едва ли смог бы написать такое стихотворение, как «Грешить бесстыдно, непробудно…»: его мировосприятие, его темперамент были иными. Но и умиленное любование старым русским бытом, которое было естественным и плодотворным, скажем, у Кузмина, ему не шло. Именно в такого рода стихотворениях Гумилев «иностранен», как никогда прежде и никогда после[110].
Но и в так называемый «русский период» (по ахматовскому определению) он постоянно разрывался между «родным» и «вселенским» — и вселенское оказывалось ближе. В такой ситуации был не он один.
Осенью, 12 октября, Гумилев возобновляет обучение в университете. Он вновь слушает «введение в языковедение» у Бодуэна де Куртене, русскую историю у Платонова, новую философию у Введенского. Но теперь он находит на историко-филологическом факультете нечто близкое своим литературным интересам.
Константин Мочульский, 1910-е
По свидетельству одного из тогдашних соучеников (и близких знакомых) Гумилева, Бориса Эйхенбаума, «здесь продолжалась… старинная борьба двух культур: славяно-русской и романо-германской… Их поместили по краям коридора: в 11-й аудитории было славянофильство. В 4-й — западничество. В промежутке, как области нейтральные, приютились философия, история, античность». Как и Гумилев, Эйхенбаум выбирает 4-ю аудиторию. «Атмосфера немецкого романтизма, провансальской лирики, старофранцузского эпоса, «Божественной комедии» оказалась ближе и интереснее лингвистических лекций Шахматова.
Он записывается (согласно Е. Е. Степанову; источники его нам неизвестны) на просеминарий Д. К. Петрова по староиспанскому (притом что нового испанского языка Гумилев не знал и никогда не изучал), посещает курс В. Ф. Шишмарева, посвященный Клеману Маро, участвует в кружке романо-германистов, возглавлявшемся профессором Д. К. Петровым. Сблизившись с молодыми филологами — Б. Эйхенбаумом, В. Жирмунским, К. Мочульским, он организует «Кружок изучения романо-германской поэзии». И в университете организационный запал и «любоначалие» не покидают его… На заседаниях кружка бывали учившиеся в университете члены Цеха поэтов — Мандельштам, Лозинский, блестящий молодой ассиролог Владимир Шилейко. Новые университетские приятели поэта, в свою очередь заинтересовавшись современной литературной борьбой, посещают заседания Цеха. По свидетельству Эйхенбаума, Гумилев предлагал ему «возглавить» акмеизм. Жирмунский спустя несколько лет написал одну из первых больших работ о новой школе. В кругу этих своих знакомых Николай Степанович с самого начала пользовался успехом. Г. Адамович вспоминает, как в 1913 году расхаживал он по коридору здания Двенадцати коллегий, окруженный «свитой» соучеников, и произносил бесконечные монологи о поэзии, Париже, африканских путешествиях…
Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская, конец 1900-х или начало 1910-х
При этом собственно академические успехи Гумилева были по-прежнему скромны. Проблемой его было, в частности, недостаточное знание языков. Между прочим, ему приходилось дополнительно заниматься с Мочульским латынью и греческим. Зачеты он сдал, но прочных знаний, конечно, не приобрел.
Жизнь его в ту осень и зиму была полна трудов. Занятия в университете, работа над переводами (а переводит он, кроме Готье, пьесу Браунинга «Пиппа проходит» — по всей вероятности, с подстрочника, хотя занятия английским Гумилев продолжал), рецензии для «Аполлона» и новорожденного «Гиперборея», дважды в месяц — заседания Цеха поэтов… Утром он вставал спозаранку и садился за письменный стол. Ахматова еще спала. Гумилев шутливо перевирал некрасовскую цитату: «Сладко спит молодая жена, только муженик труж белолицый…» Потом (часов в одиннадцать) — завтрак, ледяная ванна… и вновь — за работу.
Почему-то о Гумилеве — солдате, любовнике, «охотнике на львов» и «заговорщике» — помнят больше, чем о труженике-литераторе. Но настоящим-то был именно этот, последний.
Зима перед последней эфиопской экспедицией была и впрямь «безумной». Тем не менее Гумилев был еще молод, и сил хватало и на все эти труды, и еще на многое — например, на частые ночные бдения в «Собаке». При такой жизни ездить каждый день в город из Царского было трудно, и он снимает комнату в Тучковом переулке (д. 17, кв. 29), недалеко от университета, бедную студенческую комнатку, почти без мебели. Возможно, комната эта использовалась и для встреч с Ольгой Высотской (роман с ней как раз приходится на эти месяцы), но, конечно, не в этом было ее главное предназначение. Во всяком случае, Ахматова знала об этой комнате и бывала в ней. Завтракать Гумилев, когда ночевал «на Тучке», ходил в ресторан Кинши, на углу Второй линии и Большого проспекта Васильевского острова. В XVIII веке здесь был трактир, где, по преданию, Ломоносов пропил казенные часы.
В Царском тоже адрес меняется: Анна Ивановна, в ожидании прибавления семейства, покупает дом на Малой улице, 63. В новом просторном доме был и телефон (номер — 555). На лето практичная Анна Ивановна сдавала дом внаем — семья перебиралась во флигелек.
18 сентября появился на свет Лев Николаевич Гумилев, историк, географ, философ, крупный и сложный человек, которого разные люди считали и считают гением и способным верхоглядом, пророком и шарлатаном, диссидентом и черносотенцем… Тираж его трудов, кажется, превысил уже совокупный тираж книг обоих его родителей, а это трудно. Автор этого жизнеописания видел его один раз — в начале 80-х годов, когда на лекции профессора Гумилева, круглолицего эксцентричного старика с ужасной дикцией, в ЛГУ собиралась молодежь со всего города. Трудно было представить себе, как выглядел он в молодости, в дни своих страданий и скитаний. Судя по всему, он был мужественен, обаятелен — и очень похож на отца.
АА и Николай Степанович находились тогда в Ц<арском> С<еле>. АА проснулась очень рано, почувствовала толчки. Подождала немного. Тогда АА заплела косы и разбудила Николая Степановича: «Кажется, надо ехать в Петербург». С вокзала в родильный дом шли пешком[111], потому что Николай Степанович так растерялся, что забыл, что можно взять извозчика или сесть в трамвай. В 10 ч. утра были уже в родильном доме на Васильевском острове.
А вечером Николай Степанович пропал. Пропал на всю ночь. На следующий день все приходят к АА с поздравлениями. АА узнает, что Николай Степанович дома не ночевал. Потом наконец приходит Николай Степанович «с лжесвидетелем». Поздравляет. Очень смущен (Acumiana).
У Срезневской это двусмысленное свидетельство превращается в недвусмысленное:
Не берусь оспаривать, где он был в момент рождения сына, — отцы обычно не присутствуют при этом, и благочестивые отцы должны лучше меня знать, что если им и удалось соблазнить своего приятеля сопровождать их в место обычных увеселений — то просто чтобы скоротать это тревожное время, выживая и заглаживая внутреннюю тревогу (пусть не совсем обычным способом)… Мне думается, что если бы Гумилеву повстречался другой приятель, менее подверженный таким «увеселениям», — Коля мог бы поехать в монастырь…
В 1910-е годы в Петербурге было около тридцати тысяч официально и неофициально промышляющих телом девиц — три процента женского населения города! Подавляющее большинство мужчин хотя бы раз прибегало к их услугам. Но Гумилев при своем пресловутом донжуанстве не был завсегдатаем «мест обычных увеселений»: в его жизни и творчестве мотив «покупной любви» сколько-нибудь отчетливо не намечается (чего нельзя сказать о Пушкине, Некрасове, Блоке и — в гомосексуальном варианте — Кузмине). Интересно, что ж это был за «приятель», затащивший его в бордель в ночь рождения сына?
Как пишет Срезневская, «не думаю, что тогда были чудаки-отцы, катающие колясочку с сыном — для этого были опытные няни… Понемногу и Аня освобождалась от роли матери в том понимании, которое сопряжено с уходом и заботами о ребенке: там были бабушка и няня. И она ушла в обычную жизнь литературной богемы».
Рождение ребенка не отвлекло молодых родителей от важных литературных занятий. Предстояло официальное провозглашение акмеизма.
6
Вячеслав Иванов с начала года вел с акмеизмом и Цехом поэтов позиционную войну.
Вячеслав, — чеслав Иванов, Телом крепкий как орех, Академию диванов Колесом пустил на Цех, —такие куплеты слагали в акмеистическом кругу. Башне, борющейся с Цехом (отдает поздним Средневековьем: схватка замка с посадом), важно было заручиться поддержкой «генералов». В Петербурге это были прежде всего Сологуб, Блок и Кузмин.
Сологуб, по тем временам чуть ли не старик (ему было — подумать только! — под пятьдесят; «актуальных», как нынче говорят, литераторов старше пятидесяти лет тогда просто не было), решительно принял сторону старших. Его ссора с акмеистами произошла, если верить Одоевцевой, при обстоятельствах почти водевильных. Гумилев и Городецкий пришли к Федору Кузьмичу за стихами для некоего «альманаха» («Гиперборея»?). Мэтр был любезен и предложил целую тетрадь стихов на выбор (а писал он, как известно, по нескольку стихотворений в день). Но, узнав, что в «Гиперборее» платят всего по семьдесят пять копеек за строку, Сологуб (автор бестселлеров, получавший к тому же солидную чиновничью пенсию) потребовал тетрадь назад и попросил жену принести два стихотворения, лежащие на рояле: «Вот эти могу дать за семьдесят пять копеек». Стихи оказались шуточными пустячками; одно из них заканчивалось строчкой: «Не поиграть ли нам в серсо?», «не имевшей никакого отношения к содержанию стихотворения и ни с чем не рифмовавшейся… «Не поиграть ли нам в серсо?» — повторяли в течение многих месяцев члены Цеха в разных случаях жизни».
После этого Сологуб стал непримиримым врагом Гумилева и Городецкого. В его рукописях найдено стихотворение, завершающееся таким четверостишием:
Дерзайте ж, юные поэты, И вместо древних роз и грез Вы опишите нам секреты Всех ваших пакостных желез!А. Чеботаревская, жена Сологуба, приписала на рукописи этого стихотворения: «акмеистам».
Дольше пришлось обрабатывать Блока. Еще в марте он пишет Гумилеву любезное письмо, а 17 апреля записывает в дневник: «Утверждение Гумилева, что слово «должно значить только то, что оно значит», как утверждение глупо, но понятно как бунт против В. Иванова… Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения». Однако к концу года настроение Блока меняется. 28 ноября он в разговоре с зашедшим к нему Городецким резко высказывается о новой школе, а 17 декабря записывает в дневник: «Придется еще что-то предпринять по поводу наглеющего акмеизма, адамизма и т. д.».
Обложка второго номера журнала «Гиперборей»
Тогдашнее отношение Блока к новой школе видно из его дневниковых записей 1913 года.
Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеисты. Последние — хилы. Гумилева тяжелит «вкус», багаж у него тяжелый (от Шекспира до… Теофиля Готье), а Городецкого держат как застрельщика с именем; думаю, что Гумилев конфузится и шокируется им нередко…
Футуристы прежде всего дали уже Игоря Северянина. Подозреваю, что значителен Хлебников. Елена Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это — более земное и живое, чем акмеизм (25 марта).
В акмеизме будто есть «новое мироощущение» — лопочет Городецкий в телефон. Я говорю: зачем хотите «называться», ничем вы не отличаетесь от нас (20 апреля).
Кузмин, член Цеха поэтов и в то же время житель Башни, долго колебался. Гумилев со своей стороны вербовал его, приглашая с ночевкой в Царское и на долгих прогулках излагая свои идеи. Увы, для автора «Александрийских песен», выше всего ценившего непосредственность и спонтанность творчества, теории Гумилева были «умным вздором». Своего мнения о «тупости» акмеизма он не переменил до конца и не чинясь высказывался в этом роде и после смерти Гумилева.
В. И. Гедройц, 1910-е
Впрочем, очень вскоре и дружбе Кузмина с Ивановым пришел решительный и скандальный конец. Весной 1912 года выяснилось, что Вера Шварсалон (которая уже два года была близка со своим отчимом) беременна. В начале лета Иванов с семьей собрался за границу: венчаться и рожать ребенка. Вера, тайно и по понятным причинам безнадежно влюбленная в Кузмина, открыла ему секрет поездки. Кузмин хранить секреты не умел — ни свои, ни чужие. Вскоре о семейных делах Иванова знала чуть не вся петербургская литературная среда. Пока Иванов, Вера и Лидия (дочь Иванова и Зиновьевой-Аннибал) находились за границей, в Петербурге состоялся скандал. Брат Веры, Сергей Шварсалон, вызвал Кузмина на дуэль. Кузмин вызова не принял. Его заставили подписать соответствующий протокол — это уже было бесчестье. Сергей Шварсалон этим не ограничился — 1 декабря на премьере в «Русском драматическом театре» он несколько раз ударил Кузмина по лицу. Находившийся здесь же и сам побывавший в такой ситуации Гумилев пытался прийти на помощь своему бывшему секунданту; ему пришлось расписаться в полицейском протоколе.
Иванов вернулся в Россию лишь в сентябре 1913 года и поселился не в Петербурге, а в Москве. Башни больше не было — но сдавать позиции символисты не собирались.
Первый из десяти вышедших номеров «Гиперборея» появился в ноябре 1912 года (разрешение на издание журнала датировано 29 сентября). Так воплотилась мечта Гумилева о чисто поэтическом журнале. То, что не осуществилось в 1909 году (неудача с «Островом»), — удалось четыре года спустя. Издателем числился «беспартийный» Лозинский (но «при ближайшем сотрудничестве С. Городецкого и Н. Гумилева»), и официально «Гиперборей» не считался органом ни акмеизма, ни Цеха поэтов. Вводка к первому номеру, скорее всего, была написана Городецким. Стиль легко опознаваем:
Рожденный в одну из победных эпох русской поэзии, в годы усиленного внимания к стихам, «Гиперборей» целью своей ставит обнародование новых созданий в этой области искусства.
Ни одному из борющихся в настоящее время на поэтической арене методов — будь то импрессионизм или символизм, лиро-магизм или парнасизм, — не отдавая предпочтения особенного, «Гиперборей» видит прежде всего насущную необходимость в закреплении и продвижении побед эпохи, известной под именем декадентства или модернизма.
Итак, «Гиперборей» был прокламирован как общемодернистский, а не акмеистический журнал. Если в первом номере были напечатаны стихи только членов Цеха поэтов (Гумилева, Городецкого, Ахматовой, Мандельштама, Клюева, Нарбута, Василия Гиппиуса, Сергея Гедройца), то второй открывался взаимными стихотворными посвящениями Владимира Бестужева (Владимира Гиппиуса, одного из основателей русского символизма, директора Тенишевского училища, учителя Мандельштама и — позднее — Набокова) и Блока. Больше таких публикаций, правда, не было. Кроме акмеистов и ближайших к ним авторов, здесь помещали свои стихи университетские и царскосельские знакомые Гумилева. Первый и последний раз напечатался в качестве поэта Эйхенбаум. Заключительный, девятый-десятый номер завершают стихи Владимира Шилейко и Николая Пунина. Оба впоследствии — мужья Ахматовой…
Еще об одном авторе «Гиперборея» стоит сказать подробнее — о Сергее Гедройце. Княжна Вера Игнатьевна Гедройц (1870–1932), врач по профессии (военный хирург, участница Японской войны!), носившая мужскую одежду и подписывавшая стихи именем своего покойного брата, была единственным членом Цеха поэтов, о чьих стихах Гумилев однажды позволил себе публично высказаться в уничижительном духе (назвав ее просто «не поэтом» — в его устах это была крайняя степень порицания). Тем не менее в «Гиперборее» ее печатали: она была главным спонсором журнала[112]. Метод финансирования периодических изданий, так язвительно описанный Набоковым в рассказе «Уста к устам», не был изобретен редакторами журнала «Числа» — между прочим, учениками Гумилева. В отличие от символистов, у акмеистов не было богатых меценатов; Ахматова, по подсказке Зенкевича, вспоминала об этом в 60-е: это могло помочь реабилитации течения в глазах советских властей. На издательскую деятельность Ахматова и Гумилев тратили в том числе и свои личные деньги. В канун войны их стало катастрофически не хватать: приходилось закладывать вещи[113]. С доктором Верой Гедройц познакомились они в Царском Селе: та служила с 1909-го в дворцовом госпитале. У Веры Игнатьевны Гумилев лечился от малярии, которую в 1911 году принес из Африки. По-видимому, он не сразу понял, что женщина — превосходный медик — и полуграфоман с мужским именем — одно и то же лицо.
Позднее, в 20-е годы, Вера Гедройц посвятила памяти Гумилева стихи:
На Малой улице зеленый, старый дом С крыльцом простым и мезонином, Где ты творил и где мечтал о том, Чтоб крест зажегся над Ерусалимом… Где в библиотеке с кушеткой и столом За часом час так незаметно мчался, И акмеисты где толпилися кругом, И где Гиперборей рождался.Другой площадкой — тоже не чисто акмеистической, однако достаточно «своей» — был «Аполлон». Маковский по личной приязни к Гумилеву и по известному равнодушию к литературе позволил превратить его чуть ли не в плацдарм новой школы, за что сам и угодил в «свору Адамов с пробором». В январском номере «Аполлона» были помещены статья Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»[114] и Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии». (Перед этим, 19 декабря 1912 года, в таком неакадемическом месте, как «Бродячая собака», состоялась лекция Городецкого «Символизм и акмеизм» с последующей дискуссией. Это была, пожалуй, первая попытка выхода на нейтральную территорию.)
Гумилев в своей статье бросает символизму вызов, но вызов этот достаточно учтив:
На смену символизма идет новое направление, как бы оно ни называлось, — акмеизм ли (от слова «акме» — высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), — во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом.
«Филологизм» мышления поэта проявляется в том, что он разделяет французский, «германский» и русский символизм. Французской символической школе акмеисты обязаны, по его словам, прежде всего своей формальной культурой. Он «решительно предпочитает романский дух германскому», но именно в связи с германским символизмом излагает свою подлинную программу — не только эстетическую, но и этическую, и философскую.
Германский символизм в лице своих родоначальников Ницше и Ибсена… не чувствует самоценности каждого явления, не нуждающейся ни в каком оправдании извне. Для нас иерархия в мире явлений — только удельный вес каждого из них, причем вес ничтожнейшего все-таки несоизмеримо больше отсутствия веса, небытия, и поэтому перед лицом небытия — все явления братья…
Ощущая себя явлениями среди явлений, мы становимся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас и в свою очередь воздействуем сами. Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия — ежечасно угадывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение. И как высшая награда, ни на миг не останавливая нашего внимания, грезится нам образ последнего часа, который не наступит никогда. Бунтовать же во имя иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним — открытая дверь… Смерть — занавес, отделяющий нас, актеров, от зрителей, и во вдохновении игры мы презираем трусливое заглядывание — что же будет дальше? Как адамисты, мы немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению.
Отвергая вместе с символизмом Ницше, Гумилев к нему же с другого конца и приходит.
Переходя к русскому акмеизму и противопоставляя себя прежде всего его младшей, «вячеслав-ивановской» ветви, Гумилев так формулирует свою позицию:
Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма… Разумеется, познание Бога, прекрасная дама Теология, останется на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят. Что же касается ангелов, демонов, стихийных и прочих духов, то они входят в состав материала художника и не должны больше земной тяжестью перевешивать другие взятые им образы.
Сам Гумилев интуитивно понимал, что именно он хочет сказать, но не мог он не понимать и сбивчивости своей программы, и того, что состоит она по большей части из негативных утверждений. Чтобы прояснить ее, он в заключение победно выкликает имена тех, кого хотел бы видеть своими предшественниками:
В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека; Рабле — тело и его радости, мудрую физиологичность; Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все — и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами.
Интерес к Виллону (то есть Вийону) мог быть инспирирован Мандельштамом, написавшим о нем свою великую статью еще в 1910 году — в доакмеистический период, девятнадцати лет от роду. Имя Готье в этом ряду звучало смешно для всех, кроме Гумилева. Нежная любовь к французскому поэту исказила его чувство историко-культурной перспективы.
Статья Городецкого, по свидетельству Ахматовой, вызвала смущение даже у Маковского, но Гумилев настоял на ее помещении. Он уже слишком тесно связал себя с автором «Яри» — пути назад не было.
Теоретические положения Городецкого довольно просты:
Борьба между акмеизмом и символизмом, если это борьба, а не занятие покинутой крепости, есть прежде всего борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, за нашу планету Землю… После всех «неприятий» мир принят акмеизмом во всей совокупности, красочности и безобразии. Отныне безобразно только то, что безобразно, что недовоплощено.
Зато Городецкий не останавливается перед личными выпадами против бывших друзей, утверждая, что «ни Дионис Вячеслава Иванова, ни «Телеграфист» Белого, ни «Тройка» Блока не оказались созвучными русской душе». Им противопоставлялся Клюев, «сохранивший в себе народное отношение к слову как к Алмазу Непорочному» («Вяло отнесся к нему символизм. Радостно принял его акмеизм»).
Городецкий и позднее выступал (вольно или невольно) в роли «провокатора». Например, Гумилев, желая, может быть, смягчить конфликт, помещал в четвертом номере «Гиперборея» доброжелательную рецензию на «Нежную тайну» Иванова. В том же номере, рядом, появлялся грубый выпад Городецкого против ивановского «мистического доктринерства».
Что сближало Гумилева с этим человеком? Ведь в те годы они не только вместе возглавляли акмеизм, но и дружили домами — с Городецким и его женой Анной Александровной, полнотелой красавицей, которую муж со свойственным ему тонким вкусом называл Нимфа. Гумилев был в некоторых отношениях вечным гимназистом. Городецкий — тоже. Только Гумилев был гимназистом добрым, храбрым и умным, а Городецкий — довольно пакостным мальчишкой. И все же по внутреннему возрасту они друг другу подходили.
Третью теоретическую статью — «Утро акмеизма» — написал Мандельштам. Она не была своевременно напечатана и увидела свет лишь в 1919 году в нарбутовской воронежской («бывают странные сближения») «Сирене». Мандельштам приходит к акмеистическому принципу самоценности вещных явлений с неожиданной стороны — через футуристическую (казалось бы) идею «слова как такового»:
Сейчас, например, излагая свою мысль по возможности в точной, но отнюдь не поэтической форме, я говорю, в сущности, знаками, а не словом. Глухонемые отлично понимают друг друга, и железнодорожные семафоры выполняют весьма сложное назначение, не прибегая к помощи слова.
Гумилев, конечно, читал эту статью еще в 1913 году и, вероятно, помнил ее в год публикации, в 1919-м; в этот год сам он написал одно из знаменитейших своих стихотворений, в котором есть такие строки:
А для низкой жизни были числа, Как домашний, подъяремный скот, Потому что все оттенки смысла Умное число передает.Медленно рождалось «слово как таковое», — продолжает Мандельштам. — Постепенно, один за другим, все элементы слова втягивались в понятие формы, только сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно почитается содержанием. От этого ненужного почета Логос только проигрывает. Логос требует только равноправия с другими элементами слова. Футурист, не справившись с сознательным смыслом как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт и, по существу, повторил грубую ошибку своих предшественников.
Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов.
И если у футуристов слово как таковое еще ползает на четвереньках, в акмеизме оно впервые принимает более достойное вертикальное положение и вступает в каменный век своего существования.
Как известно, Мандельштам говорил: «мы — смысловики»; и, как известно, в 1974 году появилась знаменитая статья, объявившая творчество Мандельштама и Ахматовой «русской семантической поэзией». Мы пишем не академическую книгу, здесь не место анализировать эту теорию и рассуждать о возможности ее проецирования на творчество других акмеистов — или хотя бы только Гумилева. Тем более что все это происходило десятилетия спустя, — а пока, в 1913 году, дело обстояло так: рядом с Гумилевым было два человека, способных на какую-то теоретическую работу. Один — физически взрослый «вечный гимназист», очень уверенный в себе, но весьма скупо наделенный другими достоинствами. Второй — юный и гениальный, пока что даже более гениальный в рассуждениях, чем в стихах. Напечатана была, к сожалению, статья первого.
В пятом номере «Аполлона» появилась подборка специально акмеистических стихов. Открывалась она «Пятистопными ямбами». Завершалась «Нотр-Дамом» Мандельштама. В обоих стихотворениях речь шла об искусстве каменщика, о победе над «тяжестью недоброй». («Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить». — «Утро акмеизма».) Между ними — «Все мы бражники здесь, блудницы…» Ахматовой, «Смерть лося» Зенкевича, «После грозы» Нарбута (едва ли не лучшее его стихотворение), программный «Адам» Городецкого. Акмеизм на все вкусы и во всех пониманиях…
На какой прием акмеисты рассчитывали?
Гумилев явно ожидал позитивной реакции Брюсова. Ему казалось, что принципы акмеизма близки его первому учителю. Он старался познакомить Брюсова с ними, заинтересовать его. В конце концов, Рене Гиль, друг Брюсова и один из основателей французского символизма, стал же духовным отцом унанимистов!
Увы, его ожидало новое разочарование.
В шестом номере «Русской мысли» за 1913 год появляется большая статья Брюсова «Новые течения русской поэзии».
Футуризм — явление стихийное. История литературы — всегда движение, и новое поколение писателей никогда не может удовлетвориться принципами своих предшественников… Акмеизм, о котором у нас много говорят в последнее время — тепличное растение, выращенное под стеклянным колпаком литературного кружка несколькими молодыми поэтами, непременно захотевшими сказать новое слово. Акмеизм, поскольку можно понять его замыслы и притязания, ничем в прошлом не приготовлен и ни в каком отношении к современности не стоит. Акмеизм — прихоть, столичная причуда, и обсуждать его серьезно можно лишь потому, что под его призрачное знамя стало несколько поэтов несомненно талантливых.
Но, по мнению Брюсова, эти поэты «всецело примыкают к тому, что делалось в поэзии до них, внося лишь столько нового, сколько необходимо, чтобы не стать простым подражателем».
Почему же Брюсову (и не ему одному) футуристы (особенно Северянин!) в качестве преемников были милее акмеистов? Не потому ли, что последние «присвоили» термидор, который символисты задумали? Что они взяли на себя инициативу в той реформе поэтики, которую сами символисты и начали, — и, поскольку над ними не тяготел груз прошлой деятельности, они могли пойти в этом направлении гораздо дальше. Как писала Ахматова,
В. Я. принадлежал к тем мыслителям (таков был и Пастернак), которые считают, что на страну довольно одного поэта, и что этот поэт — сам мыслитель. В данном случае, примеряя маски, Брюсов решил, что ему (т. е. единственно истинному и Первому поэту) больше всего подойдет личина ученого неоклассика. Акмеисты все испортили — приходилось вместо покойного кресла ясного неоклассика (т. е. как бы Пушкина XX в.) опять облекаться в мантию мага, колдуна, заклинателя…
Пафос довольно многочисленных статей и заметок об акмеизме был практически одинаков: во-первых, признание одаренности некоторых членов группы (как правило, Ахматовой… и Городецкого); во-вторых, «мертворожденность» акмеистических деклараций и большей части стихов («…анатомические препараты, гомункулы, рожденные в колбах и ретортах, неспособные увлечь и захватить живого читателя» — Мимоза [Б. Садовской], Аполлон-сапожник / Русская молва. 1912. 17 декабря); в-третьих, отсутствие у акмеистов существенных отличий от их заслуженных учителей.
«Приятие мира» и «звериное начало» понималось умилительно просто: как бодрость, как мажорный дух. Соответственно, критики видели противоречие этому принципу в меланхолических нотках, проскальзывающих в стихах членов новой группы, в особенности Ахматовой. Наконец, журнал «Заветы» (1913, № 5) строго упрекал акмеистов за то, что «не видят для себя преемственности в русской литературе», между тем «именно в ней были образцы солнечного приятия мира».
Поддержка пришла совсем уж с неожиданной стороны. Критик-марксист М. Неведомский (М. Н. Миклашевский) приветствовал новое направление еще во время декабрьского доклада Городецкого. В обзоре русской литературы за 1912 год, напечатанном в журнале «За 7 дней» (1913, № 1 (95), он отмечает: «Если в стихотворениях некоторых из членов кружка есть несколько искуственный couleur locale, подчеркнутый «народный» дух, то в общем надо сказать, что именно возврат к действительности, к конкрету (sic. — В. Ш.), к краскам и трепету жизни является основной нотой в настроении этих молодых стихотворцев». Неведомский рассматривает акмеизм как часть «неореалистического» течения, к которому относит и последние книги Блока, «несомненного Божьей милостью поэта». Все это было не так уж глупо. Слова о «неореализме» почти буквально повторит три года спустя Жирмунский.
Однако похвалы Неведомского — «сватовство акмеизма с марксизмом» привели в ярость Д. Философова, члена тройственной платонической семьи Мережковских. В газете «Речь» за 17 февраля 1913-го он восклицает:
Г-н Неведомский, г. Львов-Рогачевский не случайно за всю свою долгую и обильную деятельность не открыли ни одного писателя, не предвосхитили ни одного будущего таланта, а упорно шли за толпой. Происходит это потому, что у обоих критиков нет никакого ощущения личности…
У акмеистов тоже нет понимания личности. Это и привлекло к ним Неведомского…
Жили-были молодые поэты. Одни более, другие менее талантливые. Поэты старшего поколения сразу их заметили: Вячеслав Иванов пригрел Городецкого, Брюсов пригрел Гумилева… Когда у этих деток выросли «зубки», они стали кусать грудь кормилицы… Результат получился комический: они моментально нашли союзников в лице врагов символизма и художества вообще.
Но в основном «революционно-демократическая» критика акмеистов тоже не жаловала. А. Редько в большой статье «У подножия африканского идола», именуя акмеистов по-русски «вершинниками», видит в их творчестве прежде всего следующее:
Они далеки от метафизического толкования экстазов чувственности. Но и для них, как для Пшибышевского, евангелие должно начинаться словами: «В начале был пол». Они не станут, как В. Брюсов, утверждать, что их влечет «тайна зачатий». Но это только потому, что им совсем не нужно оправданий: за них просто факт соответственного «звериного» влечения. Поэтому в «вершинной» поэзии Гумилева вы найдете, к большому своему изумлению, то, что, казалось бы, давно умерло. Вот лирика полового извращения на мотив из Кузмина. Но этого мало. Поэт хочет быть универсальным и добавляет лирику противоположного извращения.
Имеются в виду стихотворения «Любовь» и «Жестокой». Первое стихотворение — либо метафорическое описание любви к поэзии какого-то автора (Готье?), либо действительно попытка тонкой гомоэротической стилизации. Примеры таких стилизаций есть, как известно, и у Пушкина. Но для Гумилева предмет внезапно охватившей героя «любви» — не «отрок», а «лирик». Скорее всего, прав М. Бакстер, и адресат «Любви» — живший в начале 1912 года у Гумилевых Кузмин, с «капризным» образом, «бесстыдным языком» и тематическим рядом которого Гумилев вступает в диалог, чуть-чуть иронический, но настолько глубокий, что простодушному читателю это кажется обычной «лирикой полового извращения».
В общем, акмеистам «нужно будет довоплотиться в ту или другую сторону: или пойти в сторону шерсти и когтей, или вернуться в человеческое состояние» (Русское богатство. 1913. № 7).
Другими словами, акмеистов не хвалил почти никто, но писали о них много. Даже в газете «Нижегородец», рекламном издании Нижегородской ярмарки, И. Казанский (Иван Игнатьев) из номера в номер печатал бесформенный текст про Цех поэтов: «Собравшиеся под заботливым крылом, ютятся тут юнцы, рабски стараясь создать что-то похожее на синдиков». Впрочем, «нельзя отнять у Гумилева изысканной пряности, тонкой утонченности (sic!), граничащей с риторичностью…»
Редактор газеты приходился Игнатьеву дядей и очень любил племянника. Тот был поэтом-эгофутуристом и редактором «Петербургского глашатая», ему шел двадцать второй год. Спустя несколько месяцев он зарезался бритвой — наутро после своей свадьбы.
7
«Инкубационный период» акмеизма был довольно долгим. Просуществовала же группа в своем окончательном виде лишь около двух лет.
Уже 28 февраля 1913 года на вечере в «Обществе любителей художественного слова» от Цеха поэтов публично отрекся прозорливый Клюев, на недоуменные вопросы Гумилева ответив: «Рыба ищет где глубже, человек — где лучше». Крестьянский поэт имел на этом вечере большой успех (в отличие от других выступавших). Но и в самом сердце акмеизма зрело недовольство. В тот же день Ахматова и Мандельштам, подделав подписи членов Цеха, подали прошение о его ликвидации — «иначе мы все умрем». Городецкий наложил резолюцию: «Всех повесить, а Ахматову заточить (Царское Село, Малая улица, 63)». Делу придали вид шутки, возможно, это и была шутка. Но вскоре Цех почти приостановил свою работу: Гумилев уехал изучать народ галла и отдыхать «от ужасной зимы». Осенью все пошло как будто по-прежнему: собрания Цеха, «Гиперборей», «Аполлон», комната в Тучковом переулке (другая — по неустановленному адресу). О ликвидации Цеха никто как будто больше не говорил.
И вдруг 16 апреля 1914 года происходит неизбежное. Накануне Гумилев долго беседовал с Городецким у себя в Тучковом переулке о перспективах акмеизма и Цеха. Обсуждался, в частности, проект «Литературного политехникума» (такой для Гумилева характерный!). В качестве преподавателей Гумилев предлагал Зноско-Боровского и молодого критика Валериана Чудовского. Городецкий почему-то был против этих кандидатур. Судя по всему, Гумилеву казалось, что прежние формы существования Цеха не оправдали себя, что тот превратился в одно из множества литературных обществ, включающих наряду с большими мастерами средних профессионалов и полудилетантов. Он вновь и вновь возвращался к своей любимой мысли: поэзия — сложное мастерство, которому нужно учиться. Для Городецкого эта мысль звучала почти оскорбительно. Кроме того, Городецкий выражал недовольство составом авторов «Гиперборея». Разговор был прерван приходом Шилейко.
Но на следующий день Городецкий отправляет Гумилеву резкое письмо. Еще раз повторив те истины акмеистической программы, которые были для него актуальны («Будучи… акмеистом, я был, по мере сил, прям и честен в затуманенных символизмом и от природы чрезвычайно ломких отношениях между вещью и словом. Ни преувеличений, ни распространительных толкований, ни небоскребного осмысления я не хотел совсем употреблять…»), он заявил Гумилеву, что заметил в нем «уклон от акмеизма» и что отныне он снимает с себя ответственность за «Гиперборей»: «Ты то же мог бы сделать со своими относительно Цеха поэтов, мне дорогого и мной на произвол и гибель отнюдь не покидаемого». Таким образом, Городецкий предлагал Гумилеву развод с разделом имущества. При этом он надеялся остаться с Цехом поэтов, с эксклюзивными правами на термин «акмеизм». «Застрельщик с именем» искренне считал себя настоящим вождем и идеологом молодой школы, а Гумилева, Ахматову, Мандельштама — эстетами и формалистами, которые были хороши как союзники, но без которых в крайнем случае можно и обойтись.
Георгий Адамович, 1910-е
В ответном письме Гумилев писал:
Дорогой Сергей, письмо твое я получил и считаю тон его совершенно неприемлемым: во-первых, из-за резкой передержки, которую ты допустил, заменив слово «союз» словом «дружба» в моей фразе о том, что наш союз потеряет смысл, если не будет Литературного Политехникума; во-вторых, из-за оскорбительного в смысле этики выражения «ты с твоими», потому что никаких «моих» у меня нет и быть не может; в-третьих, решать о моем уходе от акмеизма или Цеха поэтов могу лишь я сам, и твоя инициатива в этом деле была бы только предательской…
Однако те отношения, которые у нас были с тобой за последние три года, вынуждают меня объясниться с тобой. Я убежден, что твое письмо не могло быть вызвано нашей вчерашней вполне мирной болтовней. Если же были иные основания, то насколько было бы лучше изложить их… Я всегда был с тобой откровенен и, поверь мне, не стану цепляться за наш союз, если ему суждено кончиться.
Гумилев болезненно переживал разрыв с людьми: вместо «те отношения, которые у нас с тобой были», первоначально стояло — «любовь, которую я питал к тебе».
Письмо написано сразу же и отправлено 16-го утром. Почта в Петербурге работала исправно: Гумилев назначил Городецкому свидание либо между шестью и семью вечера в ресторане Кинши, либо на следующий день утром в комнате на Тучковом переулке. «Писем, думаю, писать больше не надо, потому что уж очень это не акмеистический способ общения».
Но Городецкий написал еще одно письмо, и Гумилев успел получить его до шести вечера! Второй «синдик» еще раз заявил Гумилеву: «От акмеизма ты сам уходишь, заявляя, что он не школа; так же и из Цеха, заявляя, что он погиб». Разговор у Кинши состоялся, о чем шла речь, сказать трудно. Достоверно одно: Цех поэтов просто прекратил существование. Бруни еще пытался собирать его бывших членов у себя, приглашал Городецкого, но толку не вышло. Так же тихо умер журнал «Гиперборей», хотя изданные за свой счет книги под грифом одноименного издательства еще появлялись (например, второй «Камень» Мандельштама, вышедший в 1916-м).
Левые акмеисты Нарбут и Зенкевич (похоже, что «своими» Городецкий считал именно их, а также Василия Гиппиуса и писателя «из народа» Бориса Верхоустинского) сперва не пошли ни за одним из бывших «синдиков», а попытались объединиться с кубофутуристами «Гилеи». В недатированном (но, скорее всего, относящемся именно к весне 1914 года) письме к Зенкевичу Нарбут пишет:
Я не имею ничего против их (футуристов. — В. Ш.) программы… Поистине, отчего не плюнуть на Пушкина? Во-первых, он адски скучен, неинтересен и заимствовать (в смысле сырого материала) от него нечего. Во-вторых, отжил свой век… Разница между ними и нами должна быть только в неабсурдности…
На акмеизм я просто махнул рукой… Тем более, что «вожди» (как теперь ясно) преследовали лишь свои цели.
Ведь мы с тобой «виевцы», а они все-таки академики по натуре[115].
Но из этих проектов ничего не вышло. Уже спустя несколько месяцев Нарбут снова заинтересованно расспрашивает своего друга о Гумилеве, «Анне Андревне» и «Манделе». Личные добрые отношения с Городецким у Гумилева восстановились еще быстрее — через несколько недель. Но общих литературных дел они больше не заводили. Городецкий вскоре переключился на новый, куда более для себя естественный, литературный проект. В 1915 году возникла группа «Краса», ориентированная на древнерусское искусство и фольклор. В нее вошли Городецкий, Клюев, Ремизов, 20-летний Есенин, как раз в это время явившийся к Городецкому с рекомендательным письмом Блока, и еще несколько «крестьянских» поэтов и прозаиков: Ширяевец, Клычков, Орешин…
О, разумеется, неприятели Гумилева поторопились «отпеть» его едва родившуюся школу. Садовской напечатал статью «Конец акмеизма», в которой хвалит Ахматову, сравнивает Городецкого с героем гоголевского «Портрета» — и вообще не упоминает о стихах Гумилева. Что же до «умершего» литературного направления, то акмеизм, по мнению Садовского, и «существовал лишь на бумаге, в статьях гг. Городецкого и Гумилева».
Но уже спустя два года появится знаменитая статья Жирмунского «Преодолевшие символизм», где об акмеизме впервые посторонним человеком будет сказано как о «поэзии поколения» и где впервые будут выделены три действительно главных имени в этой поэтической школе — Гумилев, Ахматова, Мандельштам. Цех умер, но акмеизм жил — именно потому, что это была не школа. «Ярлычок», вброшенный в историю русской культуры, отныне странствовал по ее морю, переосмысляясь и меняя значения на ходу. Закончилось только «утро акмеизма».
В личной жизни Гумилева тоже происходили неожиданные и драматичные события. В 1913 году, разойдясь с Мандельштамом, Жоржик Иванов стал появляться в «Собаке» с другим Жоржиком — Георгием Адамовичем. Молодой поэт из обрусевшей польской семьи (отец — генерал-майор, начальник госпиталя в Лефортове), застенчивый и изнеженный эстет, Адамович во всех отношениях больше, чем Мандельштам, годился ему в спутники. Литературная и личная дружба двух Георгиев продолжалась вплоть до Второй мировой войны, когда Иванов и Адамович разошлись в том, какое зло наипаче — Гитлер или Сталин. Пока же Адамович вслед за Ивановым примкнул (в первой половине 1914-го) не только к Цеху поэтов (успев побывать лишь на нескольких его собраниях), но и к группе акмеистов («адамистов» тож — легкий повод для игры слов), — и они стали на годы верными учениками Гумилева. Можно выговорить, что это были его первые ученики.
Гумилев познакомился с Адамовичем так. Юный поэт написал «мистерию» и поставил ее с друзьями. Это был «какой-то метерлинковско-футуристический бред: ночью, в пустыне, заблудившаяся, измученная толпа ждет, как чуда, прихода избавителя-короля. Король наконец приходит. Но это не бородатый человек в мантии и короне, а пьяный юноша в смокинге, бормочущий чудовищные пошлости…». На представление юные декаденты пригласили Блока и Гумилева; первый не пришел, второй (вместе с Ахматовой) появился. «Публика — наши родственники и знакомые — сначала сдерживалась, потом стала посмеиваться и наконец принялась громко хохотать». По окончании спектакля Гумилев прошел за кулисы, пожал обескураженному автору руку и сказал: «Я не знаю, почему они смеются». Он не забыл еще, сколько унижений пришлось пережить ему в дни его литературной юности.
Об Адамовиче даже литературные враги отзывались не без уважения. А враги у него были замечательные — Ходасевич, Цветаева, Набоков… Меньший, чем Георгий Иванов, поэт, он был в своем роде блестящим критиком. Но, конечно, все, что писал и защищал «Жоржик Уранский» (как, бестактно намекая на сексуальную ориентацию Адамовича, назвал его Набоков), было отрицанием всего, что писал и защищал в искусстве его учитель.
С Адамовичем в «Собаке» появлялась его сестра-погодок Татьяна (Татиана), молодая балерина. Встреча с ней 6 января 1914 года значила для Гумилева многое. До сих пор в его жизни была одна большая любовь, а также несколько более или менее коротких интрижек и романтических влюбленностей. Но к началу 1914 года брак с Ахматовой стал по существу формальным: супруги «предоставили друг другу свободу». Возможно, это произошло после возвращения в 1913-м из Абиссинии, когда приехавший ночью в Царское Гумилев не застал жену дома (засиделась в «Собаке», не успела на поезд…), а она в свою очередь предъявила ему кипу женских писем, найденных в его бумагах. Как пишет Срезневская, «у них не было каких-либо поводов к разлуке или разрыву отношений, но и очень тесного общения вне поэзии… тоже не было».
23-летняя Татьяна Викторовна Адамович была «не красавицей, но очаровательной». Гумилев говорил о ней: «Книги она не читает, но бежит, бежит убрать в свой шкаф. Инстинкт зверька…» Но Ахматова свидетельствовала, что в стихах Татьяна разбиралась. «Ну, это Жорж ее натаскал…» Компания Жоржиков была вполне богемной (что не мешало молодым людям без особых конфликтов оставаться в лоне своих респектабельных буржуазных семейств); про Татьяну ходили слухи, что она бисексуалка и что у нее были любовные отношения с ее ближайшей подругой (в мемуарах она называет ее даже сестрой), Габриэль Тернизьен, позднее некоторое время — женой Георгия Иванова[116]; еще — что она нюхает эфир. К этому занятию, знакомому ему еще по Парижу, снова обратился с ней и Гумилев. Так начинает звучать тема наркотиков и «измененного сознания» — в последние годы жизни поэта она зазвучит вновь.
Но при всем своем беспутстве Татьяна Адамович была девушкой цепкой. Где-то в мае Гумилев заговорил с Ахматовой о разводе. Та не возражала, но при условии, что сын останется с ней. Но на это не согласилась Анна Ивановна, сказавшая сыну: «Леву я люблю больше, чем Аню, и больше, чем тебя, и не отдам его». Причина, заставившая поэта искать столь радикальных и болезненных решений, известна: Татьяна рассказала Гумилеву, что ее не берут на должность учительницы танцев в Смольный институт, так как она — «любовница Гумилева». Оказывается, Дон Жуан был беззащитен перед такой откровенной и неправдоподобной женской ложью… Что дал бы ему, кстати, развод? По российским (церковным) законам основанием для него могла быть исключительно супружеская неверность. Тот, кто взял «вину» на себя (в данном случае это был бы, конечно, Гумилев), лишался права вступления в законный брак.
Ахматова не по-супружески, а по-дружески открыла Гумилеву глаза на коварство его возлюбленной. И все же в июне 1914-го, после кратковременного пребывания в Слепневе, Гумилев отправляется в Вильно и оттуда в Либаву — к Адамович.
Чувства его к ней не стали слабее, но о новом «семейном счастье» уже не мечталось. В Либаве наркотические эксперименты были, видимо, особенно интенсивны. После возвращения в Петербург в июле Гумилев успевает написать рассказ «Путешествие в страну эфира» — похоже, автобиографический в своей основе.
— Приложите одну ноздрю к горлышку и вдыхайте ею, а другую зажмите. Кроме того, не дышите ртом, надо, чтобы в легкие попадал один эфир, — сказал я и подал пример, откупорив свой флакон.
Инна поглядела на меня долгим признательным взглядом, и мы замолчали. <…>
Я упал на поляне, покрытой белым песком, а кругом стеною вставала хвоя. Я поцеловал Инну в губы. Она молчала, только глаза ее смеялись. Тогда я поцеловал ее опять…
Сколько времени мы пробыли на этой поляне — я не знаю. Знаю только, что ни в одном из сералей Востока, ни в одном из чайных домиков Японии не было столько дразнящих и восхитительных ласк. Временами мы теряли сознание, себя и друг друга, и тогда похожий на большого византийского ангела андрогин говорил о своем последнем блаженстве и жаждал разделения, как женщина жаждет печали. И тотчас же вновь начиналось сладкое любопытство друг к другу.
Рассказ заканчивается словами: «Я пожал плечами и понял, что самая капризная, самая красивая девушка навсегда вышла из моей жизни».
Героя рассказа зовут Грант — Гумилев припомнил свой юношеский псевдоним; имя героини, Инна, — это «редчайшее имя» матери Ахматовой. Все же от ассоциаций, связанных с ней, Гумилев уйти не мог. К слову говоря, Анна Андреевна ничего не знала об этой стороне романа своего мужа с Татьяной Адамович.
Трудно сказать, куда бы все это завело его… Брюсова Нина Петровская «посадила на иглу», говоря современным языком, до конца жизни. Но, когда Гумилев еще предавался рискованным забавам в Либаве, газеты сообщили о неком террористическом акте, совершенном где-то за тысячи верст, в такой же глухой европейской провинции — в Боснии, в Сараеве. Едва ли поэт в первый момент придал этим известиям значение.
Он еще успел вернуться в город, отдохнуть несколько дней в Териоках, обсудить с Маковским предполагаемые изменения в структуре «Аполлона», а с Чуковским — его статью про акмеизм, написать очередное «Письмо о русской поэзии»… Ахматова с сыном была в Слепневе. И Гумилев писал ей туда, как обычно, спокойные и бодрые письма.
Третий круг жизни подходил к концу. В этом круге Гумилев добился всего, о чем мечтал: женился на девушке, чьей любви добивался, и стал не просто известным поэтом, а «главой поэтической школы»…
И каков результат?
Брак по существу распался, а новая любовь не сулила надежного счастья.
Ценой создания новой школы был разрыв с обоими учителями, усложнившиеся отношения с Блоком и Кузминым, травля в печати — а сама школа просуществовала всего-то два с половиной года (так, по крайней мере, должно было казаться тогда).
Путешествия? Но «золотой двери» он так и не нашел.
Творчество? Но Гумилев не мог не понимать, что к двадцати восьми годам он написал не так уж много стихов, достойных его возможностей.
Все нужно было опять начинать сначала. На сей раз о новом начале за Гумилева позаботилась История.
Глава восьмая Доброволец
1
В начале XX века политики и дипломаты говорили о вечном мире больше, чем когда-либо прежде. Тем временем во всех штабах готовились к войне. Никто, разумеется, не ожидал, что она будет европейской и тем паче мировой. Россия не собиралась воевать разом с Германией, Австрией и Турцией. Германия считала, что сможет вбить клин в Антанту. Но союзы европейских держав оказались, на беду, слишком прочны. Европа сдетонировала как огромный заряд.
Утром 28 июня нового стиля 1914 года эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник австро-венгерского престола, племянник и фактический соправитель престарелого императора Франца Иосифа, и его морганатическая супруга княгиня София Гогенберг ехали в открытом автомобиле по городу Сараево, столице Боснии (шестью годами ранее аннексированной Австро-Венгрией) на прием в городской ратуше. Босния была неспокойным местом: тамошние сербы были нелояльны к австрийской короне и мечтали о воссоединении своей страны, а в перспективе — о создании единой Югославии. Из Сербии через границу просачивались вооруженные молодые патриоты. Правительство знало об этом, но не в силах было помешать. Сербское посольство в Вене предупреждало эрцгерцога о грозящей опасности. Но эрцгерцог не внял предупреждениям.
Когда эскорт проезжал по набережной Милячка, некий юноша отделился от толпы, подошел к полицейскому и спросил, в какой именно машине эрцгерцог. Полицейский ответил, и в следующее мгновение в машину полетела граната, а юноша прыгнул с моста в реку и пытался спастись вплавь. Граната отскочила от брезентового верха автомобиля, упала на мостовую и разорвалась под колесами другой машины. Террориста поймали. Это был гражданин Сербии Неделько Чабринович. Эрцгерцог не пожелал по этому случаю вносить изменения в программу визита. На обратном пути по той же набережной водитель переднего автомобиля случайно повернул на улицу Франца Иосифа и, поняв ошибку, остановился. Но следующие машины уже успели повернуть следом за ним. Медленно, задним ходом начал кортеж выбираться на набережную. В это время на тротуаре у магазина Морица Шиллера так же случайно оказался другой член заброшенной из Белграда группы — 19-летний Гаврила Принцип с пистолетом в кармане. Он успел сделать два прицельных выстрела, смертельно ранив эрцгерцога и его жену.
Австро-Венгрия в ультимативном порядке потребовала у маленькой, но гордой славянской страны разрешения ввести на ее территорию войска. Россия, со времен Скобелева считавшая своим долгом покровительство единоверным балканским государствам, призывала стороны к компромиссу, в то время как германский император Вильгельм II склонял своего престарелого союзника к неуступчивости.
Кайзеру Францу Иосифу было 84 года, из них 66 лет он занимал престол. Ему не раз приходилось терять близких. Его брат, мексиканский император Максимилиан, был расстрелян во время гражданской войны. Его сын, эрцгерцог Рудольф, покончил с собой вместе со своей любовницей. Его жена пала от пули террориста. Теперь он потерял наследника. Он не знал — и никогда не узнал, — что для его несколько безумной, но в общем довольно милой и комфортной империи, родины Йозефа К. и Иосифа Швейка, эта война станет роковой. Старый кайзер умер в 1916 году, Вильгельму II и Николаю II пришлось увидеть крушение своих империй воочию. В год свержения первого и гибели второго, в год окончания войны в австрийской тюрьме после неудачной ампутации руки (причина — костный туберкулез) умер Гаврила Принцип. Никто не заметил его смерти.
Так или иначе, ровно через месяц после убийства эрцгерцога, 28 июля, Австрия объявила Сербии войну. Через два дня Николай II объявил о начале всеобщей мобилизации. Германия потребовала от России прекратить мобилизацию; не получив ответа на этот ультиматум, Вильгельм II 19 июля (1 августа) объявил войну России. До этого момента все шло по плану германского кайзера. Но в войну, вопреки германским прогнозам, вступила Франция. А потом, в ответ на оккупацию нейтральной Бельгии, и Англия.
Манифестация в Петрограде, 23 июля 1914 года
В день объявления войны вышел специальный номер «Нового времени», посвященный 200-летней годовщине Гангутской битвы. В номере нашлось место и для в высшей степени хвалебной рецензии на вышедшую накануне, в марте, книгу молодой поэтессы Анны Ахматовой «Четки». Ахматову теперь хвалили даже в буренинской вотчине. «Анна Ахматова отличается среди других молодых поэтов тем, что у нее есть своя манера…» — отмечает анонимный критик (как сейчас известно, автором рецензии был Н. Вензель). Особенно ему нравится стихотворение «Все мы бражники здесь, блудницы…»: «Современный роман, разыгрывающийся не в темном саду, на просторе полей, а в ресторанном и кафешантанном обрамлении, весь тут, в этих строках». (За два дня до этого Ахматова пишет мужу тревожное письмо: «Думаю, что у нас будет очень трудно с деньгами осенью… С «Аполлона» получишь пустяки. Хорошо если с «Четок» что-нибудь получим». Успеха своей книги, которому и война не помешала, она предвидеть все еще не могла.)
На следующий день, 20 июля, в газетах появилось обращение императора к народу: «Ныне предстоит нам не только заступиться за несправедливо обиженную родственную нам страну, но и оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди великих держав…»
Даже в этот момент большинство граждан, кажется, еще не понимало серьезности происходящего. Рядом с высочайшим манифестом в газете «Речь» красовалась реклама:
To smoke or not to smoke? Курить или не курить? Конечно, курить, но курить следует только совершенно безвредные папиросы… По анализу английского доктора мистера Донкинга, в папиросах «СЭР» (10 шт. 6 коп. фабрика товарищества «Колобов и Бобров», процентное содержание никотина — минимальное, а вкус их — very well (отличный).
Между прочим, большим борцом с никотиновой зависимостью был Городецкий. Даже в лифте своего дома он, по свидетельству Г. Иванова, повесил плакат, призывающий «ядовитое зелье не курить». Для неисправимых в квартире Городецкого был отведен закуток «с окном на черную лестницу». «Стены закутка разрисованы поучительной историей: «Упорный куритель и что с ним было»… Так смешиваются огромное и маленькое, история царств и история вещиц. Последняя, пожалуй, загадочней. Мы знаем тайные пружины политики германского Генерального штаба. Но кто сегодня помнит, чем отличался вкус папирос «СЭР» с минимальным содержанием никотина от «старой толстой Сафо»? Между тем еще вопрос, что — в контексте отдельной человеческой биографии — важнее…
Однако бывают эпохи, когда большой мир, мир говорливого меньшинства, настойчивее предъявляет свои права на человеческие жизни и человеческие чувства. Еще 16 июля (через день после объявления Сербии войны) у австрийского посольства состоялись манифестации, в которых участвовали Гумилев и Городецкий[117]. К 23 июля (6 августа) все покупатели галстуков и папирос в полном составе прониклись патриотизмом. Толпа, увидев на кафе Рейтера (на углу Невского и Садовой) флаг, который она приняла за австрийский, учинила в кафе погром. Затем возбужденные патриоты отправились по Морской к немецкому посольству на Исаакиевскую площадь. Каким-то образом удалось спасти от разгрома магазин Цвирнера и редакцию газеты St-Petersburg Zeitung. Но посольству не повезло. Самые активные и смелые манифестанты сбросили с крыши дома наземь украшавшую его скульптурную группу, другие залезли внутрь пустого здания и стали швырять из окон знамена Германской империи и портреты кайзера. В посольстве оказались и портреты Николая II. Взяв их с собой и неся, как подобает, впереди колонны, патриоты двинулись обратно к Невскому. Лавочники на всякий случай выставляли в окнах русские флаги; но манифестанты, видя родное красно-сине-белое знамя в кощунственном сочетании с немецкой фамилией хозяина, как раз в таких-то магазинах и били стекла.
Николай Гумилев и Сергей Городецкий, 1915 год
Гумилев свидетелем этого изъявления народных чувств не был: именно в этот день уехал в Слепнево — за семьей. Тем временем охваченный пиитическим восторгом Городецкий по свежим следам воспевал патриотизм жителей невской столицы.
Восторг борьбы владел сердцами, Горели молнии в глазах, И флаг сверкал тремя цветами На изумрудных небесах. Заря смотрела долгим взглядом, Ее кровавый луч не гас. Наш Петербург стал Петроградом В незабываемый тот час.Указ о переименовании столицы был издан 18 июля старого стиля — за день до официального начала войны. Может быть, именно в этот день, порвав (или надорвав) символическую связь с петровским наследием, империя подписала себе роковой приговор. Это было апофеозом того «национального» духа, который вдохновлял официальную культурную политику еще в дни Александра III, который был ближе всего сердцу Городецкого — и который никогда не был близок Гумилеву.
Стихи Городецкого вошли в его книгу «Четырнадцатый год». Наибольшее внимание привлекло в ней, конечно, стихотворение «Сретенье царя», описывающее прибытие Николая II из Царского Села 20 июля. Городецкий не знал меры ни в чем — и уж конечно в порыве увлечения забывал принятые в интеллигентской среде правила приличия.
До полдня близко было солнцу, Когда раздался пушек гул. Глазами к каждому оконцу Народ с мечтою жадной льнул. Из церкви доносилось пенье… Перед началом битв, как встарь, Свершив великое моленье, К народу тихо вышел Царь. Что думал Он в тот миг великий, Что чувствовал, Державный, Он, Когда восторженные клики Неслись к Нему со всех сторон? Какая сказочная сила Была в благих Его руках, Которым меч судьба вручила На славу нам, врагам на страх!Спустя восемь — десять лет советский поэт Сергей Городецкий будет одну за другой выпускать книжки с такими названиями: «Знай боярскую Румынию, чтоб не быть тебе разинею», «Пан-жупан, долой обман. Разговор красноармейца с польским паном», «Урожай уважай, а зерна не обижай» (против самогоноварения) — и многочисленные агитброшюры по заказам издательства «Безбожник» («Тьма и ложь — две старушки божьи тож» и др.). Еще позже автор «Четырнадцатого года» создал новый, свободный от монархизма, вариант либретто оперы Глинки «Иван Сусанин» (бывшая «Жизнь за царя»), в котором крохотный отряд поляков зачем-то ищет дорогу на Москву (а не избранного царем Михаила Романова, как в истории и в прежнем либретто барона Розена). Он долго жил, много издавался, много зарабатывал, в голодные годы щеголял гастрономическими познаниями, но в ряды классиков советской литературы так и не выбился. Слишком дешево и слишком мелко он продавался. Не было все же у него настоящего практического ума и настоящего делового масштаба, которыми, как оказалось, щедро наградила судьба увальня А. Н. Толстого.
Не один Городецкий слагал в 1914–1915 годы патриотические стихи о начавшейся войне. За полтора года вышло несколько больших антологий такого рода поэзии, на страницах которых наряду с произведениями посредственных стихотворцев вроде Леонида Афанасьева (одного из постоянных авторов «Нового времени»), Мазуркевича, Уманова-Каплуновского, Година появлялись и произведения крупных поэтов. Особенно щедрую дань батальной тематике отдал в эти годы Сологуб. Его стихотворение «Вильгельм Второй» — хороший образец жанра:
В неправедно им начатой войне Ему мечтается какая слава? Что обещает он своей стране? Какая цель? Париж или Варшава? Для прусских юнкеров земля славян, И для германских фабрикантов рынки? Нет, близок час, — и он, от крови пьян, Своей империи свершит поминки.Жанры военно-патриотической словесности тех лет поражают разнообразием. Так, в 1915 году появляется «под редакцией З. Н. Гиппиус» книга-подарок для народного чтения «Как мы воинам писали и что они нам отвечали» — видимо, идеологически направленное стихотворное переложение настоящей переписки солдатиков с кухарками. Вступительные стихи написаны отчего-то с интонацией Кузмина:
Глазастые кисеты, Носки да карандаш. С махоркою пакеты И всякий ералаш. От Дуни алый ситчик, От Кати — шоколад, Чай, сахар… Вот бы спичек, Да спичек не велят… Сердясь, хлопочет Дуня: Затейщица она, Пришла и эта нюня — Швейцарова жена…Дальше, когда дело доходит собственно до писем, Кузмина сменяет Некрасов:
Воюйте со вниманием, Гоните немца ярого, Не всех колите до смерти — Хватайте больше в плен, Да шлите в нашу сторону, Научим уму-разуму, Покрестим в веру правую — Забудут нам дерзить.В обработанных Гиппиус письмах кухарок отражаются и бытовые трудности военного времени:
Все посылочки зашиваю, Все на армию посылаю, А доходит ли к вам — не знаю. Также слез и у нас немало: Как все нынче дорого стало! Вот казенки, спасибо, нет, Увидали немножко свет. Дураку иному неймется, Дураку и сам черт не брат: Он иль ханжею обопьется, Иль лакает денатурат.Введение сухого закона и закрытие казенной винной торговли («казенки») стало еще одной приметой новых времен. Восторги гиппиусовской кухарки по этому поводу отдают антиалкогольной кампанией 1986 года; но уже из следующих строк видны подлинные последствия неосторожной меры. Помимо массового самогоноварения и широкого употребления спиртосодержащей дряни, она способствовала еще и шествию в массы новых для России возбуждающих средств. Всей правды о роли кокаина и опиума в русской революции еще, должно быть, не сказано.
Для нужд патриотической пропаганды привлекалась и милая сердцу Гумилева экзотика. Хороший пример — стихотворение Сологуба «Индийский воин»:
Мои ребяческие игры Смеялись в ярком зное той земли, Где за околицами тигры Добычу ночью чутко стерегли. …………………….. Мой император, англичанин, Живет в далеком северном краю. Я за него в сраженьи ранен, И за него я снова кровь пролью.А Кузмин, пользуясь случаем, сводил свои давние счеты с германской культурной традицией и «большим стилем»:
Одумается ли Германия Оставить пагубный маршрут, Куда ведет смешная мания И в каске Вагнеровский шут?Это были столичные изыски, но патриотические стихи писали и в провинции. Учитель Александр Боде из Самары создал, к примеру, песню, начинавшуюся так:
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С тевтонской силой темною С проклятою ордой…Современники этих стихов не заметили — да и фамилия у автора была подозрительно тевтонская; но учитель Боде дожил до Второй мировой — и имел неосторожность послать свой давний опус поэту-депутату Лебедеву-Кумачу. Присвоенная и переделанная им песня зажила новой жизнью.
«Военная» поэзия 1914–1915 годов — это, конечно, и «Петроградское небо мутилось дождем» Блока, и «Реймс и Кельн» Мандельштама, и «Молитва» Ахматовой, и «Тризна» Хлебникова, и военные стихи Гумилева… Но это была малая и чужеродная капля в море патриотической графомании, такой же массовой, как революционная графомания в 1905 году.
О настроениях литераторов лучше всего свидетельствуют записи в знаменитом рукописном альманахе К. Чуковского — «Чукоккале». На вопрос о том, как и когда закончится война, хозяин дома отвечает: «К 25 декабря. Жду полного разгрома швабов». Победы к Рождеству ждет и Евреинов. Две дамы — Е. Молчанова и М. Чуковская — ожидают победы через три месяца. Репин надеется, что результатом войны станет «свободная федеративная Германия», а журналист Не-Буква (Василевский) мечтает о «Соединенных Штатах России». Все эти записи сделаны 3 августа 1914 года.
2
У большинства русских писателей патриотические чувства выражались в манифестациях и стихах. Очень немногие непосредственно приняли участие в войне.
Французская поэзия недосчиталась Шарля Пеги и умершего от фронтовых ран Аполлинера, английская — Т. Э. Хьюма, Руперта Брука, Уилфреда Оуэна, Айзека Розенберга, немецкая — покончившего с собой на военной службе Тракля… Но единственной жертвой, которую (косвенно) понесла из-за Первой мировой войны русская поэзия, был граф Комаровский, царскосельский фланер.
Да и до фронта, собственно, с оружием в руках добрались лишь два крупных русских поэта — Николай Гумилев и Бенедикт Лившиц. Оба ушли на фронт добровольцами в начале войны… Все остальные если и были призваны, то попали в тыловые части (как, к примеру, Блок и Хлебников) или служили на нестроевых должностях. Маяковский, в первые дни войны, по собственному утверждению, тоже пытавшийся «записаться добровольцем» (не взят из-за политической неблагонадежности), когда два года спустя очередь дошла-таки до него, «притворился чертежником»; о синекуре Есенина в придворном госпитале и говорить нечего. Некоторые (как Брюсов) отправились в прифронтовую полосу военными корреспондентами. Но в дни Первой мировой (в отличие от Второй) военные корреспонденты не считались боевыми офицерами, и никому из них не пришло бы в голову, как Константину Симонову, кичиться своею доблестью.
Что же заставило двух поэтов добровольно отправиться на фронт? Лившиц в «Полутораглазом стрельце» сам толком не может ответить на этот вопрос. Ему, еврею и футуристу, казалось бы, меньше всего пристал имперский патриотизм. К тому же он уже прослужил год «вольнопером» в «аракчеевской казарме» под Новгородом — иллюзий насчет русской армии у него быть не могло. Но Петербург заразил одессита, а потом киевлянина Лившица (как и Мандельштама) пафосом государственности, который в его случае причудливо мешался с гилейским «восточничеством». Главными причинами были все же усталость от богемной жизни и чувство тупика. Про войну можно было сказать словами Баратынского о смерти: «Ты всех загадок разрешенье, ты разрешенье всех цепей».
Для Гумилева война была не только выходом из тупика, но и способом доказать свою мужественность, еще одной формой реализации утопии героической действенности, намеченной в «Капитанах» и «Родосе». Патриотические соображения были, видимо, и у него не на первом месте.
Так или иначе, решение было принято практически мгновенно. Уже 20 июля в стихах на рождение сына Лозинского появляется строчка: «Зовет меня голос войны…» 24 июля в газетах появляется указ о наборе в армию (наряду с мобилизованными) резервистов-добровольцев, «охотников». Но Гумилев был не резервистом, а белобилетником. Ему пришлось пройти повторное освидетельствование. Согласно решению медицинской комиссии от 30 июля, Гумилев «оказался не имеющим физических недостатков, препятствующих ему поступить на военную службу, кроме близорукости правого глаза и некоторого косоглазия, причем, по словам г. Гумилева, он прекрасный стрелок». Но именно из-за близорукости и косоглазия, препятствующих стрельбе, Гумилев и был освобожден от службы в 1907 году! Выход из положения был прост: Гумилев стрелял с левого, а не с правого, как все, плеча. В Африке он достаточно упражнялся в стрельбе, в Слепневе — в джигитовке; вероятно, по собственной просьбе он был определен в кавалерию. Причем в гвардию. Добыть справку в полиции о благонравии и благонадежности было, видимо, проще. Гумилев получил ее на следующий день.
В начале августа Ахматова провожала мужа на фронт. Все, что осложняло их отношения, было забыто. Вероятно, в этот момент они снова, на краткий миг, почувствовали себя «настоящими» мужем и женой. 5 августа в Петербурге, на Царскосельском вокзале они встретили Блока и вместе отобедали. Гумилев был уже в форме. Когда Блок ушел, Гумилев спросил Ахматову: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».
Удивительные слова! Ведь Гумилев всегда считал себя значительным поэтом, пусть меньшим, чем Блок. Он не позволял себе сомневаться в своем призвании. И все же — он добровольцем идет на войну, а отправлять туда Блока — кощунство. «Соловью», Моцарту не место на войне, она — для «детей Марфы», для Сальери, принимающего на себя всю полноту страдания и труда. Если прибегнуть к образам из написанной годом раньше блоковской трагедии «Роза и крест», Гумилев видел себя Бертраном, Блока — Гаэтаном. Надмирному певцу Гаэтану нечего делать в битве. Бертран умрет или победит за него. Но и слава героя достанется ему, а Гаэтану — лишь слава певца.
На фронт уходил (по призыву) и Дмитрий Гумилев, но ему, в прошлом кадровому офицеру, сам Бог велел воевать. Брат поэта был направлен в Царицынский, а затем Березинский кавалерийский полк; он удостоился нескольких орденов, но ни разу не был повышен в чине, и демобилизовался в 1917 году по состоянию здоровья поручиком. Умер Дмитрий Гумилев, видимо, от последствий фронтовой контузии, пережив брата лишь на год. По язвительному свидетельству Ахматовой, когда Дмитрий уходил на фронт, «любящая жена… потребовала раздела имущества и завещания в свою пользу». Николай воспротивился, сказав: «Я не хочу, чтобы мамины деньги Аня употребила на устройство публичного дома». Такая, значит, репутация была в семье у «второй Анны Андреевны».
13 августа Гумилев прибыл в гвардейский запасной кавалерийский полк — в те самые «аракчеевские казармы» под Новгородом, в Кречевицы. Здесь ему надлежало пройти ускоренную подготовку, состоявшую, по словам его товарища Ю. В. Янишевского, «лишь в стрельбе, отдании чести и езде». 24 августа он был зачислен вольноопределяющимся в Лейб-гвардии уланский полк Ее Величества Императрицы Александры Федоровны.
Николай Гумилев в форме улана, 1914 год
Слово «улан» происходит от монгольского слова «оглан» — «юноша». Так называли членов ханской фамилии, не получавших наследства и вынужденных искать себе счастья саблей. Множество огланов (уланов) состояло на службе у польских королей и великих князей Литовских. Память о восточном происхождении этих войск сохранилась в их головных уборах (каски, напоминающие по форме калмыцкие шапки). Уланы были вооружены саблями и пиками, но у них было, конечно, и огнестрельное оружие. Лейб-гвардии уланский полк, старейший в русской армии, был основан в 1803 году и отличился во время Наполеоновских кампаний под командованием А. С. Чаликова. После 1882 года, когда все армейские уланские и гусарские полки были переименованы в драгунские, осталось лишь два гвардейских уланских полка — Лейб-гвардии уланский и Литовский уланский. Таким образом, «охотник» Гумилев оказался в военном подразделении довольно поэтическом.
Из Кречевиц он пишет Ахматовой:
…Поздравляю тебя с победой. Как я могу рассчитать, она имеет громадное значение, и, может быть, мы Новый год встретим, как прежде, в Собаке… Ученье бывает два раза в день часа по полтора, по два, остальное время совершенно свободно. Но невозможно чем-нибудь заняться, т. е. писать, потому что от гостей (вольноопределяющихся и охотников) нет отбою. Самовар не сходит со стола, наши шахматы заняты двадцать четыре часа в сутки, хотя люди в большинстве случаев милые, но все же это уныло…
Действительно, «август четырнадцатого» чуть было не принес Антанте окончательную победу. 4 (17) началось наступление в Пруссии. 7 (20) одержана решительная победа под Гумбинненом-Гольдапом. В этой операции участвовал и Лейб-гвардии уланский полк, одержавший 6 (19) августа победу под Каушенами. Одновременно происходит успешное наступление в Галиции, где удалось взять Львов и блокировать Перемышль. В свою очередь французы, воспользовавшись отвлечением германских сил на Восток, успешно сдерживают наступление врага и 6–12 сентября (по юлианскому календарю — 24–30 августа) одерживают победу в битве при Марне, всего в 48 километрах от Парижа. Немцы отступают на Эсне и роют окопы. С этого момента в течение двух лет на Западном фронте — практически без перемен. Начинается невиданная прежде «траншейная война». Но пока что, в августе, кажется, что до Берлина — совсем близко, и Гумилеву не терпится хоть немного повоевать, чтобы встречать Новый год в «Собаке» героем.
Но уже к концу августа (по юлианскому календарю) на Восточном фронте положение начинает меняться. Наступающая 2-я армия генерала Самсонова увязает в Мазурских болотах и оказывается отрезанной от 1-й армии генерала Ренненкампфа (в состав которой как раз и входил Лейб-гвардии уланский полк, относившийся ко 2-й гвардейской дивизии). Ренненкампф бездействует, ожидая германского контрудара. Результат катастрофический: разбитый Самсонов стреляется, чтобы избежать плена, Ренненкампф отправлен в позорную отставку. Лавры Танненберга венчают чело германского главнокомандующего Гинденбурга и начальника генштаба Людендорфа. Русская армия теряет убитыми, ранеными и пленными 240 тысяч человек.
30 августа Лейб-гвардии уланский полк был выведен из Восточной Пруссии и 9 сентября расквартирован в Россиенах, на территории нынешней Литвы. 23 сентября в составе маршевого эскадрона туда направляется Гумилев. После недельного конного марша эскадрон прибыл в полк, и 30 сентября Гумилев в числе 190 вольноопределяющихся рядовых был принят на довольствие. Гумилев оказался в 1-м эскадроне, или эскадроне Ее Величества, под началом взводного командира М. М. Чичагова.
Так начинается военная служба Гумилева. В казарме, среди множества непричастных к искусству людей — «фармацевтов», так сказать, он чувствует себя естественно и непринужденно, рассказывая сослуживцам о той стороне своей жизни, которая могла быть им интересна, — об африканских путешествиях и охотах. Ему казалось, что и война будет похожа на вольное странствие «мореплавателя и стрелка». Он не чувствовал, как по-разному звучит одно и то же слово в разном контексте: охотник на львов — и охотник-вольноопределяющийся… Вольноопределяющийся рядовой. Вольноопределяющийся, но рядовой.
Здесь, в Россиенах, Гумилев впервые — еще со стороны — видит подлинную боевую кровь и грязь. В первой декаде октября он пишет Ахматовой: «Раненых привозят не мало, и раны все какие-то странные: ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг, когда он приподнимался на рыси; секунда до или после, и его бы ранило…» Изменился и его персональный статус. В Кречевицких казармах вольноопределяющиеся были на особом положении; у Гумилева был собственный «вестовой, очень расторопный». Во 2-й гвардейской дивизии «вольноперы» жили (по крайней мере в походах) вместе с солдатами, набранными по призыву, питались из общего котла, и офицеры были к ним особенно строги.
И все же предстоящие битвы, ожидание «с винтовкой в руках и с опущенной шашкой» — все это вдохновляет его, и он пытается вернуть то, с утратой чего уже примирился, отыграть то, что давно и безнадежно «безумный Наль» проиграл. «Я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику». Французские пули — на Малаховом кургане в Севастополе.
В конце письма Гумилев обещает написать Коле Маленькому после первого боя. Бой не заставил себя долго ждать.
3
Начиная с января 1915 года в газете «Биржевые ведомости» регулярно появляются «Записки кавалериста» — фронтовые дневники Гумилева. Так же, как во время последнего африканского путешествия, он с первых же дней пребывания на фронте начал вести дневник «для печати». Возможностей вести записи было меньше, чем во время довольно комфортабельного пути из Петербурга в Аддис-Абебу в 1913 году, зато теперь появилась возможность все записанное оперативно публиковать.
«Биржевые ведомости», основанные в 1880 году, в период интенсивного развития молодого русского капитализма, очень быстро из специального торгово-финансового издания превратились в почтенную либеральную газету, читавшуюся всеми слоями российского общества. В 1905 году ее на недолгое время переименовывали в «Народную свободу» — название, не оставлявшее сомнений в политических симпатиях издателей. Но «Биржевка» — это была марка заслуженная, и вскоре к ней вернулись.
В 1915–1916 годы в «Биржевке» (фактическим редактором которой тогда был Ясинский) печатались не только фронтовые записки Гумилева, но и военные корреспонденции других известных литераторов — от видной кадетской дамы А. В. Тырковой-Вильямс до В. Г. Тана-Богораза. Среди прочих материалов, появлявшихся в газете, внимание Гумилева не могла не привлечь темпераментная статья Н. Бердяева «Ницше и современная Германия» (в номере за 4 февраля 1915 года):
Поистине, судьба Ницше и после смерти еще более трагична и несчастна, чем при жизни. Одно время всякие пошляки возомнили себя Заратустрами и сверхчеловеками, и память Ницше была оскорблена его популярностью в стаде… В нынешний исторический час Ницше оказался одним из виновников мировой войны, германского агрессивного милитаризма, германских зверств… Для нас, русских, хотел бы я в эти дни благородного и свободного отношения ко всему ценному и всемирному в германском духе… И в своей любви к родине хотел бы я, чтобы у русских людей были некоторые добродетели Заратустры: дарящая добродетель, творческая избыточность, благородство, мужественность, солнечность, горный восходящий дух.
Эти слова могли бы стать эпиграфом и к военным стихам Гумилева, и к его военной прозе. По крайней мере — одним из эпиграфов.
«Записки кавалериста» начинаются с описания первого боя, состоявшегося 17–20 октября 1914 года.
За три дня до этого Лейб-гвардии уланский полк был включен в состав 1-й отдельной кавалерийской бригады под командованием генерал-майора барона Майделя. Уланы участвовали в битве при Владиславове (ныне Кудиркос-Науместис). Город, находившийся по русскую сторону границы (проходившей по рекам Ширвинте и Шешупе), был занят немцами — и вот отбит русскими. Затем войска генерал-майора Майделя форсировали Ширвинту и попытались взять расположенный на другом берегу город Ширвиндт, но, столкнувшись с сильным сопротивлением противника, отступили.
Вот как выглядит все это под пером Гумилева:
Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели германские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и страшном языке пулемет лепетал непонятное.
Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкою, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест.
Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «ура», с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня.
Все же несправедлива уничижительная оценка возможностей Гумилева-прозаика, с которой и сам он во многом готов был согласиться. Если к сюжетной прозе он был и впрямь не слишком способен, то его документалистика действительно хороша: точно найденный ритм фразы, великолепная изобразительность. «Ребячий язык пулемета» — ведь это замечательно!
Оказавшись в Германии, Гумилев невольно переживает заново ощущения Пушкина, ступившего на «уже завоеванную нами» землю Арзрума (Эрзерума, где в дни Первой мировой вновь случатся великие бои — и где, в Западной Армении, совершится в 1915 году первое из великих преступлений XX века). Но, в отличие от Пушкина, Гумилев за границей бывал многократно и подолгу. Его волнение — другого рода:
Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремления вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами?
Державный патриотизм, охвативший, конечно, и Гумилева, сочетается у него не с «германоедством» (как у многих других), а с уважением к «солдатской культуре» противника. Пафос русских газет, в лучших традициях военной пропаганды расписывавших «тевтонские зверства», был ему чужд. Вспомним его разговор на эту тему с Фидлером; не менее выразительно место из его письма к Ахматовой (ноябрь 1914):
Ни в Литве, ни в Польше не слышал о германских зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине. Скотину и хлеб они действительно забирают, но, во-первых, им же нужен провиант, во-вторых, им нужно лишить провианта нас; то же делаем и мы… Войско уважает врага. Мне кажется, и газетчики могли бы поступать так же.
Что же до мечты о параде победителей в Берлине (в уме Гумилева был и Париж 1814 года, и 1760-го, когда казаки ненадолго овладели прусской столицей), то он рисовался прежде всего художественно выразительным.
Наверное, всем выдадут парадную форму, и весь огромный город будет как оживший альбом литографий. Представляешь себе во всю ширину Фридрихштрассе цепи взявшихся под руки гусар, кирасир, сипаев, сенегальцев, канадцев, казаков, их разноцветные мундиры с орденами всего мира… (письмо к М. Лозинскому от 1 ноября).
Мечты не то эстета-аполлоновца, не то гимназиста третьего класса…
В газетной публикации «Записки» носят фрагментарный характер — разумеется, они прошли военную цензуру, причем не на стадии публикации (выпущенные цензурой места в газетах по традиции отмечались белыми пятнами, тогда как в тексте Гумилева они обозначены многоточиями), а перед отправкой из боевой части. Увы, в своих многообразных литературных занятиях Гумилев не нашел времени, чтобы обработать «Записки», создать их канонический текст. В результате это произведение Гумилева постигла та же судьба, что и «Африканский дневник».
Вторая глава, появившаяся в печати лишь 3 мая, описывает позиционные бои в последней декаде октября и начало нового наступления на территории Восточной Пруссии и взятие города Шиленена. Затем был взят расположенный южнее Вилюнен. Но уже 27 октября был получен приказ: оставив все занятые города, отойти обратно в Россиены. В сохранившемся черновике второй главы «Записок кавалериста» есть такое место:
Невозможно лучше передать картины наступления, чем это сделал Тютчев в четырех строках:
Победно шли его полки, Знамена весело шумели. На солнце искрились штыки, Мосты под пушками гремели…У Тютчева речь идет о переходе Наполеона через Неман в 1812 году, и заканчивается его стихотворение так:
Несметно было их число — И в этом бесконечном строе Едва ль десятое число Минуло клеймо роковое…В данном случае Гумилев предпочел забыть об этом «продолжении». Ему нравится борьба, опасности, преодоление трудностей. В уже процитированном письме Лозинскому он пишет:
В общем, я могу сказать, что это лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше. Почти каждый день быть под выстрелами, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя, — я думаю, такое удовольствие испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого крепкого коньяка…
Но война (как и Абиссиния) дает ему новый опыт соприкосновения с грубой плотью человеческой жизни.
Низкие, душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран… и безумно-дерзкие мечты, что на вопрос о молоке и яйцах вместо традиционного ответа: «Вшистко германи забрали», хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом! И горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолоченого хлеба…
Совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе, на столе лежало начатое вязанье, открытая книга; я вспомнил о девочке, зашедшей в дом медведей, и все ждал услышать грозное: «Кто съел мой суп? Кто лежал на моей кровати?»
Этот образ войны, такой толстовски достоверный и земной, противоречит общепринятому представлению о Гумилеве-писателе. Собственно, этот материал в его художественные тексты и не вошел — и мог быть использован лишь в документальной прозе.
В последних числах октября Лейб-гвардии уланский полк был отведен в Ковно, откуда через несколько дней переброшен в Польшу, в район Ивангорода и Радома, к юго-западу от Варшавы. Сюда уланы прибыли 13 ноября. Затем — трехдневный переход сначала на господский двор Янков, близ станции Олюшки, затем в деревню Катаржинов. Отсюда 18–19 ноября полк был переброшен в район Петракова. Задача улан, как указывает Е. Е. Степанов, заключалась в том, чтобы «заполнить промежуток между располагавшейся к северу V армией и относящейся к Юго-Западному фронту IV армией».
Здесь уланам предстояли бои уже не наступательного, а оборонительного характера. Немцы предприняли наступление на Ивангород и Варшаву, которое удалось остановить. 20 ноября состоялось сражение у Петрокова. Атака немцев была отбита с большими потерями. Командир 1-й бригады генерал-майор Лопухин был ранен (и через несколько дней умер), и командование бригадой перешло к Княжевичу, командиру уланского полка. Гумилев накануне боя и после него, в ночь с 20 на 21 ноября, участвовал в боевой разведке.
Отношение к разведке в армии было традиционно сложным. Пережитки средневековых представлений о доблести, несовместимых с «военной хитростью» и шпионством, были очень живучи. В дни наполеоновских войн, да и позднее, армии прибегали к услугам «лазутчиков» из местного населения, обычно евреев (так как они понимали несколько языков), к которым относились в высшей степени пренебрежительно. «Шпионы» не считались военнопленными и подлежали смертной казни через повешение. Брюссельская декларация 1874 года, принятая по инициативе России и посвященная «правилам войны», подчеркивает: «Военные, проникшие в пределы действия неприятельской армии с целью рекогносцировки, не могут быть рассматриваемы как шпионы, если только они находятся в присвоенной им одежде». К «шпионам» не относились также разведчики-воздухоплаватели (видимо, из пиетета перед технической новинкой). Бывали исключения: славный партизанский командир 1812 года Фигнер лично ходил на разведку в мундире неприятельской армии или в крестьянской одежде; но Фигнер вообще пренебрегал правилами ведения войны — на его совести убийства пленных и другие военные преступления, так шокировавшие благородного Дениса Давыдова. Первая мировая война, конечно, не оставила от прежней феодальной этики и следа — но она только начиналась.
Николай Гумилев — георгиевский кавалер. Силуэт работы Е. С. Кругликовой, 1916 год
Та разведка, в которой участвовал Гумилев, была «благородной». В «Записках кавалериста» он описывает ее так:
Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер. Человек десять порасторопнее вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдились напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я.
Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охранения. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям, и он уже два раза стрелял. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем.
Светила полная луна, но, на наше счастье, она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я — по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад.
Вот я совсем один посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыхание, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный направленный на тебя штык…
«Языка» Гумилев и его товарищ не привели, но «все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест».
Награждение Гумилева Георгиевским крестом 4-й степени в числе шестидесяти пяти нижних чинов полка «за дело 20 ноября 1914» было высочайше утверждено приказом № 286 от 28 апреля 1915 года. Но крест ему был вручен еще в конце декабря 1914-го (приказом по корпусу от 24 декабря). 13 января он был произведен в ефрейторы (что автоматически предполагало награждение Георгиевским крестом), а всего через два дня — в младшие унтер-офицеры.
Орден Святого Георгия — почетнейший из боевых орденов старой России, восстановленный в постсоветское время, был учрежден 26 февраля 1769 года — в год рождения Наполеона. По тогдашним российским представлениям, к ордену как корпорации мог принадлежать лишь дворянин — офицер или статский чиновник; соответственно, лишь он мог быть орденом награжден. Купцы получали медали. Статус Святого Георгия был чисто военным, и орденом этим награждали исключительно офицеров, причем с 1805 года — не по выслуге, а лишь за боевые подвиги.
Солдатские Георгиевские кресты (знаки ордена Святого Георгия) не означали принадлежности к орденскому сообществу, но давали награжденному определенные вполне земные права, прежде всего освобождение от телесных наказаний и повышенное (при многократном награждении — двойное) жалованье. Первые награждения солдат Георгиевским крестом относятся еще к 1769 году, но официально он был учрежден только в 1807-м. Первоначально существовал крест лишь одной степени, но позднее было учреждено четыре степени этой награды — так же, как и собственно ордена Святого Георгия, причем, по статуту 1913 года, нельзя было сразу получить Георгиевский крест высшей степени в обход низшей. Всего к 1917 году выдано было около миллиона крестов 4-й степени. Именно такой крест получил в апреле 1915-го Гумилев. В отличие от офицерского, солдатский Георгий был не из белого, а из желтого металла, но носился на такой же черно-желтой ленте. Мотив черного и золотого, черного и огненного бога возвращается с неожиданной стороны.
Мандельштам рассказывал Лукницкому:
Николай Степанович говорил о «физической храбрости». Он говорил о том, что иногда очень храбрые люди по характеру, по душевному складу бывают лишены физической храбрости… Например, во время разведки валится из седла человек заведомо благородный, который до конца пройдет и все что нужно сделает, но все-таки будет бледнеть, будет трястись, чуть не падать с седла. Я думаю, он был наделен физической храбростью. Но, может быть, это было не до конца, может быть — это темное место, потому что слишком горячо он говорил об этом.
Не случайно Гумилев об этом говорил именно Мандельштаму, которого он называл (по свидетельству Одоевцевой) «легкомысленнейшим трусом». Это происходило в 1920 году, когда отношения двух поэтов на краткое время усложнились и они не прочь были посоревноваться в невинной язвительности на счет друг друга. Лозинский в это же время звал Мандельштама «кроликобарсом».
В начале декабря, после короткого отдыха в Петракове, уланы отступают (конечно же «надо было выровнять линию фронта») и оставляют Петраков неприятелю, а потом вместе с пехотными частями (под командованием П. К. Скоропадского — будущего гетмана незалежной на краткий срок Украины) участвуют в неудачном наступлении и форсировании речки Пилицы. Затем на фронте установилось затишье. Фронт проходил по Пилице, перейти которую не удавалось ни немцам, ни русским. Улан время от времени посылали в сторожевое охранение. В это время (21–24 декабря) Гумилев получает отпуск и приезжает в Петроград. Здесь он договаривается о публикации «Записок кавалериста» в «Биржевых ведомостях», посещает «Собаку» и читает там стихи. Обратно в полк он едет вместе с Ахматовой — до Вильно, оттуда она отправляется к матери в Киев. Фронт проходит в опасной близости от обоих городов.
Первые месяцы на фронте дали Гумилеву-писателю многое. Видно, как впитывает он нужные и необходимые именно ему впечатления и как сырая реальность преображается на ходу, превращаясь в полуфабрикат для гумилевской лирики.
Южная Польша — одно из красивейших мест России… Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, — словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан. Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство.
Это неприлично красиво на взгляд современного человека. Особенно если учесть, что описывается Первая мировая война.
Иногда мы оставались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Кабалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в не понятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновенье меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу землю. Ведь тогда она сразу обратится в безобразный кусок матово-белого льда и помчится вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал цигарку и с наслаждением выкуривал ее в руках — курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение.
Как было использовано это «сырье», очевидно:
Земля, к чему шутить со мною: Одежды нищенские сбрось И стань, как ты и есть, звездою, Огнем пронизанной насквозь!И:
Горе! Горе! Страх, петля и яма Для того, кто на земле родился, Потому что столькими очами На него взирает с неба черный И его высматривает тайны.Но (может быть, это и есть акмеизм?) Гумилев считает нужным, чтобы избежать выспренности, ненавязчиво снизить ноту, перейдя от «древнего ужаса» — к махорке и самокрутке.
Война становится и местом, где писатель «для немногих» соприкасается с людьми, не читавшими его книг — и мало читающими книги вообще, с миром маленького человека, человека из толпы. У Гумилева эта встреча оказывается на редкость трогательной и бесконфликтной. И немного грустной. Вот разговор поэта с ксендзом, в доме которого он нашел ночлег.
«Вы вольноопределяющийся?» — «Доброволец». — «Чем прежде занимались?» — «Был писателем». — «Настоящим?» — «Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги». — «Теперь пишете какие-нибудь записки?» — «Пишу». Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным: «Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились». Я искренно обещал ему это. «Да нет, вы забудете. Юзя, Зося, карандаш и бумагу!» И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию.
Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так? Через три дня я уже потерял все, и эту в том числе.
Наконец, поражает описание неудачного наступления под Крушевцом:
Дивное зрелище — наступление нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооруженных людей на обреченную деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что это были отдельные люди, скорее это был цельный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее динотериумов и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений, грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок, как болиды, летали гранаты и рвалась шрапнель. Действительно, по слову поэта, нас призвали всеблагие, как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый унтер, и рябой запасной, бывший дворник, мы оказались свидетелями сцены, больше всего напоминавшей третичный период Земли. Я думал, что только в романах Уэллса бывают такие парадоксы.
Но мы не оказались на высоте положения и совсем не были похожи на олимпийцев. Когда бой разгорался, мы тревожились за фланг нашей пехоты, громко радовались ее ловким маневрам, в минуту затишья выпрашивали друг у друга папиросы, делились хлебом и салом, разыскивали сена для лошадей. Впрочем, может быть, такое поведение было единственным достойным при данных обстоятельствах.
Вот оно — то слияние воль, то «единодушие», к которому стремились унанимисты! Впрочем, в данном случае скорее приходит в голову другая аналогия. В тех местах, где Гумилев по-настоящему проникается воинственным духом, в тех случаях, когда над его страницами начинает витать дух Ницше, его стиль поразительно напоминает одну из самых знаменитых книг о Первой мировой войне. Имеется в виду книга «В стальных грозах» — фронтовые дневники Эрнста Юнгера.
Юнгер был моложе Гумилева на девять лет; в 1913 году, когда «синдик» Цеха поэтов в последний раз отправился в Абиссинию, 18-летний Юнгер сбежал из дома — тоже в Африку, в Алжир, где ему пришлось тянуть лямку в колониальных войсках будущих противников — французов. Звездный час его настал во время и после мировой войны, а жить ему пришлось долго — 103 года. За это время он успел побывать и чуть ли не самым знаменитым и успешным писателем Германии, и боевым офицером Второй мировой, с тайной обреченностью служащим презираемому им режиму, и заклейменным активистами денацификации, пораженным в правах «пособником диктатуры». Обо всем этом он тоже написал книги.
Вот характерный фрагмент из первой и самой знаменитой из книг Юнгера:
Англичане храбро защищались. Бой шел за каждую поперечину. Черные шары миллиметровых ручных гранат скрещивались в воздухе с нашими ручными гранатами. За каждой взятой поперечиной мы находили трупы или тела, еще бившиеся в судорогах. Убивали друг друга, не видя лиц. У нас тоже были потери. Рядом с ординарцем упал кусок железа, от которого уже нельзя было спастись; солдат рухнул наземь, и его кровь струйками потекла сразу из нескольких ран…
…Каждый раз, когда яйцеобразный железный ком поднимался над линией горизонта, глаз схватывал его с тем прозрением, на которое человек способен, только встречаясь со смертью. За этот миг ожидания нужно было хорошо завладеть позицией, откуда хорошо обозревалось все небо, так как только на его бледном фоне черное рифленое железо смертоносных шаров выделялось достаточно четко. Тогда можно было кидать самому и идти дальше. Падавшее как мешок тело противника едва удостаивалось взгляда[118].
Юнгер мог бы написать процитированный выше фрагмент про наступление пехоты. Но у Гумилева ницшеанский ледяной пафос, от которого так быстро, без запаха, сворачивается пролитая кровь, сразу же смягчается: «Мы были совсем не похожи на олимпийцев». Ницше соединяется с Толстым — парадоксальный союз. Видимо, по-русски почти невозможно писать о войне без оглядки на Толстого. Не то чтобы войны, которые вела в XX веке Россия, напоминали 1812 год, но их описывали для нас люди, выросшие на «Войне и мире».
Однако при сравнении записок Гумилева с военными дневниками современных ему русских писателей различие оказывается еще больше. Например, Л. Н. Войтоловский, который был так суров к «Жемчугам», служил военным врачом на том же, что и Гумилев, фронте, в Польше, и в то же время. Он в своей книге «Всходил кровавый Марс» (многократно переиздававшейся в 20–30-е годы) также описывает свои беседы и с ксендзами, и с юными польскими паннами. Но в разговорах с Войтоловским они почему-то все больше объяснялись в яростной ненависти к варварской России и ее армии. Впрочем, и сам автор готов отчасти эту ненависть разделить.
Офицер душой крепостник. Конечно, это не прежний секунд-майор и кнутобоец; но даже самый либеральный из военных говорунов за порогом военного собрания превращается в плантатора или негритянского царька. «Руки по швам! Руки по швам!» — этой фразой исчерпывается все мировоззрение офицера… Ведь ни один народ в мире не додумался до «заговора на поход к лютому командиру»:
«…Буди у меня, раба божьего, солдата негожего, сердце мое — лютого зверя, гортань львиная, челюсть — волка порыскучего… И буди у начальника моего, супостата болотного, капитана пехотного, брюхо матерно, сердце заячье, уши тетеревиные, очи — мертвого мертвеца, а язык — повешенного человека; и не могли бы отворятися уста его и очи его возмущатися, ни ретиво сердце бранитися, ни рука его подниматися на меня…»
В подлинности «заговора» сомнений нет — Войтоловскому такого не придумать. Но почему Гумилев, который, в отличие от Войтоловского, был именно солдатом (пусть привилегированным, «вольнопером», но делившим общий соломенный тюфяк и общую кашу), ничего подобного не видит?
А вот что еще пишет Войтоловский о войне:
Вот стоит солдат с перебитой рукой и тупо, как грязная свинья, трется боком о дышло: раненая рука не дает ему возможности расправиться с назойливой вошью. Вот куча солдат у костра выжигает вшей из рубах и тут же, над котлами с картошкой, вытряхивает полуобгорелых паразитов. Может быть, следует сердиться на солдат за их отвратительную нечистоплотность? Может быть, еще более отвратительно то, что за братскими могилами, за буграми, где почивают в терновых венцах вчерашние герои и мученики, их боевые товарищи сегодня устроили отхожее место?.. Но когда молодые и сильные тела, как падаль, сваливаются в ямы, когда жирное воронье справляет радостный пир, а миллионы людей — обездоленные, голодные и неоплаканные — умирают в грязных и холодных окопах… когда собственными глазами видишь, что на смену XX веку быстро надвигаются XV, XIII, XI века, не веришь ни слуху, ни зрению и ко всему относишься с полным безразличием.
Какая же Первая мировая война «настоящая» — Гумилева или Войтоловского? Юнгера или Ремарка? И та, и другая. Никакой «объективной исторической реальности» не существует — по крайней мере, она непостижима для отдельного человека. Два писателя заочно, а может, и очно знакомых между собой, оказались в одно и то же время в одном и том же месте… И как будто — на разных планетах. Диалог между ними был просто невозможен. Гумилев в глазах Войтоловского был, вероятно, не только растленным эстетом, но и реакционером. Войтоловский в глазах Гумилева был, скорее всего, пошляком прогрессистом, идеологически зацикленным левым интеллигентом… Оба они видели половину правды. Или двадцатую, сотую, тысячную часть[119].
Исторически и политически правых и виноватых не было. Но Гумилев был прав — правотой поэта.
В той же «Биржевке» 12 мая было напечатано стихотворение Гумилева «Ода Д’Аннунцио». После разрыва Италией союза с Австрией и вступления в войну на стороне Антанты, 50-летний Габриэль Д’Аннунцио, великий поэт и авантюрист, вернулся на родину и стал комиссаром правительства по делам печати. В Генуе он произнес знаменитую речь, которая вдохновила его русского собрата на восторженные стихи. В них были и такие строки:
И в дни прекраснейшей войны, Которой кланяюсь я земно, К которой завистью полны И Александр и Агамемнон, Когда все лучшее, что в нас Таилось скупо и сурово, Вся сила духа, доблесть рас, Свои разрушило оковы…В 1915 году этот «милитаризм» еще не резал ничей слух, и либеральнейшая газета с радостью подобные стихи печатала.
А в декабре в «Собаке» Гумилев впервые читал с эстрады свое «Наступление»:
Та страна, что могла быть раем, Стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, Мы не ели четыре дня. Но не надо яства земного В этот страшный и светлый час, Оттого что Господне слово Лучше хлеба питает нас.Эти стихи вписывались в общий поэтический хор времени. Хотя на самом деле они — о другом. (Ведь и стихи к Д’Аннунцио на самом деле не о войне, а о том, что «вольные народы живут, как образы стихий, ветра, и пламени, и воды».)
Конечно, поэт, писавший: «золотое сердце России мерно бьется в груди моей» — был искренен. Просто и приятно отождествлять себя с «Россией торжествующей». Но здесь было что-то большее, чем просто патриотическая эйфория. Все, написанное Гумилевым во второй половине 1914-го и начале 1915 года, пропитано ощущением праздника. Физические лишения и чувство опасности пьянили, давали то чувство внутренней свободы, которого поэт тщетно пытался достичь в предыдущие месяцы, а может, и годы. И в этом опьянении перед ним раскрывались те пространства, те дали, которых его муза искала так долго.
Как могли мы прежде жить в покое И не ждать ни радостей, ни бед, Не мечтать об огнезарном бое, О рокочущей трубе побед. Как могли мы… но еще не поздно, Солнце духа наклонилось к нам, Солнце духа благостно и грозно Разлилось по нашим небесам.Это стихотворение (может быть, центральное в его творчестве в этот период) Гумилев цитирует в «Записках кавалериста».
Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки:
Расцветает дух, как роза мая, Как огонь, он разрывает тьму, Тело, ничего не понимая, Слепо повинуется ему.Мне чудилось, что я чувствую душный аромат этой розы, вижу красные языки огня.
Год спустя, в новой редакции «Пятистопных ямбов», он не отречется от этого счастья:
…Я пошел, и приняли меня, И дали мне винтовку и коня, И поле, полное врагов могучих, Гудящих грозно бомб и пуль певучих, И небо в молнийных и рдяных тучах. И счастием душа обожжена С тех самых пор; веселием полна И ясностью, и мудростью, о Боге Со звездами беседует она, Глас Бога слышит в воинской тревоге И Божьими зовет свои дороги.Этот рай скитаний и опасности — вместо утопии Цеха, вместо священного и радостного труда, гордого участия в строительстве Храма… Но и война предстает у Гумилева в это время священным и радостным трудом:
Тружеников, медленно идущих На полях, омоченных в крови, Подвиг сеющих и славу жнущих, Ныне, Господи, благослови.Эти стихи посвящены взводному командиру Гумилева — Михаилу Михайловичу Чичагову. Вероятно, он был одним из тех, о ком Гумилев говорит в «Записках кавалериста» (по случайности, этим словам суждено было завершить известный нам текст «Записок»):
Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать «в гражданстве северной державы», то они незаменимы «в ее воинственной судьбе», а поэт знал, что это — одно и то же.
Сам Гумилев таким не был. Его труд был — на строительстве словесного Храма (или Вавилонской башни?). Но ему зачем-то нужно было снова и снова примерять на себя чужую судьбу.
4
В январе 1915 года Гумилев снова приезжает в Петроград. Здесь он встречает Мандельштама (вернувшегося из Варшавы, где тот безуспешно пытался определиться в армию санитаром) и других своих друзей-поэтов. Отношение к нему резко (хотя и ненадолго) меняется. Теперь он — герой, гордость петербургского поэтического мира, человек-легенда. 27 января в «Собаке» состоялся «вечер поэтов при участии Н. Гумилева (стихотворения о войне и пр.)». Так и было сказано в афише: «вечер при участии Гумилева», хотя среди других участников были Ахматова, Кузмин, Городецкий, Мандельштам и популярнейшие «сатириконцы» — Потемкин и Тэффи. На следующий день в гостях у Лозинского Ахматова впервые прочитала друзьям (Шилейко, Недоброво, Чудовскому) поэму «У самого моря». Гумилев наверняка уже знал ее (и Недоброво тоже — в эту зиму он был одним из самых близких к Ахматовой людей): поэма была написана несколькими месяцами раньше.
В начале февраля Гумилев снова в армии — и снова в бою. Из Южной Польши, где наступило затишье, улан перебросили обратно в Литву — в те места, которые они вынуждены были оставить в роковом августе 1914-го, накануне прибытия Гумилева. С 12 по 27 февраля полк участвовал в тяжелой и кровопролитной Сейненской операции. 24 февраля уланы взяли было город Краснополь, но под ударом противника вынуждены были отойти.
Гумилев и Ахматова с сыном, 1915 год
Теперь война в записках Гумилева выглядит прозаичней. Юнгера меньше, Толстого больше. Даже героические эпизоды отдают «Войной и миром», а не «Гибелью богов».
Проезжая лесом, мы увидели пять невероятно грязных фигур с винтовками, выходящих из густой заросли. Это были наши пехотинцы, больше месяца тому назад отбившиеся от своей части и оказавшиеся в пределах неприятельского расположения. Они не потерялись: нашли чащу погуще, вырыли там яму, накрыли хворостом, с помощью последней спички развели чуть тлеющий огонек, чтобы нагревать свое жилище и растаивать в котелках снег, и стали жить Робинзонами, ожидая русского наступления. Ночью поодиночке ходили в ближайшую деревню, где в то время стоял какой-то германский штаб. Жители давали им хлеба, печеной картошки, иногда сала. Однажды один не вернулся. Они целый день провели голодные, ожидая, что пропавший под пыткой выдаст их убежище и вот-вот придут враги. Однако ничего не случилось: германцы ли попались совестливые, или наш солдатик оказался героем, — неизвестно. Мы были первыми русскими, которых они увидели. Прежде всего они попросили табаку. До сих пор они курили растертую кору и жаловались, что она слишком обжигает рот и горло.
Вообще такие случаи не редкость: один казак божился мне, что играл с немцами в двадцать одно.
Как унтер-офицер, Гумилев теперь принимает участие даже в «военных советах» — на уровне роты, разумеется. У него появляются знакомые офицеры — не из 1-го эскадрона, где он служил, а из 2-го. Некто Н. Скалон — «старший офицер, человек большой эрудиции» — часто зовет столичного поэта к себе в блиндаж «выпить стакан вина» и почитать стихи (свои и Ахматовой)[120]. Из товарищей-вольноопределяющихся он близко сходится с Ю. Янишевским, страстным путешественником и велосипедистом, которого он приглашает принять участие в будущей экспедиции на Мадагаскар.
Михаил Струве, 1910-е
Может быть, в каком-то отношении служба и стала легче. Но зимняя и весенняя кампания была тяжела по другим причинам. Стихии Западного Края восстали против русской армии. Официальные донесения из Литвы беспрерывно говорят в феврале — марте о мокром снеге, метели, мешающей стрельбе, страшном тумане, сырости. Об этом пишет и Гумилев в своих «Записках».
С 28 марта уланы удерживают деревню Лейпуны. 2–3 марта начинается трудное наступление. Для Гумилева оно стало роковым. 2 марта, накануне наступления, он едет в дальний разъезд во главе с корнетом князем С. А. Кропоткиным и тяжело простужается.
Мы наступали, выбивали немцев из деревень, ходили в разъезды, я тоже проделывал все это, но как во сне, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару. Наконец, после одной ночи, в течение которой я, не выходя из халупы, совершил по крайней мере двадцать обходов и пятнадцать побегов из плена, я решил смерить температуру. Градусник показал 38,7.
Я пошел к полковому доктору. Доктор велел каждые два часа мерить температуру и лечь, а полк выступал. Я лег в халупе, где оставались два телефониста, но они помещались с телефоном в соседней комнате, и я был один. Днем в халупу зашел штаб казачьего полка, и командир угостил меня мадерой с бисквитами. Он через полчаса ушел, и я опять задремал. Меня разбудил один из телефонистов: «Германцы наступают, мы сейчас уезжаем!» Я спросил, где наш полк, они не знали. Я вышел во двор. Немецкий пулемет, его всегда можно узнать по звуку, стучал уже совсем близко. Я сел на лошадь и поехал прямо от него.
Темнело. Вскоре я наехал на гусарский бивуак и решил здесь переночевать. Гусары напоили меня чаем, принесли мне соломы для спанья, одолжили даже какое-то одеяло. Я заснул, но в полночь проснулся, померил температуру, обнаружил у себя 39,1 и почему-то решил, что мне непременно надо отыскать свой полк. Тихонько встал, вышел, никого не будя, нашел свою лошадь и поскакал по дороге, сам не зная куда.
Это была фантастическая ночь. Я пел, кричал, нелепо болтался в седле, для развлеченья брал канавы и барьеры. Раз наскочил на наше сторожевое охранение и горячо убеждал солдат поста напасть на немцев. Встретил двух отбившихся от своей части конноартиллеристов. Они не сообразили, что я — в жару, заразились моим весельем и с полчаса скакали рядом со мной, оглашая воздух криками. Потом отстали. Наутро я совершенно неожиданно вернулся к гусарам. Они приняли во мне большое участие и очень выговаривали мне мою ночную эскападу.
Весь следующий день я употребил на скитанья по штабам: сперва — дивизии, потом бригады и, наконец, — полка. И еще через день уже лежал на подводе, которая везла меня к ближайшей станции железной дороги. Я ехал на излечение в Петроград.
Гумилев никогда не отличался крепким здоровьем. Но разделявшиеся им представления о мужской доблести требовали небрежного отношения к своим недомоганиям. Все это не проходило даром. Ночная скачка с 39-градусной температурой стоила ему воспаления почек. Пролежав две недели в лазарете на Введенской улице (на Петроградской стороне), он самовольно вышел на улицу. Это привело к новому обострению болезни.
В лазарете Гумилев познакомился с лечившимся там молодым поэтом Михаилом Струве, чей дядя, Петр Бернгардович Струве, был виднейшим экономистом, депутатом 2-й Думы от кадетов и редактором журнала «Русская мысль», в котором Гумилев иногда печатался. С молодым Струве Гумилева сближало увлечение не только поэзией, но и шахматами — хотя вряд ли он, несмотря на дружбу со Зноско-Боровским, был особенно сильным игроком.
План дома Гумилевых на Малой улице в Царском Селе.
Рисунок П. Н. Лукницкого, 1920-е. Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Сестрой милосердия в лазарете служила Анна Леонтьевна Бенуа, дочь и внучка архитекторов и племянница живописца. Между ней и Гумилевым, по всей вероятности, «ничего не было», и едва ли он был сколько-нибудь серьезно увлечен ею, но пройти мимо красивой девушки, не проявив подобающей галантности, поэт не мог. Памятником общения с Анной Бенуа стали два стихотворения — «Сестре милосердия» и «Ответ сестры милосердия». Мотив «сестры милосердия» — один из самых распространенных в массовой поэзии военных лет. В журналах и сборниках появлялось немало опусов на эту тему — от стихотворения Л. Афанасьева с энергичной первой строчкой «Лежал я в поле средь трупов смрадных» до произведения Городецкого с кинематографическим названием «Прибытие поезда». Если эти авторы воспевали самоотверженных русских «сестричек», то Петра Потемкина вдохновило газетное сообщение о коварных тевтонских сестрах милосердия, якобы добивающих раненых солдат. Сатириконец написал на эту тему мрачную балладу, которую наверняка читал на «вечере с участием Гумилева». Гумилев пытается найти свой подход к теме, но не слишком удачно. Противопоставление мужского и женского начала выглядит здесь наивным и плакатным, да и стих не по-гумилевски неловок:
Нас рождали для муки крестной, Как для светлого счастья вас, Каждый день, что для вас воскресный, То день страдания для нас. Солнечное утро битвы, Зов трубы военной — вам, Но покинутые могилы Навещать годами нам.Пару раз его выпускают на несколько дней домой, в Царское Село. Именно к этому времени относится знаменитая фотография Гумилева и Ахматовой с сыном. Но отдых затягивался, а поэт рвался на фронт. Он стал уже настоящим кавалеристом. По воспоминаниям Ахматовой, во сне он кричал «по коням» и для собственного удовольствия на лошадь уже не садился: «Я же не морской офицер». Косолапая походка наездника осталась у него до самой смерти.
Однако с возвращением в армию возникли проблемы. После перенесенной болезни Гумилев был признан негодным к дальнейшей службе. Снова, как десятью месяцами раньше, он добивается повторного освидетельствования — и в мае направляется в свой полк.
В мае-июне уланы по существу отдыхали. Но 27 июня полк был направлен во Владимир-Волынский, на австрийский фронт. На сей раз Гумилеву пришлось участвовать в отступлении русской армии. В начале 1915 года положение на юго-западе складывалось для России вроде бы благоприятно. 9 (22) марта пал Перемышль — крепость со 120-тысячным гарнизоном. Это было преподнесено военной пропагандой как решающая победа. В русской прессе активно обсуждались планы воссоединения разделенной некогда Польши и ее грядущей автономии под сенью царской короны. Австрия, со своей стороны, строила аналогичные планы и тоже обещала полякам автономию.
В апреле произошел перелом. Фронт под Горлице был прорван, началось наступление немцев и австрийцев, с трудом сдерживавшееся русской армией. Отступление продолжалось до октября, когда фронт был стабилизирован по линии Рига — Западная Двина — Двинск — Сморгонь — Барановичи — Дубно — река Стрыпа. После этого война на Востоке стала, как на Западе, окопной.
Прибыв на позиции, полк расположился по берегу Западного Буга. 5–6 июля состоялось сражение у деревни Джарки. Сам Гумилев называет его «самым знаменательным днем своей жизни». Но начался этот день, когда поэт заработал второго Георгия, с беспорядочного и хаотического отступления, которое Гумилев описывает вполне реалистически, не гнушаясь неблагоуханными подробностями:
За сараем я заметил корчившегося на земле улана. «Ты ранен?» — спросил я его. «Болен… живот схватило!» — простонал он в ответ.
«Вот еще, нашел время болеть! — начальническим тоном закричал я. — Беги скорей, тебя австрийцы проколют!» Он сорвался с места и побежал; после очень благодарил меня, но через два дня его увезли в холере.
И еще одна деталь, показывающая огромную разницу, все же существующую между двумя мировыми войнами, между Россией пред- и послереволюционной. Гумилев с болью описывает раненого офицера, которого пришлось оставить на поле боя, и прибавляет: «К счастью, мы теперь знаем, что он в плену и поправляется».
Гумилев был единственным, кто откликнулся на просьбу командира и помог солдату-пулеметчику тащить его орудие, а идти пришлось более версты. Дойдя до леса, уланы удерживали позиции под напором пятикратно превосходящего противника до подхода подкрепления (пехоты). «Счастье ваше, что не немцы, а австрийцы», — сказали подошедшие пехотинцы кавалерийцам. У австрийев была репутация неважных вояк.
За этот бой восемьдесят шесть улан было награждено Георгиевскими крестами. Но ждать награждения Гумилеву пришлось на сей раз до декабря…
6–10 августа он получил отпуск и вновь приезжал в Царское Село. Потом еще полтора месяца участвовал в позиционных боях и в медленном отступлении. Судя по письмам, он упорно заставлял себя верить в так тщательно продуманный и красочно описанный заранее интернациональный марш по берлинским улицам. «Сейчас, несмотря на все отходы, наше положение ничем не хуже, чем в любой из прежних моментов войны. Мне кажется, я начинаю понимать, в чем дело, и больше чем когда-либо верю в победу», — пишет он 25 июля Ахматовой. Между боями он читает «Илиаду», которая еще три года назад учила его уважать «современность». «У ахеян тоже были и окопы, и заграждения, и разведка. А некоторые сравнения сделали бы честь любому модернисту. Нет, не прав был Анненский, говоря, что Гомер как поэт умер». Но никакого, даже скрытого, пафоса больше нет ни в письмах его, ни в последних «Записках кавалериста». Опьянение проходит. Труд войны становится рутинным и печальным.
22 сентября он, как заслуженный и дважды награжденный унтер-офицер, был отправлен в Петроград в школу прапорщиков — вероятно, при Николаевском кавалеристском училище (Лермонтовский проспект, 54). С началом войны было создано множество таких школ, наскоро готовящих офицерские кадры для действующей армии из боевых унтер-офицеров, имеющих высшее образование. Жить ему разрешалось дома, в Царском Селе. Дом на Малой улице изменился: комнаты, которые прежде занимали Гумилев и Ахматова, были сданы дальней родственнице хозяйки; теперь Ахматова поселилась в бывшем кабинете мужа, среди картин абиссинских художников и шкур африканских зверей. Сам Гумилев занял небольшую комнатку на втором этаже. Супруги жили в одном доме, но порознь, не мешая друг другу.
После полугода обучения, 28 марта 1916 года, Николай Гумилев был произведен в первый офицерский чин.
5
Пока Гумилев воевал, у него становилось все больше доброжелателей и все меньше врагов. Шилейко воспевал его «труды» и «вериги», которые он носит, в восторженных (несохранившихся) стихах. Лозинский ждал от него «мудрых, солдатских слов». Это — друзья, но и те, кто еще недавно нападал на акмеизм и смеялся над африканскими путешествиями, вдруг подобрели.
Через Ахматову доброжелательное письмо акмеисту-добровольцу передал Сологуб. Гумилев не обольщался произошедшей переменой.
Письмо его меня порадовало, хотя я не знаю, для чего он его написал, — пишет он Ахматовой. — А уж наверно для чего-нибудь! Впрочем, я думаю, что оно достаточная компенсация за его поступки по отношению лично ко мне, хотя желанье «держаться подальше от акмеистов» до сих пор им не искуплено.
Тем не менее по настойчивой просьбе Ахматовой он отвечает «старику» столь же любезно:
Горячо благодарю Вас за Ваше мнение о моих стихах и за то, что Вы пожелали мне его высказать. Это мне тем более дорого, что я всегда Вас считал и считаю одним из лучших вождей того направленья, в котором протекает мое творчество. До сих пор ни критика, ни публика не баловали меня своей симпатией. И мне всегда было легче думать о себе как о путешественнике или воине, чем как о поэте, хотя, конечно, искусство для меня дороже и войны и Африки. Ваши слова очень помогут мне в трудные минуты сомненья, которые, вопреки Вашему предположенью, бывают у меня слишком часто.
Письмо написано на другой день после боя при Джарке, и Гумилев не забывает сделать приписку: «Простите меня за внешность письма, но я пишу с фронта. Всю эту ночь мы ожесточенно перестреливались с австрийцами, сейчас отошли в резерв и нас сменили казаки; отсюда слышно и винтовки и пулеметы». В августе, во время побывки дома, Гумилев с Ахматовой посетили организованный Сологубом вечер в пользу ссыльных социал-демократов. Гумилев, который был в военной форме, счел для себя неудобным выступать на политически окрашенном вечере, но Ахматова прочитала несколько стихотворений, оказав, таким образом, посильную материальную помощь как раз находившемуся в Туруханске И. В. Сталину-Джугашвили.
В этих, казалось бы, благоприятных условиях Гумилев осенью, по приезде в Петербург, возобновляет активную литературную работу. Время от времени он собирает у себя в Царском Селе поэтов и филологов — Мандельштама, Лозинского, Шилейко и Жоржиков, Михаила Струве. Он вновь руководит литературным отделом «Аполлона», и уже начиная с декабря там появляются новые «Письма о русской поэзии».
Мария Левберг. Фотография М. С. Наппельбаума, 1918 год
Первое из «Писем» начинается рецензией на стихи молодой поэтессы Марии Левберг:
Стихи Марии Левберг слишком часто обличают поэтическую неопытность их автора. В них есть почти все модернистические клише, начиная от изображения себя, как рыцаря под забралом, и кончая парижскими кафе, ресторанами и даже цветами в шампанском. Приблизительность рифм в сонетах, шестистопные строчки, вдруг возникающие среди пятистопных, — словом, это еще не книга, а только голос поэта, заявляющего о своем существовании.
Однако во многих стихотворениях чувствуется подлинно поэтическое переживание, только не нашедшее своего настоящего выражения. Материал для стихов есть: это — энергия в соединении с мечтательностью, способность видеть и слышать и какая-то строгая и спокойная грусть, отнюдь не похожая на печаль.
К моменту встречи с Марией Левберг (настоящее ее имя — Мария Евгеньевна Купфер, по мужу Ратькова) Гумилев был «свободен». В свои предыдущие приезды в Петербург он, несмотря на нежную переписку с Ахматовой, не забывал встретиться с Татьяной Адамович. Но к концу года эти отношения тихо изжили себя. Анну Андреевну все это, видимо, интересовало мало — гораздо меньше, чем собственные драматичные и запутанные отношения с Николаем Недоброво и Борисом Анрепом. Любовная жизнь у каждого из супругов была своя: с этим они уже примирились. К тому же 1915 год был в жизни Ахматовой очень непростым. Весной, живя в Петербурге, на Большой Пушкарской улице, в сырой и темной квартире, она простудилась, заболела бронхитом; болезнь долго не проходила, и наконец, уже в августе, в Царском Селе, был поставлен диагноз: туберкулезный процесс в верхушке легкого. От туберкулеза умерла старшая сестра Ахматовой, Инна Штейн. Надо было ехать лечиться в Крым, но тут пришло сообщение о тяжелой болезни отца. (Отношения с Андреем Антоновичем к тому времени наладились, он часто бывал в Царском, гораздо теплее, чем прежде, общался с зятем.) Ахматова отправилась в Петербург и провела у постели больного двенадцать дней вместе с его гражданской женой, Еленой Ивановной Страннолюбской. 25 августа, незадолго до приезда Гумилева в Петербург, А. А. Горенко скончался. В Крым Ахматова тогда не поехала. 15–30 октября она лечилась в санатории в Хювиньке в Финляндии; больше не выдержала — попросила Гумилева забрать ее оттуда. Но в 1916 году она подолгу живет в родном для себя Севастополе. Болезнь окончательно прошла лишь через десять лет.
С Марией Левберг Гумилев познакомился на одном из «Вечеров Случевского». В конце 1915-го ей было немного за двадцать, но она уже успела овдоветь (муж ее, военный врач, погиб на фронте). Среди подруг Гумилева она была единственной вдовой — и среди них не было, сколько известно, ни одной замужней женщины. Месть Командора ему, стало быть, не грозила.
Маргарита Тумповская, 1910-е
Лирические стихи Марии Левберг были написаны от лица мужчины, что не мешало им быть вполне «девичьими»:
Вы были вчера так милы со мной, Показались совсем другой, Нежной и ласковой, Опускали глазки Вы, Словно гимназистка пятого класса. Восхищались сладостью ананаса, Бросали в шампанское цветы И из роз, Которые я вам поднес, Пили со мной на «ты».Позднее она писала пьесы («Шпага кавалера», «Дантон»), а после революции составляла историко-революционные брошюры по заказам Общества политкаторжан. Умерла она в 1934 году, всего сорока лет от роду.
Памятником короткого романа с Левберг стало посвященное ей стихотворение Гумилева «Змей». Вскоре отношения прервались — по инициативе дамы (Гумилев изменял женщинам, но не бросал их — бросали его). В жизни Гумилева место Левберг заняла на некоторое время Маргарита Марьяновна Тумповская, тоже поэтесса. Отец Тумповской, врач, служил в клинике М. Я. Ауслендера. Биография Тумповской похожа на биографии многих интеллигентов ее поколения, счастливейшего и несчастнейшего во всей русской истории: молодость в блестящем кругу предреволюционной богемы, заурядные, но культурные стихи, так и не поставленные пьесы (драма в стихах «Дон Жуан» была в 1990 году напечатана в малотиражном ленинградском журнале «Сумерки»), непременное увлечение антропософией, а потом — переводы, литературная халтура, стихи, написанные «в стол», поздний брак со Львом Гордоном (тоже переводчиком и непечатным поэтом), арест мужа, нищета, смерть в эвакуации… Дочь Тумповской, М. Л. Козырева, писатель и литературовед, занималась среди прочего и творчеством Гумилева.
Близкие отношения с Тумповской продолжались до лета 1916 года. Сохранились ее отрывочные свидетельства, записанные другой гумилевской возлюбленной — Ольгой Мочаловой. Надо признать, что в этих свидетельствах Тумповской Гумилев выглядит довольно заурядным ловеласом: «Его взгляды на женщину были очень банальны. Покорность, счастливый смех…» «Когда, наконец, добиваться уж больше было нечего, он облегченно вздохнул — «надоело ухаживать!» Вполне возможно, что нежная и женственная Тумповская должна была оттенить и оценить мужественность и независимость поэта-солдата, засвидетельствованную двумя Георгиевскими крестами. С такими женщинами Гумилев чувствовал себя уверенно. Но его сразу начинало тянуть к другим — жестким, волевым, маскулинным. Во всяком случае, следующей его любовью была Лариса Рейснер, будущая комиссарша, а в те годы — конечно, молодая поэтесса… Вся мужская жизнь Гумилева в пору его наиболее интенсивного «донжуанства» происходила как бы на полях его главной, литературной, жизни и была ее косвенным порождением. Большинство его возлюбленных — поэтессы: таков уж был круг знакомств.
Да и встречи с этими дамами происходили в основном на литературных вечерах и чтениях. Несмотря на военное время, культурно-светская жизнь столицы не останавливалась, хотя, к примеру, «Собаки» больше не было (в марте 1915-го она была закрыта за нарушение сухого закона), а пришедшее ей на смену кабаре «Привал комедиантов» было более коммерческим, менее «своим» и привлекательным для людей искусства, и Гумилев, кажется, бывал там очень редко. Вообще в эту зиму он вел более «домашний», чем прежде, образ жизни — слишком много времени провел он в предыдущий год в казармах, военных лагерях и на бивуаках.
Тем временем, в марте, выходит новая книга его стихов — «Колчан». На сей раз ее издает московское издательство «Альциона». Хозяин «Альционы», Александр Мелетьевич Кожебаткин, собственно, приехал поговорить со стремительно входившей в моду Ахматовой. Но та ответила, что у нее на новую книгу еще «нет материала», — а в этот момент спустился из своей комнатки наверху ее муж, и Кожебаткин уж и ему тоже сделал издательское предложение. Гумилев, подобными предложениями не избалованный, с радостью согласился. Но он не был бы Гумилевым, не посоветуй он издателю заодно книги своих друзей и учеников: «Горницу» Георгия Иванова, «Облака» Адамовича и «Горный ключ» Лозинского. По словам Ахматовой, Кожебаткин «для видимости согласился, а потом рассказывал всюду, что Гумилев подсовывает ему разных, неизвестных в Москве авторов» (Acumiana). Однако «Альциона» издала-таки и Лозинского, и Иванова, и Адамовича![121]
В течение года на «Колчан» появилось несколько рецензий. Как ни странно, едва ли не самая интересная из них (хотя и несколько многословная и путаная) принадлежит Тумповской. Она явно была умнее и глубже, чем полагалось «покорной и нежной» 25-летней красавице антропософке. Не случайно ее литературные суждения ценили всю жизнь товарищи, и даже с мужем своим она познакомилась именно при таких обстоятельствах — тот принес свои опыты ей на суд… Сложись все иначе, из нее мог бы выйти хороший критик.
Рецензия Тумповской появилась лишь в 1917 году, в 6–7 номере «Аполлона». К тому времени ее близкие отношения с поэтом были в прошлом, и она могла позволить себе трезвый и суровый взгляд на его стихи:
Только прочитав «Колчан», можно с полной ясностью почувствовать, что нельзя было до сих пор говорить о творчестве Гумилева. До этой книги мы знали только его отдельные образцы… Под действием прямого, четкого света, отброшенного «Колчаном», пределы его поэтического целого расширяются…
Поэтическая жизнь его прежних образов начиналась и кончалась в них же самих. Вещи двигались, но оставались мертвыми, и дух их не оживлял. Поэтическое прошлое Гумилева представляется мне музеем, где фантастические изображения по стенам застыли в позе стремительного движения.
Теперь это изменилось. В тот прежний мир, чудесный и неподвижный, ворвалась живая воля, и кажется, что поэт наконец приобщился своему творчеству и что голос его зазвучал заодно со словом.
Но «вместе с тем настойчивее, чем прежде, врываются противоречия в это творчество, совместившее в себе подлинную значительность и слабость, доходящую до беспомощности». Недостаток поэзии Гумилева Тумповская видит в том, что он стремится создавать «большую живопись» «эскизным приемом», принося «в жертву эффектам (и подчас ложным) гармонию целого».
Что касается выбора стихов, то Тумповская обращает внимание прежде всего на «военный» и «итальянский» циклы и на «Пятистопные ямбы», а из прежних стихов поминает «Капитанов» и «Открытие Америки». Увы! Другие критики не были прозорливее. Возможно, это был общий вкус эпохи, а может, вкус большинства читателей таков всегда. Гумилев-герой и Гумилев-эстет были понятнее Гумилева-метафизика и Гумилева-визионера. Остались незамеченными прекрасные и новаторские стихотворения, не обращенные к заведомо поэтическому и выигрышному материалу. В том числе, к примеру, «Вечер», лучше, чем десятки манифестов, характеризующий гумилевскую поэтику:
Как этот ветер грузен, не крылат! С надтреснутою дыней схож закат, И хочется подталкивать слегка Катящиеся вяло облака. В такие медленные вечера Коней карьером гонят кучера, Сильней веслом рвут воду рыбаки, Ожесточенней рубят лесники Огромные, кудрявые дубы… А те, кому доверены судьбы Вселенского движения и в ком Всех ритмов бывших и небывших дом, Слагают окрыленные стихи, Расковывая косный сон стихий.Вот подлинный пафос Гумилева — схватка с косностью материального мира, а не с леопардами или «тевтонами»!
Точно так же никто не оценил «Разговор», «Больного», «Дождь», цикл «Счастие» и даже «Солнце духа» — стихотворения, где уже более или менее отчетливо, хотя еще, может быть, не в полную мощь, слышен голос позднего, настоящего Гумилева.
Рецензия Бориса Эйхенбаума (Русская мысль. № 11) мало чем предсказывает будущие мускулистый слог и цепкую мысль великого филолога-формалиста. Как и Тумповская, он отмечает изменение миросозерцания и тематики Гумилева и в то же время промежуточный характер его новой книги. Поэт «изменил Музе Дальних Странствий» и обратился к современности, отказался от солнечного, оптимистического мировосприятия, которое Эйхенбаум отождествляет с акмеизмом, ради высокой тоски по неведомому.
Поэтический «колчан» Гумилева обновился — стрелы в нем другие. Но нужен ли ему теперь этот колчан? Не уместнее ли иной образ? Ведь стрелы эти ранят его собственную душу. И если Гумилев правда «взалкал откровенья» и «безумно тоскует», если он и в самом деле видит свет Фавора, то что-то должно измениться в самом его словоупотреблении. Пусть душа его, правда, почувствует «к простым словам вниманье, милость и благоволенье». Тогда мы поверим ей и ее новым видениям.
Софья Парнок (1885–1933), впоследствии незаурядная (поздно созревшая и недооцененная современниками) поэтесса, адресат нескольких знаменитых стихотворений Цветаевой, как критик выступавшая под псевдонимом Андрей Полянин, напротив, не увидела в книге Гумилева особенного шага вперед в сравнении с прежними его стихами. Но, «если в поэзии Гумилева и мало «символа величия» — того «высокого косноязычия», которое «как всякий благостный завет» даруется поэту, несомненно все же, что в многих строфах «Колчана» Гумилев точно начинает «чувствовать к простым словам вниманье, милость и благоволенье», а всякое истинное чувство заразительно» (Северные записки. 1916. № 4).
В большой работе Жирмунского «Преодолевшие символизм» (Русская мысль. № 12), которую Гумилев находил «лучшей статьей об акмеизме, написанной сторонним наблюдателем» (в то время как «другие» — но не Ахматова и не Мандельштам… возможно, Городецкий или Жоржики? — были ею недовольны), о «Колчане» содержится краткий, но вполне комплиментарный отзыв:
…Гумилев вырос в большого и взыскательного художника слова. Он и сейчас любит риторическое великолепие пышных слов, но он стал скупее и разборчивее в выборе слов и соединяет прежнее стремление к напряженности и яркости с графической четкостью словосочетания. Как все поэты «Гиперборея», он пережил поворот к более сознательному и рациональному словоупотреблению, к отточенному афоризму, к эпиграмматичности строгой словесной формулы.
Полвека спустя Жирмунский будто бы заметил в разговоре с молодым Бродским: «Я еще в 1914 году говорил, что Гумилев — посредственный поэт»[122]. Ничего такого он, естественно, не говорил, по крайней мере публично, но в его отзывах чувствуется некоторая принужденность и отстраненность: он явно ждал от Гумилева меньшего, чем от Ахматовой и Мандельштама. Однако сам поэт был доволен: «…Так хорошо обо мне еще не писали».
Не то чтобы Гумилев в это время испытывал недостаток в добрых словах… Но слишком часто хвалили его не те, чье доброе слово он хотел бы услышать, — и не за то, в чем он видел свою заслугу. Так, И. Гурвич (Вестник литературы. № 2) удовлетворенно отмечал, что «стихи Н. Гумилева написаны отчасти в тонах старой школы, простым, звучным и задушевным языком, — и в этом их главное достоинство. Темы тоже не блещут новизной, но и это является скорее плюсом, чем минусом. Уж очень приелись «новые» мотивы, где больше надуманности, чем поэтической красоты». Ср. относящееся к тому же времени высказывание самого поэта: «Неужели же наряду с другими традициями существует традиция бездарности, бессилия умственного и поэтического? И неужели эта традиция продолжает выдавать себя за какую-то пресловутую «старую школу»?»
Лишь один критик на сей раз резко напал на Гумилева — Н. Венгров из горьковской «Летописи» (1916, № 1). Тональность его рецензии напоминала прежние (довоенные) отзывы:
Стихи Н. Гумилева очень недурно сделаны — об этом говорить излишне. Выученик Брюсова с этой стороны достаточно зарекомендовал себя прежними своими книгами… Нет ни одного стихотворения, в котором не было бы серафимов, муз, архангелов, итальянских городов и других эстетических украшений… Почти вся книга столь шикарна, что может уступить разве что Игорю Северянину… Можно весьма откровенно рассказать о дыре в своей душе — это блестяще сделал своими блестящими стихами Н. Гумилев. Но говорить в таком же роде о войне — это выше всякой меры. Ведь война — не молочно-белый мрамор Каррары, ведь там люди умирают.
Отповедь Венгрову дал на страницах «Лукоморья» Городецкий. «Летопись» была изданием левым и пацифистским. «Лукоморье» — правым и «патриотическим», хотя и не совсем черносотенным. Издавал его М. А. Суворин, который попытался привлечь к сотрудничеству в богато иллюстрированном еженедельнике литераторов с именем. Согласились Леонид Андреев, Северянин, Сологуб… И, конечно, Городецкий.
Какой-то невежественный мальчик[123] из «Летописи» со свойственной этому серому журналу развязностью издевается над Гумилевым… Пусть ему будет стыдно… Гумилев… кавалер двух степеней ордена Святого Георгия, полученных за нынешнюю кампанию («Поэзия как искусство»).
Бывший «синдик» Цеха, ставший патриотическим бардом и «народником», с удивлением заметил, что акмеизм никуда не исчез, что о нем пишут большие — и уже не бранные! — критические статьи (в которых имя автора «Яри» и «Ивы», однако, уже не упоминается), что «Четки» имеют огромный успех и постоянно переиздаются… И Городецкий попытался вновь выступить от имени акмеистов, интерпретировав их поэзию в «лукоморском» духе. Лично для него это было тем более актуально, что группа «Краса» как раз распалась: умный и по-своему циничный Клюев использовал «застрельщика с именем» на определенном этапе своей литературной карьеры и больше в нем не нуждался.
Поколение, родившееся до войны и для войны… не было заражено нигилизмом. Наоборот, оно желало великой и обильной своей земле порядка. Оно обладало волей. Оно ставило себе цели и достигало их. В мире техники оно дало авиаторов, химиков, физиков, изобретателей… В области поэзии оно дало целый ряд поэтов, имеющих право называться школой.
Не важно, как называли или называют себя эти поэты — акмеистами, адамистами, цеховиками, — не важно, что уже более года как закончилась их совместная работа. Важно, что в 11, 12, 13 годах нашелся круг людей, решивших мобилизовать свои разрозненные силы. В этой мобилизации можно смело видеть предчувствие и прообраз всеобщей русской мобилизации 14 года.
Едва ли этот спекулятивный взгляд на акмеизм был близок Гумилеву (тем более что в той же статье Городецкий ни за что ни про что называет Кожебаткина, бескорыстного издателя поэтических книг, «юрким предпринимателем»). И едва ли ему понравилось бы, что Георгий Чулков — не худший и не глупейший из критиков — сводит все мотивы его новой книги к одному:
…Толстовское непонимание войны в большей или меньшей степени, несмотря ни на какие философические отговорки, свойственно почти всем современникам. Нелицемерно принимают войну как таковую, войну как «рыцарское и благородное» состояние, а не как необходимое, но всегда ужасное зло, лишь люди такого душевного строя, который вовсе не созвучен новой жизни, новой культуре, новому религиозному сознанию. Гумилев один из них. Он даже не подозревает возможность рефлексии в деле войны. Он до конца искренен в своей любви к бранной славе… Стихов, посвященных войне, немного в книгах поэта, но ко всему в этом мире он подходит, как воин, которого на время отпустили из стана, чтобы он отдохнул и пображничал.
Эта рецензия не была в свое время опубликована (она увидела свет лишь в 1980 году), но она достаточно характерна.
В статьях Городецкого и Чулкова уже заметны элементы той вульгарной интерпретации поэзии Гумилева, которая стала общепринятой в советское время. Вытравить из памяти культуры фальшивый образ бравого «офицера и патриота» так же трудно, как образ лубочного «охотника на львов».
6
Но пока что Гумилев действительно стал членом офицерского корпуса русской армии. Правда, статус прапорщика был несколько двусмыслен. «Курица — не птица, женщина — не человек, прапорщик — не офицер» — заключительная часть этой неполиткорректной максимы, приписывающейся Петру Великому, была реализована в советское время, когда звание прапорщика стало, по-старому говоря, унтер-офицерским. В царскую же эпоху это был чин 14-го класса, соответствовавший на статской службе коллежскому регистратору (Самсону Вырину) и приносивший до николаевских времен личное дворянство. С 1887 года в мирное время в прапорщики вообще не производили: первым чином, который давался выпускникам военных училищ, был подпоручик. «Прапорщик военного времени» — это был офицер, конечно, но несколько второго сорта: «курица — не птица». И все же доброволец-белобилетник сумел пройти за полтора года путь от рядового до пусть даже такого офицера! Карьера литератора и тем более этнографа-африканиста складывалась у Гумилева медленнее и труднее. Но для него самого наверняка было не менее важно другое: он оказался теперь в одном боевом братстве, одном рыцарском ордене с Денисом Давыдовым и Батюшковым, Державиным и Фетом, Лермонтовым и молодым Толстым…
К тому же теперь он был не уланом, а гусаром. Как много значит это слово для русского уха! И не только для русского… Вечное братство связывает в веках маршала Ланна, воскликнувшего: «Гусар, который не убит в тридцать лет, — не гусар, а баба!» (и убитого в сорок), и его боевых врагов, таких же бесшабашных:
…Если мы когда-нибудь Шаг уступим, побледнеем, Пожалеем нашу грудь И в несчастье оробеем… …………………………… Пусть не сабельным ударом Пресечется жизнь моя! Пусть я буду генералом, Каких много видел я! ………………………….. Пусть мой ус, краса природы, Черно-бурый, в завитках, Иссечется в юны годы И исчезнет, яко прах!Слово «гусар» венгерского происхождения и происходит от слов hush (двадцать) и ar (жалованье). При короле Матиаше Корвине, в XV веке, на каждые двадцать жителей феодал или вольный город должен был снарядить одного всадника. В Россию слово это пришло с Балкан вместе с сербскими, валашскими, далматскими, македонскими воинами, перешедшими в XVIII веке на службу к Белому царю. Первоначально, до 1787 года, «гусарскими» назывались только этнические воинские формирования. Александрийский легкоконный полк, в который 28 марта 1916 года был зачислен Гумилев, был создан в 1801-м на основе Далматского полка. Память о венгерско-балканских корнях и русских, и австрийских, и французских гусар сохранилась в их ярко расшитых мундирах.
Гусары бывали и армейскими, и гвардейскими, но в 1882 году армейские гусарские полки были (как и уланские) переименованы в драгунские, и с тех пор гусары остались лишь в гвардии. Александрийский лейб-гвардейский гусарский полк, шефом которого, как и шефом лейб-гвардии улан, была императрица, стяжал славу в Наполеоновских походах и войнах с Турцией (вплоть до Крымской). Одно время его командиром был знаменитый А. П. Тормасов. Отличительной чертой александрийских гусар были меховые шапки, украшенные серебряным черепом и перекрещенными костями — знаком бесстрашия и презрения к смерти. Оттого александрийцев и звали «гусарами смерти»…
Гумилев прибыл на новое место службы в начале апреля. Десятого числа он был зачислен в 4-й эскадрон.
Мы мало знаем о службе Гумилева в гусарском полку: писать «Записки кавалериста» в Александрийском полку ему запретили, а сослуживцы могли вспомнить немногое. Будто бы Гумилеву покровительствовал командир полка полковник А. Н. Коленкин — на полковых пирушках он просил Гумилева почитать стихи, «но многие посмеивались над его манерой чтения». С симпатией относился к нему и командир эскадрона, подполковник Аксель фон Радецкий; когда Радецкий сдавал команду ротмистру Мелик-Шахназарову, Гумилев написал в честь бывшего командира «экспромт», который зачитал на торжественном обеде. Все-таки невозможно представить себе Блока или Мандельштама, читающих стихи на полковой пьянке и тем более — сочиняющих похвальные вирши начальству! Но Гумилев не видел в этом унижения ни для себя, ни для своего святого ремесла.
Офицеры, услышав о роде занятий своего нового сослуживца, считали своим долгом задавать ему «профессиональные» вопросы:
А вот скажите, правда ли это, или это мне кажется, что наше время бедно значительными поэтами? — начал я. — Вот, если мы будем говорить военным языком, то мне кажется, что «генералов» среди поэтов нет.
— Ну нет, почему так? — заговорил с расстановкой Гумилев. — Блок вполне «генерал-майора» вытянет.
— Ну, а Бальмонт в каких чинах, по-вашему, будет?
— Ради его больших трудов ему «штабс-капитана» дать можно.
— Мне думается, что лучшие поэты перекомбинировали уже все возможные рифмы, — сказал я, — и остальным приходится повторять старые комбинации.
— Да, обычно это так. Но бывают и теперь открытия новых рифм, хотя и очень редко. Вот и мне удалось найти шесть новых рифм, прежде ни у кого не встречавшихся.
Характернее всего завершающий воспоминания В. А. Каразина, откуда взят только что приведенный эпизод, пассаж: «Тогда он был для нас, однополчан, только поэтом. Теперь же, после его мужественной и славной кончины, он встал перед нами во весь свой духовный рост, и мы счастливы, что он был в рядах нашего славного полка».
Что уж тут говорить… В среде добровольцев-«вольноперов» положение Гумилева было более естественным, чем среди гвардейских офицеров — людей с жестким кастовым, корпоративным сознанием, не слишком почтительно, судя по всему, относившихся к «только поэту».
Впрочем, весной 1916 года Гумилев провел в «славном полку» меньше месяца… Уже 6 мая он вновь тяжело простудился, заболел бронхитом и был отправлен в Петроград.
Если полутора годами раньше Гумилев мучительно переживал невозможность исполнять свой долг на фронте, то теперь его отношение к войне, кажется, изменилось. Она затянулась — и все меньше походила на тот кровавый карнавал, который видел в ней Гумилев поначалу.
Письмо Н. Гумилева к М. Тумповской, 5 мая 1916 года
В день зачисления поэта в Александрийский полк в газете «Одесский листок» было напечатано невесть как попавшее туда его стихотворение «Немецкий рабочий». «Немецкий» — конечно, уточнение для военной цензуры, — в дальнейших публикациях этот эпитет исчез.
Он стоит пред раскаленным горном, Невысокий старый человек. Взгляд спокойный кажется покорным От миганья красноватых век. Все товарищи его заснули, Только он один еще не спит: Все он занят отливаньем пули, Что меня с землею разлучит.Не возрождение древних доблестей, не победа духа Ахилла и Агамемнона над тем, что ныне называют «массовым обществом» и «массовым человеком», а окончательное и неизбывное торжество посредственности и толпы, конец героизма, обезличивание смерти — вот что принесла Первая мировая война. Эрнст Юнгер принял и по-своему интерпретировал это, написав знаменитую книгу тоже под названием «Рабочий» — Der Arbeiter. Для Гумилева торжество «рабочего» — не новая надежда, как для Юнгера, а крушение выношенного всей жизнью идеала. «Невысокий старый человек» не вызывает у него ни ненависти, ни презрения — но даже Дон Кихоту не удается вечно видеть замки на постоялых дворах…
Первая мировая война стала войной «неизвестных солдат». Первые памятники Неизвестному солдату появились после нее — на Западе; и два великих русских поэта, независимо друг от друга, отозвались на это известие. Первый — Ходасевич, создавший «Джона Боттома»; второй — Мандельштам.
Неподкупное небо окопное — Небо крупных оптовых смертей…Может быть, в 1916 году Гумилев, прошедший войну поистине «с гурьбой и гуртом», увидел это небо — вместо «развернутого свитка Кабалы». Так или иначе, на фронт он больше не рвется; с другой стороны, теперь его никто от военной службы уже и не освобождает: армия страдает от недостатка людей. Пришло время «жарить соловьев» — вот уже и «ратник второго разряда Блок» призван и направлен десятником на рытье окопов.
Тем временем Гумилева, по иронии судьбы, направляют в Царское Село, в лазарет, расположенный в служебных корпусах Большого дворца. Царскосельские лазареты, которыми заведовала знакомая нам княжна Вера Гедройц, относились к Дворцовому госпиталю (ныне больница им. Семашко). В другом лазарете, расположенном в Федоровском городке (в корпусах придворной охраны, построенных в 1909–1913 годы в древнерусском стиле), с марта 1916-го периодически жил Есенин, служивший санитаром Царскосельского санитарного поезда. С Есениным Гумилев познакомился несколько раньше: 25 декабря Клюев, нанеся визит в дом на Малой, представил Ахматовой и Гумилеву своего молодого друга. Есенин с гордостью показывал рождественский номер «Биржевых ведомостей», где он был впервые «со всеми знатными пропечатан» (как выразился Клюев; в номере были напечатаны стихи и проза многочисленных литературных знаменитостей — от Леонида Андреева до Северянина). Но о встречах Гумилева с Есениным, равно как и с «Сергеем Гедройцем», в 1916 году сведений у нас нет.
Николай II и императрица Александра Федоровна с дочерьми и сыном, начало 1910-х
Зато несомненны другие встречи. В лазаретах Царского Села работали сестрами милосердия императрица Александра Федоровна и две ее старшие дочери — великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна. Младшие дети, в том числе 12-летний цесаревич, охотно бывали в госпиталях и «выступали» перед ранеными. Работу августейших сестриц разные свидетели оценивали по-разному. Начать с того, что доктору Гедройц приходилось два часа в день тратить на то, чтобы обучать ее императорское величество и их императорские высочества фельдшерскому искусству (а свободного времени у начальника полевого госпиталя во время войны было немного). По воспоминаниям А. Вырубовой, «стоя за хирургом, Государыня, как каждая операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи и ужасные картины военного госпиталя во время войны». Но не менее верноподданная Т. Е. Мельник, дочь лейб-медика Е. С. Боткина, отмечает, что «изредка Ее Величество занималась перевязками, но чаще просто обходила палаты и сидела с работой у изголовья наиболее тяжелых больных». Есенин, по свидетельству Всеволода Рождественского, так рассказывал ему о своей службе:
…Начнешь что налаживать — глядь, какие-то важные особы пожаловали. То им покажи, то разъясни, — ходят по палатам, путают, любопытствуют, во все вмешиваются. А слова поперек нельзя сказать. Стой навытяжку. И пуще всего донимают царские дочери — чтоб им пусто было. Приедут с утра, и весь госпиталь вверх дном идет. Врачи с ног сбились. А они ходят по палатам, умиляются, образки раздают, как орехи с елки. Играют в солдатики, одним словом.
Такая оценка роли великих княжон не мешала молодому «крестьянскому поэту» не только всячески использовать свой поэтический дар для облегчения условий службы, но и, возможно, строить далеко идущие карьерные планы. Во всяком случае, летом — осенью Есенин написал стихи «Царевнам» (в честь тезоименитства вдовствующей императрицы Марии Федоровны и великой княжны Марии Николаевны), несколько раз выступал с чтением стихов в Александровском дворце — и был награжден за все эти старания именными золотыми часами[124].
Гумилев, без отвращения (как мы уже видели) слагавший стихи на случай, также воспел по просьбе начальства в гладких и вполне бессодержательных строках великую княжну Анастасию Николаевну в день ее рождения, 5 июня. Эти стихи сохранились, в отличие от других, написанных на три недели раньше, посвященных Ольге Николаевне. Вероятно, Гумилев не шел против совести, посвящая очередной «экспромт» очередным хорошеньким «сестрам милосердия» — на сей раз августейшим. Но к их родителям (и ко «всему последнему поколению Романовых») он относился куда суровее. Особенно резким было в то время, видимо, его отношение к Александре Федоровне. В конце 1916 года он говорил, что не хочет защищать царицу в случае революции. Александра Федоровна была, как известно, непопулярна в армии и в народе. Ее, немку по крови, но экзальтированную русскую националистку, обвиняли чуть ли не в шпионаже; ее козням приписывали военные неудачи; ее считали не только покровительницей, но и любовницей Распутина. Правда, после гибели императрицы Гумилев будет говорить о ней с совершенно другой интонацией…
Непосредственное, хоть и беглое, общение с Александрой Федоровной могло способствовать тому, что Гумилев год спустя, уже после Февральской революции, отпоет «старца Григория» знаменитыми, так восхищавшими Цветаеву стихами:
В гордую нашу столицу Входит он — Боже, спаси! — Обворожает царицу Необозримой Руси Взглядом, улыбкою детской, Речью такой озорной, — И на груди молодецкой Крест просиял золотой. Как не погнулись — о горе! — Как не покинули мест Крест на Казанском соборе И на Исакии крест? Над потрясенной столицей Выстрелы, крики, набат; Город ощерился львицей, Обороняющей львят.Конечно, это стихи не только о Распутине. Это — ответ Городецкому, ответ (в каком-то смысле) и Блоку, и Клюеву, и всем, кто идеализировал стихийную и разрушительную сторону народной души. Не «срубы у оловянной реки», не «драки в страшных, как сны, кабаках», а «гордая нашая столица» (в которой Гумилев не хочет видеть и знать ничего черного и страшного) — вот родина, которую стоит защищать и которая может защитить. «Последнее поколение Романовых» предало эту родину — и накликало на свое царство беду.
В диком краю и убогом Много таких мужиков.Акмеисты были поэтами — последними поэтами! — Петербургской империи; если для них возможен был компромисс с Московской Русью, то не с центробежным хаосом окраин.
Кроме Александры Федоровны, в госпитале бывала вдовствующая императрица Мария Федоровна, чьи цветы Гумилев якобы принес когда-то юной Ане Горенко. По свидетельству Ахматовой, «он был шокирован ее произношением (у нее очень неправильный выговор был). Говорил: «…И потом, что это такое? — она подходит к солдату и говорит: «У тебя пузо болит?» А она, как известно, всегда так говорила». Возможно, за этой своеобразной манерой общаться с ранеными стояло опять-таки плохое знание русского языка.
Ахматова вместе с сыном и Анной Ивановной 14 мая уехала в Слепнево. Но в Петербурге у Гумилева были многочисленные подруги — одиноким он себя не чувствовал.
С Тумповской отношения уже разлаживались. Как раз в момент, когда он лежал в госпитале, Маргарита прислала ему «разрывное» письмо. «Несмотря на запрет врача, приехал ко мне тотчас… Не знаю, разошлись мы тогда или сошлись еще больше». Но в конце концов все же разошлись.
Еще в марте 1916 года Гумилев познакомился с Ларисой Рейснер и начал ухаживать за ней — причем зачастую делал это в присутствии Тумповской. «На литературных вечерах… уходил под руку то со мной, то с ней».
Так начался литературнейший из литературных романов Гумилева.
Лариса Михайловна Рейснер, дочь профессора-юриста и студентка Психоневрологического института (в высшей степени либерального учебного заведения, основанного Бехтеревым и представлявшего собой по существу частный университет — там были и историко-филологический, и юридический факультеты), родилась в 1895 году. Восемнадцати лет она выпустила свою первую книгу — «Женские образы у Шекспира», про Офелию и Клеопатру, в которой уже заметен ее стиль — энергичный и несколько выспренний. Лариса Рейснер принадлежала к тем не столь уж малочисленным в своем поколении людям, у которых социалистическая идеология органично сочеталась с ницшеанской этикой и эстетикой. В 1915–1916 годы она вместе с отцом издавала журнал «Рудин». Рудин, герой тургеневского романа, речистый и свободомыслящий лишний человек, представлялся юной издательнице воплощением героического духа. Одна из редакционных статей называлась «О Рудине и Заратустре» (разумеется, «Заратустра — это высший Рудин»). На страницах журнала скучновато-подражательные (символистам и акмеистам) стихи Ларисы и ее приятелей (Владимира Злобина, Льва Никулина, Георгия Маслова, Дмитрия Майзельса[125]) мирно соседствовали с политическими фельетонами Рейснера-отца. В других фельетонах (большая часть которых была написана самой Ларисой под разными псевдонимами) более или менее язвительно высмеивались литературные знаменитости и живые классики — от Леонида Андреева до Бальмонта и от Горького до Сологуба. Но фельетоны не шли ни в какое сравнение по технической виртуозности, грубости и злобе с помещенными в журнале карикатурами на литературных и политических (Струве, Милюкова) властителей дум. Одна из них, между прочим, изображала членов группы «Краса» (Городецкого, Клюева, Ремизова, Есенина) в виде примостившихся на ветке сиринов. На другой карикатуре Плеханова заключал в объятия носатый банкир в перстнях — вполне в духе «Нового времени». Разумеется, в соседнем номере был помещен фельетон против антисемитизма… Блок, которому журнал попался на глаза в 1921 году, охарактеризовал его задним числом так: «Журнал характерен для своего времени. Разложившийся сам, он кричит так громко, как может, всем о том, что и они разложились». Что касается Рейснера-отца, то (по словам Г. Иванова) то Гумилев говаривал, что он — из тех почтенных господ, которых хочется взять под руку, отвести в сторону, сказать «ледяным тоном»: «Милостивый государь, мне все известно!» — и посмотреть на реакцию… (Может быть, Гумилев и не знал, что о профессоре Рейснере действительно ходили скверные слухи: его обвиняли в самом страшном, в чем только можно обвинить левого интеллигента, — в тайном сотрудничестве с охранкой, точнее, в попытке сотрудничества, так как политическая полиция услуг Михаила Александровича не приняла. Источник был самый надежный — знаменитый «охотник на шпионов» Владимир Бурцев. Потом слухи были дезавуированы, но, что называется, осадок остался.)
Анна Энгельгардт с братьями Александром и Николаем, ок. 1915 года
Встречу с Гумилевым Лариса в своем неоконченном автобиографическом романе описывает так. Действие происходит в легко узнаваемой «Бродячей собаке», куда приходит героиня, девушка по имени Ариадна. Там она встречает Гафиза (так звала Лариса Гумилева в письмах; источник имени — «Дитя Аллаха», прелестная кукольная пьеса, над которой работал он зимой и весной 1916 года).
Он некрасив. Узкий и длинный череп (его можно видеть у Веласкеса на портретах Карлов и Филиппов испанских), безжалостный лоб, неправильные пасмурные брови, глаза — несимметричные, с обворожительным пристальным взглядом… По его губам, непрерывно двигающимся и воспаленным, видно, что после счастья они скандируют стихи — может быть, о ночи, о гибели надежды в белом безмолвном монастыре… Нет в Петербурге хрустального окна, покрытого девственным инеем и густым покрывалом снега, которого Гафиз не замутил своим дыханием… Нет очарованного сада, цветущего ранней северной весной, за чьей доверчивой, пошатнувшейся изгородью дерзкие руки поэта не наломали бы сирени…
Кажется, достаточно. Это напоминает не будущую публицистику Ларисы Рейснер, а скорее роман Вербицкой или Нагродской, и Гумилев здесь — вылитый герой Вербицкой, демонический обольститель.
Ариадна читает стихи. «Высоко над толпой сидел Гафиз и улыбался. И хуже нельзя было сделать: он одобрил ее как красивую девушку, но совершенно бездарную». Вот это, видимо, правда.
Видимо, весной отношения с Лери (как называл Гумилев Ларису) еще находились в неопределенно-романтической стадии. Между тем в это же время происходят еще две встречи — и начинается самая драматическая из любовных коллизий второй половины жизни Гумилева, которой не суждено было разрешиться до самой его гибели.
Анна Николаевна Энгельгардт происходила из потомственной писательской семьи. Дальний родич ее был директором Царскосельского лицея при Пушкине, родной дед — видным публицистом по сельскохозяйственным вопросам, бабка — известной переводчицей, редактором «Вестника иностранной литературы». Отец Анны Николаевны, Николай Александрович, смолоду писал стихи — не бог весть какие, но на безрыбье той эпохи (1890-е годы) далеко не худшие. В 1892-м он познакомился с другим молодым и еще безвестным поэтом, Константином Бальмонтом. Вскоре после знакомства Бальмонт писал жене, Ларисе Михайловне, урожденной Гарелиной: «Мы с ним много говорили, и у нас нашлось много общих черт… Но только он холост и жениться не хочет никогда (о, глупец!)». В действительности Н. Энгельгардт был влюблен в юную Екатерину Андрееву и сделал ей предложение, но получил отказ. Однако вскоре сам Бальмонт знакомится с Андреевой — и примерно в это же время знакомит Энгельгардта со своей женой. Образовавшийся любовный «четырехугольник» разрешился к взаимному согласию (не считая того, что Бальмонту при разводе пришлось «взять вину на себя», в результате чего его брак с Андреевой не мог быть освящен церковью). В браке Энгельгардта с Гарелиной-Бальмонт родилось двое детей — дочь Анна и сын Александр (кроме того, в семье воспитывался сын от первого брака, Никс — Николай Константинович Бальмонт).
Жизнь в семье была невеселой: отец, ставший невероятно плодовитым (38 томов!) критиком, беллетристом и историком литературы, сотрудником «Нового времени» (и, как отмечает Чуковский, прославившийся «своими плагиатами»), при этом страдал тяжелыми депрессиями. Мать была психопатически ревнива. Дочь выросла самовлюбленной, нервной, обидчивой. Но ее тяжелый характер не был заметен сразу: она была хрупка, золотоволоса и производила впечатление кроткой и беспомощной девушки. Едва познакомился Гумилев с Ларисой Рейснер — маятник сразу же качнулся в противоположном направлении.
Встреча с Анной произошла 14 мая на лекции Брюсова об армянской поэзии. Познакомил Гумилева с Анной Жирмунский. Ухаживание было довольно бурным, и, по всей вероятности, «нечего больше добиваться» стало уже к июню. Особенной ответной страсти Анна не испытывала, но была «не в силах сопротивляться напору» своего поклонника.
В тот же день, 14 мая, Гумилев познакомился с подругой Анны — Ольгой Николаевной Гильдебрандт-Арбениной… и взял у нее телефонный номер. Арбениной было девятнадцать лет, она была моложе Анны на два года — и неразлучна с ней. Их звали «Коломбина и Пьеретта». Арбенина была в этой паре Коломбиной — она была болезненнее, бледнее; «меня звали Мадлен, Мелисандой, Сольвейг — и другими нежными «северными девушками». Гумилев назначил Ольге свидание «в районе Греческой церкви» (спустя полвека снесенной — и воспетой) — оттуда поехали в Александро-Невскую лавру. «Мы прошли через тот ход, где могила Натальи Николаевны и Ланского. Вероятно, Гумилев придумал эту овеянную ветрами поездку, чтобы уговорить потом поехать с ним в ресторан — согреться».
Ольга успела не на шутку влюбиться в Гумилева, но «у меня вдруг прорвалась бешеная веселость и чуть ли не вакхичность — и сила — выдерживать натиск». В конце концов Гумилев предпочитает Анну — может быть, потому, что та не так стойко «выдерживала натиск».
С Ольгой все закончилось на полуслове — чтобы начаться вновь через три с половиной года. «Очаровательный бесенок с порочными глазами» (так звал ее Гумилев) еще вернется к нему… И покинет его.
И Анна, и Ольга, само собой, писали стихи. Как же без этого?
Но пока — одновременно с Анной и Ольгой — уже была Лариса Рейснер; и еще была Маргарита Тумповская. Четыре романа разом… Гумилев, кажется, вовсю пользовался прерогативами выздоравливающего офицера-фронтовика. Но ухаживал он за женщинами не как офицер, а как поэт — и в качестве поэта. И соперниками числил только других поэтов. Арбениной он говорил: «Бальмонт уже стар. Брюсов с бородой. Блок начинает болеть. Кузмин любит мальчиков. Вам остаюсь только я». «Бальмонт уже стар» — Анна Энгельгардт «по-родственному» общалась с Бальмонтом и более или менее откровенно флиртовала с ним. Впрочем, ходили слухи, что на самом деле она дочь Константина Николаевича, и Гумилев, похоже, в это верил. «Блок начинает болеть» — физически сильный, красивый, неотразимый любовник Блок… Блок, чье имя (это для Гумилева было, видимо, мучительнее всего) молва безосновательно, но упорно связывала с именем Ахматовой. Конечно, десять лет периодического «погружения в бездну» не прошли даром для его здоровья, но разве сам Гумилев не провел за два года несколько месяцев на госпитальной койке? Арбенина «с детства хотела иметь роман с Блоком — но его внешний облик меня расхолодил». Гумилев же признавался: «Я чувствую себя по отношению к Блоку, как герцог Лотарингии к королю Франции». «Но я хочу быть королевой французской», — отвечала Ольга.
Герцог Лотарингский — это Генрих Гиз, конечно, вассал короля, но и его соперник. А как закончилось соперничество Гиза с Генрихом III, известно: оба пали почти одновременно от удара предательским кинжалом…
Из госпиталя Гумилева отправили не на фронт, а в Крым, в Массандру, в Лечебницу императрицы Александры Федоровны для выздоравливающих и переутомленных. Сюда он прибыл 13 июня. Три недели он живет в нескольких десятках километров от Ахматовой, но лишь 7 июля выбирается на злополучную дачу Шмидта — и не застает ее: она уехала днем раньше.
В Массандре поэт находит себе новые предметы увлечения: Ольга Мочалова и Варвара Монина, две кузины, москвички (точнее — жительницы подмосковных Филей), курсистки… и, конечно, молодые поэтессы. Сперва Гумилев обратил внимание на Варвару, старшую: она сидела на скамейке, читая Тэффи, причем не юмористику ее, а единственную книгу стихов, которую Гумилев когда-то отрецензировал в «Аполлоне». Но Варвара никак не ответила на ухаживания поэта. 18-летняя Ольга была несколько более благосклонна.
Он нес с собой атмосферу мужской требовательной властности, неожиданных суждений, нездешней странности. Я допускала в разговоре много ошибок, оплошностей. Неопытность, воспитанность на непритязательных фильских кавалерах, смущение — все заставляло меня быть сбивчивой…
С Ларисой Рейснер Гумилев играл некую роль, Ольгу Арбенину и Анну Энгельгардт завоевывал, Ольге Мочаловой — рассказывал о себе. И она слушала и запоминала его рассказы: о детстве, о гимназии, об Анненском, о современных поэтах, об Африке. Удивительно: с ней он не рисовался, не пытался выдать себя за что-то, чем не был на самом деле. Но это был монолог. Однажды Ольга спросила его: «Вот мы с вами встречаемся, а вы ни разу ничего не спросили обо мне — кто я, где я, с кем, где живу?» Гумилев ответил: «В восемнадцать лет каждый делает из себя сказку».
Был один «поцелуй на горе, заставивший меня затрепетать — крепко, горячо, бескорыстно». Ольга Мочалова была всего лишь скромной, не уверенной в себе девушкой из Филей… Она казалась себе недостойной своего «знаменитого и светского» кавалера. Знаменитого? Сколько человек по всей России к 1916 году хоть раз слышали имя поэта Гумилева? Десять тысяч? Пятнадцать? Едва ли больше… Но все гумилевские подруги были из этих десяти — пятнадцати тысяч. Даже московская курсистка Мочалова прочитала-таки «Жемчуга».
На прощание Гумилев подарил Ольге свою карточку, где он был запечатлен вместе с Городецким (другой не оказалось!) с подписью: «…Я твердо знаю, что мы встретимся, когда и как Бог весть, но верю, что лучше, чем в этот раз…» Они встретились — три года, потом пять лет спустя…
Прогуливаясь вечерами с Ольгой Мочаловой, Гумилев днем писал пьесу «Гондла», вдохновленную Ларисой Рейснер. На обратном пути в Петербург он заглянул не только на дачу Шмидта, но и в Иваново-Вознесенск: к Ане Энгельгардт, «и грозой, в беседке с настурциями, безумно целовал ее».
В общем, в 1916 году ухаживание за молодыми (от восемнадцати до двадцати пяти лет) девушками превращается у Гумилева в такое же самодостаточное увлечение, как прежде война и Африка. Может быть, это была попытка уйти от образовавшейся пустоты, от сознания, что все достигнутое на этом круге жизни (офицерские погоны, доброе отношение литературной среды) оказалось пустым и ненужным, что еще одна иллюзия рухнула? А может, так находило выход болезненное нервное возбуждение? 2 августа он пишет матери: «Кашляю мало, нервы успокаиваются…» Значит, нервы были не в порядке. Тайная истеричность (скорее, чем мужское коварство) видна и в том, что, кажется, с каждой из девушек он говорил о своем предстоящем разводе (о котором едва ли думал всерьез) — и каждой предлагал руку и сердце. Лариса Рейснер сказала, что не желает огорчить Ахматову, перед которой благоговеет. Гумилев грустно улыбнулся: «К сожалению, я уже ничем не могу огорчить Анну Андреевну».
Гумилевской влюбчивости мы обязаны несколькими замечательными стихотворениями — и изрядным количеством посредственных. Поэту казалось, что его долг — посвящать своим дамам лирические строки. «Я, как влюблюсь, так и запою. Правда, скорее петухом, чем соловьем», — самокритично говорил Гумилев Одоевцевой. Зачастую стихи переадресовывались несколько раз. В соответствии со средневековыми представлениями, поэзия становилась частью ритуала ухаживания. В начале XX века это выглядело в лучшем случае архаично, в худшем — вульгарно. Здесь Гумилеву изменяло присущее ему культурологическое чутье…
14 июля поэт вернулся в Петроград — и 18 июля, после освидетельствования в Царскосельском эвакуационном госпитале, признан годным к дальнейшей службе. 25 июля он прибыл в гусарский полк, находившийся в резерве 7-й армии, близ Зегевольда (Сигулды). Но служить (особенно в тылу) он больше не хочет. Скачки, ученья, «парфорсная охота», вольтижировки — все это доставляет ему удовольствие, но не может быть содержанием жизни.
Поэтому Гумилев хватается за возможность сдавать экзамены на чин корнета (соответствовавший пехотному званию поручика). Из полка он откровенно пишет матери: «Конечно, провалюсь, но не в том дело, отпуск все-таки будет».
Сдача экзаменов заняла два месяца, и Гумилев, как и предполагал, провалился. В противном случае перед ним открылась бы настоящая офицерская карьера. Но за время обучения в школе прапорщиков Гумилев сумел трезво оценить свои возможности. Успешнее всего сдал он экзамены по иностранному языку (немецкий, который полагалось знать офицерам, по условиям военного времени разрешалось заменять французским или английским; Гумилев сдавал, естественно, экзамен по французскому). Требования были, судя по всему, не очень высоки: Гумилев, владевший и французским не в совершенстве, получил двенадцать баллов — больше, чем по другим предметам. Удовлетворительными были сочтены его знания по закону Божию, тактике, истории русской армии, военному законоведению, военной администрации, военной гигиене и… русскому языку. Чуть хуже обстояло дело с «иппологией и ковкой» — но, видимо, подковать лошадь поэт хоть с трудом, а сумел. Невысоко оценивая свои математические способности, Гумилев опасался экзамена по артиллерии, но с грехом пополам и здесь набрал он свои проходные шесть баллов, как и по топографии. Роковыми стали для него тактические занятия (в классе и в поле) и топографическая съемка, а фортификацию и конно-саперное дело он так и не сдавал. Собственно говоря, и по проваленным экзаменам он был допущен к переэкзаменовке — как «не сдавший по уважительной причине». И. А. Курляндский[126] считает, что уважительной причиной могли счесть болезнь. Действительно, в сентябре Гумилев опять ненадолго попадает в госпиталь — в Лазарет обществ писателей на Петроградской стороне. Но почему-то 25 октября, не воспользовавшись возможностью переэкзаменовки и не дожидаясь остальных испытаний, Гумилев отправился в часть. Видимо, в свою способность выполнить практические задания по тактике, топографии и фортификации он не верил. Настоящий офицер-кавалерист из поэта не вышел. И, похоже, он уж и не мечтал об этом.
В Петербурге как раз накануне приезда Гумилева была предпринята попытка возродить Цех поэтов. Инициатива принадлежала Жоржикам. Появившийся в столице «синдик» был приглашен на первое заседание, которое, по его словам, провалилось. Но все же до весны 1917-го возрожденный Цех собирался — но без Ахматовой, без Мандельштама… и, как правило, без самого Гумилева.
Ахматова — вновь в Севастополе. Время от времени супруги обмениваются спокойными, без чрезмерных излияний, письмами. Гумилев по-прежнему встречается поочередно с Ларисой Рейснер и Аней Энгельгардт (которая в это время учится танцам по методике Делькроза… у Татьяны Адамович[127]). На первом месте сейчас Лариса. В сентябре он пишет стихотворное послание к ней:
Я был у Вас, совсем влюбленный, Ушел, сжимаясь от тоски, Ужасней шашки занесенной Жест отстраняющей руки. Но сохранил воспоминанье О дивных и тревожных днях, Мое пугливое мечтанье О Ваших сладостных глазах. Ужель опять я их увижу, Замру от боли и любви И к ним, сияющим, приближу Татарские глаза мои?!В ноябре, с прибытием Гумилева в часть, начинается переписка с издательницей «Рудина».
8 ноября:
«Лера, Лера, надменная дева, ты, как прежде, бежишь от меня». Больше двух недель, как я уехал, а от Вас ни одного письма. Не ленитесь и не забывайте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя. Снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность.
О своей жизни я писал Вам в предыдущем письме. Перемен никаких, и, кажется, так пройдет зима. Что же? У меня хорошая комната, денщик профессиональный повар. Как это у Бунина?
Вот камин затоплю, буду пить, Хорошо бы собаку купить.Кроме шуток, пишите мне. У меня «Столп и Утверждение истины», долгие часы одиночества, предчувствие надвигающейся творческой грозы.
В этом письме удивительно многое, начиная с цитаты из Бунина, которого деятелям нового искусства полагалось презирать — и который втайне был так близок акмеистам. Важно и чтение книги Флоренского. Удивительно: как только Гумилев погружается в чтение самого серьезного труда, рожденного русским духовным консерватизмом, всякое любование эмпирической, вещественной патриархальной «Русью» исчезает из его стихов! Все уходит вовнутрь…
В начале письма цитируется «Гондла» — одно из самых неожиданных произведений поэта. Если в «Дитяти Аллаха» alter ego автора — великолепный Гафиз, единственно достойный любви Пери, стоящий выше и юноши-любовника, и воина-бедуина, и высокородного султана, то принц-певец Гондла — несчастный горбун, заброшенный в чужую ледяную страну, униженный жестокими викингами-«волками», обманутый и отвергнутый суровой девой-воительницей Лерой. Опять — «лист опавший, колдовской ребенок»… Гондла — вот, может быть, подлинное лицо Гумилева. «Волк» Лаге — то, чем он хотел бы быть. Ахматова считала, что в «Гондле» выражено разочарование Гумилева в войне. Если это и верно, то в том смысле, что Гумилев устал от принятой на себя роли и маски «воина». Но с «надменной девой» он предпочитал роль победительного Гафиза, а не обреченного горбуна.
Жанры пьес различны: «Дитя Аллаха» предназначалась для театра марионеток П. П. Сазонова и Ю. Л. Слонимской (оформлять так и не осуществившийся спектакль должен был Павел Кузнецов, музыку писал Артур Лурье); «Гондла» — поэтическая драма того же типа, что «Роза и крест». Третья пьеса, которая завершила бы эту странную трилогию, была, по замыслу поэта, посвящена самому доподлинному «конквистадору» Фернандо Кортесу и его возлюбленной индианке Марине. Сюжет был подсказан Ларисой. Но Гумилев так эту пьесу и не закончил… Третье большое драматическое произведение Гумилева (написанное уже в начале 1918 года) стало совсем иным.
Лариса Рейснер напечатала рецензию на «Гондлу» (это был, как мы видели, не единственный случай, когда гумилевская подруга рецензировала вдохновленное ею произведение) в «Русской мысли». «Новую поэзию до сих пор часто и не без основания упрекали за слишком узкое понимание художественных задач… — писала юная рецензентка. — Эпос и драма — «большое искусство» — оставались в стороне, а вся тяжесть нового миросозерцания, целый ряд тем исторических и философских — оказались втиснутыми в хрупкие сонеты, рондо и канцоны…» В «Гондле» она видит ту «большую форму», которой «новому искусству» (подразумевается — акмеизму) так не хватало. Деловая, чисто литературная рецензия, подчеркнуто безличная… Трудно поверить, что в эти же дни драматург и рецензент обменивались посланими совсем другими:
У Вас красивые, ясные, честные глаза, но Вы слепая; прекрасные, юные, резвые ноги и нет крыльев; сильный и изящный ум, но с каким-то странным прорывом посередине. Вы — Дафна, превращенная в Лавр, принцесса, превращенная в статую. Но ничего! Я знаю, что на Мадагаскаре все изменится.
Арбенину Гумилев звал с собой в Египет, Аню Энгельгардт — в Америку, Ларису — на Мадагаскар.
Милый мой Гафиз, это совсем не сентиментально, но мне сегодня так больно. Так бесконечно больно. Я никогда не видала летучих мышей, но знаю, что если даже у них выколоты глаза, они летают и ни на что не натыкаются. Я сегодня как раз такая бедная летучая мышь, и всюду вокруг меня эти нитки, протянутые из угла в угол, которых надо бояться. Милый Гафиз, я много одна, каждый день тону в стихах, в чужом творчестве, в чужом опьянении. И никогда не хотелось мне так, как теперь, найти, наконец, свое собственное.
Я помню все Ваши слова, все интонации, все движения, но мне мало, мало, мне хочется еще. Я не очень верю в переселение душ, но мне кажется, что в прежних Ваших переживаниях Вы всегда были похищаемой Еленой Спартанской, Анжеликой из Неистового Роланда и т. д.
Милый Гафиз, Вы меня разоряете. Если по Каменному дойти до самого моста, до барок и большого городового, который там зевает, то слева будет удивительная игрушечная часовня. И даже не часовня, а две каменные ладони, сложенные вместе со стеклянными, чудесными просветами. И там не один св. Николай, а целых три. Один складной, а два сами по себе. И монах сам не знает, который влиятельней. Поэтому свечки ставят всем уж заодно.
Забавно представить себе будущую «комиссаршу» — ставящей свечки…
Гумилев почти ничего не пишет Ларисе о своей жизни. Между тем это были два месяца в заснеженных окопах под периодическими пулеметными обстрелами. Гусарский полк в составе 5-й армии держал оборону по Двине. Дежуря в свою очередь по полку, Гумилев 1 января методично записывает в журнале «офицеров-наблюдателей»: «Спокойно… спокойно… спокойно… было видно, как противник, производя работы, выбрасывал землю из окопов у деревни Кольна-Парнас… спокойно… одиночные выстрелы противника…» Так встретил он новый, 1917 год.
Несколько раньше, в ноябре, Гумилев писал Ахматовой, что подружился с таким же, как он, «прапорщиком из вольноопределяющихся». Трудно сказать, кто это был. Но в декабре-январе ему не повезло: соседом его в окопах оказался штаб-ротмистр Александр Васильевич Посажный (Посажной). Это был «бурбон» особого рода — «бурбон»-графоман. Позже, в эмиграции, он пользовался некоторой известностью. Его поминает Ходасевич в знаменитой статье «Ниже нуля» — своего рода обзоре «антипоэзии». Илья Эренбург и тридцать лет спустя не забыл его строк про Пегаса (так стихотворец-кавалерист называл своего боевого коня), который
….в столовую вступил И кахетинского попил. Букет покушал белых роз. Покакал чинно на поднос, —и с удовольствием процитировал их в «Люди. Годы. Жизнь».
В 1932 году Посажной напечатал автобиографическую поэму «Эльбрус», в которой есть следующий мемуарный фрагмент (пунктуация авторская, то есть ее отсутствие; в этом смысле Посажной был авангардистом; к тому же слово «Я» он последовательно писал с большой буквы):
Да современности поэтов Читать Я право не могу В них нет поэзии заветов И даже смысла ни гугу И коль укажут вот поэт Назад Я делал пируэт Так вечно б может продолжалось Но за какие-то грехи Мне слушать многие досталось Год гумилевские стихи Ко мне в четвертый эскадрон[128] Грозу для каждого шпака Был автор их переведен Из Лейб-Уланского полка И хохотали хи-хи-хи Мы слыша штатские стихи О самом маленьком обычном О крике скажем петуха Вещал он гласом дикобычным И замогильным — чепуха. Свой винегрет свою уху В окопах сидя на Двине Он мне варил Я чепуху Его топил всегда в вине О Музах спором увлекаясь В каком-то маленьком бою С ним осушили спотыкаясь И пулеметную струю ………………………… Когда б его не расстреляли Он в неизвестности почил И вы б наверно не узнали Что он стихами настрочилВпрочем, Е. Е. Степанов, основываясь на архивных материалах, доказывает, что на самом деле Посажной с Гумилевым пересекались довольно мало и в боевых дежурствах вместе не бывали.
От тоски Гумилев позволял себе мальчишеские (или «гусарские», в старинном понимании) выходки: например, под пулеметным огнем оставался на открытом месте и закуривал. За эти подвиги он удостаивался лишь разноса эскадронного командира Мелик-Шахназарова. И все же за кампанию 1916/17 годов он был представлен к ордену Святого Станислава 3-й степени «с мечами и бантом». Этот (единственный настоящий!) орден он получил 30 марта, когда империи, награждавшей его, уже, в сущности, не существовало[129].
Один раз (19–17 декабря) ему удалось выбраться в отпуск домой. Как раз в это время Ахматова вернулась из Крыма. Гумилев съездил с ней и с сыном в Слепнево — и уже через несколько дней вернулся в столицу. Заходил в «Привал комедиантов», виделся с Лозинским… и, конечно, с Анной Энгельгардт и с Ларисой Рейснер. В этот ли раз он привез Ларису в дом свиданий на Гороховой и «сделал с ней все» (об этом, со слов самой Рейснер, рассказывала Лукницкому Ахматова)? «Я была так влюблена, что пошла бы куда угодно», — вспоминала «Лери», но обида никогда не была забыта. Первая близость стала, похоже, концом романа — или началом конца.
…Моя нежность — к людям, к уму, поэзии и некоторым вещам, которая благодаря Вам — окрепла, отбросила свою тень среди других людей — стала творчеством… Этого не может быть, не могло быть. Но будьте благословенны, Вы, Ваши стихи и поступки. Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог.
Это похоже на прощальное письмо. Во всяком случае, была попытка закончить все «красиво». Но…
За девять лет, которые еще отпустила ей судьба, Лариса Рейснер побывала женой большевика Федора Раскольникова, наркомвоенмора и дипломата (того, что в 1939 году попытался примерить боярскую шубу князя Курбского, написав из-за границы обличительное послание Сталину, — и через два месяца умер от неизвестной болезни), а потом — международного марксиста, обезьяноподобного острослова Карла Радека; она руководила военной разведкой («не путать со шпионской контрразведкой!») в Перми, разгуливала в роскошных туалетах по голодному Петрограду, писала очерки о революционных пролетариях Гамбурга — и осталась на русской сцене не исландкой Лерой, она же ирландка Лаик, а железной комиссаршей, усмиряющей матросов-анархистов, в упор стреляющей в навязчивого ухажера и декламирующей потрясенному командиру корабля гумилевских «Капитанов»…
Гумилев в июне 1917 года в письме из Швеции осторожно предупреждал «дорогую Ларису Михайловну» (уже не Лери!): «развлекайтесь, но не занимайтесь политикой». Два года спустя он не раскланивался с бывшей подругой, считая ее причастной к убийству Шингарева и Кокошкина. Это была нашумевшая история: два кадета (члены Учредительного собрания) были растерзаны матросами-большевиками в тюремном лазарете. Восемнадцатый год только начинался, и даже Ленин счел необходимым официально осудить эту расправу.
Может быть, Гумилев и был в данном случае несправедлив к своей бывшей возлюбленной. Другие — в том числе Мандельштам — в рукопожатии ей не отказывали. Но красавица хорошо, уже вполне по-советски, отомстила Гафизу, добившись отстранения его от руководства литературной студией Балтфлота (и лишения соответствующего пайка). Вслед за тем Лариса, явившись к Ахматовой и осыпая ее лестью, предлагала взять Леву (который жил в Бежецке у бабушки) к себе в семью. Вот это была бы месть так месть! Можно лишь вообразить, каким приемным отцом для мальчика был бы Раскольников, ненавидевший Николая Гумилева тяжелой мужской ненавистью. А в 1922 году из Афганистана (где Раскольников был послом) Лариса писала матери: «Если бы перед смертью его видела — все бы простила ему, сказала бы, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, поэта, Гафиза, урода и мерзавца».
Было «желание за него умереть». Были свечки в часовне на Каменном. Но ни разу — ни в одном письме! — Лариса не поинтересовалась ни душевным состоянием Гафиза, ни физическими условиями его жизни в окопах.
И тем не менее именно Лариса Рейснер напечатала 30 апреля 1917 года в газете «Новая жизнь» стихотворение, по-своему в русской поэзии уникальное. Лариса была совершенно бездарна как стихотворец. Но — в первый и последний раз в жизни — ее осенило что-то похожее на поэтическое вдохновение. Она создала образец «суровой», «черной» фронтовой поэзии, подобный тем, что — несравненно искуснее, конечно! — писали в те годы ее английские сверстники: Уилфред Оуэн, Зигфрид Сэссун, Айзек Розенберг…
Мне подали письмо в горящий бред траншеи. Я не прочел его, — и это так понятно: Уже десятый день, не разгибая шеи, Я превращал людей в гноящиеся пятна. Потом, оставив дно оледенелой ямы, Захвачен шествием необозримой тучи, Я нес ослепший гнев, бессмысленно упрямый, На белый серп огней и на плетень колючий. Ученый и поэт, любивший песни Тассо, Я, отвергавший жизнь во имя райской лени, Учился потрошить измученное мясо, Калечить черепа и разбивать колени. Твое письмо со мной. Нетронуты печати. Я не прочел его. И это так понятно. Я только мертвый штык ожесточенной рати, И речь любви твоей не смоет крови пятна.Можно ли увидеть в герое этого стихотворения Гумилева? Да, наверное, можно, хотя самолично «потрошить измученное мясо» ему, в отличие от Юнгера, кажется, не пришлось.
Служба Гумилева в гусарском полку была недолгой. Уже 11 января на собрании офицеров была объявлена новость: полк предполагается направить во Францию. Западные союзники испытывали недостаток в живой силе. Россия помогала им — в обмен на вооружение и патроны. Подробнее об этом проекте (с которым Гумилеву пришлось непосредственно соприкоснуться) мы расскажем в следующей главе. Однако на запад направлялась лишь часть полка. Два эскадрона оставались в России и приписывались к стрелковому полку — в том числе тот, где служил Гумилев. Но дальше гнить в окопах, да еще в составе пехотного стрелкового полка, он вовсе не хотел[130]. В письмах к Рейснер он строит различные планы. В какой-то момент перед ним маячит несомненно привлекательная для него перспектива — отправиться в Персию, где также шли военные действия. Но тут 23 января его командируют на станцию Турцевичи Николаевской железной дороги (близ Окуловки, где Гумилев когда-то бывал у Ауслендера) для закупки фуража, в распоряжение полковника барона фон Кнорринга.
Живя в Окуловке, поэт часто бывает в Петрограде, видится с Ахматовой, живущей в столице у Срезневских, пытается заниматься литературой — и даже успевает один день (28–29 января) отсидеть на гауптвахте за неотдание чести генералу от инфантерии Пыхначеву. Тем временем армия, уставшая от войны, начинает стремительно разлагаться, а в столице возникают продовольственные сложности. 9 февраля Гумилев пишет из Окуловки Рейснер: «Мой полковник застрелился, и приехали рабочие, хорошо еще что не киргизы, а русские». Можно по этой лаконичной фразе попытаться восстановить картину постепенно нарастающего безумия.
26 февраля, оказавшись очередной раз в Петрограде, Гумилев позвонил Ахматовой и с удивившим ее спокойствием сказал: «Здесь цепи, пройти нельзя, а потому я сейчас поеду в Окуловку». В столице начиналась революция.
Глава девятая Путешествие героя
1
В конце февраля 1917 года в Петрограде начались беспорядки, ставшие для империи роковыми.
День 8 марта по новому стилю соответствовал 23 февраля по старому. В этот день ткачихи, вышедшие на обычную демонстрацию по поводу Дня работницы, парализовали жизнь в столице. Как в дни аристофановской Лисистраты, революцию начали уставшие от войны женщины.
К 26 февраля, когда Гумилев не сумел встретиться с Ахматовой и уехал в Окуловку, бастовали чуть не все предприятия и высшие учебные заведения города. Толпы демонстрантов ежедневно заполняли главные улицы. Как раз в этот день градоначальник Балк перебросил все войска и полицию в центр города и раздал им патроны. На Невском проспекте — от Знаменской площади до Садовой — демонстрантов робко попытались расстреливать. Но войска уже плохо подчинялись командованию. Во второй половине дня 4-я рота гвардейского Павловского полка открыла огонь по конному разъезду полиции. И это было только началом…
Гумилев вовремя покинул город. Ахматова, напротив, целую неделю (до 3 марта, когда все закончилось) ходила по улицам, впитывая впечатления, жадно наблюдая «минуты роковые». Она видела уличные бои, видела, как великий князь Кирилл Владимирович, примерявший роль Филиппа Эгалите, водил свой полк присягать Временному правительству. При этом иллюзий у нее не было. «Будет то же самое, что во Франции во время Великой революции, а может быть, и хуже», — говорила она Срезневским.
Между тем большая часть русского общества весной 1917 года находилась в полной эйфории после «бескровно» (всего триста жертв — это бескровно!) победившей революции. Газетчики, а за ними и поэты (и поэты не из последних), в 1905 году обличавшие деспотизм, а в 1914-м — тевтонов, дружно запели гимны свободе.
Манифестация в Петрограде на Невском проспекте. Фотография К. К. Буллы, 1917 год
Но призрак гильотины витал над радостной толпой, и многие, чувствуя его, как Ахматова, пытались его «заговорить». Бодрое стихотворение Кузмина во славу победителей заканчивается, к примеру, так:
Русская революция — юношеская, целомудренная, благая, — Не повторяет, только брата видит во французе, И проходит по тротуарам, простая, Словно ангел в рабочей блузе.Гумилева эта эйфория, кажется, миновала совсем. Его немногочисленные «гражданские» стихи 1917 года тревожны и трезвы. Видимо, Ахматова, многократно подчеркивавшая, что Гумилев «ничего не понимал» в политике, была права лишь отчасти. Вероятно, в сознании Гумилева (как в сознании многих поэтов) причудливо сочетались крайняя политическая наивность — и точное ощущение глубинной сути происходящего. Во всяком случае, дело не в «монархизме» поэта — до лета 1918-го он никаких монархических взглядов и симпатий не высказывал.
Впрочем, в революционной России прожил он в этот год совсем недолго.
8 марта старого стиля Гумилев снова в Петрограде (уже управляемом Временным правительством князя Г. Е. Львова и Советом рабочих и солдатских депутатов во главе с социал-демократом Чхеидзе). В тот же день поэт опять заболел и был помещен в лазарет, где начал писать «Подделывателей», изящную и вполне «постмодернистскую» повесть про некую секту, в заволжских лесах составляющую все знаменитые европейские литературные фальсификации — от стихов Чаттертона до «Краледворской рукописи». Можно увидеть здесь пародию на сюжеты Кузмина и Андрея Белого — и перекличку с тогда же (и вполне всерьез) написанным «Мужиком». Во всяком случае, это был способ сохранить дистанцию по отношению к происходящему — а значит, и трезвую голову.
Выписавшись оттуда через неделю, Гумилев посещает одно из собраний ненадолго возрожденного Цеха, наносит визит Сологубу, знакомится с молодым режиссером Сергеем Радловым и его женой — начинающей поэтессой… В общем, ведет литературно-светскую жизнь, не торопясь вернуться в Окуловку. Живет он не у себя в Царском, а в Петербурге — сперва у Лозинского, а потом — в меблированных комнатах «Ира» (Николаевская улица, дом 2). С Ахматовой, живущей у Срезневских, он встречается лишь эпизодически.
Гумилев не случайно задержался в столице. Как раз в это время решалась его судьба. Каким-то образом ему удается попасть в Русский корпус, направляющийся в Салоники, в Грецию. Е. Е. Степанов указывает, что в этом ему оказал содействие М. Струве, «служивший при штабе». Согласно же Лукницкой, Струве помог Гумилеву в другом: Гумилев получил место военного корреспондента газеты «Русская воля», с довольно большим (800 франков в месяц) окладом[131]. Но «Русская воля» была органом с довольно сомнительной репутацией, созданным по инициативе А. Л. Протопопова, последнего царского министра внутренних дел (который считался реакционером и авантюристом), и финансировавшимся одиозными банковскими кругами. Литературный отдел «Русской воли» возглавлял Леонид Андреев, предлагавший сотрудничество в газете всем известным писателям, вне зависимости от политических и эстетических взглядов, и обещавший большие гонорары и полную свободу высказывания. Однако «гранды» (в том числе Блок) сотрудничать в «протопоповской» газете отказались. Едва ли аналогичное предложение Гумилеву могло быть сделано через племянника Струве — одного из вождей либерального истеблишмента. В любом случае на практике сотрудничество не состоялось: и из-за революции газета вскоре закрылась, да и до фронта Гумилев не доехал.
Вопрос об отправке русских войск на другие фронты обсуждался с самого начала войны; считалось, что у России — избыток «человеческого ресурса» при недостатке вооружения. Но долгое время дело не двигалось с места, потому что российская сторона была не против послать свои дивизии куда-нибудь в стратегически интересные для себя места (скажем, в Болгарию или к Дарданеллам), где западные союзники меньше всего хотели бы их видеть. Но к концу 1915 года переговоры активизировались: в Россию прибыла делегация во главе с Полем Думером, впоследствии ставшим президентом (и павшим от руки русского эмигранта). За «живую силу» предлагали винтовки и боеприпасы. Русские генералы были, по крайней мере на словах, шокированы этим «торгом бездушных предметов на живых людей», но, чтобы не портить отношения с союзниками, Николай II решил снарядить и отправить во Францию одну Особую бригаду. Укомплектована она была в основном из запасных солдат, не бывших в бою; при отборе главное внимание обращалось на вероисповедание (исключительно православное), здоровье и внешность (один полк был укомплектован исключительно статными шатенами, другой — статными блондинами). Другими словами, бригада предназначалась скорее для представительских, а не военных целей. Когда в апреле она (через Китай, Индийский океан, Порт-Саид и Марсель) после трехмесячного пути добралась до Франции, долгое время ее служба сводилась почти исключительно к участию в многочисленных парадах. Однако в конце июня русских солдат наконец отправили в окопы. Позднее 1-я Особая бригада участвовала в битве при Сомме и до поры до времени сражалась если не лучше, то и не хуже других частей французской армии. Но закончилась ее служба бесславно: об этом мы расскажем чуть ниже.
Тем временем положение войск Антанты на Балканах складывалось так тревожно, что Россию стали уже упрашивать направить туда (под Салоники) свои войска. Французы и англичане надеялись, что прибытие частей из братской православной страны побудит Румынию вступить в войну, а Болгарию — разорвать союз с Германией. Для этого была сформирована вторая бригада, которая 3 июля отправилась во Францию (на сей раз западным, более коротким, путем), а оттуда, из Марселя, — на Балканский полуостров.
В апреле было решено сформировать еще пять бригад по десять тысяч человек каждая для отправки во Францию и Македонию. Из них до октября было сформировано и отправлено на фронт четыре. Пятую отправить не успели. В связи с изменившимся положением на фронтах войска, предназначенные к отправке во Францию и в Македонию, были по согласованию с союзниками переброшены на Румынский фронт. К началу 1917 года русские войска и во Франции, и в Македонии понесли существенные потери. На пополнение 1-й и 3-й бригад, сражавшихся во Франции, должны были отправиться (но в итоге так и не отправились) александрийские гусары, прапорщик же Гумилев был определен во 2-ю или 4-ю бригаду — в Македонию.
15 мая он покинул Петроград. Ахматова провожала его. Гумилев был рад покинуть охваченную смутой родину. Начиналось новое путешествие, и он рассчитывал, что, может быть, «игра ратных перемен» занесет его в Африку. Но пока он увидел новый для себя мир Северной Европы. Именно в это время в его сознании родилась, вероятно, идея «учебника географии в стихах». Но в Скандинавии, вспоминая, как полагается туристу, все, что следует, — от викингов до Ибсена, он не может забыть о происходящем на родине.
Вот его шведские стихи:
Для нас священная навеки Страна, ты помнишь ли, скажи, Тот день, как из Варягов в Греки Пошли суровые мужи? Ответь, ужели так и надо, Чтоб был, свидетель злых обид, У золотых ворот Царьграда Забыт Олегов медный щит? Чтобы в томительные бреды Опять поникла, как вчера, Для славы, силы и победы Тобой подъятая сестра?И все-таки путешествие позволяет Гумилеву уйти от бесплодных в его случае гражданских тревог в «беспокойные сны», в мир своих высоких поэтических видений.
«О Боже, — вскричал я в тревоге, — что, если Страна эта истинно родина мне? Не здесь ли любил я и умер не здесь ли, В зеленой и солнечной этой стране?» И понял, что я заблудился навеки В слепых переходах пространств и времен, А где-то струятся родимые реки, К которым мне путь навсегда запрещен.Дальше — Норвегия, страна, откуда некогда уплыли на запад предки героев «Гондлы».
Страшна земля, такая же, как наша, Но не рождающая никогда.На Северном море в нем уже в полной мере пробуждается гимназист-фантазер, и он самозабвенно играет в морского разбойника «из расы завоевателей древних». Современность, однако, дает о себе знать: из окончательного варианта стихотворения исчезают мелкие реалии Первой мировой (например, имена немецких и итальянских министров), но остаются «подводная лодка» и «плавучая мина». Путь на Лондон по Северному морю был небезопасен.
Именно Лондон должен был стать следующей остановкой на пути в Салоники. О тех двух или двух с половиной неделях (примерно с 10–12 по 28–30 июня), которые поэт провел в столице Великобритании, стоит поговорить поподробнее.
2
Ближайшим (хотя и не единственным) знакомым Гумилева в Лондоне был Борис Анреп.
Борис Васильевич Анреп (1883–1969) родился в семье профессора судебной медицины, депутата Государственной думы от «Союза 17 октября». За плечами у него было Училище правоведения, юридический факультет университета, служба в драгунском полку. Анрепу было далеко за двадцать, когда его жизненные приоритеты определились. Несколько лет перед войной он провел за границей — в Париже и Лондоне, где изучал искусство мозаики (ставшее его главным занятием), курировал русский отдел на Второй постимпрессионистической выставке и в то же время писал стихи по-русски и по-английски. С начала 1917 года он вновь живет в Англии, служа в Русском правительственном комитете при министерстве по делам Индии (Indian House). Гумилев печатался вместе с ним в «Невском альманахе» (1915), который открывался циклом Анрепа «Человек», а закрывался подборкой ценимого Гумилевым Тихона Чурилина. В стихах Анрепа была выразительность и своеобычность:
Чудится песня внутри: — Я пою, и лес зеленеет — Из стороны в сторону мерно проходит, Я закрыл глаза, и мне сладко; Песня наполнила все тело, Откликнулась о стенки и своды, — Я пою, и лес зеленеет — А я томлюсь, и мне жутко. Я люблю тебя, поющая птица, Вылети из меня И сядь мне на ладонь Около пальцев, Я хочу тебя трогать и ласкать…Борис Анреп, 1910-е. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Строчку «Я пою, и лес зеленеет» Ахматова взяла эпиграфом к своим «Эпическим мотивам». Встреча Ахматовой и Анрепа в 1914 году была важным событием в жизни обоих. Здесь не место излагать все перипетии этого знаменитого романа. Достаточно сказать, что примерно в то время рождались строки Ахматовой, адресат которых легко угадывается:
Ты — отступник: за остров зеленый Отдал, отдал родную страну, Наши песни, и наши иконы, И над озером тихим сосну. Для чего ты, лихой ярославец, Коль еще не лишился ума, Загляделся на рыжих красавиц И на пышные эти дома?С Анрепом связаны и многие другие ахматовские стихотворения — от «Мне голос был. Он звал утешно…» (1917) и знаменитой «Песни о черном кольце» до «Прав, что не взял меня с собой…» (1961). Хотя, разумеется, в них меньше всего можно видеть документальное свидетельство о развитии их отношений.
Гумилев что-то об этих отношениях знал (по всей вероятности, именно Анреп был тем человеком, что повстречался ему и Ахматовой в 1915 году на Московском вокзале). Знал он и об эпизоде с «черным кольцом». Его общению с мозаичистом это не мешало.
20 июня он пишет Ахматовой:
Анреп… очень много возится со мной. Устраивает мне знакомства, возит по обедам, вечерам. О тебе вспоминает, но не со мной. Так, леди Моррелль, дама-патронесса, у которой я провел день под Оксфордом, спрашивала, не моя ли жена та интересная, очаровательная и талантливая поэтесса, о которой ей так много говорил Анреп.
Леди Оттолин Моррелль, упоминаемая здесь, — сестра герцога Портлендского, жена лорда, хозяйка усадьбы Гарсингтон, сыгравшая важную роль в английской литературной жизни предвоенных и послевоенных лет. Она была любовницей Бертрана Рассела и приятельницей трех поколений английских классиков, от Генри Джеймса до Элиота и Хаксли. С 23-летним Хаксли Гумилева познакомили уже в первые дни пребывания в Лондоне. 14 июля будущий автор романа «О дивный новый мир» пишет:
Я встречался с Гумилевым, знаменитым русским поэтом (о котором я, правда, ничего раньше не слышал — но все же!) и редактором газеты «Аполлон». С большим трудом мы беседовали по-французски: он говорит на этом языке с запинками, а я всегда начинаю заикаться и делаю чудовищные ошибки. Тем не менее Гумилев показался мне весьма интересным и приятным человеком[132].
Кроме Анрепа, Гумилев встретил в Лондоне Карла Бечхофера (Бехгофера, как писал сам Гумилев) Робертса, впоследствии много работавшего в близком нам жанре литературной биографии, а в 1914–1915 годы — иностранного корреспондента в Петрограде. Там в декабре 1914-го, в «Бродячей собаке» он познакомился с Гумилевым. Уже в январе 1915-го в одном из престижнейших английских журналов, New Age, был упомянут не названный по имени «волонтер-поэт, только что вернувшийся с фронта». 28 января в New Age (v. XXI. № 9) появляется интервью Гумилева Бечхоферу.
Вот несколько фрагментов из него:
…Завершился великий период риторической поэзии, которой были поглощены почти все великие поэты XIX века. Сегодня основная тенденция состоит в борьбе за экономию слов, что было совершенно чуждо как классическим, так и романтическим поэтам прошлого, например Теннисону, Лонгфелло, Пушкину и Лермонтову… Второй параллельной тенденцией являются поиски простоты образов в отличие от творчества символистов, очень усложненного, выспреннего, а подчас и темного.
Новая поэзия ищет простоты, ясности и точности выражения. Любопытно, что эти тенденции невольно напоминают нам лучшие произведения китайских писателей, и интерес к последним явно растет в Англии, Франции и России…
…Что касается верлибра, то нужно признать, что он завоевал себе права на гражданство в поэзии всех стран. Тем не менее совершенно очевидно, что верлибр должен использоваться чрезвычайно редко, поскольку это — лишь одна их многих недавно возникших форм, которая не может заменить собой все остальные…
…Не думаю, что у футуризма есть будущее хотя бы потому, что в каждой стране — свой собственный, отличный от других футуризм, и все они, взятые вместе, вовсе не создают единой школы. В Италии, например, футуристы являются милитаристами, а в России — пацифистами. Кроме того, они строят свои теории на полном презрении к искусству прошлого, а это неминуемо окажет дурное влияние на их художественные достижения, вкус и технику.
…Нарождающаяся поэтическая драма может прийти на смену старому театру.
…Время эпоса еще не настало. Эпос обычно появляется вслед за событиями, которые он воспевает, мы же сейчас находимся в центре великих событий…
…Остается еще мистическая поэзия… В России до сих пор сильна вера в Третий Завет… Мистическая поэзия связана с этими ожиданиями. Во Франции также можно надеяться на ренессанс мистической поэзии, элементы которой обнаруживаются в творчестве Поля Клоделя и Франсиса Жамма. Возможно, она будет развиваться в традициях французского неокатолицизма или под влиянием философских идей Бергсона[133].
Интервью вызвало дискуссию в журнале. Бечхофер в двенадцатом номере (19 июля) выступил в поддержку высказываний Гумилева, который, по его словам, «хорошо известен в России и среди переводчиков с русского на Западе как лидер молодой школы в русской поэзии, а также как влиятельный литературный и художественный критик».
К сожалению, соответствующих номеров New Age нет ни в одной российской библиотеке. Как указывает Э. Русинко, этот журнал (среди авторов которого были Паунд и Т. Е. Хьюм) перед войной, в период «русского бума», часто публиковал произведения русских писателей — Брюсова, Сологуба, Соловьева, Мережковского и др. Не будем забывать, что в 1916 году Великобританию посетила большая делегация русских писателей и общественных деятелей, в которую входили В. Д. Набоков, А. Н. Толстой, К. И. Чуковский, Вас. И. Немирович-Данченко и др., удостоившаяся приема у короля (с которым Чуковский якобы попытался завести разговор об Оскаре Уайльде). Ответная делегация посетила Россию в начале 1917 года. Гумилев писал Лозинскому: «Отношение к русским здесь совсем не плохое, а к революции даже прекрасное…»
Бечхофер служил, как и Анреп, в Indian House. Там же состоял на службе Вадим Гарднер (полное имя — Вадим Данилович де Пайва Перера Гарднер) — член Цеха поэтов в последний год его существования, сын русской писательницы (урожденной Дыховой) и гражданина Северо-Американских Соединенных Штатов, латиноамериканца родом. Гумилев так характеризует лондонскую жизнь этого своего петербургского знакомого в письме к Ахматовой: «…Проводит время исключительно в обществе третьеразрядных кокоток и презирает Лондон и все английское — этакий Верлен».
Кроме Бечхофера, акмеисты сталкивались с еще одним британским специалистом по России, переводчиком Джоном Курносом. Однако последний оказался, по словам Гумилева, «безызвестным графоманом»[134]. «Но есть другие хорошие переводчики, которые займутся русской поэзией» (из того же письма Ахматовой). Вероятно, имеется в виду Морис Беринг, позднее издавший «Оксфордскую антологию русской поэзии». Гумилев довольно тесно общался с ним в Лондоне. Накануне отъезда из Англии он просит Лозинского выслать книги нескольких русских поэтов (Анненского, Белого, Мандельштама, Ходасевича, Кузмина, Клюева) — вероятно, именно для нужд переводчиков.
Через Бечхофера Гумилев начал знакомиться с английскими поэтами. У него должно было найтись немало точек соприкосновения с теми из них, кто, подобно ему, стремился к «экономии слов» и интересовался китайской культурой. Как указывает Э. Русинко, Гумилев мог знать о Паунде и имажизме из статьи З. Венгеровой в журнале «Стрелец» (1915, № 1), хотя эта статья, озаглавленная «Английские футуристы», могла лишь дезориентировать его. С другой стороны, Гумилев мог найти близкие себе черты в творчестве поэтов противоположной школы — «георгианцев»; судьба их вождя Руперта Брука, тоже ушедшего добровольцем на войну и умершего — как Байрон! — в полевом госпитале на одном из островов Эгейского моря, должна была его взволновать. В каких пределах он знал в это время английский? Скорее всего, на корабле он усиленно занимался языком, пытаясь восстановить в памяти былые самостоятельные штудии в Слепневе и позднейшие университетские уроки. После двух недель жизни в Лондоне он в письме Лозинскому сообщает: «По-английски уже объясняюсь, только понимаю плохо». По-видимому, разговорный английский он так толком и не освоил (везде, где можно, он старался переходить на французский), но, несомненно, более или менее свободно читал на этом языке и с английской поэзией мог знакомиться в оригинале.
Но отзывы знакомых создали у него предубежденное представление о современных английских поэтах («Все в один голос говорят, что хороших сейчас нет и у большинства обостренные отношения» — из письма к Ахматовой). Тем не менее он посещает самого значительного англоязычного лирика той поры — Уильяма Батлера Йейтса, которого он называет «английским Вячеславом».
Сходство Йейтса, великого мифотворца и единственного настоящего символиста в британской поэзии, с Вячеславом Ивановым усиливается еще и тем, что Йейтс как раз в 1917 году купил свою Башню — «Тур Баллили», правда, не в центре Лондона или Дублина, а в чистом поле, среди ирландских вересковых равнин. Сходство усугублялось и женитьбой Йейтса (тоже как раз в 1917 году) на дочери его многолетней возлюбленной Мод Ганн. Йейтс, ирландец (соотечественник Гондлы!) и страстный патриот своего острова (и притом — протестант, что придавало его патриотизму особенно трагический характер), возразил бы против определения «английский». Трудно сказать, о чем шел разговор в его доме в день, когда Гумилев нанес ему визит. Недавно, на Пасху 1916 года, отгремел кровавый ирландский мятеж, и Йейтс воспел его. Если бы Гумилев знал эти стихи, они должны были бы ему понравиться, эти и ныне знаменитые строки о вождях мятежников, четырех заурядных людях, ставших героями, потому что — terrible beauty is born: ужасная красота родилась.
В момент встречи с Гумилевым Йейтсу было 52 года, и ему еще предстояло написать свои лучшие стихи. Гумилев вывезет из Англии его книжку, по которой спустя четыре года переведет (или по крайней мере начнет переводить) раннюю пьесу Йейтса «Графиня Кэтлин» и которую подарит весной 1921-го Наталье Залшупиной, сотруднице издательства «Петрополис».
В интервью New Age Гумилев называет имя Йейтса и еще двух английских поэтов. Первый — A. E., Альфред Э. Хаусмен, профессор-латинист, печатавший лирические стихи под литерами. У Гумилева сразу же должна была возникнуть ассоциация с поэтом Ник. Т-о. Но стихи Хаусмена ничем не похожи на поэзию Анненского; его «Шропширский парень» (Гумилев в Лондоне купил и эту книгу) — аскетически простая и лаконичная лирика, проникнутая фольклорными мотивами. Казалось бы, нет ничего более далекого от поэтического мэйнстрима XX века, а между тем у себя на родине Хаусмен уже столетие — один из любимых поэтов. В числе трех названных Гумилевым авторов, что примечательно, нет Киплинга (мода на него в Англии уже прошла, в России еще не началась), но есть его антипод — Честертон. В России его знали только по «Человеку, который был четвергом» (роман был переведен перед самой войной). «Мне обещали устроить встречу с Честертоном, которому, оказывается, за сорок и у которого около двадцати книг. Он пишет также и стихи, совсем хорошие».
Гилберт Кит Честертон, 1910-е
Неизвестно, в какой мере Гумилев представлял себе политические и культурологические идеи Честертона — его страх перед Востоком, ненависть к богеме, мелкопоместный консерватизм и феодальный социализм. В контексте того, что мы знаем о встрече двух писателей, это достаточно любопытно. Описание встречи сохранилось в мемуарах английского классика. Встреча произошла в доме леди Джулиет Дафф, и в разговоре участвовал Хилар Беллок — друг Честертона, знаменитый консервативный мыслитель и поэт-юморист.
Анекдот о том, как мы с мистером Беллоком настолько увлеклись беседой, что не заметили воздушного налета… не лишен оснований…
Майор Морис Беринг… привел какого-то русского в военной форме. Последний говорил без умолку, несмотря даже на попытки Беллока перебить его — что там какие-то бомбы! Он произносил непрерывный монолог по-французски, который всех нас захватил. В его речах было качество, присущее его нации, — качество, которое многие пытались определить и которое, попросту говоря, состоит в том, что русские обладают всеми возможными человеческими талантами, кроме здравого смысла. Он был аристократом, землевладельцем, офицером одного из блестящих полков старой армии — человеком, принадлежащим во всех отношениях к старому режиму. Но было в нем нечто, без чего нельзя стать большевиком, — нечто, что я замечал во всех русских, каких мне приходилось встречать. Скажу только, что, когда он вышел в дверь, мне показалось, что он вполне мог бы удалиться и через окно. Он не коммунист, но утопист, причем утопия его намного безумнее любого коммунизма. Его практическое предложение состояло в том, что только поэтов следует допускать к управлению миром. Он торжественно объявил нам, что и сам он поэт. Я был польщен его любезностью, когда он назначил меня как собрата-поэта абсолютным и самодержавным правителем Англии. Подобным образом Д’Аннунцио возведен был на итальянский, а Франс — на французский престол… Он уверен в том, что, если политикой будут заниматься поэты или, по крайней мере, писатели, они никогда не допустят ошибок и всегда смогут найти между собой общий язык. Короли, магнаты или народные толпы способны столкнуться в слепой ненависти, литераторы же поссориться не в состоянии. Примерно на этом этапе нового социального устройства я стал различать звуки за сценой (как обычно пишут в ремарках), а затем вибрирующий рокот и гром небесной войны. Пруссия, подобно Сатане, извергала огонь на город наших отцов, и что бы там ни говорили против нее, поэты ей не управляют. Разумеется, мы продолжали беседу… Мне трудно вообразить более удивительные обстоятельства собственной смерти, чем эту сцену в большом доме в Мэйфере, когда я слушал безумного русского, предлагавшего мне английскую корону.
Как известно, сходные идеи Гумилев развивал и позднее — в Петрограде в дни военного коммунизма. Но кто, следуя подобной логике, должен был бы возглавить Россию? Ее крупнейшим и самым знаменитым поэтом был на тот момент автор «Двенадцати». Гумилев, возможно, претендовал бы на роль главнокомандующего или военного министра (и имел бы на это все права, так как в ноябре 1917-го указом Совнаркома на эту должность был назначен прапорщик Крыленко). По одному из апокрифов, в августе 1921 года на вопрос следователя о своей предполагаемой должности в случае успеха заговора Гумилев ответил: «командующий Петроградским военным округом»… (Напомним, как кончается «Гондла»: королем Ирландии избран «вольный бард», и его сын, всеми презираемый поэт-горбун, оказывается законным наследником престола.)
Так или иначе, «берег туманный Альбиона» Гумилев покидает в отличном настроении. Он полон планов: после войны гиперборейские книги можно будет печатать в Англии: бумага и типографские расходы там не в пример дешевле. «Я чувствую себя совершенно новым человеком, сильным, как был, и помолодевшим, по крайней мере, на пятнадцать лет…» — пишет он Лозинскому. В таком настроении он отправляется в Париж. Он предполагает ехать в Салоники через Францию и Италию. Для этого он специально запасся рекомендательными письмами к итальянским писателям — в том числе к Джованни Папини.
3
Однако тем временем с родины приходили вести все более тревожные. Временное правительство теряло власть над страной, армия разлагалась, положение на фронте становилось катастрофическим; 3 (15) июля произошла первая попытка большевистского путча.
Письма Ахматовой из Слепнева к Срезневским хорошо характеризуют ее настроение и окружающую обстановку.
22 июля:
Мужики клянутся, что дом (наш) на их костях стоит, выкосили наш луг, а когда для разбора этого дела приехало начальство из города, они слезно просили: «Матушка барыня, это в последний раз». Тоже социалисты!
30 июля:
Крестьяне обещают уничтожить нашу Слепневскую усадьбу 6 августа, пот<ому> что это местный праздник и к ним приедут гости. Недурной способ занимать гостей!
16 августа:
Единственное место, где я дышала вольно, был Петербург. Но с тех пор как там завели обычай ежемесячно поливать мостовые кровью граждан, он потерял некотору часть своей прелести в моих глазах.
Неудивительно, что в такой ситуации Гумилев приложил все усилия, чтобы задержаться в Париже — и в случае опасности иметь возможность вывезти из России семью. В конце октября он пишет Ахматовой:
Дорогая Анечка,
ты, конечно, сердишься, что я так долго не писал тебе, но я нарочно ждал, чтобы решилась моя судьба. Сейчас она решена. Я остаюсь в Париже в распоряжении здешнего наместника от Временного правительства, т. е. вроде Анрепа, только на более интересной и живой работе. Меня, наверно, будут употреблять для разбора разных солдатских дел и недоразумений. Через месяц, наверно, выяснится, насколько мое положение здесь прочно. Тогда можно будет подумать и о твоем приезде сюда, конечно, если ты сама его захочешь. А пока я еще не знаю, как велико будет здесь мое жалованье. Но положение во всяком случае исключительное и открывающее при удаче большие горизонты.
Гумилев не знал, что как раз в это время Анреп звал Ахматову в Лондон…
Службу Гумилеву удалось получить с помощью новых друзей, которые появились у него сразу же по приезде в Париж.
Этой паре суждено было занять важное место в истории русского и мирового искусства XX века. Михаил Федорович Ларионов (1881–1964) и Наталья Сергеевна Гончарова (1881–1962), крупнейшие представители того, что терминологически не совсем точно называют «русским авангардом», участники «Бубнового валета», основатели отколовшейся от него группы «Ослиный хвост», оказались в Париже в 1914 году, выехав на гастроли с «Русскими сезонами» Дягилева. Великий импресарио, чуткий к новому, пригласил в качестве сценографов скандально знаменитых молодых художников — к возмущению и оскорблению уже всемирно знаменитых, даже помянутых на страницах прустовской эпопеи, Бенуа и Бакста. Вместе с Дягилевым Ларионов и Гончарова остались в Париже на всю войну. Как раз в 1917 году они хлопотали о продлении давно просроченных паспортов и о приезде в Россию, но в итоге остались в Париже на всю жизнь.
Вкусы Гумилева в живописи были, как мы знаем, достаточно консервативны. Но с четой художников-москвичей его могла сблизить любовь к Гогену и интерес к культуре Востока. Не менее важно другое: перед ним был союз двух равноправных и самодостаточных творческих людей, сумевших реализовать себя в одном и том же искусстве. Гумилев не мог не думать о себе и Ахматовой, хотя брак Гончаровой и Ларионова (между прочим, до глубокой старости не освященный церковью) был гораздо прочней и гармоничнее.
Ларионов и Гончарова несколько раз рисовали Гумилева — в дни их парижской дружбы и позднее. Один из рисунков Гончаровой воспроизведен в газете «Россия и славянство» (1931, 29 августа). Николай Степанович изображен ею в гусарской форме — и верхом на жирафе.
Гумилев в свою очередь посвятил художникам стихотворение, в книги его не вошедшее:
Восток и нежный и блестящий В себе открыла Гончарова, Величье жизни настоящей У Ларионова сурово. В себе открыла Гончарова Павлиньих красок бред и пенье, У Ларионова сурово Железного огня круженье.У Гумилева то, что разделяет художников, не менее важно, чем то, что их роднит. «Павлиньих красок бред и пенье» и «величье жизни настоящей» — это ведь полюса его собственного творчества.
И Ларионову и Гончаровой оставалось жить еще долгие десятилетия. Но все самое главное они уже создали. Позади были и «неопримитивизм», и «лучизм».
Кто видит сон Христа и Будды, Тот стал на сказочные тропы. Снопы лучей и камней груды — О, как хохочут рудокопы!Кроме этого стихотворения, Гончаровой посвящен рассказ «Черный генерал»; Гумилева вдохновила на него хранившаяся у художницы индийская миниатюра, изображавшая индуса в британской генеральской форме.
У Ларионова, Гончаровой и Гумилева возникло множество общих творческих планов. Но для начала надо было помочь поэту остаться в Париже.
Как свидетельствует Ларионов, через Альму Эдуардовну Полякову, «вдову банкира»[135], они вышли на генерала Михаила Александровича Занкевича[136], ведавшего отправкой войск, и он своей волей задержал Гумилева во Франции. Вместе с ним было задержано еще два прапорщика. (Всего в Салоники, в дополнение к уже прибывшим ранее, направлялось 32 офицера, но к сентябрю ни один из них так на место службы и не явился.) Тем временем, а может, и несколькими днями раньше Гумилев знакомится с Евгением Ивановичем Раппом, юристом-эсером, который был назначен комиссаром Временного правительства в Париже. Рапп предложил Гумилеву должность офицера для особых поручений при себе, и поэт с радостью принял предложение.
Наталья Гончарова, 1910-е
Комиссар был назначен в Париж Керенским «для реорганизации армии на демократических началах и в революционном духе». Имелись в виду русские бригады во Франции. В составленном Гумилевым 21 августа (3 сентября) черновике приказа Раппа сказано:
При посещении мною дивизии я убедился, что, несмотря на появление в приказе более месяца тому назад телеграммы Военного министра о моем назначении, войска, не исключая, к сожалению, командного состава, не уяснили себе роли и значения Комиссара Временного правительства при войсках.
Считаю долгом потому разъяснить, что Комиссар является лицом, облеченным особым доверием Временного правительства и Исполнительного комитета Совета солдатских и рабочих депутатов и носителем их власти. В связи с этим полномочия его распространяются на все отрасли военного управления и военной жизни, за исключением одних только оперативных (боевых) распоряжений командного состава.
Институт правительственных комиссаров в армии только зарождался, и ему предстояло пройти долгий путь, от патетической Ларисы Рейснер и нелепого Фурманова до поэта Бориса Слуцкого, этого трагического красного золотопогонника, чтобы в конце концов выродиться в тихих «офицеров по воспитанию кадров» нынешней российской армии. Но что работает в тоталитарном государстве, то оказывается губительным или в лучшем случае бесполезным в охваченной стремительной энтропией демократической республике, да еще с Временным правительством во главе. «Поддержка демократических органов самоуправления» в армии приводила к результатам неожиданным… или вполне ожидаемым.
Не позднее 28 июля (10 августа) Гумилев приступил к новым обязанностям. Однако лишь через два месяца сложная переписка между Генеральным штабом, военным агентом во Франции графом А. А. Игнатьевым (тем самым — «пятьдесят лет в строю, ни одного дня в бою») и Политическим управлением Военного министерства завершилась утверждением поэта в должности с окладом 732 рубля в год. С учетом надбавок он получал в месяц 106 рублей — сумму довольно значительную.
Михаил Ларионов, 1910-е
Сам Гумилев относился к этой волоките, видимо, нервозно — и 14 (27) сентября подал Раппу стихотворный рапорт.
За службу верную мою Пред родиной и комиссаром Судьба грозит мне, не таю, Совсем неслыханным ударом. Должна комиссия решить, Что ждет меня — восторг иль горе: В какой мне подобает быть Из трех фатальных категорий. Коль в первой — значит суждено: Я кров приветный сей покину И перееду в Camp Cournos Или в мятежную Куртину. А во второй — я к Вам приду — Пустите в ход свое влиянье: Я в авиации найду Меня достойное призванье. Мне будет сладко в вышине, Там воздух чище и морозней, Оттуда не увидеть мне Контрреволюционных козней. Но если б рок меня хранил И оказался бы я в третьей, То я останусь там, где был, А вы стихи порвите эти.Николай Гумилев. Рисунок М. Ф. Ларионова, 1917 год
Николай Гумилев. Рисунок М. Ф. Ларионова, 1917 год
Гумилев «остался, где был». С Раппом ему работалось хорошо. Игнатьев, в своих известных мемуарах яростно третирующий Занкевича (неудивительно — сферы служебной компетенции двух генералов смешивались), с неожиданным добродушием отзывается о комиссаре-эсере.
Евгений Иванович перенял у французов лишь вежливую и напыщенную манеру обращения с новыми знакомыми, теряя всю важность, как только переходил в разговоре с французского на русский… Гражданин комиссар писал какие-то поучительные приказы (мы знаем, кто писал их на самом деле. — В. Ш.), но по существу оказался самым благодушным интеллигентом и подбадривал себя лишь своим никому не ведомым революционным прошлым и происхождением из военной семьи.
Другими словами, комиссар Рапп едва ли мог быть особенно суровым и придирчивым начальником для поэта…
Что касается альтернативных планов, то намерение поступить в авиацию более чем понятно: еще в 1911 году его воображение пленяли те, кто «пронзает облака» «на тяжелых и гулких машинах». В конце Первой мировой летчиком стал 54-летний Габриэль Д’Аннунцио. Свой авиатор был и у футуристов (Каменский) и в Цехе поэтов (Бруни), в авиаполк под чужим именем записался в 20-е годы «эмир Динамит» — полковник Лоуренс, и так далее, вплоть до кумира отечественных «шестидесятников» XX века графа де Сент-Экзюпери, — так что Гумилев попал бы в хорошую и естественную для себя компанию. Другим вариантом был «Camp Cournos, или мятежная Куртина», — русские бригады во Франции, или то, во что они к сентябрю превратились. Поэт имеет в виду печальные и постыдные события, свидетелем и хроникером которых ему пришлось стать.
В результате «переустройства армейской жизни на демократической основе» русские части во Франции стали практически небоеспособны. Пока войска находились в окопах, положение еще оставалось более или менее удовлетворительным. Но 20 апреля 1-ю и 3-ю бригады, понесшие большие потери (пять тысяч убитыми), отвели в тыл. Там они стали благодатным полем для агитаторов-большевиков, среди которых был, между прочим, известный историк М. Н. Покровский (по указанию Временного правительства в воинские части беспрепятственно допускались «лекторы»). Вместо военных учений начались бесконечные митинги с требованием возвращения в Россию. Отношение к офицерам стало резко враждебным, их приказы перестали выполняться. Постепенно части охватило повальное пьянство; были многочисленные случаи мародерства и нападения на женщин. Даже в госпиталях русские раненые отказывались наравне со всеми нести наряды на кухне, убирать территорию, утверждая, что они подчиняются только своим «солдатским комитетам». Опасаясь дурного влияния русских на собственные войска, французы не желали вновь ставить их на боевую линию. Безделье привело к полному разложению. При этом в первую очередь разложилась 1-я бригада, состоящая из рослых православных чудо-богатырей, в то время как 3-я (в которой было немало «ратников» — т. е. призванных из запаса наскоро обученных резервистов) более или менее держалась. В июне бригады были объединены в одну Особую дивизию и размещены в лагере Ля-Куртин, где должны были ждать отъезда в Россию. Всего там находилось 318 офицеров, 18 687 (или 16 187) солдат и 1718 лошадей. О дальнейшем сказано в обзорном докладе, подготовленном прапорщиком Н. С. Гумилевым по поручению Занкевича и Раппа, вероятно, для отправки в Петербург:
…Брожение не прекращалось. Им руководил 1-й полк, исполнительный комитет которого начал выпускать бюллетени ленинского, с оттенком махаевского, направления. Только что составленный отрядный комитет, созданный из наиболее развитых и сознательных солдат, парировал разрушительную работу… Опасаясь возрастающего влияния комитета, руководители 1-го полка в ночь с 23 на 24 июня провели митинг… На этом митинге отрядный комитет был объявлен низложенным, хотя он был избран всего две недели тому назад. Одновременно приказание начальника дивизии о выходе на занятия не было исполнено солдатами 1-й бригады. Воззвание, выпущенное ими, поясняло, что заниматься не имеет смысла, так как решено больше не воевать. Тем временем враждебные отношения между первой и второй[137] бригадой стали угрожать острым конфликтом. Сами солдаты второй бригады настойчиво просили оградить их от мятежной первой. Потому генералом Занкевичем… отдано распоряжение, чтобы солдаты, безусловно повинующиеся Временному правительству, покинули лагерь Ля-Куртин, захватив с собой все снаряжение.
В этом докладе — в первый и последний раз — появляется у Гумилева имя Ульянова-Ленина в связке с именем В. К. Махайского, идеолога-анархиста конца XIX века, считавшего интеллигенцию эксплуататорским классом, враждебным рабочим и крестьянам. Вероятно, «махаевщина» была актуальной темой в 1903 году, когда Гумилев увлекался марксизмом, — и спустя четырнадцать лет это слово всплыло в его сознании.
После ухода лояльных солдат (которых изолировали в лагере Курно) в Ля-Куртин оставалось 12 тысяч человек, в том числе почти вся 1-я бригада. Офицеры в подавляющем большинстве покинули лагерь.
На некоторое время про Ля-Куртин забыли, но в июле поступил приказ Керенского «привести к повиновению» мятежников. Занкевич и Рапп снова начали переговоры, надеясь избежать кровопролития, но куртинцам все это лишь прибавляло гонора. Ларисы Рейснер на них не было (Ларисы в изображении Всеволода Вишневского, конечно!). Тогда куртинцам был объявлен ультиматум.
После этого из Ля-Куртин ушло еще шесть тысяч человек. Остальные (по сообщению Гумилева, 8154 солдата) остались. Лишь в августе им перестало поступать денежное довольствие и было сокращено продовольственное. 14 сентября перестает поступать и оно, но запасы продуктов в Куртине были достаточно велики, чтобы выдержать даже настоящую осаду. Однако Занкевич наконец отважился на силовое решение проблемы — тем более что из России прибыла свежая Особая артиллерийская бригада генерала Беляева. После нескольких дней переговоров и попыток взаимно «разагитировать» друг друга, 16 сентября артиллеристы и солдаты из Курно начали обстрел «мятежной Куртины». Всего в этот следующий день было сделано 48 выстрелов картечью, вслед за чем все, кроме нескольких сотен зачинщиков, капитулировали. Остальные, в том числе предводитель мятежников некто Глоба, сдались 17-го.
К тому времени, когда Глобу и его сподвижников депортировали в Петроград, ситуация там изменилась настолько, что их встречали как героев. Остальные воины русских бригад были тоже по большей части репатриированы, где приняли (на той или иной стороне) участие в Гражданской войне. Из тех немногих, кто желал и дальше сражаться против немцев, был создан батальон французской армии.
Таким было самое серьезное из «солдатских недоразумений», которые пришлось разбирать Раппу и Гумилеву.
Вероятно, именно эти события вдохновили Гумилева на его чуть ли не единственное прямо политическое стихотворение — «Франция», датированное уже 1918 годом. Конечно, оно перекликается с его юношеским, десятилетней давности, текстом. Там Франция — «только слабая жена народов грубости и силы», нуждающаяся в поддержке и защите своих суровых северных друзей. В 1918 году все выглядит иначе. Франция ныне — страна героев:
Только небо в заревых багрянцах Отразило пролитую кровь, Как во всех твоих республиканцах Пробудилось рыцарское вновь. Вышли кто за что: один — чтоб в море Флаг трехцветный вольно пробегал, А другой — за дом на косогоре, Где еще ребенком он играл; Тот — чтоб милой в память их разлуки Принесли «Почетный легион», Этот — так себе, почти от скуки, И средь них отважнейшим был он!Славе Франции противопоставлен позор России:
Мы собрались там, поклоны клали, Ангелы нам пели с высоты, А бежали — женщин обижали, Пропивали ружья и кресты. Ты прости нам, смрадным и незрячим, До конца униженным, прости! Мы лежим на гноище и плачем, Не желая Божьего пути.Заканчиваются эти нехарактерные для автора стихи, однако, совсем по-гумилевски:
В каждом, словно саблей исполина, Надвое душа рассечена, В каждом дьявольская половина Радуется, что она сильна. Вот, ты кличешь: «Где сестра Россия, Где она, любимая всегда?» Посмотри наверх: в созвездьи Змия Загорелась новая звезда.…Из других «мелких солдатских дел», в связи с которыми в документах упоминается имя поэта, стоит отметить, пожалуй, лишь дело поручика Штакельберга. Последний, «официально изобличенный в принадлежности к секретным сотрудникам заграничного охранного отделения», был «исключен из чинов Артиллерийской комиссии» (одного из русских военных учреждений во Франции), но был прикомандирован к военному агенту и получал жалованье в его конторе (потомственный черносотенец и будущий советский генерал Игнатьев должен был сочувствовать такого рода людям). Штакельберг продолжал являться в Артиллерийскую комиссию и устраивал сцены своим бывшим сослуживцам. Гумилев по поручению Раппа составил письмо с требованием отозвать Штакельберга в Россию «как лицо, явно недостойное носить военный мундир». Игнатьев, однако, от выполнения этого распоряжения уклонился.
Гумилев стал необходим Раппу. Комиссар даже ходатайствовал перед военным комендантом Парижа об освобождении «своего» офицера от обязательных дежурств, «так как в его отсутствие вся работа останавливается»[138].
4
Однако главным содержанием жизни Гумилева в Париже была отнюдь не служба при комиссаре.
Замысел Ларионова и Гончаровой заключался в том, чтобы склонить Дягилева заказать Гумилеву какое-нибудь либретто для балета и таким образом дать своему новому другу возможность заработать.
Дягилев, собственно, не возражал, но труппа его вскоре уезжала на гастроли в Венецию, времени не было, и он предоставил Ларионову и Гончаровой вести переговоры с Гумилевым самостоятельно. Поэт предложил переделать в балет «Гондлу». Оформить этот спектакль должен был Ларионов, музыку написать взялся английский композитор лорд Бернерс. Как вспоминал Ларионов,
либретто балетное требует специальной обработки. У Ник. Степ. не было в этом отношении никакого опыта. Гондла давал богатый материал, но перевести его в действенное только состояние… для Н. С. было трудно сразу. Он всю жизнь до этого работал главным образом со словом. Время шло, Дягилев уехал в Венецию. У нас еще ничего не было готово…
Решено было приостановить этот проект и заняться вторым. Речь шла о пьесе «Феодора» (в окончательном варианте — «Отравленная туника»), которая с самого начала была задумана в первую очередь как балетное либретто. Этот спектакль должна была оформлять Гончарова, а музыку предполагалось заказать Респиги. Гумилев написал пьесу за несколько дней. Что представлял собой ее первый вариант, трудно сказать, но в том виде, в каком она до нас дошла, «Отравленная туника» еще дальше от балетного либретто, чем «Гондла».
Если «Гондла» — сказочная романтическая пьеса, в которой наряду с людьми действуют (хотя и безмолвствуют) волки и лебеди, то «Отравленная туника» — психологическая драма, написанная на документальной исторической основе и притом с соблюдением классицистских трех единств. Это самая «литературная», самая риторическая из гумилевских пьес. Место ее действия — двор Юстиниана, воспроизведенный по хронике Прокопия Кесарийского. Ее герой, арабский поэт Имр-уль-Кас, соответствует третьей человеческой маске Гумилева, или его третьей «душе». «Маг» Гафиз неуязвим, «колдовской ребенок» Гондла гибнет, побеждая; но бродяга, воин и любовник Имр знает только мучительную гибель и поражение. Находка автора — то, что араб Имр по большей части говорит в рифму (в то время как все остальные персонажи, греки, изъясняются белым стихом). Таким образом подчеркивается различие версификационных (и стоящих за ними культурных) традиций.
Есть в пьесе и некая отсылка к актуальным событиям 1917 года. По крайней мере завершавший ее монолог императрицы Феодоры, обращенный к ее падчерице Зое, звучал актуально — и совсем не контрреволюционно:
Ты здесь жила, как птица из породы Столетья вымершей, и про тебя Рабы и те с тревогой говорили. Кровь римская и древняя в тебе, Во мне плебейская, Бог весть какая. Ты девушка была еще вчера, К которой наклонялся только ангел, Я знаю все притоны и таверны, Где нож играет из-за женщин, где Меня ласкали пьяные матросы. Но чище я тебя и пред тобой Я с ужасом стою и с отвращеньем. Вся грязь дворцов, твоих пороки предков, Предательство и низость Византии В твоем незнающем и детском теле Живут теперь, как смерть живет порою В цветке, на чумном кладбище возросшем. Ты думаешь, ты женщина, а ты Отравленная брачная туника, И каждый шаг твой — гибель, взгляд твой — гибель, И гибельно твое прикосновенье! Царь Трапезондский умер, Имр умрет, А ты живи, благоухая мраком. Молись! Но я боюсь твоей молитвы, Она покажется кощунством мне.Разумеется, до постановки и в данном случае дело не дошло: Дягилев и его труппа из Италии отправились в Испанию, там возникли какие-то денежные осложнения… «Отравленная туника» дописывалась в начале 1918-го уже в Лондоне и была напечатана лишь в 1952 году Глебом Струве. По странной случайности она стала первым произведением Гумилева, увидевшим свет в России после окончательного снятия запрета на его имя (которое совпало со 100-летней годовщиной его рождения).
Кроме пьесы, Гумилев пишет в Париже многочисленные любовные стихи. Адресат их — некая Елена Карловна Дюбуше, секретарь санитарного отделения русской военной миссии, полурусская-полуфранцуженка. «Она была необыкновенна тем, что, будучи строгой и неприступной девушкой, совершенно сникала и смягчалась, когда он читал ей стихи» (Арбенина). Влюбленность Гумилева в данном случае была неразделенной. Елена Дюбуше была невестой некоего американского бизнесмена Ловеля — и вскоре вышла за него замуж.
Вот девушка с газельими глазами Выходит замуж за американца. Зачем Колумб Америку открыл?!Многочисленные стихотворения, посвященные «девушке с газельими глазами», записывались в особый альбом и частью вошли в книгу «Костер», частью были изданы в 1923 году под названием «К синей звезде». Поражает то, насколько точно был совершен Гумилевым отбор. Почти все стихи, включенные в книгу, — хороши. Почти все, оставшиеся при жизни поэта в рукописи, — заурядны. Чрезмерная плодовитость Гумилева не означала отсутствия у него критического чутья к собственным стихам. Это был его метод работы: отбор производился уже среди написанного на бумаге. Но, возможно, временами он заставлял себя писать или поддавался не вполне созревшим творческим импульсам; и, может быть, этот «ложный профессионализм» несколько задержал развитие Гумилева-поэта.
Среди стихов к Дюбуше есть несколько «канцон». Этот поэтический жанр (в новой интерпретации) Гумилев считал своим изобретением. Гумилевская «канцона» не имеет ничего общего с классической итальянской. Это стихотворение из пяти четверостиший (Гумилев считал именно такую длину стихотворения оптимальной), в первых трех строфах которого развивается мотив философский или пейзажный, а в двух последних появляется образ лирической героини. Увы, далеко не всегда завершение таких стихотворений — на уровне первых строф. Порою возникает ощущение, что поэт портит прекрасные стихи слащавой «галантностью».
Лучшее из созданного Гумилевым в Париже — это все же не стихи «к синей звезде», а философская лирика из «Костра»: «Прапамять», «Творчество», «Природа». Последнее стихотворение принадлежит, на наш взгляд, вершинным шедеврам автора; без него немыслима хорошая антология русской поэзии XX века. Лишь в «Огненном столпе» есть у Гумилева несколько вещей такого же уровня. Именно в «Костре» формируется то, что можно назвать стилистикой зрелого Гумилева: сочетание жесткой риторической конструкции текста, внятности изложения и даже конкретности деталей («скачка каких-то пегих облаков») — с фантастическим, бредовым, сновидческим основным образом.
Рисунок Гумилева и автограф иронического хокку в альбом Н. Э. Радлова, 1917 год
Одновременно и после «Костра» Гумилев работает над книгой менее значительной — «Фарфоровым павильоном», собранием вольных переложений классической китайской поэзии. Источником послужила французская антология «Яшмовая книга», составленная дочерью Теофиля Готье Жюдит Готье. Среди стихотворений, избранных Гумилевым для перевода, были произведения величайших классиков — Ли Бо («Ли Тай Пе» в гумилевской транскрипции), Ду Фу («Чу Фу»), Юань Цзы («Уань Чие»). Если Гумилев и не знал китайских стихов Паунда, его интерпретация восточной поэзии была (судя по интервью Бечхоферу) близка русскому поэту. Но, в отличие от американского собрата, автор «Фарфорового павильона» имел дело с французскими прозаическими переводами. Поэтому ему не удалось избежать в своих переложениях европейских романтических поэтизмов. Китайская культура была слишком сложной, старой — и слишком поверхностно известной. Настоящее вдохновение посещает Гумилева, когда он сталкивается с аннамским (вьетнамским) фольклором, в котором он встречает знакомую ему по Абиссинии тропическую дикость. Чего стоит хотя бы такая «детская песенка»:
Что это так красен рот у жабы, Не жевала ль эта жаба бетель? Пусть скорей приходит та, что хочет Моего отца женой стать милой! Мой отец ее приветно встретит, Рисом угостит и не ударит, Только мать моя глаза ей вырвет, Вырвет внутренности из брюха.Все это, однако, не исчерпывало литературную жизнь Гумилева в Париже в 1917 году. Несомненно, он встречался и с французскими писателями. Одоевцевой он говорил, что «чаще других» встречался с Моррасом[139]. По утверждению Адамовича, мэтр рассказывал ему, что в Лондоне он «целый вечер проговорил с Честертоном», а в Париже «Андре Жид ввел его в лучшие литературные салоны». Но «в сравнении с довоенным Петербургом это было несколько провинциально». Однако если подробности встречи Гумилева с Честертоном нам известны, то про его общение с классиком французской литературы по сей день мы не знаем ничего, кроме этого глухого свидетельства. Которому нет оснований особенно доверять… Если верить Адамовичу, Гумилев рассказывал о встречах и с Киплингом, и с Габриэлем Д’Аннунцио, которым якобы правил стихи. Вероятно, в данном случае Георгий Викторович опустил сослагательное наклонение. Но вообще-то в своих литературных мемуарах он врет не меньше, чем его друг Георгий Иванов, только не из любви к процессу додумыванья и досочинения прошлого, как тот, а по равнодушию к презренной истине факта.
5
Однако из России приходили вести странные: о свержении Временного правительства и о захвате всей власти Советом, о разгоне новоизбранного Учредительного собрания, об установлении диктатуры партии большевиков во главе с Лениным, о начале сепаратных переговоров с Германией. Переварить и осмыслить все эти новости было трудно. Для Гумилева они означали прекращение его службы, а значит, и жалованья.
Вновь возникает «персидский» проект, увлекавший поэта годом раньше. Английской армии на Персидском фронте, а точнее — в Месопотамии требовались офицеры-добровольцы. Благодаря подрывной деятельности Лоуренса там, в глубине Османской империи, как раз закипела хорошая кашица, и по сей день не перекипевшая. Русский военный агент в Англии с доблестной фамилией Ермолов вел по этому поводу переговоры с Занкевичем (а не со вздорным Игнатьевым). Всего было 26 вакансий, в том числе 16 — для кавалеристов. Правда, в основном они заполнялись русскими офицерами, находившимися в Англии.
26 декабря (8 января) Гумилев подал Раппу новый стихотворный рапорт:
Наш комиссариат закрылся, Я таю, сохну день от дня, Глядите, как я истомился, Пустите в Персию меня!Завершается стихорапорт, как выразился бы Северянин, строфой, свидетельствующей о более чем непринужденных отношениях между начальником и подчиненным и о том, что, «переходя на русский язык», Гумилев и Рапп уж совершенно отказывались от чопорности:
На все мои вопросы: «Хуя!» — Вы отвечаете, дразня, Но я Вас, право, поцелую, Коль пустят в Персию меня.28 декабря (10 января) Занкевич «настойчиво ходатайствовал» перед Ермоловым о «зачислении на вакансию, а если таковые уже разобраны, то об исходатайствовании таковой перед Английским правительством для прапорщика Гумилева… Прапорщик Гумилев отличный офицер, награжден двумя Георгиевскими крестами и с начала войны служит в строю. Знает английский язык». Через два дня вопрос был решен положительно.
Гумилеву выплачивают жалованье по апрель и отправляют (15 января нового стиля) в Англию. Но тут обнаруживается, что для дальнейшего странствия нет денег. Занкевич соответствующих средств не выделил, так как у него их просто не было. Финансы русской военной миссии в Париже находились в руках Игнатьева, который сотрудничать с другими русскими военными чинами за границей отказывался. Десять лет он жил разведением шампиньонов, истово храня казенные деньги, а по установлении Францией дипломатических отношений с СССР передал их (деньги, а не шампиньоны) в полпредство. За это он не только получил советское подданство, но и был принят на службу — правда, не по военно-дипломатической части, а в торговое представительство СССР.
22 января Ермолов пишет Занкевичу:
Неудовлетворение Вами прапорщика Гумилева проездными и подъемными деньгами признаны англичанами как отсутствие Вашей рекомендации, поэтому командирование его в Месопотамию они отклонили. За невозможностью откомандирования его обратно во Францию отправляю его первым пароходом в Россию.
На сей раз отправки в Россию удалось избежать. Анреп устроил Гумилева на службу в шифровальный отдел Русского правительственного комитета. Старый поэт К. Льдов (Константин-Витольд Николаевич Розенблюм), ранний декадент, в каком-то смысле сподвижник молодых Мережковского и Минского, познакомившийся с Гумилевым в Париже, писал ему: «Мы рады, что Вам удалось пристроиться в Лондоне… Консульство даст Вам возможность продержаться до неизбежного переворота»[140]. Но Гумилева не привлекала канцелярская служба в иностранном комитете уже не существующего правительства.
Нельзя не подивиться и тому, что за две недели летом 1917 года Гумилев завел столько литературных знакомств в «королевской столице», а два с половиной месяца в 1918 году прошли в этом смысле бесследно. Видимо, поэт чувствовал, что очередной — уже четвертый — круг жизни заканчивается так же, как и предыдущие: все, что удалось выиграть, завоевать, заслужить, исчезло. На сей раз — по вине грандиозных и неподвластных человеку исторических событий. Все надо начинать сначала… Разговаривать ни с кем не хотелось, затевать планы было поздно или рано.
В марте 1918-го решение принято. Гумилев больше не собирается ждать «переворота» и становиться эмигрантом. В конце концов, Совет народных комиссаров и Временное правительство, Ленин и Керенский из прекрасного далека, да еще для такого политически эксцентричного человека, как он, отличались, вероятно, мало[141]. Конечно, Брестский мир должен был Гумилева шокировать, но не настолько, чтобы помешать возвращению на родину.
Видимо, некоторое время ушло на улаживание формальностей. Дипломатические отношения с Советской Россией еще сохранялись. В посольство вместо просвещенного и любезного К. Д. Набокова, брата политика и дяди писателя[142], временно исполнявшего обязанности российского представителя, въехал эмигрант-большевик М. М. Литвинов, будущий наркоминдел. Тем не менее визу на въезд в Россию Гумилев у него получил.
В начале апреля Гумилев покидает Великобританию и на английском транспортном судне уплывает в Мурманск.
Перед отъездом Анреп передал Гумилеву два подарка для Ахматовой — монету Александра Македонского и материю на платье.
Он театрально отшатнулся и сказал: «Борис Васильевич, как вы можете это просить, все-таки она моя жена». Я рассмеялся: «Не принимайте моей просьбы дурно, это просто дружеский жест». Он взял мой подарок, но не знаю, передал ли его по назначению…
Гумилев все или почти все знал про Ахматову и Анрепа, он без стеснения говорил с художником о «прекрасной душе» любимой обоими женщины (позднее он рассказывал Ольге Мочаловой довольно рискованные истории о своей семейной жизни — в том числе о том, как он, «самый добродушный муж», возил свою жену на извозчике на свидание, Ахматова это отрицала). Но в случае с подарками он вдруг проявил присущую ему временами чопорность.
Модернизм означал и революцию в человеческих отношениях и чувствах; это порождало множество щекотливых ситуаций. Не одному Гумилеву порою трудно было найти верную линию поведения…
По дороге Гумилев, воспользовавшись стоянкой в Гавре, съездил на день в Париж — взять оставленные вещи и встретиться с «синей звездой». А возможно — и с другой, одновременно вдохновлявшей его дамой, о которой глухо упоминает Ларионов (впрочем, сам Гумилев утверждал, что «вторая влюбленность» имела место в Лондоне). Дальше — плавание по Северному и Баренцеву морю, такое же опасное, как год назад. Вместе с Гумилевым в Россию плыл Вадим Гарднер. Он описал путешествие в стихах:
До Мурманска двенадцать суток Мы шли под страхом субмарин, Предательских подводных «уток», Злокозненных плавучих мин. Лимоном в тяжкую минуту Смягчал мне муки Гумилев, Со мной он занимал каюту, Деля и штиль, и шторма рев… …Но вот, добравшись до Мурмана, На берег высадились мы. То было, помню, слишком рано. Кругом белел ковер зимы. С литвиновской пометкой виды Представив двум большевикам, По воле роковой планиды Помчались к невским берегам.Таков локус Гумилева: от «страны Галла» (5-й градус северной широты) до Мурманска (69-й градус). Порт на пустынных берегах Мурмана (немного напоминающих Исландию, место действия «Гондлы») был основан всего двумя годами раньше и представлял собой в то время небольшой поселок, состоящий из собственно портовых сооружений и деревянных бараков. Через лапландские тундры и карельские леса по свежепостроенной железной дороге поезд вез поэта в Петроград — навстречу новому, последнему кругу его жизни, навстречу самым суровым испытаниям, самым тяжелым трудам, самым блестящим стихам… На все это оставалось три с небольшим года.
Глава десятая Акмэ
1
Приехав в Петроград, Гумилев остановился там же, где год назад, — в «Ире». Но город изменился до неузнаваемости. Весь этот год здесь «поливали мостовую кровью граждан». Зимой столица была «на осадном положении»; весной наступление немцев удалось приостановить, но новое правительство, от греха подальше, уехало в Москву. Так, в марте 1918-го незаметно закончился «петербургский период» русской истории.
В административном отношении бывшая столица представляла собой Петроградскую трудовую коммуну во главе с Григорием Евсеевичем Зиновьевым (Радомысльским), входившую в Союз коммун Северной области. С управлением новые власти справлялись скверно. Нехватка продуктов стала хронической, деньги обесценились (уже летом коробок спичек стоил 80 рублей), а сюрреалистическая распределительная система военного коммунизма только начинала работать. Оппозиционные газеты уже были закрыты, все партии правее меньшевиков запрещены, ЧК вовсю трудилась, но и до начала настоящего, полномасштабного, со счетом на тысячи, террора еще оставалось несколько месяцев. Бичом города стала уличная преступность — солдаты-дезертиры, китайские рабочие, приглашенные столичными предприятиями во время войны, и тому подобная разношерстная публика пополняла ряды преступного мира и терроризировала город.
Разумеется, первым делом Гумилев позвонил Срезневской, считая, что Ахматова там. Ему ответили, что его жена у Шилейко. Это не насторожило его. «Не подозревая ничего», он направился к ассирологу. Как все знают из шуточных стихов Мандельштама, Шилейко жил на Четвертой Рождественской. «Если такие живут на Четвертой Рождественской люди, странник, ответствуй, молю, кто же живет на Второй?» Втроем пили чай, беседовали, а потом…
Владимир Шилейко. Рисунок П. И. Нерадовского, 4 января 1922 года
Ахматова пошла к мужу в гостиницу. «Была там до утра». Утром ушла к Срезневским и, когда туда пришел Гумилев, провела его в соседнюю комнату и сказала: «Дай мне развод».
Целая ночь вместе или по крайней мере в одном помещении — и не сказала, не решилась… А у чужих — «провела в соседнюю комнату». Удивительно нелепо и потому психологически правдоподобно.
«Он страшно побледнел и сказал: «Пожалуйста…»
Гумилев не мог поверить, что человек, ради которого Ахматова расторгает пусть давно ставший фиктивным, но такой важный в жизни обоих брак — Владимир Казимирович Шилейко, этот «Лепорелло-египтолог». Крупнейший, мирового масштаба ученый в своей области (уже в эти годы — в 27 лет!), второстепенный, но не бездарный поэт, Шилейко был лишен обаяния и казался чудаковатым книжным червем. Современники удивлялись этому браку. Кузмин в своем дневнике характеризует его как danse macabre. Сам Гумилев был того же мнения: «Я плохой муж, не спорю. Но Шилейко в мужья вообще не годится».
…Так или иначе, он постарался повести себя в этой ситуации сдержанно и мужественно — лишь однажды грустно спросил: «Зачем ты все это придумала?» Расстающиеся супруги отправляются в Бежецк, видятся с сыном. Сидя на холме, они мирно беседуют, и Гумилев говорит: «Знаешь, Аня, чувствую, что я останусь в памяти людей, что буду жить всегда». Ахматова надписывает вышедшую в 1917 году «Белую стаю»: «Дорогому другу Н. Гумилеву». Отношения переходят в другое качество…
Увы, «дружбы» все-таки не получилось. В 1918–1919 годы Гумилев довольно часто бывал у Ахматовой и Шилейко. Ахматова тоже заходила к Гумилеву, встречались они и у Срезневских… Но с середины 1919-го общение почти сошло на нет. Все силы Гумилева были поглощены литературной работой, а Анна Андреевна в те годы очень редко бывала на литературных вечерах и сборищах. Главная причина заключалась, как сама она потом рассказывала, в патологической ревности Шилейко. Счастья от этого брака она и не ждала — пошла замуж за ассиролога «как в монастырь»: «думала, будет очищение». Но «как муж Владимир Казимирович был катастрофой во всех отношениях». Знакомые оказались правы. К тому же их совместная жизнь совпала с самыми трудными годами. «Владимир Казимирович обходился без всего, только не без чая и табака…» Какое-то время Ахматовой пришлось служить библиотекаршей. И — часами писать под диктовку нового мужа его труды. К тому же у нее продолжал развиваться туберкулезный процесс. «Еще немного — и я бы… перестала писать стихи». И впрямь стихов за эти три года было немного. Лишь в 1921 году, уйдя от Шилейко, Ахматова, можно сказать, «вернулась к жизни».
А когда «брат и сестра» (ставшие отныне только «братом и сестрой») встречались, им трудно было понять друг друга: Ахматова отрицательно относилась к окружению и деятельности Гумилева в последние годы, а он не понимал причин ее уединения и «безделья». Она (со свойственной ей мнительностью) приписывала ему враждебность к себе, видела повсюду его «интриги». Он был внешне дружествен и доброжелателен — и все-таки не мог забыть прежних обид.
К тому же его второй брак оказался ничуть не более удачен, чем брак Ахматовой и Шилейко. А признаваться в этом было тяжело…
По словам Ахматовой, Гумилев в трамвае, «когда мы ехали разводиться», стал советоваться с ней, на ком ему жениться. «За меня многие хотели бы выйти замуж… Например, Лариса Рейснер». Когда это было? Официально брак был расторгнут только 5 августа. К тому времени с новой женитьбой Гумилева все давно было решено…
Лариса Рейснер в невесты не годилась: она уже была замужем за Раскольниковым. Зато Аня (или Ася, как ее еще называли) Энгельгардт (следующая в очереди) «упала на колени и заплакала: «Нет. Я недостойна такого счастья».
Анна Энгельгардт, 1920-е
Так рассказывал сам Гумилев Одоевцевой, прибавляя: «А счастье оказалось липовое…»
Про Анну Энгельгардт-Гумилеву ни один мемуарист не сказал доброго слова:
Он думал, что женится на простенькой девушке, что она — воск, что из нее можно будет человека вылепить. А она железобетонная. Из нее не только нельзя лепить — на ней зарубки, царапины нельзя провести (Л. Чуковская. Записки об Ахматовой).
Она очень недобрая, сварливая женщина, а он-то рассчитывал, наконец, на послушание и покорность (Acumiana).
Конечно, от Ахматовой в этом случае трудно ждать объективности. Но вот что пишет про Анну Энгельгардт родной брат, Александр Энгельгардт: «Она была страшно нервна, она во всем переоценивала себя, не способна была к настоящему труду…»
Все единогласно подчеркивают глупость Анны Николаевны. По словам В. Рождественского, Гумилева ставили в тупик ее суждения, и он просил жену молчать — «так ты гораздо красивее»; по свидетельству Одоевцевой, она «не только по внешности, но и по развитию казалась четырнадцатилетней девочкой»… Таких суждений можно привести множество.
Анна Николаевна была, вероятно, в самом деле глуповата и сварлива. Но не зря ее хрупкая фигурка внушала жалость, не зря Всеволод Рождественский подписал ей книгу: «Крошке Доррит в туманном Лондоне». Она принадлежала к людям органически несчастным, к людям, которым нельзя помочь. Гумилев, без сомнения, испытывал вину перед ней — было за что. Но, когда его не стало, судьба Анны Второй, как ее прозвали, сложилась еще более безотрадно и нелепо.
Уже в период «помолвки» Арбенина встретила Гумилева на литературном вечере в обществе «какой-то темноволосой невысокой девушки». «Довольно миленькая — его очередной «забег», он у таких «легких» девиц потом даже имени не помнил, но тогда — говорил он мне в 1920-м — ему надобно торопиться». Мы имя девушки попытаемся вспомнить — кажется, это была Ирина Кунина, впоследствии эмигрантский прозаик, автор мемуаров. Гумилев встречался с ней в июне-июле 1918 года.
И все же, получив развод, он немедленно женился на Анне Энгельгардт. Не только потому, что хотел во что бы то ни стало противопоставить свой брак второму браку Ахматовой. Была и другая причина. Елена Николаевна Гумилева, дочь поэта, появилась на свет 14 апреля 1919 года. А это значит, что к августу 1918 года, когда Гумилев и Анна оформили свой брак, она уже была несколько недель беременна.
Остается открытым один вопрос, чрезвычайно существенный, учитывая демонстративную религиозность позднего Гумилева. В РСФСР 1918 года законную силу имел, разумеется, лишь гражданский брак и гражданский развод. Но был ли расторгнут церковный брак Гумилева и Ахматовой? И имел ли место его церковный брак с Анной Энгельгардт? Александр Энгельгардт указывает, что его сестра обвенчалась с Гумилевым. Где? Когда? Разумеется, к лету 1918 года «дух суровый византийства» настолько отлетел от русской церкви, что получить у священника развод с разрешением второго брака было немногим труднее, чем в комиссариате. Но нет доказательств, что поэт об этом позаботился.
Гумилев быстро разлюбил свою вторую жену. Но любил ли он ее по-настоящему когда-нибудь? Едва ли.
Единственное несомненно посвященное ей стихотворение — стандартный мадригал, выглядящий почти издевательски, отдающий Козьмой Прутковым:
Об Анне, божественной Анне Я долгие ночи мечтаю без сна. Любимых любимей, желанных желанней Она!Это 1916 год. Два года спустя он подарит ей только что вышедший «Костер» с надписью:
Ты мне осталась одна. Наяву Видевший солнце ночное, Лишь для тебя на земле я живу, Делаю дело земное.Но это строки из «Канцоны», написанной годом раньше и посвященной другой женщине…
«Костер» вышел 9 июля. Одиннадцатью днями раньше появился «Мик». Пятью днями позже — «Фарфоровый павильон». Все три книги вышли под грифом «Гиперборея» на средства автора; средств было немного, но типография согласилась печатать книги в долг. Время было отчаянное, терять было нечего…
Отчаянное время сказалось и в скудости откликов. На одновременный выход трех книг Гумилева поредевшая петербургская пресса отозвалась до конца года лишь двумя рецензиями. Одна из них, напечатанная в журнале «Свободный час» (№ 7), называлась особенно весело — «Панихида по Гумилеву». Уже это название ясно говорило поэту: если кого-то, воспользовавшись изменившимися временами, захотят отпеть и похоронить заживо, то он будет одним из первых кандидатов — такова уж его судьба.
Г. Гальский (под этим псевдонимом выступал Вадим Шершеневич, бывший эгофутурист, будущий теоретик имажинизма) был вроде бы и поклонником прежних книг Гумилева, но поминал о них лишь для того, чтобы объявить о безнадежном упадке поэта.
«Костер» написан по очень простому рецепту. Н. Гумилев зоркий критик. Он совершенно верно предугадал: по какому пути пойдет В. Брюсов после 1916 г. И забежал вперед. Он написал все то, что должен был написать Брюсов (может, даже пишет!). И потому, что Брюсов сейчас пишет скучно и о скучном, Н. Гумилев написал скучный «Костер» о скучном. Тот же вялый стих, те же прозаизмы. «Костер» — это гениальный плагиат еще не написанной книги Брюсова, и невольно вспоминается пушкинское «Жалею я о воре».
Опять Брюсов! Сколько еще должен написать Гумилев, чтобы его учителя перестали поминать?
Гибель Гумилева, по Гальскому, безусловна и окончательна.
Неужели эти три книги — траурное объявление, похороны поэта по третьему разряду? Неужели он еще не блеснет? Ведь недавно он был воистину лучшим среди старшего поколения? Может, это только секундная слабость и завтра снова загорится звезда «поэта странствий».
Мы верим в это, но разумом мы знаем, что этого не будет.
Н. Гумилев не взлетал, а всходил. Крылья прозрения у него были заменены твердой поступью вкуса и зоркости. Больше у него нет ничего. И уже если вкус и зрение ему изменили, конец всему.
Поэты разума не переносят падений. Это не кошка, которую как ни кинь, все упадет на ноги. Гумилев упал грузно и неуклюже. Ему не встать.
Отпеваемому «поэту старшего поколения» было 32 года.
Забавно, что в качестве единственного свидетельства того, что Гумилеву «изменили вкус и зрение», Шершеневич приводит… «Рабочего» и подвергает это ныне классическое стихотворение суровому разбору.
Почему «отли́тая» и «вспенéнной», а не «отлитáя», «вспéненная»? Что значит: она пришла за мной. Кто она? Грудь? За что воздаст Бог? За то, что невысокий человек, которого в «большой» (!) (это у рабочего-то?) постели ждет жена, занимался «отливаньем пули»?
Комментировать это трудно.
Другая, куда более хвалебная и грамотная рецензия, помещенная в газете «Жизнь искусства» (24 ноября), принадлежала Андрею Левинсону — доброму знакомому Гумилева, издавна расположенному к его стихам.
…Гумилевым владеет возвышенное и строгое сознание предназначения поэта, устремление к «величью совершенной жизни»… Душа, возвеличенная жертвенным подвигом воина, вновь погружена в марево северных туманов, в чистилище смутных кошмаров, над которыми лишь в высоте сияет воскрылье серафимов…
Гумилев слыл и слывет у многих парнасцем по содержанию и форме, т. е. безличным и педантичным нанизывателем отраженных чувствований… Не может быть большего заблуждения. Лиризм его — выражение сокровенной и скрытой чувствительности; другой в нем признак душевного волнения — его юмор, юмор без широкой усмешки…
Отклики на «Костер» появлялись в 1919 году в провинциальных изданиях, на территории, в ходе Гражданской войны переходившей из рук в руки, — в Харькове, в Одессе. Но до самого поэта они вряд ли дошли. Между тем один из них — напечатанный в 1919 году в харьковском журнале «Творчество» (№ 3) и принадлежащий известному впоследствии переводчику А. А. Смирнову — доставил бы поэту радость. Из всего, написанного при жизни поэта о его стихах, именно эта рецензия едва ли не наиболее комплиментарна.
В новейшей русской поэзии замечается определенная реакция против внешнего проявления «душевного жара», течение в пользу сдержанности, целомудрия в выражении горячего чувства. Последнее часто скрывается под внешним сухим, ледяным покровом. Но, если оно под ним действительно затаено, то, доходя до читателя, действует в некоторых отношениях сильнее и глубже, чем в случаях яркого внешнего выражения… Такова в высокой мере поэзия Гумилева. Яснее всего это обнаруживается в сборнике «Костер», стихи которого превосходят все, до сих пор написанное Гумилевым. Каждая строка полна редкостной словесной силы, за которой ощущается напряженное, страстное чувство.
Критик выделяет «Рабочего», «Мужика», «Канцону первую» и объявляет «Костер» наряду с «Двенадцатью» Блока «одной из самых прекрасных и волнующих книг, которые дал нам минувший год».
Осталась неопубликованной (вплоть до 1994-го) рецензия бывшего члена Цеха В. Гиппиуса «Пряники», в полной мере выражающая то восприятие творчества Гумилева, с которым Левинсон так темпераментно спорит:
Надо быть справедливым к Гумилеву: он не делал ничего предосудительного, чтобы влюбить в себя публику. Он отнюдь не потакал, например, его тяге к изменчивой злободневности… Не потакал он и спросу на дешевый эротизм под сентиментальным соусом…
Привлек он к себе другими качествами: доступностью, занимательностью, живописностью… Отвергнув лирические тенденции символистов, сочтя предрассудком их тягу к музыке, он стал заботиться о тщательной лепке и раскраске каждого стихотворения… Они сыпались из книг его как пряники: вот пряник-рыба, вот пряник-лошадь, а вот король с королевой, и все замешенные на меду, вкусно и сладко выпечены, ярко расписаны и внутри каждого — перец-имбирь или другая пряность.
По мнению Гиппиуса, при чтении Гумилева «нельзя удержаться от улыбки — но не насмешливой, а ласково-поощрительной, чуть ли не такой, которой встречали мы наиболее удачные словосочетания Игоря Северянина… Гумилев — облагороженный Северянин, или Северянин — опошленный Гумилев…».
Другими словами, перед нами искусство умелое, изящное, но незначительное и пустячное. «Сейчас, в эпоху всяческого голода, особенно соблазнительно обманывать свой голод пряниками. Но уже скоро раздастся неумолимое требование: «хлеба!» И тогда пряные фразы и рифмы отойдут в историю».
Удивительно: марксист Венгров в 1915 году, эсер Иванов-Разумник в 1920-м и свободный художник В. Гиппиус в 1918-м говорили почти одно и то же и почти одними и теми же словами. Критики Гумилева были верны себе. И сам он был себе верен…
В последней рецензии для умирающего «Аполлона» — рецензии на сборник семи молодых поэтов, названный «Арион»[143], — он вспоминает пушкинские строки — «Я гимны прежние пою», и прибавляет:
Это сказано раз навсегда, для всех войн, для всех революций, бывших и будущих… Как огонь, сколько его ни прижимай железной доской, всегда будет стремиться вверх и ни единой складки не останется на его языке, так и поэзия, несмотря ни на что, продолжает начатое и только из него создает новое.
Существует еще один отклик на «Костер». Это пометы Блока на подаренном ему Гумилевым экземпляре книги. Количество этих помет (и на «Костре», и на предыдущих книгах) само по себе впечатляет. Блок с карандашом в руках читал лишь книги действительно занимавших его поэтов — скажем, Ахматовой[144]. Блоку понравилось «На северном море», заключительная строфа «Детства». Строчка «…человечья жизнь настоящая…» из «Городка» вызвала у него насмешку: «Так вот что настоящее!» Риторический пассаж из «Деревьев» («Есть Моисеи посреди дубов, Марии между пальм…») привел его в ярость: «Французское убожество». Задержали его внимание «Рабочий», «Природа», «Мужик», «Ледоход», «Сон»… Общее впечатление, однако, благоприятно. В марте 1919 года (в период, когда их отношения были лучше, чем когда-либо до и после) Блок дарит Гумилеву «Книгу третью» своих стихотворений с надписью: «Дорогому Николаю Степановичу Гумилеву — автору «Костра», читанного не только днем, когда я «не понимаю» стихов, но и ночью, когда понимаю».
Стоит сравнить эту реально существующую и дошедшую до нас надпись с мемуарным рассказом Всеволода Рождественского, чтобы понять, чего стоят обычно свидетельства мемуаристов (а, к сожалению, о последних годах жизни Гумилева мемуаров осталось куда больше, чем документов):
Когда Н. С. подарил ему один из своих сборников, Блок вежливо поблагодарил его и на следующий день принес «Седое утро» с надписью: «Н. С. Гумилеву, чьи стихи я всегда читаю при ярком свете дня». В его устах это, видимо, значило, что поэзия Гумилева слишком ясна и понятна и что в ней нет того четвертого измерения, того лунного света, той ночной тревоги души, рвущейся к рассвету, которой так богат его собственный мир.
Гумилев сделал вид, что не понял иронического смысла этой надписи, и ответил примерно так: «Вы, Александр Александрович, всегда были поэтом миров, для меня, земного жителя, совершенно недоступных». А своему акмеистическому окружению показывал обращение Блока с некоторой гордостью — «Вы видите, Блок признал весомость и конкретность моей поэзии. Значит, он, символист, признал идейные основы акмеизма».
В действительности спор не был непрерывным, иногда поэты казались друг другу союзниками. Но, конечно, представление Блока о «ночной» природе поэзии Гумилеву было чуждо. По крайней мере теоретически. «Все стихи, даже Пушкина, нужно читать в яркий солнечный полдень. А ночью надо спать. Спать, а не читать стихи и не шататься пьяным по кабакам», — раздраженно говорил он Одоевцевой… Но в том и прелесть его лучших стихов, что «ночное», бредовое, иррациональное начало пробивается в них как бы против воли автора, которому больше всего хочется видеть мир только «в яркий солнечный полдень».
Среди пометок, сделанных Блоком на экземпляре «Костра», есть одна чрезвычайно важная. Рядом с «Канцоной первой» Блок приписал: «Тут вся моя политика», — сказал мне Гумилев».
Речь идет, конечно, о следующем четверостишии:
Земля забудет обиды Всех воинов, всех жрецов, И будут, как встарь, друиды Учить с зеленых холмов. И будут, как встарь, поэты Вести сердца к высоте…У Гумилева была склонность к построению глобальных историософских моделей (которую, как видно, унаследовал его сын). Он верил, что вся история подчиняется простому круговороту. На смену власти жрецов (друидов, брахманов) и поэтов некогда пришла власть воинов, кшатриев (соответствующая тому, что марксисты называют рабовладельческим и феодальным строем). На смену ей — власть купцов (капитализм). На смену власти купцов приходит власть народа (что, собственно, и происходит в России). «Самодержавный народ» сменят опять священники и поэты. Тогда-то и настанет обетованный золотой век.
В контексте этой историософской модели понятно предсказание Гумилева, что по свержении большевиков к власти в стране придет избранный в 1917 году патриарх Тихон, «ставленник последнего собора» (цитируя Мандельштама). Понятен и приведенный выше разговор с Честертоном, и эсхатологические заключительные строки «Памяти». Но эти идеи, видимо давно выношенные Гумилевым, объясняют и другое: то, что поэт, называвший себя монархистом (и притом имевший военный опыт и военный чин), не отправился на Дон, не вступил в Белую гвардию, не стал хотя бы сотрудником ОСВАГа, а сидел в красном Петрограде и активно сотрудничал с советской властью. Большевики были необходимы как этап на пути к грядущей теократии… или к поэтократии. Для Гумилева, как ни странно, это было более или менее одно и то же.
Об этом прямо пишет Адамович:
Никогда я не видел Гумилева таким бодрым, оживленным и веселым, как в годы революции… В России производится гигантский общественный опыт. Кто знает, чем все кончится? Не попытаться ли придать свое направление эксперименту? Гумилев вспоминал о Д’Аннунцио и о его роли во время войны. Он хотел сыграть свою роль в революции, но роль покрупнее, поярче.
Одоевцевой Гумилев говорил, «что если сейчас, в революционное время, власть в России отдать поэтам, все сразу придет в порядок и Россия станет первой в мире державой».
Гумилев в политике был утопистом, но утопия его была обращена в будущее, а не в прошлое. «Монархизм» же был во многом защитной реакцией поэта на те стороны нового режима, которые он не мог и не хотел принять.
19 июля 1918 года Гумилев шел с Куниной по Садовой. «Внезапно на нас налетел оголтело орущий мальчишка-газетчик. Слов мы не разобрали, и только когда он заорал, вторично промчавшись мимо нас, расслышали: «УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!»… Гумилев рванулся и бросился за газетчиком, схватил его за рукав, вырвал из его рук страничку экстренного выпуска. Он был бел и казалось — еле стоял на ногах…» Прочитав сообщение, Гумилев перекрестился и «только погодя, сдавленным голосом, сказал: «Царствие им небесное. Никогда им этого не прощу».
Для Гумилева «царская семья» — это был не просто символ государственности, не просто некая абстракция, которой он, как офицер, присягал. Это были живые люди, которых он видел, милые барышни, которым он по просьбе госпитального начальства писал стихи, болезненный и избалованный мальчик в матроске, любивший выступать перед ранеными.
С этой минуты он по поводу и без повода говорил о своем «монархизме», в стихотворение «Галла» вставил строчки про «портрет своего Государя», который он якобы подарил Аба Муда (чистейший вымысел!), и, упиваясь опасностью, читал их матросам-балтийцам — потому что в Екатеринбурге расстреляли этих женщин и этого мальчика… При этом он, как свидетельствует Адамович, «клялся в верности» не царю, а царице — той самой Александре Федоровне, которую все так ненавидели в армии, защищать которую он в случае революции не хотел. «При чем тут была политика? Он говорил о своей Даме». Опять является образ императрицы…
И он крестился на церковные купола, потому что тем же летом 1918 года красногвардейцы разорили Александро-Невскую лавру, потому что уже начали убивать священников. Впоследствии Надежда Мандельштам назвала Ахматову и Гумилева «поэтами строго канонического православия», а Ю. П. Зобнин даже написал о Гумилеве, поэте православия, целую книгу. Не будем спорить, насколько укладываются в православный канон любовь к Ницше, интерес к масонству и мечты о грядущем царстве державных поэтов. На житейском уровне, конечно, Гумилев «уважал обряд как всякую традицию, всякое установление» (Адамович). Но креститься на церкви — если не ошибаюсь, не единственная и даже не главная обязанность христианина. Нет никаких сведений о том, что Гумилев в 1918–1921 годы хоть раз исповедовался и причащался; поститься ему, положим, приходилось вместе со всем Петроградом, но прочие мелкие радости времен военного коммунизма, в которых он себе в эти годы не отказывал (от коротких романов с отзывчивыми литбарышнями до посещения опиумных курилен), не относятся к числу наиболее душеспасительных[145]. Между тем Гумилев совершенно не испытывал раскаяния в своем образе жизни, не считал его греховным. Это не значит, что религиозное чувство было поверхностным, как думали многие; но его картина мира на самом деле была далеко не каноничной, и сам он был не слишком правильным членом церкви.
Декларируя свои «монархизм» и «православие», Гумилев утверждал (в той форме, которая казалась ему наиболее простой и понятной для окружающих) свою приверженность традиции и иерархии. Но главное — это позволяло ему, сотрудничая с большевиками, не допускать собственной с «ними» идентификации[146]. По словам Мандельштама, он «сочинил какой-то договор (фантастический, ненаписанный договор) о взаимоотношениях между большевиками и ним. Договор этот выражал их взаимоотношения как отношения между врагами-иностранцами, взаимно уважающими друг друга». Гумилев полагал даже, что его декларируемый монархизм обеспечивает его безопасность, так как «для них самое главное — это определенность».
Между тем безопасности для интеллигентов в городе было все меньше. Чекистские репрессии провоцировали ответное насилие (целое поколение было воспитано на героических примерах Желябова, Перовской, Каляева etc. — такое даром не проходит), а теракты оппозиционеров приводили к усилению террора со стороны власти. Уже 20 июня был убит членом партии эсеров Сергеевым комиссар по делам печати Володарский, но роковое событие случилось 30 августа. В вестибюле Главного штаба к председателю Петроградского ЧК Моисею Урицкому подошел статный юноша и выстрелил в него в упор. Юноша был схвачен: это был Леонид Акимович Каннегисер, 22 лет, «еврей, но из дворян», сын действительного статского советника, гражданского инженера, студент Технологического института, затем (при Керенском) юнкер, член партии народных социалистов (лидер — престарелый Герман Лопатин, последний вождь «Народной воли» и первый переводчик «Капитала»)… и поэт. Салон Каннегисеров в Саперном переулке, 10, был известен перед революцией. Здесь бывали Кузмин, Есенин, Георгий Иванов, Адамович, Цветаева (наездами из Москвы), еще не проявивший себя в литературе Марк Алданов (родственник Каннегисеров). Это была обитель утонченного эстетизма, «девиц, увлеченных Далькрозом, дымящих египетскими папиросами», и «молодых людей с пробором и в лакированных ботинках, пишущих стихи и слагающих сонаты» («Петербургские зимы»). В эстете дремал романтик; впрочем, у Каннегисера, кроме политических, были личные причины: он мстил за своего друга, расстрелянного ЧК.
Надо сказать, что Урицкий, до лета 1917 года меньшевик, хоть и занимал зловещий пост, на деле был отнюдь не самым кровавым палачом среди чиновников новой власти. Наоборот, он старался сдерживать истеричного, трусливого и от трусости кровожадного Зиновьева. Даже после убийства Володарского массовые казни не устраивались, несмотря на давление из Москвы. Но 30 августа 1918 года начались настоящие ужасы. Кроме Каннегисера, в сентябре было расстреляно еще по меньшей мере 500 заложников (неофициальные источники называют другую цифру: 1300 человек). «Красноармейцы или матросы врывались в дома и арестовывали лиц по собственному усмотрению». Затем каждого десятого арестованного «отправляли в расход». Зиновьев предлагал «разрешить рабочим расправляться с интеллигенцией прямо на улицах». Это предложение было отклонено из тех соображений, что «черносотенцы начнут действовать под видом рабочих и перебьют всю нашу верхушку». 5 сентября ВЧК было предоставлено право расстреливать без суда и следствия всех «прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам», но с обязательной публикацией списков казненных. Сам Гумилев три года спустя был расстрелян именно в соответствии с этим декретом.
Надо сказать, что реакция поэта на убийство Урицкого была вполне адекватной. По воспоминаниям актрисы А. В. Азарх-Грановской, поэт узнал о теракте на открытии Театра трагедии в бывшем Цирке Чинзинелли. Шел «Макбет» — «бывают странные сближения», как сказал бы Пушкин. Гумилев «поморщился, еще, как мне показалось, побледнел и сказал: «Как неприятно».
Одновременно с настоящим террором начался настоящий голод. Зимой 1918 года рацион петроградца составляли (в лучшем случае!) вобла, пшенная каша на воде, мороженая картошка (это был деликатес), лепешки из маисовой муки, из картофельной кожуры, из кофейной гущи, иногда — брюквина или овсяный кисель, да морковный чай с сахарином. На рынках продукты были, но по недоступной подавляющему большинству горожан цене. Впрочем, на рынке можно было обменять на продукты какой-нибудь «предмет буржуазной роскоши», чем большинство представителей прежних эксплуататорских классов систематически и занималось.
2
Сразу же по возвращении в Петроград, летом 1918 года, Гумилев начинает думать о новых возможностях литературной работы. Никаких источников дохода, кроме литературных, больше не оставалось ни у него, ни у семьи: банковские счета были национализированы, да и деньги, лежавшие на этих счетах, стали пылью, дом в Царском и усадьбу в Слепневе пришлось бросить — родственники поэта осели в уездном Бежецке.
16–21 августа Гумилев посещает Бежецк и знакомит мать, сестру и брата со своей новой супругой. Уже через несколько месяцев вся семья устремляется из Бежецка в Петроград. Учитывая происходившее в городе, это был не самый умный поступок. Вся семья (восемь человек! — впрочем, Александра Степановна лишь наезжала из Бежецка) поселяется у Николая Степановича (а он жил еще с мая на Ивановской улице, д. 26/65, кв. 15, в брошенной квартире Сергея Маковского) и оказывается, по-видимому, на его содержании. А. А. Фрейганг-Гумилева «вела хозяйство», то есть стояла в очередях — Анне Ивановне это было уже не по силам, а Анна Николаевна была в житейском плане решительно ни к чему не пригодна.
Некоторым подспорьем в этой почти катастрофической ситуации стал для Гумилева договор с издательством «Прометей», основанным еще в 1907-м неким Н. Н. Михайловым. Издатель купил у поэта права на «Романтические цветы» и «Жемчуга» и в конце года переиздал книги. (Вскоре издательская деятельность почти прекратилась: начался бумажный кризис.)
Дом 25/65 на Ивановской улице (ныне улица Марата). Гумилев жил здесь в 1918–919 годах. Фотография 2004 года
Но все это произойдет уже осенью; а летом 1918-го Гумилев пишет «Шатер» и переводит «Гильгамеша». Видимо, в это время он считает, что «учебник географии в стихах» и перевод ассирийского эпоса смогут обеспечить его надолго. Идея перевода «Гильгамеша» возникла полутора годами раньше под влиянием бесед с Шилейко. Но переводил Гумилев с французского подстрочника, и во время работы над переводом он с Владимиром Казимировичем почти его не обсуждал — представил на суд специалисту уже готовый труд. Это был, конечно, способ психологической компенсации: одержать победу над «счастливым соперником» на его профессиональном поле.
«Гильгамеш», созданный около 2000 года до н. э., имеет автора, не менее (хотя и не более) достоверного, чем Гомер. Его звали Син-Лики-Уинни, и он был заклинателем из Урука. Герой эпоса Гильгамеш — царь, правивший несколькими веками раньше (где-то в 2700 до н. э.) в еще шумерском Междуречье. В поэме (позднее ее заново, с оригинала, перевел И. Дьяконов, и с подстрочника — С. Липкин) речь идет о вражде и дружбе молодого царя с «диким человеком» Энкидой, об их совместных подвигах, о смерти Энкиды, о встрече Гильгамеша с бессмертным человеком Ут-Напишти — свидетелем всемирного потопа. Это необычный эпос — история взросления личности, с ним можно сравнить лишь написанную два тысячелетия спустя «Энеиду». Очень многие мотивы поздней поэзии Гумилева (например, образ сбрасывающей кожу змеи) восходят к «Гильгамешу». Сам Гумилев так описывал свой метод работы:
Желая сделать перевод приемлемым для всех, любящих поэзию, я позволил себе восстановить по догадке недостающие части некоторых строк, выкинуть утомительные повторения, свести в одно целое эпизоды, разъединенные лакунами, и, когда бывал уверен, что говорю о том же, о чем и автор поэмы, несколькими фразами заполнить слишком уж досадные пробелы дошедших до нас таблиц…
По словам Ахматовой, «Гильгамеш» Шилейко и Гумилев предложили в «Русскую мысль», но Струве «пожадничал». Однако это свидетельство вызывает сомнения: к августу-сентябрю, когда работа над переводом была закончена, журнал уже был закрыт (последний номер, сдвоенный, 3–4, вышел в июне). И тем не менее работа Гумилева не пропала. Спустя год его труд увидел свет в издательстве З. Гржебина. Редактором перевода был М. Лозинский; Гумилев преподнес ему вышедшую книгу с такой надписью:
Над сим Гильгамешем трудились Три мастера, равных друг другу, Был первым Син-Лики-Уинни, Вторым был Владимир Шилейко, Михал Леонидыч Лозинский Был третьим. А я, недостойный, Один на обложку попал.Экземпляр был поднесен и Блоку с надписью: «Последнему лирику первый эпос».
Другие гумилевские переводы появлялись в издательстве «Всемирная литература», где и сам поэт с осени 1918-го служил.
О «Всемирной литературе» писали многое. Роль ее в спасении петроградской интеллигенции переоценить трудно. Договор об организации издательства между литературно-издательской группой и Накомпросом был подписан 4 сентября. От лица первой выступал гражданин Алексей Максимович Пешков, от лица второй — нарком Анатолий Васильевич Луначарский. Когда-то Луначарский и Горький вместе участвовали в движении «богостроителей» — попытке создать на основе марксизма новую религию, в которой объектом поклонения будет совершенный человек будущего (с богостроительскими проектами, хотя и на другой основе, выступали, кстати, и унанимисты). Горький, чья лояльность правительству Ленина была весьма ограниченна, но которому большевики были многим обязаны (не только как барду, но и как многолетнему спонсору партии), выступал как представитель гуманитариев, которых предполагалось привлечь к сотрудничеству с новой властью в приемлемых для них формах и, соответственно, обеспечить пайком. Стоит отметить, что Наркомпрос по-прежнему частично находился в Петрограде, так как Луначарский был по совместительству комиссаром просвещения Северной коммуны и постоянно курсировал между двумя столицами.
Чествование Максима Горького в связи с его 50-летием в издательстве «Всемирная литература». А. Блок — четвертый справа в четвертом ряду, Н. Гумилев — третий справа в пятом ряду. За спиной Горького — Н. Чуковский, 30 марта 1919 года
Суть проекта заключалась в следующем:
А. М. Пешков берет на себя обязанность организовать под своим руководством при Комиссариате народного просвещения издательство «Всемирная литература» для перевода на русский язык, а также для снабжения вступительными статьями, примечаниями и рисунками и вообще для приготовления к печати избранных произведений иностранной художественной литературы конца XVIII и всего XIX века; Комиссариат народного просвещения обязуется все эти произведения издать.
Первоначально предполагалось издание только переводной литературы Нового времени, но затем были созданы и другие редакции, в том числе редакция русской литературы. Пайщиками издательства (официально организованного 20 августа) стали, кроме Горького, издательские работники А. Н. Тихонов, З. И. Гржебин и И. П. Ладыжников. Грандиозность замыслов (заново перевести и издать чуть не всю классику XIX века) вписывалась в другие, столь же грандиозные проекты новой власти — вроде знаменитого плана монументальной пропаганды, предусматривавшего установку в голодном и холодном городе десятков памятников разнообразным историческим лицам — от Лассаля до Тютчева.
Н. Гумилев, З. Гржебин, А. Блок. Фрагмент одной из групповых фотографий, сделанных на чествовании Максима Горького в издательстве «Всемирная литература», 30 марта 1919 года
Главная льгота, которую обеспечивал договор, заключалась в следующем: «Все средства для выполнения своих задач издательству «Всемирная литература» предоставляются Народным комиссариатом просвещения…» Горькому предоставлялась «полная автономия» в выборе издаваемых книг и в приглашении сотрудников. Таким образом, «пролетарский классик» получил возможность делать чуть ли не все, что пожелает, за государственный счет. При этом, как отмечал в своих дневниках Чуковский, Горький, «говоря о большевиках, все время говорит «они» — ни разу не сказал «мы». И хотя недоброжелатели обвиняли его в «двурушничестве», тот же Чуковский знал, что он «не хитрый, а простодушный до невменяемости… Обмануть его легче легкого».
Вообще, если место Горького в русской литературе небесспорно, то его личная репутация, умри он в 1930-м или даже 1933 году, была бы почти безупречной. Он спас десятки людей, пытался спасти сотни. В 1917 году он обличал деспотизм тех, кто пришел к власти не без его помощи, кто был его друзьями. И если, вернувшись из Италии, он стал апологетом деспотизма еще худшего — есть соблазн объяснить это положением «птицы в золотой клетке», страхом за близких, старостью. А на деле, конечно, были и внутренние причины: в его знаменитом «Если враг не сдается, его уничтожают», в гимнах возникающему ГУЛАГу вполне можно увидеть развитие вдохновлявших его всю жизнь идеалов радикального прогрессизма и позитивизма… на ницшеанской подкладке. Но чем был бы Горький без этой рискованной идеологии? «Светлой личностью» вроде Короленко?
Гумилев был приглашен в коллегию издательства (располагавшегося на Невском, дом 64, а с 1919 года — на Моховой улице, дом 36), точнее — в две из трех коллегий: по отделу Запада (вместе с Блоком, Акимом Волынским, Лозинским, Чуковским, Замятиным, А. Левинсоном, самим Горьким и др.) и в Поэтическую коллегию. Еще была коллегия Восточная, к сотрудничеству в которой Гумилев привлек Шилейко. В Западной коллегии Гумилев возглавлял «французский отдел».
За время работы во «Всемирной литературе» Гумилев перевел тысячи строк французской и английской поэзии: «Орлеанскую девственницу» Вольтера (вместе с Ивановым и Адамовичем, с использованием пушкинского перевода первых строк), стихи Бодлера, Леконта де Лиля, Рембо, Эредиа, баллады о Робин Гуде, «Старого морехода» Кольриджа; даже с немецкого он переложил «Атта Тролль» Гейне — видимо, с подстрочника. Еще больше строк он отредактировал. Как редактор он получал две тысячи рублей в месяц — на двадцать пять коробков спичек.
Нищенская оплата труда заставляла переводить слишком много, и некоторые мемуаристы (в том числе Одоевцева) оценивают работу переводчиков «Всемирки» как «халтуру». Но это несправедливо. Переводы обсуждались, и состав коллегий обеспечивал высокий уровень требований. Такой общепризнанный ныне шедевр, как «Старый мореход», в гумилевской интерпретации чуть не был забракован: Чуковский нашел, что переводчику не удалось передать музыку оригинала. Именно во «Всемирной литературе» были впервые сформулированы принципы «русской школы художественного перевода». Брошюра, посвященная этим принципам и выпущенная в 1919 году (переиздана в 1920-м), состояла из статей Гумилева и Чуковского. Любопытно, что именно Чуковский первоначально был самым яростным противником издания брошюры. См. «Дневник», запись от 12 ноября 1918 года: «…На заседании была у меня жаркая схватка с Гумилевым. Этот даровитый ремесленник — вздумал составлять «Правила для переводчиков». По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила… А он рассердился и стал кричать. Впрочем, он занятный, и я его люблю». Однако оппонент Гумилева так увлекся составлением несуществующих, по его мнению, правил, что написал впоследствии на эту тему толстую монографию, причем в нескольких редакциях («Высокое искусство»).
Статья Гумилева «О стихотворных переводах», вошедшая в брошюру, начинается так:
Существуют три способа переводить стихи: при первом переводчик пользуется случайно пришедшим ему в голову размером и сочетанием рифм, своим собственным словарем, часто чуждым автору, по личному усмотрению то удлиняет, то сокращает подлинник; ясно, что такой перевод можно назвать только любительским.
При втором способе переводчик поступает в общем так же, только приводя теоретическое оправдание своему поступку; он уверяет, что если бы переводимый поэт писал по-русски, он писал бы именно так. Этот способ был очень распространен в XVIII веке. Поп в Англии, Костров у нас так переводили Гомера и пользовались необычайным успехом. XIX век отверг этот способ, но следы его сохранились до наших дней. И теперь еще некоторые думают, что можно заменять один размер другим, например, шестистопный пятистопным, отказываться от рифм, вводить новые образы и так далее. Сохраненный дух должен оправдать все. Однако поэт, достойный этого имени, пользуется именно формой как единственным средством выразить дух. Как это делается, я и постараюсь наметить сейчас.
Здесь не место приводить все изложенные Гумилевым принципы перевода; скажем одно: нормы, обозначенные им, без сколько-нибудь заметных изменений считаются обязательными для поэта-переводчика и сегодня. Сохраняет актуальность и его главная мысль:
…Переводчик поэта должен быть сам поэтом, а кроме того, внимательным исследователем и проникновенным критиком, который, выбирая наиболее характерное для каждого автора, позволяет себе в случае необходимости жертвовать остальным. И он должен забыть свою личность, думая только о личности автора. В идеале переводы не должны быть подписными.
Во исполнение этой идеи анонимности в студии Лозинского при «Всемирной литературе» возникла практика коллективного перевода. Это было вполне в духе времени, но так и не привилось. Перевод остался делом индивидуальным и авторским.
Гумилев участвовал и в работе Русской коллегии. Прежде всего — в составлении списка предполагаемых к изданию русских поэтов; предложенный им вариант списка был «импрессионистическим» — в противовес «историческому» списку Чуковского. В гумилевском списке не было Никитина (любимого поэта Городецкого), зато был Денис Давыдов — «потому что гусар» (почему Никитин считался, «с исторической точки зрения», значительней Давыдова, сейчас уже не поймешь). Гумилева поддержал Замятин, Чуковского — Блок. Гумилев спорил, говорил, что список Чуковского «похож на провинциальный музей, где есть папироса, которую курил Толстой, а самого Толстого нет».
Корней Чуковский, 1910-е
Сам Гумилев составил том А. К. Толстого. Чуковский рассказывал Лукницкому об этой работе в фельетонном духе: «Гумилев… был совершенно не способен к какой-либо историко-литературной работе… Когда собрание было отредактировано, он дал его мне «на просмотр». По словам Чуковского, он обнаружил в работе Гумилева чудовищные ошибки. «Некоторые стихотворения были отмечены датой немыслимой, потому что Толстой за два года до этих дат умер». Когда Чуковский, исправив эти ошибки, сообщил об них Гумилеву, «тот сделал сердитое лицо и сказал: «Да… Я очень плохой прозаик… Но зато я в тысячу раз лучше вас пишу стихи!» Потом он, конечно, поблагодарил собрата за «спасение» его работы.
Почему автор столь стилистически изысканной «Африканской охоты» называл себя «плохим прозаиком»? Может быть, бравировал своей в этой области «никчемностью», желая быть в глазах окружающих поэтом и только поэтом? И почему Чуковский так безапелляционно объявлял одного из лучших критиков и литературных теоретиков своего времени «человеком, не способным к историко-литературной работе»? Возможно, здесь сказалась категоричность Корнея Ивановича. Гумилев в последние годы жизни привязался к нему — Ольге Арбениной он говорил, что взял бы с собой в Африку, кроме нее, еще и будущего автора африканской поэмы «Бармалей» — как собеседника… Но ответное отношение Чуковского к поэту было неоднозначным. Тональность почти елейных воспоминаний о Гумилеве, написанных в 1960-е годы, и дневниковых записей 1918–1921 годов поразительно не совпадает. Чуковский при жизни был так же несправедлив к «даровитому ремесленнику», как почти все окружающие. Николай Чуковский утверждает, что его отец «не любил стихи Гумилева, называя их «стекляшками».
Еще одним проектом (тоже инициированным Горьким) были «исторические картины» — одноактные пьесы на сюжеты из разных эпох, предлагавшиеся народным театрам. Гумилев, в полном соответствии со своими пристрастиями, выбрал палеолит. Достаточно сравнить (хотя бы в чисто языковом отношении!) его «Охоту на носорога» с написанным в рамках того же проекта «Рамзесом» Блока, чтобы оценить не только драматургический талант Николая Степановича, проявлявшийся даже в такого рода «халтурке», но и его способность увлекаться случайнейшей литературной работой и вкладывать в нее душу. Это относится и к его изобретательной и трогательной детской пьесе-сказке «на индийскую тему» — «Дерево превращений». В феврале-марте 1919-го пьеса шла в первом в России Детском театре (в здании нынешнего Театра на Литейном). Спектакль занимал первое отделение, вторым был «Крокодил» Чуковского в авторском исполнении. Для голодных петроградских детей, считавших, что в строчке «и тысячу порций мороженого» речь идет о мороженой картошке, это было одно из немногих развлечений. Для двух писателей (и их собственных детей) — еще одно подспорье той ужасной петроградской зимой.
Афиша спектакля «Дерево превращений», 23 февраля 1919 года
Известно, что в эти годы Гумилев создал еще несколько драматических произведений — в том числе в рамках просветительных проектов «Всемирной литературы». Вместе с академиком С. Ф. Ольденбургом он написал пьесу «Жизнь Будды» (сохранился лишь развернутый план — его опубликовал в 1992 году М. Д. Эльзон)[147]. Пытался он возобновить и работу над трагедией о завоевании Мексики.
Если денежная оплата работы во «Всемирной литературе» была скудной, сотрудничество в «советской организации» давало возможность бесплатно или за низкую цену получить продукты, дрова и т. д. В военно-коммунистическом городе не «покупали», а «получали». Сложные взаимоотношения, порожденные этой распределительной системой, в основном не задокументированы, но отражены в многочисленных образцах «словесности на случай». Пример — «дровяная» стихотворная переписка.
Адресат этих стихов — некто Давид Самойлович Левин, завхоз «Всемирной литературы», который «снабдил Блока дровами, а других обманул. Теперь Левин завел альбом, и ему все наперебой сочиняют стихи о дровах».
Первым с посланием к Левину обратился Гумилев:
Левин, Левин, ты суров, Мы без дров. Ты ж высчитываешь триста Мерзких ленинских рублей С каталей Виртуозней даже Листа…Блок тоже не остался в долгу:
Давид Самуилыч! Едва Альбом завели — голова Пойдет у вас кругом — не раз и не два Здесь будут писаться слова: «Дрова».Чуковский в притворном негодовании обратился к поэтам с посланием:
Поверят ли влюбленные потомки, Что наш магический, наш светозарный Блок Мог променять объятья Незнакомки На дровяной паек. А ты, мой Гумилев! Наследник Лаперуза! Куда, куда мечтою ты влеком? Не Суза знойная, не буйная Нефуза — Заплеванная дверь Петросоюза Тебя манит: не Рай, а Райлеском! И барышня из Домотопа Тебе дороже Эфиопа!Блок ответил длинным посланием, помещенным в «Чукоккале»:
Нет, клянусь, довольно Роза Истощала кошелек. Верь, безумный, он не проза, Свыше данный нам паек! Без него теперь и Поза Прострелил бы свой висок…Гумилев в свою очередь решил ответить Чуковскому с теми же рифмами, что в его послании. Получилось трогательно… и почти лирично:
Чуковский, ты не прав, обрушась на поленья, Обломки божества — дрова, Когда-то деревам, близки им вдохновенья, Тепла и пламени слова. Береза стройная презренней ли, чем роза, Где дерево — там сад, Где б мы ни взяли их, хотя б из Совнархоза, Они манят. Рощ друидических теперь дрова потомки, И, разумеется, в их блеске видел Блок Волнующую поступь Незнакомки, От Музы наш паек. А я? И я вослед Колумба, Лаперуза К огню и дереву влеком, Мне Суза с пальмами, в огне небес Нефуза Не обольстительней даров Петросоюза, И рай огня дает нам Райлеском. P. S. К тому ж в конторе Домотопа Всегда я встречу эфиопа.Упомянутая Блоком Роза (Розалия) Васильевна Рура, торговка сомнительными деликатесами времен военного коммунизма, которой разрешили поставить свой лоток в здании «Всемирки», тоже завела альбом, куда записывали стихи кредитуемые ею поэты. Наиболее знамениты стихи Георгия Иванова («…Но двух чудес соединенье ты: Ты женщина! Ты Роза!»), Зоргенфрея («…На что нам былая свобода, на что нам Берлин и Париж, когда ты направо от входа, налево от кассы стоишь») и Мандельштама («Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч, помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать»). Одиннадцать тысяч были ничтожной суммой. Мандельштам не возвращал их из принципа — когда это и кому он платил долги?
Гумилев в стихах к Розе развивал ту же тему:
«О дева Роза, я в оковах», Я двадцать тысяч задолжал. О радость леденцов медовых, Продуктов, что творит Шапшал[148].…Гумилеву приходилось и выступать в роли «адвоката» «Всемирной литературы». В 1921 году «на заседание издательства пришел А. М. Горький и сообщил, что в зарубежной прессе печатаются злые измышления о задачах и методах нашей работы… Было решено обратиться в одну из иностранных газет с протестом от лица «Всемирной литературы». Написать этот протест было поручено Гумилеву».
Речь шла о письме Д. С. Мережковского к Г. Уэллсу, напечатанном в «Последних новостях» (1920. 3 декабря. № 189), где деятельность «Всемирной литературы» именовалась «бесстыдной спекуляцией», а большевики сравнивались… с марсианами из «Войны миров».
Горький будто бы спасает русскую культуру от большевицкого варварства, — писал Мережковский. — Я одно время сам думал так, сам был обманут, как вы. Но когда испытал на себе, что значит «спасение» Горького, то бежал из России. Я предпочитал быть пойманным и расстрелянным, чем так спастись… Ваш друг Горький… хуже Ленина и Троцкого. Те убивают тела, а этот убивает и расстреливает души.
Такого рода отношение к культурной деятельности людей, оставшихся «под большевиками» (типологически очень напоминающее отношение сталинского государства к любой деятельности «под немцами»), было довольно распространено. Вспомним поэтически яркое, но содержащее малоприятную политическую аллегорию стихотворение Бунина «Русская сказка» (1919) — откровенное злорадство из-за голода в Москве и Петрограде. Но поведение Мережковских было особенно неблагородным, потому что осенью 1918 года они (как следует из дневников К. Чуковского) активно хлопотали об экранизации «марсианами» исторических романов Дмитрия Сергеевича, об аудиенции у Луначарского и т. д. — совершенно не побуждаемые к тому ни Горьким, ни кем-либо другим. Пламенные антибольшевистские строфы Зинаиды Гиппиус рождались параллельно этим хлопотам, а когда последние не увенчались успехом, мистические и либеральные супруги «бежали из России».
В конце концов от публикации ответного письма Гумилева решено было воздержаться, но его текст сохранился в «Чукоккале»:
…«Всемирная литература» — издательство не политическое. Его ответственный перед властью руководитель, Максим Горький, добился в этом отношении полной свободы для своих сотрудников. Разумеется, в коллегии экспертов, ведающих идейной стороной издательства, есть люди самых разных убеждений, и случайностью надо признать факт, что среди них нет ни одного члена Российской коммунистической партии. Однако все они сходятся на убеждении, что в наше трудное время спасение духовной культуры страны возможно только путем свободной работы каждого в той области, которую он свободно избрал себе прежде. Не по вине издательства эта работа проходит в условиях, которые трудно и представить себе нашим зарубежным товарищам. Мимо нее можно пройти в молчании, но гикать и улюлюкать над ней могут только люди, не сознающие, что делают, или не уважающие самих себя.
Нападки с противоположной — «красной» — стороны были тем тяжелее, что некоторые из них исходили не от давних недоброжелателей Гумилева (как Мережковские), а от бывших приятелей и знакомцев.
7 декабря 1918 года в газете «Искусство Коммуны» была напечатана статья Н. Н. Пунина «Попытка реставрации». Бывший царскосел в этот период приобрел известность как теоретик «левого искусства» и был близок к Луначарскому.
Мы вышли год назад, — писал он, — из-под власти тусклой, изнеженно-развратной буржуазной эстетики. Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение этого года в том числе потому, что перестали писать или, по крайней мере, печататься некоторые критики и читаться соответствующие поэты (Гумилев, напр.). И вдруг я встречаю их снова «в советских кругах». Они не изменились за это время, ни одним волосом… Для меня это одно из проявлений неусыпной реакции, которая то здесь, то там нет-нет да и поднимет свою битую голову.
Поскольку это происходило после 1917 года, чисто эстетическое неприятие творчества Гумилева Пуниным могло иметь для поэта последствия физически ощутимые: когда той же осенью открылся Дом литераторов, ведавший пайковым обеспечением писателей (причем пайки выделялись в зависимости от творческой значимости обеспечиваемой особы), Пунин на собрании потребовал, чтобы, если Ахматовой выделен паек категории «5», Гумилев получил не более чем «5 с минусом». Пикантность ситуации заключалась в том, что Левушка находился на иждивении отца. Таким образом, влюбленный в Ахматову и ее стихи Пунин решил получше накормить поэтессу за счет ее маленького сына.
Выпады наконец показавшего себя во всей красе Городецкого были еще злее, но о них мы скажем чуть ниже.
У Гумилева были все основания говорить Одоевцевой: «Позволь себе только быть слабым и добрым, все кинутся тебе на горло и загрызут. Как раненого волка грызут и сжирают братья-волки, так и братья-писатели. Нравы у волков и писателей одинаковые».
Николай Пунин, 1918 год
«Всемирная литература» просуществовала до 1924 года, выпустила двести книг. Подготовлено было полторы тысячи. Подытоживая свою и своих товарищей деятельность, Андрей Левинсон (участвовавший в общей работе до 1920-го) писал:
…На два с лишним года объединил нас общий труд, безнадежный и парадоксальный труд насаждения культуры Запада на развалинах русской жизни… Этой великодушной иллюзией мы жили в эти годы, уповая, что Байрон и Флобер, проникающие в массы хотя бы во славу большевистского «блефа», благотворно потрясут не одну душу. Я смог оценить тогда обширность знаний Гумилева в европейской поэзии, необыкновенную напряженность и добротность его работы, а особенно его педагогический дар…
3
Начало педагогической деятельности Гумилева относится к ноябрю 1918 года.
18 октября был создан, а 15 ноября официально открылся Институт живого слова, расположившийся сперва в здании бывшей Городской думы, а затем — в помещении Тенишевского училища на Моховой, 33/35, как раз напротив «Всемирной литературы». Это было «одно из самых фантастических, очаровательных и абсолютно нежизнеспособных явлений того времени» — одно из многочисленных культурных начинаний, количество которых увеличивалось пропорционально усилению общего экономического коллапса. Возглавил его Всеволод Николаевич Гернгросс-Всеволодский, актер Александринского театра. Одоевцева, с мягкой иронией описывая этого пылкого энтузиаста, прибавляет: «Вероятно, он был посредственным актером. Но оратором он был великолепным. С первых же слов, как только он, минуя ступеньки, как тигр вспрыгивал на эстраду, он покорял аудиторию». Всеволодский обещал ученикам, что они будут «лучшими актерами не только России, но и мира». Но ни один из них, кажется, в крупные актеры не выбился. Закончилась и сценическая карьера самого Всеволодского: весь остаток жизни (а умер он восьмидесяти лет в 1962 году) посвятил он преподаванию и научным штудиям — сперва в Институте живого слова (просуществовавшем очень недолго), потом в Институте сценических искусств, потом в ГИТИСе. Кроме театрального, в Институте живого слова были отделения ораторского искусства и литературное. На последнее и был приглашен преподавать Гумилев. План его лекций был напечатан в 1919 году в «Записках Института живого слова».
На первой лекции (28 ноября)
преобладали слушатели почтенного и даже чрезвычайно почтенного возраста. Какие-то дамы, какие-то бородатые интеллигенты, вперемежку с пролетариями в красных галстуках. Все они вскоре же отпали и, не получив в «Живом слове» того, что искали, перешли на другие курсы. Курсов в то время было великое множество — от переплетных и куроводства до изучения египетских и санскритских надписей. Учиться — и даром — можно было всему, чему только пожелаешь.
Гумилев на лекцию опоздал больше чем на полчаса, и публика уже начала расходиться. Когда же он появился, «это было явление существа с иной планеты… Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе с белым рисунком по подолу, колыхавшейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и портфель с пестрым африканским рисунком придавали ему еще более необыкновенный вид…» (Эта оленья доха, может быть купленная в Мурманске, была важнейшей частью облика Гумилева в последние годы, ее описывают многие мемуаристы.) Гумилев говорил «торжественно, плавно и безапелляционно» о том, что «поэзия — такая же наука, как математика», что «нельзя… не только стать поэтом, не изучив ее, но нельзя даже стать понимающим читателем, умеющим ценить стихи».
Все, знавшие поэта, подчеркивают, что он (будучи, в общепринятом смысле слова, неважным оратором) умел заставить себя слушать и соглашаться с собой: была в его речах какая-то уверенность, убедительность. Но — не в этот раз. Аудитория была раздражена «наглостью» лектора и обратила внимание в первую очередь на его неловко выставленную всем напоказ драную подметку. Особенно возмутились великовозрастные студенты, когда Гумилев надменно посоветовал одному из них, «чтобы подготовиться к восприятию» курса, прочитать «одиннадцать томов натурфилософии Кара».
Сам Гумилев позднее объяснял, что испытывал панический страх перед аудиторией, что накануне лекции (первой в жизни!) его мучила бессонница, что он по многу часов репетировал перед зеркалом… «Я готов был бежать к Луначарскому отказаться, объяснить, что не могу… Гордость удерживала». Ко всему прочему конспект лекции был в портфеле, а Гумилев, растерявшись, положил на него шапку — читать пришлось по памяти. Ногу же с драной подметкой он выставил вперед, потому что от волнения начало дергаться колено. «И зачем я про книги по натурфилософии брякнул? От страха и стыда, должно быть…»
Здание Тенишевского училища (ныне Учебный театр). Фотография 2004 года
Вернувшись домой, горе-профессор поклялся себе никогда в жизни не читать больше лекций. Спустя год он читал по две лекции в день — и с большим успехом.
Занятия в Институте живого слова продолжались. Гумилев предложил ученикам принести свои стихи и язвительно-надменно разобрал их. Больше всего досталось ультраромантическим стихам про испанцев, принесенным некой «рыжей с огромным бантом» девушкой. Гумилев просто поднял их на смех, кстати вспомнив Козьму Пруткова. Девушка (избалованная похвалами друзей) пришла в отчаяние и некоторое время не посещала занятий Гумилева. Потом вернулась. Вместе с другими учениками поэта она изучала стихотворные размеры, «переделывая анапесты в ямбы» («А птичка божия не знает заботы тяжкой и труда…»), и писала сонеты на предложенные мэтром рифмы. Гумилевская школа была суровой. К концу учебного года у него осталось лишь три-четыре ученика. И лишь одну рыжую девушку с большим бантом Гумилев пригласил в новую студию, открытую весной 1919 года при «Всемирной литературе». Девушка эта стяжала некоторую известность. Ее мемуары мы неоднократно цитировали на протяжении нашей книги — в том числе только что, два-три-четыре абзаца назад, при описании Института живого слова и первой гумилевской лекции.
Ее звали Рада (Ираида) Густавовна Гейнике. По собственному утверждению, в момент поступления в студию ей было «девятнадцать жасминовых лет». Но по предвоенным документам, она была моложе, а по послевоенным — старше. Если верна дата рождения, принятая ныне энциклопедиями, то Раде Гейнике, известной историкам русской поэзии как Ирина Одоевцева, в 1918 году было двадцать три года. Псевдоним (для первой книжки стихов) придумал ей впоследствии Гумилев, нашедший, что «Гейнике» звучит «слишком уж гинекологически». По свидетельству Рождественского, мэтр взял с полки первую попавшуся книгу: это оказались «Русские ночи» князя Владимира Одоевского. Но поэт Одоевский уже был — Александр, двоюродный брат Владимира, и Гумилев предложил созвучную фамилию: Одоевцева. Спустя полвека Андрей Битов, вероятно знавший о существовании поэтессы (а может, и нет?), дал эту фамилию герою своего «Пушкинского дома», советскому интеллектуалу-княжичу.
Гейнике-Одоевцева стала не просто ученицей Гумилева, а одним из близких к нему в последние три года его жизни людей. Ее воспоминания об учителе — самые подробные… и, наверное, самые достоверные. Мы уже упоминали о «стенографической памяти», которую она себе приписывала. Что касается разговоров Гумилева, то, похоже, что Одоевцева и впрямь все запомнила точно. Критерий прост: в своих статьях Николай Степанович всегда умен и тонок; в воспоминаниях других мемуаристов — часто претенциозен, грубо-прямолинеен, да и просто глуповат. Таков он, скажем, у Адамовича… А ведь сам Адамович был несомненно умным человеком! Но он плохо понимал своего старшего друга и слишком доверял своим беглым впечатлениям. Слова Гумилева он передает приблизительно, игнорируя самое главное — интонацию. А Георгий Иванов явно приписывает Гумилеву собственные чувства и мысли. Трудно поверить в Николая Степановича, рассказывающего, что в Африке — «жарко и скучно», а на войне — «противно и страшно». Это самому Иванову всюду было скучно, противно, страшно, что он так замечательно и выразил в своих стихах. Оцуп? Он, пожалуй, понимал Гумилева, любил его… Слишком любил — и оттого несколько идеализировал, «стирал случайные черты».
У Одоевцевой же Гумилев — умница, хотя сама она была, судя по всему, женщиной не слишком далекой. Если отбросить все ее собственные рассуждения о поэте, а оставить только его слова и реальные происшествия, перед нами окажется удивительно живой образ человека: умудренного опытом и наивного, важного и ребячливого, благородного и эгоцентричного… Внешне самоуверенного — и страдающего от тайных комплексов… Падкого на лесть и быстро прощающего мелкие обиды… Доброго и стесняющегося своей доброты, потому что это «не мужское качество»… Физически измученного — и не признающегося в своей усталости. Вероятно, именно таким был Николай Степанович в последние годы жизни.
Житейские обстоятельства тем временем складывались так. К весне 1919 года брат с женой уехали в Петергоф. Гумилев остался в квартире на Ивановской с матерью, с Анной и сыном. Здесь впервые навестил его приехавший из Москвы Ходасевич, описавший этот визит в своем несколько поверхностном и надменном очерке о Гумилеве из «Некрополя».
Поэты, знавшие друг друга лишь заочно, познакомились во «Всемирной литературе».
Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал — не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах… сидели мы и беседовали с непомерною важностью… Между тем обстановка его кабинета все более привлекала мое внимание. Письменный стол, трехстворчатый книжный шкаф, высокие зеркала в простенках, кресла и прочее — все мне было знакомо до чрезвычайности…
Это была мебель Марины Рындиной, в первом браке Ходасевич, во втором браке Маковской.
Когда Ходасевич прощался с хозяином в передней,
из боковой комнаты выскочил тощенький, бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной косоворотке и валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Гумилев тотчас отослал его — тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына.
Сюда же, на Ивановскую, как-то зашел к нему Чуковский — и потерял на лестнице сознание от голода.
Очнулся я в великолепной постели, куда, как потом оказалось, приволок меня Николай Степанович…
Едва я пришел в себя, он, со своим импозантным и торжественным видом, внес в спальню расписанное матовым золотом лазурное блюдо, достойное красоваться в музее. На блюде был тончайший, почти сквозной, не ломтик, а скорее лепесток серо-бурого глиноподобного хлеба, величайшая драгоценность тогдашней зимы…
Братски разделив со мной свою убогую трапезу, он столь же торжественно достал из секретера оттиск своей трагедии «Гондла» и стал читать ее вслух при свете затейливо-прекрасной и тоже старинной лампады.
Когда лампада внезапно погасла, оказалось, что поэту она не нужна — он помнил наизусть «не только стихотворный текст, но и все прозаические ремарки».
Но в начале апреля Гумилевы переезжают на Преображенскую улицу (д. 5/7, кв. 2). В середине апреля появляется дочь, которую Гумилев назвал «в честь самой красивой женщины всех времен» — Елены Троянской. Лето и осень проходят в мучительных попытках обеспечить семью. Поскольку переводы такой возможности не давали, средством выживания становятся многочисленные лекции и студийные занятия.
Владислав Ходасевич, 1910-е
Вспоминает Чуковский:
…Перед ним встала задача, невыполнимая в ту пору ни для малых, ни для великих поэтов: ежедневно добывать для ребенка хоть крохотную каплю молока. Мое положение было не легче: семья состояла из шести человек, и ее единственным добытчиком был я. С утра мы с Николаем Степановичем выходили на промысел с пустыми кульками и склянками.
В числе одиннадцати литературных кружков, которые вел в иные месяцы Чуковский, были кружки инвалидов-артельщиков, раскаявшихся проституток и т. д. Ученики Гумилева были чуть менее экзотическими — Пролеткульт, Балтфлот (пока Лариса Рейснер не вмешалась), военные курсанты, милиционеры…
Пушкинист Лернер иронизировал:
Широкий путь России гению Сулят счастливые ауспиции. Уж Гумилев стихосложению Китайцев учит из милиции. Некрасова аллитерации Пред молчаливыми эстонцами Поет Корней. Версификации Век следует за сими солнцами.Гумилев отлично ладил и с солдатами (он был солдатом, в конце концов!), и с матросами, и с пролетарскими поэтами. «Я уважаю их, они пишут стихи, едят картофель и берут соль за столом, стесняясь, как мы сахар» — эти его слова запомнил Виктор Шкловский. Он не забывал сообщить им о своем «монархизме» — это воспринимали (совершенно справедливо) как невинное позерство. Когда Гумилева арестовали, его ученики-пролетарии ходатайствовали за него.
За эти уроки платили продуктами.
Однажды с нами случилась беда. К годовщине Октябрьских дней военные курсанты, наши слушатели, получили откуда-то много муки. Каждому из нас, «лекторов», они выдали не менее полупуда. Весело было нам в этот предпраздничный день везти через весь город на своих легких салазках такой неожиданный клад. Мы бодро шагали рядом и вскоре где-то близ Марсова поля завели разговор о ненавистных Гумилеву символистах.
В пылу разговора мы так и не заметили, что везем за собой пустые салазки, так как какой-то ловкач, воспользовавшись внезапно разыгравшейся вьюгой, срезал наши крепко прикрученные к салазкам мешки. Я был в отчаянии: что я скажу дома голодной семье, обреченной надолго остаться без хлеба? Но Гумилев, не тратя ни секунды на вздохи и жалобы, сорвался с места и с каким-то диким воинственным криком кинулся преследовать вора…
Вернулся он очень не скоро, и, конечно, ни с чем, но глаза его сияли торжеством.
Оказывается… он налетел на какого-то мирного прохожего, который нес свой собственный мешок, и, приняв его за нашего вора, стал отнимать у него этот мешок. Прохожий со своей стороны принял его за грабителя, громко закричал караул, и у них произошла потасовка, которая, хоть и закончилась победой прохожего, доставила поэту какую-то мальчишескую — мне непонятную радость. Он воротился ко мне триумфатором и, взяв за веревочку пустые салазки, тотчас же возобновил свою обвинительную речь против символизма, против творчества Блока, которую всегда начинал одной и той же канонической фразой:
— Конечно, Александр Александрович гениальный поэт, но вся система его германских абстракций и символов…
Вероятно, это был ноябрь 1919 года. К тому времени народу на Преображенской убавилось. Еще летом или ранней осенью Анна Ивановна вернулась в Бежецк, а осенью (между 7 и 11 ноября) Гумилев, посетив тверской уездный городок и убедившись, что с продовольствием дела обстоят там несколько лучше, чем в Петрограде, отправляет туда жену и детей. Помимо прочего, там были старшие женщины, которые лучше, чем Анечка Энгельгардт, могли бы позаботиться о Леве и Лене.
Гумилев посылал в Бежецк деньги, привозил продукты. И того и другого не хватало. Обсуждались разные проекты — например, Анне Ивановне устроиться на работу в приют для «пролетарских детей», чтобы Лева мог там жить при ней… Речь шла о выживании.
О положении, в котором, несмотря на все свои труды и усилия, время от времени оказывался Николай Степанович, свидетельствует анкета, заполненная им в 1920 году при вступлении в новосозданный Союз поэтов. На вопрос: «Чем занимаетесь в настоящее время?» — поэт отвечает так: «Розничной продажей домашних вещей».
На вопрос: «Какие обстоятельства мешают заниматься литературным трудом?» — ответ таков: «Низкая оплата труда, отсутствие пайка в связи с закрытием рынков, большая семья».
(Рынки, эти «рассадники безудержной спекуляции», были закрыты в июле-августе 1920-го вместе со всеми частными магазинами и мастерскими. Это была высшая и, как оказалось, последняя стадия военного коммунизма.)
Если у Гумилева вырвалось это — в официальной анкете! — значит, было очень трудно. Он был не из тех, кто в экстремальных условиях теряет достоинство. Можно вспомнить эпизод, случившийся на приеме в честь приехавшего в Петроград Уэллса. «Некто» (А. В. Амфитеатров), «распахивая пиджак, заговорил об ужасной грязи и нищете, в которых заставляют жить русских деятелей культуры… Гумилева особенно покоробило заявление о неделями не мытом белье писателей. Он повернулся к говорившему и произнес довольно громко: Parlez pour vous! («Говорите о себе!»)» (Лукницкая)[149]. И лишь иногда он позволял себе мрачно заметить: «Мне, Блоку, Ахматовой, Брюсову, Бальмонту можно бы дать то, что имеет каждый комиссар!» (О. Мочалова). «Каждый комиссар» имел в те годы пристойное трехразовое питание, отдельное жилье и «свежевымытую сорочку» — не больше. Но для знаменитейших поэтов и это было недоступно (впрочем, Брюсова Гумилев упомянул напрасно — тот-то был поэтом и комиссаром в одном лице) …
Все же без семьи Гумилев обустроился на Преображенской чуть вольготнее. По свидетельству Г. Иванова,
по советским временам парадная лестница была закрыта, и из передней вышел уютный маленький кабинет. Там над диваном висела картина тридцатых годов, изображавшая семью Гумилевых в гостиной…[150] Гумилев любил сидеть там у круглой железной печи, вороша угли игрушечной саблей своего сына. Там же на полке стоял большой детский барабан.
— Не могу отвыкнуть, — шутил Гумилев, — человек военный. Играю на нем по вечерам.
Комнату Гумилева на Преображенской описала другая мемуаристка — Дориана Слепян, бывшая в гостях у поэта лишь однажды:
Из-за ширмы виднелась никелированная кровать мещанского вида, а над ней, на стене, резко контрастирующая, распластанная шкура леопарда. На старинном комоде красного дерева стояло много интереснейших, уникальных вещей — реликвий, вывезенных им вместе со шкурой леопарда из его африканских путешествий.
Часов (исправных) не было. Гумилев хвалился, что умеет определять время без часов — «шестым чувством-бис», существующим «у гениев и кретинов». «А я, как известно, помесь гения с кретином».
Хозяйство стала вести Паша, то ли дворничиха, то ли мешочница, нанятая за часть пайка. Гумилев читал ей стихи, старушка вздыхала: «Непонятно и чувствительно! Совсем как в церкви раньше…»; поэт умилялся тому, как простой народ чувствует связь поэзии с религией. Обедать он, впрочем, ходил в столовую Дома литераторов, а потом — Дома искусств. В свободное время, которого было мало, он читал книги из серии «Мир приключений»; конфузился, прятал их от знакомых и клал на стол что-нибудь вроде «Критики чистого разума»… В общем, вечная, вневременная русская писательская идиллия — в данном случае отдающая воблой и дымом от сырых еловых дров, сгорающих в круглой железной печке.
Но ему было одиноко, так, как, вероятно, не бывало никогда прежде. Может быть, сказывался возраст — ведь до сих пор он обходился без задушевных собеседников. Мужчины в такие собеседники не годились. И тут рядом оказалась Рада Гейнике — она же Ирина Одоевцева. Гумилев говорил с ней о стихах, о своем детстве, о своем браке с Ахматовой, об историческом Дон Жуане и собственном донжуанстве, о судьбах Европы… Вдвоем с Радой Гумилев, надев «британское» клетчатое пальто, выходил на Невский и заводил громогласную беседу по-английски, выдавая себя и свою спутницу за коминтерновских делегатов (к ужасу осторожного Лозинского и родителей девицы Гейнике: развлечение могло закончиться на Гороховой). С нею он заказывал в годовщину смерти Лермонтова панихиду по «рабе божием убиенном Михаиле». Когда она, расшалившись, начинала кружиться по комнате, мешая работе, мог попросту посадить ее на шкаф и на несколько часов забыть о ней.
Ирина Одоевцева. Рисунок В. А. Милашевского, 1922 год
Были ли они друзьями? Гумилев вроде бы говорил, что не верит в дружбу мужчины с женщиной, а Одоевцева писала: «…Дружба предполагает равенство. А равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом». Связывало ли их что-то, кроме дружбы? Многие были в этом убеждены. Тем более когда в альманахе «Дракон» в 1921 году появилось стихотворение Гумилева «Лес» (написанное двумя годами раньше) с посвящением Одоевцевой. Это, конечно, любовные стихи:
Я придумал это, глядя на твои Косы, кольца огневеющей змеи, На твои зеленоватые глаза, Как персидская больная бирюза. Может быть, тот лес — душа твоя, Может быть, тот лес — любовь моя, Или, может быть, когда умрем, В этот лес направимся вдвоем.Одоевцева была рыжеволосой, кудрявой, зеленоглазой… Эрих Голлербах в рецензии на «Дракона», напечатанной в официозных «Известиях Петросовета» и написанной «в форме фельетона», прямо связал только что процитированные строки с ней. Это стало поводом для шумного и нелепого литературного скандала, о котором чуть ниже. Разумеется, возмущение Гумилева поступком Голлербаха и его утверждения, что Одоевцева для него — «не больше чем ученица», ничего не доказывают. Рада-Ирина уже была невестой Георгия Иванова, младшего друга Гумилева (мэтр не одобрял этот брак: «Ваши друзья, Жоржик Иванов и Жоржик Адамович, прямо не люди, а произведения искусства какие-то, вроде этрусской вазы. Но за этрусскую вазу не выходят замуж»). Да и вообще у Гумилева были несколько средневековые представления о женской чести.
Но если верить мемуарам самой Одоевцевой, между ней и Гумилевым и впрямь «ничего не было». Гумилев мог попросить ее поджарить где-то чудом добытый им кусок мяса, и — даже не угостив ее этим мясом! — повезти его в Бежецк, семье. А мог по-братски поделиться пайковыми селедками («обменяете на хлеб»). Мог (уже в 1920 году) пригласить на «Пантагрюэлево пиршество» в подпольную частную столовую — и с завидным аппетитом есть свиную отбивную и блинчики с вареньем при голодной, но из странной щепетильности отказавшейся от угощения барышне. С любовницами так себя не ведут. Разве что уж с очень давними…
В конце 1919 года Рада написала «Балладу о толченом стекле».
Солдат пришел к себе домой, Считает барыши. «Ну, будем живы мы с тобой, И мы, и малыши. Семь тысяч! Целый капитал! Мне здорово везло! Сегодня в соль я намешал Толченое стекло…»Весной следующего года это стихотворение привело в восторг Георгия Иванова (так и начался знаменитый роман, положивший начало знаменитому браку) и Корнея Чуковского. 3 августа, ровно за год до ареста Гумилева, молодая поэтесса читала балладу с эстрады в Доме литераторов. Способную «контрреволюционерку» снисходительно похвалила в «Красной газете» (пропагандистском органе для «широких масс», основанном Володарским) Лариса Рейснер. Так началась слава Одоевцевой — и в «белых», и в «красных» кругах. За «Толченым стеклом» последовали «Баллада об извозчике», «О том, почему в Петрограде испортились водопроводы». Сам Лев Давыдович Троцкий, в свободное от державных дел время баловавшийся литературной критикой, выделил Одоевцеву на фоне прочей «внеоктябрьской литературы». Ее know how — соединение балладной формы с реалиями «советского» быта — оказалось очень кстати и вполне могло быть (как казалось многим) утилизовано одним из политических лагерей. Русская поэзия уже открыла Киплинга; и как раз в те годы в Германии делал первые шаги Брехт, а в Австрии — Теодор Крамер. В России приемами Одоевцевой воспользовались ее сверстники — классики советской поэзии, талантливый Тихонов и малоталантливая Инбер, но из самой Одоевцевой больше ничего существенного не вышло. Ее стихи, написанные в эмиграции (с 1922-го по 1987-й), в основном достаточно второсортны — как и ее романы. За исключением мемуаров и ранних стихов, ее сочинения почти не переиздаются.
Ирина Одоевцева, ок. 1920 года
Но в 1919–1920 годы Гумилев имел основания считать Одоевцеву своей лучшей ученицей. Впрочем, в студии «Всемирной литературы» и другие были достойны внимания учителя. Именно здесь, а не в Институте живого слова началась настоящая педагогическая деятельность поэта[151].
Студия первоначально создавалась для подготовки переводчиков, однако большинство ее участников ориентировались «на самостоятельную, а не переводческую работу». В феврале-мае 1919 года студия собиралась в Доме Мурузи на Литейном — там, где прежде жили Мережковские, а впоследствии — Бродский. Затем все выезжали на «летний триместр» в Царское Село, ставшее уже Детским. Именно тогда, вероятно, Гумилев с помощью своих учеников-красноармейцев перевез на Преображенскую из брошенного дома на Малой улице свою библиотеку. Именно тогда родился экспромт, известный в нескольких редакциях. Оцуп запомнил его так:
Не Царское Село, к несчастью, А Детское Село — ей-ей. Что ж лучше — быть царей под властью Иль стать забавой злых детей?[152]С осени занятия проходили в основном в новооткрытом Доме искусств на углу Невского и Мойки, в 1920 году, как указывает Е. Е. Степанов, по четвергам и пятницам[153]. Программа этого курса была более широкой. Собственно поэтическим переводом занимался с молодыми поэтами наиболее признанный авторитет в этой области — Лозинский. В числе преподавателей были самые блестящие представители тогдашнего культурного Петрограда — от Шкловского до Евреинова. Но именно Гумилев был главным мэтром и наставником литературного молодняка, пасшегося близ Дома искусств.
Среди первых выпускников студии был 18-летний Лев Лунц. Ему оставалось пять лет жизни — за это время он успел стать идеологом «Серапионовых братьев», написать полтора десятка рассказов, четыре пьесы и два киносценария… и умереть в германской больнице от эндокардита и менингита. Как носитель «левой» эстетики, Лунц полемизировал с «гумилятами», но он был, может быть, ближе всех по духу к заветам учителя. «Пройдут года, и то, что теперь звучит будничным, станет высоким и прекрасным. Знаю, что нынешние люди, отрицающие героев, станут героями. Знаю, что штурм Кронштадта, и взятие Перекопа, и ледяной поход Корнилова, и партизанская война в Сибири будут выспренне воспеты, как подвиги нечеловеческого героизма…» Это слова из послесловия к трагедии Лунца «Бертран де Борн», которая Гумилеву должна была бы понравиться (она была написана уже после смерти поэта). Лунц, в свою очередь, сохранил к Гумилеву благодарность. По его словам, тот, «как никто, вытравлял из ученика все пошлое, но никогда не навязывал ему своего. Он не был узким фанатиком, каким его любили выставлять представители других поэтических течений…».
Лунц был одним из самых молодых. Моложе его были 15-летний Николай Чуковский (сын Корнея, будущий советский прозаик, автор «Балтийского неба»; стихи писал под псевдонимом Николай Радищев) и 14-летний Владимир Познер. Познер, сын известного журналиста Соломона Познера, был в начале 20-х известен (как и Одоевцева, и Тихонов) «балладами из современной жизни», а кроме того — стихами на случай. Потом он был Серапионовым братом, в семнадцать с родителями эмигрировал, постепенно перешел на французский язык, вступил (в 1932-м) во Французскую коммунистическую партию, но в СССР предусмотрительно не вернулся. Зато в Москву переселился его племянник — доселе известный телекомментатор.
Георгий Иванов. Фотография М. С. Наппельбаума, начало 1920-х. Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Старше других по возрасту были Елизавета Полонская, врач по профессии, особа уже лет под тридцать, и ее сверстница и подруга Мария Шкапская. О последней стоит сказать поподробнее. Шкапская происходила (по крайней мере так она сама о себе рассказывала) из доподлинной пролетарской среды, с детства зарабатывала на жизнь себе, братьям и сестренкам, собирая кости и тряпки, надписывая адреса на почте, выступая статисткой в театре… Поступила в гимназию на казенный счет (для этого требовались экстраординарные способности). Потом училась в университете во Франции, добывая пропитание продажей афиш, а летом — работой на виноградниках. По возвращении в Россию была газетным репортером. Первое стихотворение, принесшее Шкапской известность, «Гроб хочу с паровым отоплением…», было близко сердцу многих, переживших «истинно русский студенческий пауперизм». Но по-настоящему свое лицо обрела она в «бабьей лирике», не столько женской, сколько именно «бабьей». Тема любви и материнства трактовалась ею с физиологическим простодушием и прямотой. Наследницей (и поклонницей) Шкапской в наши дни является Вера Павлова.
Еще две ученицы: первая — Ада Оношкевич-Яцына, некрасивая, обаятельная и эксцентричная девушка, ставшая (чуть не единственная из всех) действительно поэтом-переводчиком и впервые сделавшая достоянием русской поэзии Киплинга (многие ее переводы остаются непревзойденными по сей день: «Пыль, пыль, пыль от шагающих сапог… — Отдыха нет на войне» — Раиса Блох, позже эмигрировавшая, дружившая с Ходасевичем и вошедшая в русскую поэзию трогательным стихотворением «Чужие города», положенным на музыку Вертинским.
Воспоминания учеников этого года дают какое-то представление о педагогической манере Гумилева. Вот что пишет, к примеру, Николай Чуковский (которому верить надо с оглядкой — унаследованная от отца склонность полемически упрощать реальность сочеталась у Чуковского-младшего с конформизмом и ограниченностью «советского интеллигента»; кроме того, его просто подводила память — в момент общения с Гумилевым он был слишком молод):
Гумилев представлял себе поэзию как сумму неких механических приемов, абстрактно-заданных, годных для всех времен и для всех поэтов, независимых ни от судьбы того или иного творца, ни от каких-либо общественных процессов. В этом он перекликался с так называемыми «формалистами»… Но в отличие от теорий опоязовцев, опиравшихся на университетскую науку своего времени, теории Николая Степановича были вполне доморощенными. Для того, чтобы показать уровень лингвистических познаний Гумилева, приведу один пример: он утверждал на семинаре, что слово «семья» произошло из слияния слов «семь я», и объяснял это тем, что нормальная семья состоит обычно из семи человек…
Скорее всего, юный Чуковский просто не понял шутки — впрочем, малоудачной.
Стихи, по его мнению, мог писать всякий, стоило только овладеть приемами. Кто хорошо овладеет всеми приемами, тот и будет великолепным поэтом…
Теория поэзии, утверждал он, может быть разделена на четыре отдела: фонетику, стилистику, композицию и эйдолологию… Эйдолологией он называл учение об образах…
Так как каждый отдел и каждый раздел делился на ряд подотделов и подразделов, то всю теорию поэзии можно было вычертить на большом куске бумаги в виде наглядной таблицы… Подотделы и подразделы располагались на этой таблице таким образом, что составляли вертикальные и горизонтальные столбцы. Любое стихотворение любого поэта можно было вчертить в эту таблицу в виде ломаной линии, отдельные отрезки которой располагались то горизонтально, то вертикально, то по диагонали. Чем лучше стихотворение, тем больше различных элементов будет приведено в нем в столкновение, тем больше углов образует на таблице выражающая его линия. Линии плохих стихов пойдут напрямик — сверху вниз или справа налево.
Все это немного напоминает «пассионарные кривые» Гумилева-сына, но еще больше — разного рода социальное и педагогическое экспериментаторство 20-х годов. У Гумилева было гораздо больше родственного с революцией, чем сам он хотел бы себе признаться. Его увлекала собственная утопия, отличная от общей, и «нового человека» он представлял себе не так, как большевики. Но его стремление просчитать, организовать, научно обосновать несказанное было созвучно их пафосу. В этом смысле Гумилев был им гораздо ближе и понятнее, чем Блок. Не случаен его успех как педагога в Пролеткульте и красноармейских казармах.
Николай Чуковский. Рисунок В. А. Милашевского. Холомки, 1921 год
С воспоминаниями младшего Чуковского созвучны воспоминания Елизаветы Полонской:
Каждое стихотворение он разбирал с этих четырех сторон, беспощадно и очень тонко проникая в ткань стиха. Этот метод во многом помогал нам, но часто убивал чувство и вдохновение, выбивая из колеи…
Он давал нам упражнения на разные стихотворные размеры, правил с нами стихи, уже прошедшие через его собственный редакторский карандаш, и показывал, как незаметно улучшается вся ткань стихотворения и как оно начинает сиять от прикосновения умелой руки мастера.
Но не все нравилось Полонской в мэтре.
Я служила врачом на частном заводе Сан-Галли, которым управлял рабочий комитет, и, как все небольшие предприятия, он влачил жалкое существование. Работали преимущественно старики… Меня поражала неутомимость этих старых питерских рабочих, трудившихся весь день, питаясь только мороженой картошкой. И я написала стихотворение о старике, который пришел умирать на свой завод в холодный нетопленный цех. И такая была в этом старике сила, что даже смерть подошла к нему на коленях.
Я прочла это стихотворение в студии. Гумилев его разобрал, не обращая никакого внимания на чувства, которые меня волновали, — он даже посмеялся над ними…
Многих учеников поэта раздражало и то, что в качестве учебного материала чаще использовались не русские, а французские стихи. Позволим себе предположить, что дело не в снобизме или галломании поэта, а в его крайней занятости. Поскольку огромную часть его работы в 1919–1921 годы составляли переводы, ему, естественно, проще было использовать только что переведенное стихотворение, структуру которого он уже глубоко изучил как учебный материал.
Еще одна ученица Гумилева, Н. Колпакова, вспоминает о том, что Гумилев приводил в качестве примера свои собственные стихи. Это было нескромно, конечно. Хуже того — это было опасно. Поэт должен чувствовать и понимать до глубины структуру всех стихов на свете — кроме своих собственных. Так считают многие, так считает и автор этой книги… но Гумилев был другого мнения. Колпакова пишет о том, что ученики делились на две группы — более и менее сильную. Им давались формально-стиховые задания разной степени сложности. «Сильным», к примеру, предлагалось переделать октаву Аполлона Майкова «Гармонии стиха божественные тайны….» в секстину, а потом на те же рифмы написать другую секстину, с другим содержанием.
Но прочие мемуаристы о «двух группах» не упоминают. Видимо, так было только в первый год.
Несомненно, и содержание гумилевского курса как-то эволюционировало. Постепенно все больше внимания уделялось практическому разбору стихов, высокомерную манеру обращения с учениками сменяла более непринужденная.
Но все же сохранившиеся в архиве П. Лукницкого и напечатанные в 2010 году записи лекций (выполненные В. Дмитриевым) в Институте живого слова[154] дают представление о гумилевской, как выразился Н. Чуковский, «схоластике». Приведем несколько фрагментов.
Гласные звуки можно расположить по скале: у, а, о, е, и (по убывающей силе). Употребление соседних на скале звуков создает певучесть стиха… Риторические стихи требуют гласных, далеко отстоящих друг от друга…
Батюшков и Пушкин итальянизировали стих, делали ео напевным; Ломоносов, Державин и потом Некрасов писали риторическим стихом.
Угрюмость строк:
Брожу ли я вдоль улиц темных, вхожу ли в многолюдный храм —и т. д. — создана стечением низкого гласного «у»…
У каждого народа есть свои любимые рифмы, которые выявляют их взгляд на жизнь. У французов amour рифмуется с jour. Англичане возвышенны — love и above. Тяжеловесные немцы нуждаются для проявления любви в сильной энергии: liebn — Zwiebn. Русская любовь — не эротическая, родственная и кровная. Поэтому у нас рифмуется «кровь — любовь»…
При выборе словаря в стихотворении нужно учитывать эпоху. Слово, взятое из другой эпохи, должно быть оправдано. Но лучше иметь богатый и неоправданный словарь, чем оправданный, но бедный.
Существительные — вехи стихотворения, статистический постоянный элемент, поэтому они должны быть интересны. Поэтому нам могут нравиться или старые, привычные, старые слова, или новые, неожиданные. Поэт должен соединять и те и другие. Удельный вес слова зависит от конкретности образа, новизны и антипоэтичности…
Когда один образ не убедителен, нужно сопоставить его с другим, его антагонистом. Антитеза очень опасна, но и привлекательна.
Стихотворение трехчленно; в нем есть образ, мысль и чувство. Образ — произведение воли, мысль — ума, а чувство — сердца. Волевая жизнь связана с половой, поэтому интенсивность образов зависит от интенсивности половой жизни поэта.
Поэт — тот, кто мыслит образами. В поэзии мысль, чувство и образ в отдельности не проявляются, они слиты. Но в каждом стихотворении один элемент преобладает над двумя другими. В стихотворении должно быть или развитие, или сопоставление, или противопоставление этих элементов…
Противоположные вещи создают в природе хаос; задача поэта превратить этот хаос в космос, создать гармонию среди этих сталкивающихся предметов.
В стихотворении м. б. две темы — основная и подводная, которая неожиданно проскальзывает. Иногда она побеждает основную, как в «Вороне» Эдгара По.
Обыкновенно поэты или осуждают, или оправдывают смерть; среднее отношение к ней встречается очень редко, и потому оно очень интересно.
Можно говорить о пространстве под нами, вокруг нас и над нами. Надземный мир слишком использован в поэзии. Чтобы освежить впечатление, изображая его, хорошо употреблять названия звезд и созвездий. Понятие земного мира очень обширно — пейзаж, люди, страны. Говоря о земле, можно говорить о стихийных духах, о природе, о зверях. Приятно употребление географических названий, потому что они могут намекнуть на обширность земного шара. Подземный мир еще очень мало разработан в поэзии. А это область такая же обширная, как две другие: гады, рыбы, фантастические существа, геологические термины…
Чаще всего встречаются пропорции нашего мира, и особенно интересны бывают пропорции макрокосма и микрокосма.
Нельзя не согласиться с Лидией Гинзбург: «Если бы Гумилев написал задуманную им «Поэтику», получилась бы книга, по всей вероятности, весьма ненаучная, весьма нормативная и нетерпимая, а потому в высшей степени ценная — как проекция творческой личности и как свод несравненного опыта ремесла». При этом Гумилев «разбалтывал» такие тонкие и интимные секреты творчества, которые ни один другой поэт не рискнул бы сообщить своим ученикам. Поразительная, опасная на первый взгляд щедрость. Так Станиславский пытался сделать способность сценического перевоплощения, доступную доселе лишь большим актерам, достоянием каждого выходящего на сцену…
Но важно учитывать следующее: что бы там ни писал Николай Чуковский, Гумилев никогда не обещал своим ученикам сделать из них с помощью своих педагогических приемов поэтов и не считал следование намеченным им правилам непременным условием поэзии. Вот что говорил Гумилев студийцам, по словам Одоевцевой:
Я не могу в вас вдохнуть талант, если его у вас нет. Но вы станете прекрасными читателями… Вы научитесь понимать стихи и правильно оценивать их…
…Когда вы усвоите все правила и проделаете бесчисленные поэтические упражнения, тогда вы сможете, отбросив их, писать по вдохновению, не считаясь ни с чем. Тогда, как говорил Кальдерон, вы сможете запереть правила в ящик на ключ и бросить ключ в море.
Сравните у Н. Оцупа:
Я вожусь с малодаровитой молодежью, — отвечает мне Гумилев, — не потому, что хочу их сделать поэтами. Это конечно немыслимо — поэтами рождаются, — я хочу помочь им по человечеству. Разве стихи не облегчают, как будто сбросил с себя что-то. Надо, чтобы все могли лечить себя писанием стихов…
Правда, В. Лурье утверждает: Гумилев «считал, что каждый может стать поэтом, но есть два типа: одни рождаются поэтами, другие этого добиваются работой, но не только технической… а и полной перестройкой своих жизненных вкусов, взглядов, мышлений».
Не стоит забывать, что Гумилев верил в скорый приход общества, в котором поэзия станет важнейшим из институтов. Понимание стихов в таком обществе должно стать обязательным, как в нашем — простая грамотность; поэзия будет там не только высоким искусством, доступным избранным (носителям благодати и власти), но и средством самовыражения и психотерапевтии для всех. Именно в этом смысле «каждый может стать поэтом». Гумилев готовил граждан эсхатологического идеального государства. Друзья (в том числе Ахматова и Мандельштам) этого не понимали и относились к гумилевской педагогике иронически, а то и раздраженно. «Обезьян растишь», — кратко формулировала это Анна Андреевна. Эстетические оппоненты, в том числе Блок, видели в гумилевской школе угрозу для целого литературного поколения, которое заражается ядом пустого формализма. Никто, видимо, не осознавал, какое космическое значение придает Гумилев амфибрахиям и паузникам.
Группа, с которой Гумилев занимался в Институте истории искусств в октябре 1920-го — феврале 1921 года, была наиболее отзывчива и предана ему[155]. Но сам поэт, уже немного уставший от преподавания и, кроме того, переживавший на рубеже 1920–1921 годов тяжелый личный и душевный кризис, первоначально отнесся к своим новым ученикам более холодно. Как вспоминала одна из этих учениц, Вера Лурье,
относился вначале Ник. Степ. к нам, студистам, без всякого интереса, т. е. читал свои два часа добросовестно, но презирал нас, видно, от всей души… Но вот настал момент перелома в отношениях лектора и его слушателей: читал стихи Константин Вагинов, Гумилев сразу почувствовал в нем поэта, заинтересовался и постепенно стал приближаться к своим слушателям.
Отношение Гумилева к Вагинову само по себе очень симптоматично. Стихи 21-летнего щуплого юноши, в самом конце 1920 года появившегося в студии «в серой шинели, в коротких солдатских ботинках, в обмотках» (С. К. Эрлих) после двухлетней принудительной службы в Красной армии, не соответствовали на первый взгляд никаким правилам. Однако Гумилев с его безупречным слухом сразу же понял, что перед ним — один из немногих, кому правила не писаны.
Гумилев на лекции в Институте истории искусств. Рисунок Н. К. Шведе-Радловой (эскиз портрета маслом), 1920–921 годы
Гумилев видел молодого Хлебникова, юного Мандельштама. Но в Вагинове не было внешней эксцентричности обоих. Молчаливый библиофил с выбитыми прикладом передними зубами… Гумилев и Вагинов вскоре стали участниками любовного треугольника: Вера Лурье, в которую «Костя» был трогательно влюблен, увлеклась мэтром. Видимо, Вагинов не держал обиды — вскоре он счастливо женился на другой студистке, Шуре Федоровой, но Гумилев был слишком чужд ему.
Поэт Заэвфратский с тридцатипятилетнего возраста создавал свою биографию. Для этого он взбирался на Арарат, на Эльбрус, на Гималаи — в сопровождении роскошной челяди. Его палатку видели оазисы всех пустынь. Его нога ступала во все причудливые дворцы. Он беседовал со всеми цветными властителями.
Милый шарж… и каталог всего самого поверхностного и наивного в гумилевской легенде. В сущности, автор «Козлиной песни» придумал своему учителю такую «загробную жизнь» — ведь тридцать пять лет было Гумилеву в момент гибели. И ровно столько же прожил сам Вагинов. Главное же, что мэтр под пером Вагинова отнесен на поколение назад (пропавший без вести в 1917-м Заэвфратский был в момент гибели уже стариком) и сделан аристократом и богачом — человеком «старого мира», принадлежностью безнадежно ушедшего прошлого…
Александра Федорова. Фотография М. С. Наппельбаума, начало 20-х
Помимо Вагинова в студии состояли две сестры Наппельбаум, 20-летняя Ида и 19-летняя Фредерика, дочери знаменитого фотографа, автора классических портретов советских государственных деятелей и писателей-современников (в том числе и Гумилева, а также Блока, Кузмина, Евреинова, Мандельштама и др.). Фредерика была даровитее как поэт (позднее она выпустила одну книгу, после чего с успехом занималась, как и отец, портретной фотографией, продолжая писать в стол); но Ида была ближе к учителю, и ее даже включают (хотя, возможно, и безосновательно) в его «донжуанский список». Среди других были Николай Чуковский (продолжавший посещать занятия, в отличие от большинства семинаристов первого года, несмотря на свои пристрастные отзывы о педагогическом методе Гумилева — и несмотря на устойчиво скептическое отношение к этой педагогике Чуковского-отца), Даниил Горфинкель, Софья Эрлих, Николай Дмитриев, Ольга Зив, Наталья Сурина, Петр Волков, Валентин Миллер, Томас Рагинский-Карейво, Александра Федорова… Одно время к гумилевским ученикам примыкала и юная Лидия Гинзбург. Лет им было от шестнадцати до тридцати с лишним, и некоторые, до прихода в студию, вообще не писали стихов. Например, Миллер (потом недолго — муж Фредерики Наппельбаум), по свидетельству его дочери, приехал в СПб. военным, увидел объявление о наборе в студию Дома искусств. Стал посещать занятия, ему было интересно. Он как-то не сразу понял, что там собирались поэты. И когда на очередном занятии Гумилев сказал, чтобы он принес свои стихи, он как-то уклончиво ответил: «Знаете, я в общем-то не поэт, и стихов у меня нет своих». На что Гумилев заметил: «Все мы бросали писать, потом начинали снова… Давайте-ка принесите, а мы разберем».
Вернувшись домой, Миллер спешно засел за стихи. Александра Федорова вообще стихов не писала, но Гумилев называл ее — «идеальный читатель».
Студисты привязались к Гумилеву настолько, что после окончания осенне-зимнего триместра они создали особое объединение, которое собиралось вечерами — после окончания других студийных занятий — и не имело официального статуса. Новая студия получила название «Звучащая раковина», предложенное Н. Дмитриевым. Будто бы Оцуп (один из «взрослых гостей») как-то появился на собрании с настоящей раковиной, в которой слышался морской шум. Однако не всем это название казалось изящным — особенно членам группы «Островитяне», «гумилевцам-ревизионистам». По одним сведениям, художник А. Мясников, по другим, С. Колбасьев нарисовал карикатуру, изображавшую унитаз — это и была, по мысли карикатуриста, «звучащая раковина».
Константин Вагинов. Фотография М. С. Наппельбаума, август 1923 года
Отличие «Звучащей раковины» от предыдущих гумилевских студий заключалось в том, что здесь поэт чуть ли не впервые за несколько лет произнес публично слово «акмеизм». Во-первых, студия была приватной, вел ее Гумилев «на общественных началах» и обладал большей, чем на казенной службе, свободой. Во-вторых, как раз возродился Цех поэтов, и Гумилев решил заново выдвинуть прежние лозунги. В том, что это необходимо, он сам не был уверен. Одоевцевой он в то же время говорил: «Я чувствую, особенно после «Заблудившегося трамвая» и «Цыган», что с акмеизмом покончено… Я готов отдать его моим последователям — пусть продолжают. А я создам новое направление». Настроения, похожие на те, что были у Брюсова году в 1910-м. Так или иначе, будущих «последователей» Гумилев воспитывал в акмеистическом духе. Главным же в акмеизме, по его словам, было «безоговорочное приятие мира».
Обстановка в «Звучащей раковине» была также более раскованной, чем на прежних семинарах.
Садясь к столу, Николай Степанович клал перед собой особый, похожий на большой очешник, портсигар из черепахи. Он широко раскрывал его, как-то особо играя кончиками пальцев, доставал папиросу, захлопывал довольно пузатый портсигар и отбивал папиросу о его крышку. И далее весь вечер, занимаясь, цитируя стихи, он отбивал ритм ногтями по портсигару. У меня было ощущение, что этот портсигар участвует в наших поэтических занятиях…
Мы читали стихи по кругу. Разбирали каждое, критиковали, судили. Николай Степанович был требователен и крут. Он говорил: если поэт, читая новые стихи, забыл какую-то строчку, значит, она плоха, ищите другую (И. Наппельбаум).
Сам Гумилев читал наравне со всеми. Едва ли, конечно, кто-то осмеливался его критиковать.
Пытались, как прежде в «Живом слове», сообща сочинять стихи. По свидетельству Наппельбаум, это происходило примерно так:
Н. С. предложил нам дать несколько размеров стихов — для выбора… Он предложил нам дать строчку, соответствующую размеру. Когда была дана строчка, он логически развил смысл ее и в каком направлении может идти соответственно этому внутреннему смыслу дальнейшее построение стиха. Потом потребовал рифму к 1-й строчке, потом вторую строчку и рифму к ней и т. д. Все это обсуждалось (под его руководством) всеми и выбиралось по общему решению…
Это был лишь учебный прием, в отличие от «коллективных переводов» в студии Лозинского, которые всерьез предназначались для публикации. Совместными были и литературные забавы — как когда-то в «Гиперборее», в Цехе поэтов, в «Собаке». По свидетельству Иды Наппельбаум, вся
вторая часть наших занятий студийных проходила во всевозможных литературных играх. Так, мы часто играли в буриме… Игры продолжались и после конца официального часа занятий. Примыкали к нам и уже «взрослые» поэты из Цеха поэтов: Мандельштам, Оцуп, Адамович, Георг Иванов, Одоевцева, Всеволод Рождественский — и разговор велся стихами. Тут были и шутки, и шарады, и лирика, и даже настоящее объяснение в любви, чем опытный мастер приводил в смущение своих молодых учениц.
Ида Наппельбаум. Фотография М. С. Наппельбаума, 1923–924 годы
Игры словесные сменялись иными. Столь важный некогда в «Живом слове», Гумилев со студийцами из «Раковины» с упоением играл в жмурки. «Гумилев был тогда похож на славного пятиклассника, разыгравшегося с приготовишками», — замечает бывший свидетелем этих забав Ходасевич.
Фредерика Наппельбаум. Фотография М. С. Наппельбаума, начало 1920-х
Когда студийная деятельность Дома искусств (в мае 1921-го) прекратилась, собрания «Звучащей раковины» были перенесены в квартиру Наппельбаумов (Невский проспект, д. 72, мансарда), где и до того собирался довольно известный в Петрограде литературный салон. Здесь встречи продолжались и после смерти Гумилева. Студию возглавлял теперь Чуковский. Еще весной возник замысел журнала, причем Гумилев был оскорблен тем, что редактором его ученики пригласили не его, а некоего «критика» (вероятно, того же Чуковского). Но вскоре «приготовишкам» удалось заслужить его прощение. В 1922 году альманах «Звучащая раковина», изданный на деньги Наппельбаума-отца и посвященный памяти Гумилева, увидел свет. Лучше всего в нем стихи Вагинова, слабее всего — единственное стихотворное произведение его молодой жены Шуры Федоровой, которое она с грехом пополам сочинила специально для альманаха. Выделяется стихотворение будущего «островитянина» (а потом до конца жизни — тихого юриста, оставившего литературу) Петра Волкова, отмеченное влиянием Клюева; выделяется и младшая Наппельбаум. Остальное — добротный культурный дилетантизм. Уроки фонетики и эйдолологии, кажется, пропали даром.
4
Люди, знавшие Гумилева в последние годы жизни, отмечают его «выдающиеся организационные способности». На самом деле это едва ли соответствовало действительности. Любому человеку, знающему, что такое литературно-организационная работа (поиск спонсоров, устройство вечеров, подготовка изданий, руководство творческими группами и союзами), понятно: администратором Гумилев был неважным. Вспомним историю «Острова», вспомним, с каким трудом добывались деньги на издание «Гиперборея». Но (нам уже приходилось говорить об этом) он очень любил такого рода деятельность. Здесь сказывалась и властность натуры, и поэтическое стремление организовать окружающий мир по своей воле.
Между тем в послереволюционном Петрограде жить анахоретом, не участвовать в литературно-общественной жизни было бы для любого писателя затруднительно. Житейские обстоятельства сделали литературный круг плотным и компактным, а бытование писателей — публичным.
Уже в мае 1918 года, едва вернувшись в Петроград, Гумилев участвовал в инициативной группе Союза деятелей художественной литературы во главе с Сологубом (а затем беллетристом В. Муйжелем) при участии Горького, Блока, Замятина, Мережковского и др. Союз этот, объединявший писателей, занявших после революции противоположные политические позиции, просуществовал очень недолго. Уже в марте-апреле Союз фактически распался, а месяц спустя его правление, в связи с отказом в регистрации и прекращением государственого финансирования, объявило о самоликвидации.
В течение 1919 года в Петрограде стали возникать новые литературные учреждения, призванные хоть отчасти обеспечить быт писателей. Гумилев пользовался их помощью — и имел некое отношение к их организации.
Гумилев с членами кружка «Звучащая раковина». Стоят (слева направо): Томас Рагинский-Карейко, Никаноров, Анатолий Столяров, Валентин Миллер, Петр Волков, Даниил Горфинкель, Вера Лурье, Александра Федорова, Константин Вагинов.
Сидят: Фредерика Наппельбаум, Наталия Сурина, Ида Наппельбаум, Ирина Одоевцева, Николай Гумилев, Георгий Иванов.
Фотография М. С. Наппельбаума, 1921 год
Одним из этих учреждений был Дом литераторов. Первоначально вся работа Дома, расположенного на Бассейной, 11, сводилась к устройству столовой, теплой читальни, рабочих комнат, выдаче ссуд и пособий. Позднее (с января 1920-го) в Доме литераторов была основана литературная студия (под руководством Эйхенбаума и Шкловского, потом — Чуковского), стали устраиваться вечера, чтения, диспуты. Самым знаменитым из мероприятий был «пушкинский» вечер 11 февраля 1921 года, на котором Блок произнес свою речь «О назначении поэта», обозначившую его разрыв с большевиками. В 1921 году в Доме литераторов практически ежедневно проходило какое-то публичное литературное мероприятие.
Николай Чуковский характеризует Дом литераторов так:
В Доме литераторов состояли преимущественно сотрудники дореволюционных газет «Новое время», «Речь», «Русская воля», «Биржевые ведомости», «День». В годы революции это были ободранные, голодные, стремительно дряхлеющие и безмерно озлобленные люди… Заправляли Домом литераторов два очень бойких человечка средних лет, два расторопных журналиста из «Биржевки» — Волковыский и Харитон…
Эта характеристика, как почти все отзывы Н. Чуковского, грешит односторонностью. Более взвешен и точен в данном случае К. Федин; по его словам, «Дом литераторов был первым коллективным скоплением пишущих людей, и ни прежде, ни после в литературе нельзя было увидеть такого скопления пестроты и уничтожающей друг друга несовместимости, как там».
Гумилев был членом совета Дома, возглавлявшегося академиком Н. А. Котляревским. В совет входили, кроме того, Блок, Ахматова, Сологуб, Ходасевич (после его переезда в начале 1921-го в Петроград), Ремизов, Эйхенбаум, Евгеньев-Максимов, П. Губер, беллетрист А. Амфитеатров и проч., и проч. Реальное участие Николая Степановича в работе этого столь разношерстного собрания было, видимо, не слишком значительным.
Гораздо большую роль в его жизни сыграл Дом искусств, запечатленный во множестве мемуаров.
На участке правой стороны Невского проспекта между Морской улицей и Мойкой при Петре был Мытный двор, при Елизавете Петровне — временный дворец, в котором жила государыня во время строительства Зимнего. В 1768–1771 годы архитектор Валлен-Деламот построил на этом месте дом для полицмейстера Н. И. Чичерина. Позднее дом неоднократно перестраивался и менял владельцев. Среди них были «брильянтовый князь» Куракин, откупщик и подрядчик («олигарх», как нынче сказали бы) Абрам Израилевич Перетц (сдававший парадные покои внаем графу Палену — фавориту и убийце Павла I), купец Косиковский, у которого квартировали литератор Греч и ресторатор Талон, и, наконец, знаменитые винные и продовольственные торговцы Елисеевы.
Открытие Дома искусств в этом славном здании состоялось 19 ноября 1919 года. В числе литераторов, присутствовавших на церемонии, был и Гумилев. Председателем был избран 75-летний Василий Иванович Немирович-Данченко, старший брат режиссера, автор исторических и приключенческих романов, по подсчетам Блока, один из двух самых плодовитых русских писателей (второй — Ясинский, а ведь был еще Боборыкин…). Разносили настоящий чай, булки из ржаной муки (Гумилев съел целых три штуки — Блок, зафиксировавший происходящее для Чуковского, счел необходимым запротоколировать и это) и конфеты.
Георгий Иванов в «Китайских тенях» так описывает этот дом:
Есть безвкусие невинное, порой уютное, порой милое: шелковые будуары, фотографии, «декадентские» вещицы, семь слонов. Пошло, но «человечно». Покои Дома искусств были совсем в другом роде.
Главная лестница — мрамор и золоченый чугун, рытый ковер, китайские вазы. В прихожей — фальшивая готическая мебель. Столовая — копия из дворца Медичей, на стенах — тисненые инициалы владельца под дворянской короной.
Тому, кто знает петербургские дворцы второй половины XIX века, это неудивительно: в Северной столице есть все, в том числе кич истинно американского размаха.
В елисеевских хоромах, кроме литературных студий (здесь, как известно, собирались и «Серпионовы братья»), разместилось писательское общежитие. Множество мемуаристов, от Ольги Форш («Сумасшедший корабль») до Ходасевича, не пожалели красок, чтобы описать это необычное место. Очерк Ходасевича, поселившегося здесь в 1921 году, дает наиболее полное представление о структуре Диска (Дома искусств):
Под Диск были отданы три помещения: два из них некогда были заняты меблированными комнатами… третье составляло квартиру домовладельца…
Квартира была огромная, бестолково раскинувшаяся на целых три этажа… отделанная с убийственной рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, розовой и голубой краски на нее не пожалели…
Здесь находился зеркальный зал (где проходили публичные мероприятия), столовая, заставленная статуями Родена (вкус последнего Елисеева) гостиная, где проходили собрания студий (в том числе и гумилевской). На этом же этаже можно было время от времени принять ванну и постричься (по тем временам — льготы почти чудесные).
«Пройдя из столовой несколько вглубь… попадали в ту часть Диска, куда посторонним был вход воспрещен, в коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития». Здесь жил (в комнате, примыкающей к неотапливаемой библиотеке) Аким Волынский; его соседом был князь С. Ухтомский, искусствовед, расстрелянный по тому же делу, что Гумилев. У единственного молодого обитателя этой части здания — «серапиона» Слонимского, будущего мужа одной из гумилевских учениц, день и ночь толклись его друзья — Каверин, Зощенко, Всеволод Иванов.
Особняк купца Елисеева. В 1919 году здесь открылся Дом искусств. Фотография начала ХХ века
На другом этаже в сырых комнатках ютились Лунц, Александр Грин, Всеволод Рождественский и несчастный, полусумасшедший Владимир Пяст. Комнатки обогревались буржуйками, с которыми многие (от «гранда» Волынского до бедняги Пяста) управляться не умели. В этом смысле больше повезло обитателям одной из бывших меблирашек: там до революции не было центрального отопления, и «в комнатах стояли круглые железные печи старого времени, державшие тепло по-настоящему, да не так, как буржуйки». Здесь жили Ходасевич, Мандельштам (с осени 1920-го), Лозинский.
Еще одни бывшие меблированные комнаты, причисленные к Диску, были «разгромлены и загажены».
…По человеческой жестокости поселили там одну старую, тяжело больную хористку Мариинского театра… Весной 1921 года приехал в Петербург из Казани поэт Тиняков… давно спившийся и загрязнивший себя многими непохвальными делами. Ходили слухи, что в Казани он работал в чрезвычайке. Как бы то ни было, появился он без гроша денег и без пайка… Не без труда удалось мне устроить его соседом к умирающей певице. Вскоре он сумел пустить корни (опять по сомнительной части), раздобылся деньжатами и стал пить. Девочки, торговавшие папиросами, почти все занимались проституцией. По ночам он водил их к себе. Его кровать тонкой перегородкой в одну доску, да и то со щелями, с которых сползли обои, отделялась от кровати, на которой спала старуха. Она стонала и охала, Тиняков же стучал кулаками в стенку, крича: «Заткнись, старая ведьма, мешаешь! Заткнись, тебе говорю, то вот сейчас приду да тебя задушу!» (Ходасевич, «Диск»)
Билет члена литературной студии Дома искусств на имя А. Г. Суркова, 1921 год
Александр Тиняков когда-то был членом (или по крайней мере гостем) первого Цеха поэтов, был он и другом гумилевского недруга — Бориса Садовского. «Непохвальные дела» — антисемитские выступления (под псевдонимом) в черносотенной прессе во время дела Бейлиса, сочетавшиеся с сотрудничеством (под собственным именем) в почтенных либеральных изданиях. Это вполне гармонировало с ошеломляющим цинизмом, который был главным отличительным признаком тиняковской лирики. Впоследствии (в 1920-е годы) Тиняков стал профессиональным нищим, причем просил милостыню именно в качестве «писателя, впавшего в нищету». Чуковский, остановившийся как-то поговорить с Тиняковым, обнаружил, что тот своим новым ремеслом зарабатывает больше его. Этим же Тиняков хвалился Зощенко, оставившему великолепное по выразительности описание нищего-стихотворца. Но прежде чем сменить профессию, Александр Тиняков напечатал стихотворение, которое непременно следует привести в этой книге:
Едут навстречу мне гробики полные, В каждом — мертвец молодой. Сердцу от этого весело, радостно, Словно березке весной! ……………………………………. Может — в тех гробиках гении разные, Может — поэт Гумилев. Я же, презренный и всеми оплеванный, Жив и здоров!..Стихотворение, из которого взяты эти строфы, датировано 23 июля 1921 года — оно написано за месяц и два дня до смерти Гумилева. А напечатано — уже после смерти…
Двор Дома искусств. Рисунок М. В. Добужинского, 1921 год
Столовая Дома искусств была, по Ходасевичу, неважной, но там уже в конце 1920 года продавались пирожные — «погибель Осипа Мандельштама». Впрочем, в любви к сладостям Гумилев мог с Мандельштамом поспорить. Академического пайка, который стали в начале 1920-го выдавать сотрудникам «Всемирки» (фунт изюма, полбанки меда), хватало ему ровно на один вечер.
В Доме искусств Гумилев выступал с публичными лекциями. Именно здесь он 2 января 1920 года впервые с трибуны изложил свою общественную программу: «Поэты и прочие артисты должны в будущем… участвовать в правительствах». Он бывал здесь по меньшей мере два-три раза каждую неделю: по средам, когда в Диске проходили открытые мероприятия, и по четвергам-пятницам — на занятиях своей студии. Спустя год и три месяца он с вернувшейся из Бежецка женой полностью переехал в Дом искусств и поселился в «элитарной» части общежития, правда, в не самом подходящем помещении: в не использовавшейся по назначению турецкой бане Елисеевых. «Я здесь чувствую себя древним римлянином. Утром, завернувшись в простыню, хожу босиком по мраморному полу и философствую», — шутил он» (Одоевцева). Но жить ему тут пришлось недолго…
Впрочем, за этот год и три месяца много воды утекло; пока же, в первой половине 1920 года, поэт живет на Преображенской; в середине года «тетя Паша» куда-то исчезает — стряпать приходится самому. В начале июня он получает от Дома литераторов путевку в Первый дом отдыха (где-то на Выборгской стороне), где неделю-другую отъедается и начинает «Теорию интегральной поэтики» по материалам курса своих лекций. Там же он пишет первую (оставшуюся единственной) песнь «Поэмы начала» — одного из самых загадочных и масштабно задуманных произведений последних лет; работает и над переводами (Жан Мореас). Несколько раз выступает с эстрады дома отдыха со стихами и с рассказами об Африке…
По возвращении на Преображенскую и начинается активная общественная деятельность Гумилева.
«Сумасшедший корабль». Изображены слева направо: Г. Иванов, Н. Гумилев, В. Ходасевич, В. Шишков, В. Шкловский, М. Слонимский (?), О. Мандельштам, А. Волынский. Шарж Н. Э. Радлова, 1921 год
До поры до времени петроградским писателям хватало Дома литераторов и Дома искусств, удовлетворявших по мере сил их насущные бытовые потребности. Но 19 июня из Москвы приехала поэтесса Надежда Павлович с миссией: организовать местное отделение Всероссийского союза поэтов, который уже существовал в столице (во главе с футуристом Василием Каменским) и в качестве интегральной части входил в Союз писателей. Справедливость требует подчеркнуть, что этот Союз писателей был мало похож на тот, что возник в 1934 году: это была все же общественная организация, формирующаяся «снизу» и призванная в основном защищать интересы писателей в отношениях с государством, а не наоборот. С самого начала при формировании Союза боролись две позиции: согласно первой, функции Союза должны были ограничиваться практическими, житейскими вопросами; вторая точка зрения предполагала, что он сможет определенным образом способствовать развитию искусства или играть общественную роль. Понятно, какая позиция была ближе Гумилеву. От Союза он (как следует из процитированной выше анкеты) ждал, конечно, и улучшения житейских условий, но мечтал о гораздо большем. В фарсовой и недостоверной форме это отражено в воспоминаниях художника В. Милашевского, к Гумилеву явно не расположенного. По словам Милашевского, он сидел однажды в комнате Ходасевича в Диске, когда дверь отворилась, и вошел
крепко сбитый человек среднего роста с неподвижно прикрепленной к спинному хребту головой. Он как будто был специально рожден для положения по команде «Смирно!»…
Его лысая белесая голова с невыразительными, не обращающими на себя внимания чертами лица, с маленькими подслеповатыми глазками, смотрящими зорко и подозрительно, напоминала кокон шелковичного червя! Эта форма головы, про которую деревенские бабы говорят — голова толкачиком… Этот старый фронтовик, но не «орел» — был Гумилев.
В этой «подтянутости» было что-то выделанное, театрально-подчеркнутое.
Гумилев присел крайне натянуто на кончик неважнецкого кресла. Он явно пришел «с визитом» к особе высокопоставленной, члену невидимой бюрократической иерархии, «департамента поэзии».
…Словесный поединок напоминал ринг боксеров, причем щупленький, неподготовленный боец валил с каждым ударом бойца «в хорошей форме» с «воинственно приподнятой грудью».
Гумилев. Мы вскоре откроем всероссийский союз поэтов.
Ходасевич. Это что же, для пайка?
Гумилев. Ну зачем же так низко понимать! Это имеет огромное чисто духовное значение!
Ходасевич. Нечто вроде министерства поэзии?
Гумилев. Если хотите — да.
Ходасевич. Ну что же! Это очень удобно для писания казенных стихов, по команде!
Разговора этого в такой форме попросту быть не могло, так как к моменту приезда Ходасевича в Петроград Всероссийский Союз давно был создан и Ходасевич знал о нем еще в Москве. Но то, что Николай Степанович отнесся к идее объединения поэтов всерьез, несомненно, так же несомненно его особенно приподнятое, торжественное отношение к личности другого большого поэта («слово ПОЭТ Гумилев произносил каким-то особенным звуком — ПУЭТ — и чувствовалось, что в его представлении оно написано огромными буквами, совсем иначе, чем остальные слова» — К. Чуковский) — и вытекающая отсюда манера общения, которая Ходасевичу (см. приведенный выше отрывок о его визите на Ивановскую) казалась напыщенной.
Павлович, как и Ходасевич, была москвичкой; горячая патриотка Москвы, она всячески отстаивала ее превосходство. В Петрограде ее удерживала пылкая (и неразделенная) влюбленность в Блока. Разумеется, именно ему было доверено руководство создающимся Союзом.
Афиша поэтического вечера в Доме искусств, 29 декабря 1920 года
Гумилев вошел в приемную комиссию — вместе с Блоком, Лозинским и Кузминым. Сохранились скопированные молодым тогда поэтом Всеволодом Рождественским, секретарем Союза, их резолюции. Вот некоторые из них.
Некий М. Георгиевский.
Блок: «Неподдельный и сильный лиризм, хотя много неудачных строк». Гумилев: «Пока у поэта ни своего стиля, ни подхода к вещам. Ему просто нечего сказать». Кузмин: «Стихи невнятные и бессильные». Лозинский: «Своеобразие есть, но проявиться ему мешает беспомощность формы, немощность языка». Резолюция: отклонить.
Шкапская (ученица Гумилева — мы о ней уже говорили).
Блок: «Стихи живые и своеобразные». Кузмин: «Хотя стихи при однообразии своей физиологической темы часто неприятно натуралистически грубы и от неточности выражений местами непристойны, но поэтическое чувство и движение в них, несомненно, есть». Гумилев: «Стихи хорошие, и за пять лет видно развитие таланта». Лозинский: «Согласен». Принята.
Некто С. Фарфоровский.
Блок: «Немыслимо!» Лозинский: «Изловить и повесить!» Гумилев: «Вон!» Кузмин: «Невозможно!»
Почитать бы этого С. Фарфоровского. Что он такого написал, что привел всех в такой ужас?
Раиса Блох (еще одна «гумилевская барышня»).
Лозинский и Гумилев советуют «принять в члены-соревнователи». Блок соглашается — с важной припиской: «…Только что же будут делать они, собравшись все вместе, — такие друг на друга похожие бессодержательностью своей поэзии и такие разные как люди?»
Пока речь шла о случаях более или менее очевидных (о самобытных, пусть небольших, поэтах или о явных графоманах), позиции членов комиссии были довольно близки. Как учтиво говорил Гумилев Блоку, «вкусы у нас одинаковые, но темпераменты разные». Различие не только темпераментов, но принципиального отношения к Союзу поэтов проявилось в ходе обсуждения кандидатуры Эриха Голлербаха, представившего на суд свою книгу «Чары и таинства».
Первоначально стихи царскосела были попросту отклонены.
Блок написал: «Судя по книжке, у автора нет поэтических заслуг, ему бы лучше войти в Союз журналистов».
Лозинский заметил, что «книг под стать «Чарам и таинствам» очень много, и если их авторов принимать в члены Союза, он разросся бы непомерно и перестал бы быть тем, чем должен быть».
Гумилев был того же мнения: «Пока автор обнаруживает только способность к версификации, поэта в нем не видно; по-моему, принимать нельзя».
И только Кузмин не согласился с ними. «Если формально книга стихов дает право на принятие в Союз, — утверждал он, — то о непринятии не может быть и речи; в смысле же критики материала нахожу, что многое из принятого было слабее».
Голлербах был человеком упорным и настоял на повторном рассмотрении своей книги, тем более что мнения членов комиссии разошлись.
Кузмин недоумевал: «Отчего же не принимать, хотя поэтом он вряд ли станет».
Почему-то Гумилева это возмутило: «Предположение… что в члены Союза поэтов можно принимать только по принципу «стихи не хуже многих», туманно. Каких многих? Членов Союза? Тогда надо провести перерегистрацию, как в Москве… В Союзе поэтов действительными членами принимаются именно поэты, а членами-сотрудниками те, о ком есть основание полагать, что они станут поэтами».
Афиша поэтического вечера в Доме искусств, 15 марта 1920 года
Таким образом, из всех членов комиссии самым строгим и требовательным был именно Гумилев, потому что он видел в Союзе не профессиональную организацию, а нечто вроде рыцарского ордена.
Но вскоре разногласия приняли более острый и во многом — политический характер. Разные мемуаристы рассказывают об этом по-разному.
Вот свидетельство Одоевцевой:
Союз поэтов, как предполагалось по заданию, был «левым». И это, конечно, не могло понравиться большинству петербургских поэтов. К тому же стало ясно, что Блок, хотя и согласился «возглавить» Союз поэтов, всю власть передаст «Надежде Павлович с присными»…
Выгод от такого правления петербургским поэтам ждать не приходилось. Гумилев же был полон энергии, рвался в бой, желая развить ураганную деятельность Союза поэтов на пользу поэтам. Лагерь Павлович «с присными» был силен и самоуверен. Ведь его поддерживала Москва. И все же ему пришлось потерпеть поражение. Гумилев проявил в борьбе за власть чисто макиавеллистические способности. Придравшись к тому, что правление Союза поэтов избрано без кворума, некоторые поэты потребовали перевыборов. На что правление легко согласилось, предполагая, что это лишь простая формальность… Но в гумилевском лагере все было рассчитано виртуозно; на перевыборах неожиданно была выставлена кандидатура Гумилева, который и прошел большинством… одного голоса…
— Это пиррова победа, — горячилась Павлович. — Мы этого так не оставим. Мы вас в порошок сотрем!..
Хотя Блок не держался за свое председательство, все же провал не мог не оскорбить его. Но он и вида не подал, что оскорблен. Когда новое правление во главе с председателем Гумилевым посетило его, он не только принял его, но и счел необходимым «отдать визит», посетив одну из «пятниц», устраиваемых Союзом на Литейном.
Одоевцева, такая памятливая на чужие слова, путает хронологию и соединяет два события, произошедшие с интервалом в четыре месяца, в одно.
Сама Павлович, тенденциозно искажая суть конфликта, более точна фактически:
Работа Союза поэтов налаживалась очень медленно. Мы плохо умели общаться друг с другом: состав Союза поэтов был очень разнороден и по литературным вкусам, и по политическим тенденциям.
Блока поддерживали Рождественнский, Эрберг, Шкапская и я. Лозинский, Грушко, Кузмин, Ахматова держались нейтрально. Большая группа молодежи объединилась вокруг Гумилева; они были наиболее активны и гордились прозвищем «гумилят».
Позже приехали Сергей Митрофанович Городецкий и Лариса Михайловна Рейснер. Они, естественно, взяли нашу сторону.
Здесь мы вынуждены прервать Надежду Александровну, чтобы сказать несколько слов о поведении тех, в ком она видела своих союзников (говоря «Блок», она в данном случае имеет в виду, конечно, себя). Городецкий встретил Раскольникова и Рейснер на Волге и успел воспеть в стихах взятие Раскольниковым Самары. По приезде в Петроград Сергей Митрофанович опубликовал в «Известиях Петросовета» (12 августа) статью «Разложение интеллигенции», которую нельзя не процитировать в этой книге:
В аскетически-чистом, небывало-строгом Петрограде, в хлопотливой, по-новому деловой Москве заживо гниет дорогой покойник, уже трехдневный Лазарь — интеллигенция… По улицам нельзя пройти от афиш, возглашающих бесчисленные блудословия на «божественные» темы… Рядом с этим литературным тлением у более стыдливых и порядочных — другая страсть, паноптикум. Под превосходной радужной этикеткой культуры, с бьющей в нос рекламой огромного, небывалого по размаху дела.
Переводчество…
Дело преполезное, что и говорить.
Но что бы вы сказали, если бы во время сенокоса все бабы вдруг стали вышивать себе подолы крестиком или еще как?
Дальше — больше:
Религиозничество, перевод, теоретизация — это, так сказать, высшие сорта гниения. Но есть и низший: московские лавочки поэтов, саботаж в чистом виде, хождение по церквям, ломание шапок на каждый купол, не говоря уж об эмигрантах, этих прямых предателях и изменниках.
Здесь речь прямо идет о Гумилеве («ломание шапок на каждый купол»). Жанр, в котором выступил бывший второй синдик Цеха поэтов, называется литературным доносом. Но такого рода донос в 1920 году — нечто иное, чем в дни Булгарина: Пушкина в любом случае не отправили бы на плаху, а его маленьких детей не оставили бы без пропитания.
Подобные чувства и мысли Городецкий высказывал и в стихах. 8 августа в «Красной газете» было напечатано его стихотворение «Покойнички»:
Выходили в сад покойнички Вереницею, Выносили рукомойнички Со святой водицею. Уж и смрад пошел Тошнехонький, От рабочих сел Близехонько. …………. Где стоял, там и сел На сенце я. До конца уразумел Что значит интеллигенция.Любопытна снисходительность, с которой принимали подобные выходки некоторые из старых друзей Сергея Митрофановича. «Городецкий теперь большевик, но можно быть большевиком под знаком Теленка, оттопырившим хвост и бессмысленно мычащим…» («Разговоры с Вячеславом Ивановым»). Но, если бывшие друзья не принимали большевизм «теленка» всерьез, то же можно сказать и о настоящих большевиках. Городецкий был им, собственно, не нужен. Вакансия, на которую он ныне претендовал, уже была занята в Москве Демьяном Бедным, в Петрограде — бывшим сатириконцем Василием Князевым. Они были издавна «свои»; а экс-синдику никто так и не забыл стихотворения «Сретенье царя» (в напечатанном 7 августа 1920 года в «Красной газете» отзыве о выступлении Городецкого в Диске о былых грехах стихотворца не преминули напомнить).
Гумилев порывался было ответить Городецкому в печати и начал уже ответ писать, но, к счастью, передумал. Его единственная отповедь Городецкому и пр. — четверостишие:
Мне муза наша с детских лет знакома, В хитоне белом, с лилией в руке. А ваша муза в красном колпаке, Как проститутка из Отделнаркома.(Дамы, арестованные за проституцию, использовались как уборщицы в госучреждениях; в знак позора они носили красные колпаки; Гумилев недоумевал: «Казалось бы, красный фригийский колпак для большевиков — сама святая святых».)
Антирелигиозный пафос Городецкого тем более любопытен, что массированная государственная атеистическая политика только начинала набирать обороты. По крайней мере церкви в основной массе еще были открыты. Интересно звучат в этом контексте воспоминания Е. Полонской, описывающей собрание Союза поэтов в Доме Мурузи (Полонская была принята туда членом-соревнователем):
Помню холодную полутемную столовую, где вокруг обеденного стола сидели поэты…. После чаепития Сологуб, Блок и Кузмин ушли, председательствовать остался Гумилев — я узнала его резкий и насмешливый голос. Когда очередь дошла до меня, он предложил прочесть новое стихотворение. Не задумываясь, я прочла только что написанное — довольно наивное, но по тому времени, может быть, показавшееся многим кощунственным. Начиналось оно так:
Я не могу терпеть младенца Иисуса С толпой его слепых, убогих и калек, Прибежище старух, приют ханжи и труса, На плоском образе влачащего свой век.Почти всем выступающим аплодировали, даже самым слабым. Но когда я прочитала эти стихи, наступило грозное молчание… Гумилев встал и демонстративно вышел. Вдруг с противоположного конца стола встала какая-то очень красивая молодая женщина, размашистым шагом подошла ко мне и, по-мужски пожав и тряхнув мне руку, сказала: «Я вас понимаю, товарищ. Стихи очень хорошие».
Это была Рейснер.
(В стихотворении Полонской «младенец Иисус» отвергается ради иудейского, ветхозаветного Бога, но Рейснер, в чьем сознании Маркс смешался с Ницше, в такие тонкости не вникала — для нее достаточно было, что стихи антихристианские.)
Возможно, что появление таких «союзников» и побудило большинство членов Союза убрать из президиума Павлович и ее друзей. Их раж мог быть просто небезопасен для остальных, не столь лояльных. Правда, Рейснер вскоре отправилась (в связи с дипломатической службой мужа) в Персию, а потом в Афганистан, а Городецкий — в Москву и в Закавказье, но их публичные выступления и высказывания летом и осенью 1920 года были опасным сигналом.
События развивались так.
12 октября состоялись перевыборы Президиума союза. Как указывает Павлович, «забаллотировали Шкапскую, меня, Сюннерберга». Но из президиума были также исключены близкий Гумилеву Николай Оцуп и Всеволод Рождественский (который, вопреки свидетельству Павлович, был скорее нейтрален).
Блок сложил с себя полномочия, но на следующий день к нему явилась делегация во главе с Гумилевым и упросила его остаться в должности.
Через восемь дней состоялся вечер в клубе Союза поэтов (в Доме Мурузи), на котором Блок присутствовал. Любопытна его дневниковая запись об этом вечере:
Верховодит Гумилев — довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилевым.
Гвоздь вечера — И.[156] Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, «жидочек» исчезает[157], виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в области искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противоположность моему). Его «Венеция». По Гумилеву — рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое. (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словом — все исчезнет, останется только Оно.)
Эти слова Гумилева, зафиксированные его великим оппонентом, часто сопоставляли со знаменитыми строками его «Слова»; стоит вспомнить и «Дракона», и — но об этом мы уже упоминали — «Утро акмеизма» самого Мандельштама, в связи с которым и возник этот столь любопытный разговор.
По свидетельству Одоевцевой, Мандельштам был чрезвычайно взволнован хвалебным отзывом Блока, и он все выспрашивал у Гумилева и Лозинского: Блоку действительно понравилось? Не из любезности похвалил он?
Как видим, стихи «жидочка» действительно понравились Александру Александровичу. А остальные?
Пяст, топорщащийся в углах (мы не здороваемся по-прежнему). Анна Радлова невпопад вращает глазами. Грушко подшлепнутая. У Нади Павлович больные глаза от зубной боли. Она и Рождественский молчат. Крепкое впечатление производят одни акмеисты.
Так обстоит дело в декабре. Но уже через четыре месяца Блок пишет статью «Без божества, без вдохновенья» — один из самых резких и грубых текстов, направленных против Гумилева и акмеизма, и, вероятно, самый резкий и грубый текст, вышедший из-под пера Блока. Что же произошло за эти месяцы?
В декабре был создан новый — третий — Цех поэтов. К февралю был составлен (и издан тиражом 20 экземпляров) гектографический сборник «Новый Гиперборей». А уже в марте в новосозданном Я. Н. Блохом издательстве «Петрополис» увидел свет альманах «Дракон» — издание Цеха поэтов, задуманное периодическим[158]. Гумилев напечатал в нем «Слово», «Лес», «Дракона» и статью «Анатомия стихотворения», своего рода квинтэссенцию лекционного курса в «Живом слове» и Диске, конспект так и не написанной «Интегральной поэтики». Состав альманаха в целом был едва ли не сильнее, чем у любого номера «Гиперборея». Достаточно сказать, что Мандельштам был представлен Tristia, «Черепахой» и статьей «Слово и культура» (в последующих двух номерах альманаха были напечатаны такие прославленные его стихи, как «Веницейской жизни мрачной и бесплодной…», «За то, что я руки твои не сумел удержать…», «Чуть мерцает призрачная сцена…», «Мне Тифлис горбатый снится…»).
Александр Блок. Последний портрет. Фотография М. С. Наппельбаума, 1921 год
Возможно, именно возвращение Мандельштама подтолкнуло Гумилева к мысли о возрождении Цеха. В 1920 году впервые за несколько лет пять из шести акмеистов (кроме Нарбута) собрались вместе «на берегах Невы». Правда, Городецкий стал врагом, а Ахматова предпочитала держаться особняком. Оставались Мандельштам, Зенкевич (живший в Самаре и бывавший в столице наездами) и «молодежь» — Адамович, Иванов, Одоевцева. Кроме них, еще один молодой поэт стал близким сподвижником Гумилева в последние годы — Николай Оцуп. Сын царскосельского фотографа, бывший студент Сорбонны, он был смолоду довольно колоритной фигурой, воспоминания о нем разноречивы. Вот некоторые из них.
Оцуп был замечателен тем, что временами исчезал из столицы, и, возвратившись, приносил откуда-то из дальних краев такие драгоценности, как сушеная вобла, клюква, баранки, горох, овес, а порой — это звучало как чудо — двадцать или тридцать кусков сахару. Не все привезенные яства поглощал он один. Кое-какие из них приносил он в красивых пакетиках, перевязанных ленточками, высокодаровитым, но голодным писателям, получая от них в обмен то балладу, то сонет, то элегию (К. Чуковский. Чукоккала).
Однако, по словам Г. Иванова, Оцуп не просто по собственной инициативе добывал продукты и менял их на баллады: это было его служебной обязанностью. Оцуп якобы числился во «Всемирной литературе» «председателем хозяйственного комитета».
Во-первых — у него был оставшийся от военных времен полушубок и желтый портфель… От этих полушубка и портфеля… так и разило «завоеваньями революции». Уполномоченный, так декорированный, имел, конечно, шанс, которого не давал ему мандат, нащелканный на нашем жалком бланке, — шанс пролезть через игольное ушко приемных, сквозь очереди и секретарей, добиться аудиенции у какого-нибудь «зава» и что-то у него выпросить. Кроме того, у Оцупа, несмотря на то, что он, как и все остальные, питался картошкой и продуктами Розы, — была от Бога «сытая» внешность, какая и полагалась настоящему, способному внушить к себе доверие «предхозкому».
Дальше Иванов рассказывает, что именно Оцупу принадлежит идея разыскивать в советских учреждениях графоманов и, послушав и похвалив их стихи, добывать необходимые продукты и «ордера» («Анатолий Серебряный»).
Но под пером Чуковского-младшего Оцуп превращается в самом деле в ловкого «предхозкома»:
На нем лежала вся практическая сторона издательских затей Николая Степановича. Это он неведомыми путями добывал бумагу для всех стихотворных сборников, это он устанавливал связи с руководителями национализированных типографий, обольщая и запугивая их славой Николая Степановича. Кроме того, он попросту снабжал Гумилева и своих товарищей по Цеху провизией… Николай Степанович расплачивался с ним, печатая его стихи, позволяя ему выступать рядом с собой на литературных вечерах, хваля его дарование.
Н. Чуковский приводит случай, когда Оцуп показал себя «во всем блеске»:
Нам, как учащимся, дважды в неделю полагалось по дополнительной осьмушке фунта хлеба… Наша уполномоченная, Марья Сергеевна Алонкина, уехала за хлебом, а мы стояли и ждали. Мы ждали уже больше часа, когда появился Оцуп, плотный, румяный, напудренный… Под мышкой Оцуп держал что-то, завернутое в газету.
Оцуп постучался к бывшей елисеевской кухарке и «развернул перед ней газету, в которой оказалась курица, зарезанная, но не ощипанная». По просьбе Оцупа кухарка ощипала и зажарила курицу, и «предхозкома» съел ее на глазах голодных молодых людей, ждущих своих пятидесяти граммов хлеба. «Только один раз он оторвал глаза от курицы, посмотрел на нас и сказал: «Я не могу позволить себе голодать». Но почему он должен был делиться своим трофеем с едва знакомыми студийцами? Голод порождает свою этику, с трудом понятную в благополучные времена. Когда Ахматова в начале 1920 года подарила Чуковскому-старшему бутылку молока для маленькой дочери, тот был потрясен этой небывалой, фантастической щедростью.
Злые языки расшифровывали фамилию Оцуп как «Общество Целесообразного Употребления Пищи». Удивительно, как непохож этот «министр-администратор» на Оцупа 30–50-х годов, профессора Эколь Нормаль, строгого моралиста, верного (чуть ли не единственного верного!) хранителя памяти покойного мэтра. Но еще удивительнее, что по-настоящему хорошие стихи (Гумилев, вероятно, хвалил их от души — в них были сила и мастерство, хотя освободиться от ноток своего учителя Оцуп не смог) и дельные, энергичные рецензии писал именно молодой Оцуп. Вместе с желтым портфелем и военным полушубком куда-то исчез и его дар.
Авфтограф стихотворения «Перстень» и рисунок Н. Гумилева, воспроизведенные в журнале «Новый Гиперборей» (Пг., 1921)
В Цех на какое-то время вошел и приехавший в Петроград (упорно называемый им Петербургом) Ходасевич. Он был приглашен самим Гумилевым уже на второе собрание.
Перед собранием я зашел к соседу моему, Мандельштаму, и спросил его, почему до сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении Цеха. Мандельштам засмеялся:
— Да потому, что и нет никакого Цеха. Блок, Сологуб и Ахматова отказались. Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики. А вы попались. Там нет никого, кроме гумилят.
— Позвольте, а сами-то вы что делаете в таком Цехе? — спросил я с досадою.
Мандельштам сделал очень серьезное лицо:
— Я пью чай с конфетами.
В собрании, кроме Гумилева и Мандельштама, я застал еще пять человек. Читали стихи, разбирали их…
Пять человек, как считает В. Крейд, это Г. Иванов, Одоевцева, Оцуп, Адамович и Лозинский. Скорее всего — да. Однако это мог быть также Всеволод Рождественский, поначалу входивший в Цех, или Зенкевич, или кто-то еще. Точных сведений о составе третьего Цеха нет.
Николай Оцуп, 1910-е
Сомнительно, что войти в Цех предлагалось Блоку и тем более убеленному сединой Сологубу (хотя Ходасевичу Гумилев говорил, что Цех будет не акмеистическим, а «беспартийным»). Но и Блок и Сологуб дали свои стихи для «Дракона», и это были не «случайные и нехарактерные» стихи, как утверждают некоторые мемуаристы. Блок был представлен, к примеру, «Скифами».
Ахматова от участия в Цехе не отказывалась — Гумилев, по ее собственным словам, не звал ее специально в Цех («он знал, что я нигде не бываю»), а только сообщил о его возобновлении. Может быть, он рассчитывал, что Анна Андреевна как-нибудь случайно удостоит Цех посещением. Но она не только не сделала этого — она с явной раздраженностью отнеслась к организационным и издательским затеям бывшего мужа. Между ними то и дело вставали какие-то мелкие и нелепые обиды. Так, весной 1921-го, когда уже начинался НЭП и подошел к концу полуторагодовой бумажный кризис, вышел первый номер журнала «Дом искусств» (открывавшийся гумилевским «Заблудившимся трамваем»). В книжном обзоре, написанном Георгием Ивановым, был отзыв на ахматовский «Подорожник». Ничего особенного Иванов не сказал: он лишь констатировал, что «Подорожник» нельзя поставить на один уровень с «Белой стаей» и «Четками», однако это — прекрасная и живая книга» и что в книгу, скорее всего, «вошли стихотворения, не вошедшие в предыдущие сборники благодаря чрезмерной строгости поэта к самому себе». На что тут было обижаться — непонятно, тем более что рядом, в рецензии (авторецензии?) на «Дракона», Иванов гораздо суровее (и несправедливее) оценивает ныне классические стихи своего давнего друга Мандельштама. Ахматова, однако, не только до смерти Иванова (и после нее!) не простила ему этой рецензии, но и считала ее результатом происков «Коли», который ей якобы мстил за свой неудачный второй брак. Гумилев знал о ее обидах — его это расстраивало и угнетало. Когда при встрече в Союзе писателей Ахматова при свидетелях назвала его на «вы» и по имени-отчеству, он отозвал ее в сторону и (небывалый случай!) начал «объясняться». Более того — он написал «Молитву мастеров», содержавшую вполне понятный современникам намек на дискусии из-за «Подорожника», в которой пытался защитить Ахматову от будто бы имевших место нападок.
Я помню древнюю молитву мастеров: Храни нас, Господи, от тех учеников, Которые хотят, чтоб наш убогий гений Кощунственно искал все новых откровений. Нам может нравиться прямой и честный враг, Но эти каждый наш выслеживают шаг, Их радует, что мы в борении, покуда Петр отрекается и предает Иуда.Анна Андреевна между тем сама не чуждалась того, в чем обвиняла Гумилева. Скажем, в разговоре с Чуковским она замечала, что Николай Степанович — «очень плохой переводчик». Было ли это сведением старых счетов?
Так или иначе, ни Блока, ни Ахматовой в новом Цехе не было. Он включал преимущественно молодых поэтов — в основном вышедших из акмеистической школы, но не только. Здесь проявилась широта эстетических воззрений Гумилева. Ходасевич описывает, в частности, спор, возникший между ним и Гумилевым из-за принятия в Цех молодого поэта Сергея Нельдихена:
Тот «я», от имени которого изъяснялся Нельдихен, являл собой образчик отборного и законченного дурака, притом — дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного… Гумилев в качестве «синдика» произнес приветственное слово. Прежде всего он отметил, что глупость доныне была в загоне, поэты ей несправедливо гнушались… и в лице Нельдихена приветствовал вступление очевидной глупости в Цех поэтов…
После собрания я спросил у Гумилева, стоит ли издеваться над Нельдихеном и зачем нужен Нельдихен в Цехе. К моему удивлению, Гумилев заметил, что издевательства никакого нет.
— Не мое дело, — сказал он, — разбирать, кто из поэтов что думает Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости.
Здесь не место анализировать творчество Сергея Нельдихена (1891–1942). Достаточно сказать, что за внешне эпатажным и поверхностно-формалистическим высказыванием Гумилева стояло смутное понимание, что мир меняется и что отношения между личностью поэта и «тем «я», от имени которого» высказывается он в стихах, могут быть совершенно отличными от традиционных… Да и представления об уме и глупости — тоже. Напомним, что Ходасевич не способен был оценить и «Столбцы» Заболоцкого, приняв их за графоманскую книгу.
Обложка первого номера журнала «Дом искусств». Художник М. В. Добужинский
Потомок старой военной семьи, сам бывший моряк, Нельдихен познакомился с Гумилевым еще в обществе «Арион». В своих неоконченных воспоминаниях младший поэт выразительно описывает человека «с остриженной, вытянутой, узкой головой», с «бесцветными глазами» и вечно насмешливым выражением лица. Нельдихен носил маску «идиота» не только в стихах, но и в быту. Достаточно вспомнить запечатленный Ольгой Форш в «Сумасшедшем корабле» анекдот о том, как поэт Эльхен (или Олькин, как звала его обслуга Диска), в котором легко угадывается Нельдихен, впервые в жизни познакомился с «Демоном» Лермонтова, сидя в платяном шкафу у чужой супруги (расхожий анекдотический сюжетец): внезапно вернувшийся муж, «желая развеселить жену, из-за псевдомигрени впавшую в псевдомеланхолию, стал вслух ей читать со школьной скамьи ему любезного «Демона». До этого поэт-любовник Лермонтова не читывал — «мысль знакомства с классиками угнетала Олькина как угроза отнятия его мужской силы». В действительности Нельдихен, как видно и по его стихам, и по литературным манифестам, хорошо знал не только русскую поэзию, но и, скажем, Уитмена. Лозунги Сергея Нельдихена, этого маленького революционера-одиночки (свободный нерифмованный стих, отказ от метафор и т. д.), перекликались со многим в тогдашней европейской поэзии, а провоцирующее идиотическое простодушие его лирического героя, тонкое скольжение на грани пародии предвещало, быть может, обэриутов.
Не стоит ли здесь, кстати, сказать, что один из «чинарей», друг и философский наставник Хармса и Введенского Леонид Липавский, тоже был в числе авторов «Дракона» и участников третьего Цеха? К окружению Гумилева в 1919–1921 годах принадлежал и Владимир Алексеев, товарищ Введенского и Липавского по гимназии Лентовской. В 1922 году Алексеев начал писать работу, посвященную творчеству Гумилева. Ее сохранившиеся черновики включают и фрагменты, отразившие личные впечатления молодого стихотворца[159]. Вместе с товарищем (возможно, Введенским) Алексеев посещал Гумилева в его «низенькой комнате с двумя окнами» — «одновременно спальне и кабинете» (на Преображенской?). Похоже, он бывал в Цехе поэтов. Во всяком случае, вот один из его мемуарных фрагментов:
В одной из комнат Дома искусств во втором этаже у низко спущенной лампы с зеленым абажуром за большим столом сидят несколько человек. За одним концом человек с наголо остриженной головой с заостренным подбородком и белым лицом. Из-под пиджака высовывается подпирающий щеки крахмальный воротничок. Это Гумилев. В зубах непременная папироса, а подле на столе знаменитый гумилевский портсигар. Он говорит медленно, резким и протяжным голосом, поминутно останавливается, чтобы затянуться. В углу сидят трое. Один — Георгий Иванов с неудачно накрашенными губами, от которых розовеют папиросные мундштуки. Другой — поблескивающий стеклами пенсне Эйхенбаум, и третий — во флотском мундире, пока еще скромный и тихий, напоминающий большого мальчика, Нельдихен. Скучная лекция, неизвестно для чего читающаяся, подходит к концу… Но вот она кончится и все оживятся, и сам Гумилев будет с иронической улыбкой слушать стихи, награждая авторов дельными и меткими советами.
Дальше описывается состоявшееся в тот же день публичное чтение в Диске, на котором Блок читал фрагменты «Возмездия», а Гумилев — стихи из «Огненного столпа». А. Л. Дмитренко считает, что это «Вечер петроградских поэтов» 29 декабря 1919 года; но, как указывает он же, нет данных о чтении Блоком на этом вечере «Возмездия». Зато на вечере 4 сентября 1920 года Блок точно читал «Возмездие», а Гумилев (по-видимому, впервые) читал публично стихи из «Огненного столпа», в том числе «Заблудившийся трамвай». Видимо, в этот день молодой Алексеев и был в Доме искусств, а собрание, которое он описывает, — это очередное заседание Цеха поэтов.
Несколько раз появился в Цехе поэт, чьи стихи чрезвычайно заинтересовали Гумилева в конце 1920 года, — Николай Тихонов. Прежде неизвестный молодой автор подал заявление в Союз поэтов. Ответа долго не было. На поэтическом вечере в Доме искусств (том самом, где так блеснул Мандельштам) Тихонов подошел к Всеволоду Рождественскому и спросил о судьбе своего заявления.
…В следующем перерыве Рождесвеннский сам отыскал меня.
— Мы вас давно разыскиваем. Идемте, вас хочет видеть наш «синдик»…
Рождественский провел меня за кулисы, и в комнате за стеной я увидел весь Цех во главе с Гумилевым…
И вот меня приветствовал неожиданно Гумилев и сказал:
— У нас было подано больше ста заявлений, но мы приняли вас без всякого кандидатства, прямо в действительные члены Союза. Мы приняли троих из ста: Марию Шкапскую за книгу Mater Dolorosa, Оношкович-Яцыну за переводы Киплинга и вас.
Отзыв Гумилева о стихах Тихонова при вступлении в Союз сохранился:
По-моему, Тихонов готовый поэт с острым видением и глубоким дыханием. Некоторая растянутость его стихов и нечистые рифмы меня не пугают.
В поздних воспоминаниях классик советской поэзии Тихонов стремится дистанцироваться от Гумилева и в то же время подчеркнуть высокую оценку своих стихов с его стороны. Все это очень характерно для отношения к Гумилеву советского литературного истеблишмента. Но в автобиографии, написанной в третьем лице в 1926 году, Тихонов несколько более откровенен. «Очень кратковременое личное знакомство с Н. С. Гумилевым, — пишет он, — заставляет его сосредоточиться и задуматься над своей работой». Конечно, эта встреча была еще как важна для него! Между прочим, и в практическом плане: именно Гумилев в качестве председателя Союза поэтов ходатайствовал, чтобы краскома Тихонова оставили в Петрограде.
В Тихонове ныне вполне основательно видят если не эпигона, то по крайней мере последователя Гумилева — самого даровитого из множества его эпигонов и последователей. Эта мысль не нуждается в подтверждении. И все же влияние могло быть и двусторонним. Вот лишь один пример — стихотворение Тихонова «Медиум»:
В длинную яму летит без скрипа Земля, как сбитый аэроплан, Из него давно авиатор выпал, Тяжелым ядром просвистел в туман. А девочка смотрит на лунные Ганги, Трудно молчать и нельзя курить, Как будто пришел заблудившийся ангел И страшно и сладостно ему говорить.Если гумилевское «У цыган» написано (как гласит одна из версий) в октябре 1920-го, ритм и интонация тихоновского стихотворения могли на него повлиять.
Сергей Нельдихен, 1923 год
Ранний Тихонов был сложнее и интереснее, чем кажется. Эпиграф к его первой книге «Орда» был воистину акмеистический: «Когда возникнул мир цветущий из равновесья диких сил…» (Баратынский). И, кроме пресловутых «Баллады о гвоздях» и «Баллады о синем пакете», кроме поэмы про мальчика Сами, который «молился далекому Ленни, непонятному, как йоги», он и впрямь создал в 1917–1922 годы ряд стихотворений, где «дикие силы», визуальные и звуковые стихии пореволюционого хаоса, скрещиваясь, достигали мощного и выразительного равновесья. В таких вещах, как «Огонь, веревка, пуля и топор…» или «Рыбаки» есть действительно волнующая глубина. Но уже в «Орде» и особенно в «Браге» (второй книге Тихонова) эти сильные стихи приглушаются тем, что Мандельштам язвительно называл «здравия-желаю акмеизм».
Он расскажет своей невесте О забавной, живой игре, Как громил он дома предместий С бронепоездных батарей.В Тихонове Гумилеву должно было нравиться то, что он (как и сам Николай Степанович) был во время войны гусаром. И то, что он (в отличие от Николая Степановича) был настоящим широкоплечим и суровым мачо, человеком действия и поступка. Увы, для поэзии его это оказалось скорее вредным… Тем более что такого рода эффектная мужественность сочеталась (не у него одного) с конформизмом и карьеризмом. Путь Тихонова после «Браги» пролегал (через еще интересные и сложные стихи середины 20-х) сперва — к бойкой гладкописи, а потом — к вершинам советской литературной иерархии и к полному творческому небытию.
Николай Тихонов. Фотография М. С. Наппельбаума, начало 1920-х
По приглашению Гумилева Тихонов побывал и в «Звучащей раковине», и в салоне Наппельбаумов. Там ему не понравилось, как, впрочем, и в Цехе поэтов. На третий альманах Цеха, уже в 1922 году, он откликнулся разгромной (но без политических выпадов) рецензией, в которой резко осмеял Иванова, Оцупа и Адамовича, учтиво отделил от них «органического поэта» Мандельштама и ухитрился ни разу от собственного имени не помянуть Гумилева. К тому времени Тихонов и четыре других гумилевских ученика (Вагинов, с которым Тихонов познакомился в «Раковине», Колбасьев, Волков и Полонская) создали собственную группу — «Островитяне». Позднее к этой группе примкнули и сестры Наппельбаум. Но это уже несколько другая история…
А мы вернемся к событиям начала 1921 года.
Цех был создан в декабре, а в феврале происходит очередная перемена в Союзе поэтов.
Вот что пишет Ходасевич:
Не помню, из кого состояло правление, председателем же его был Блок. Однажды ночью пришел ко мне Мандельштам и сообщил, что «блоковское» правление Союза час тому назад свергнуто и заменено другим, в состав которого вошли исключительно члены Цеха, в том числе я. Председателем избран Гумилев. Переворот совершился как-то странно — повестки были разосланы чуть ли не за час до собрания, и далеко не все их получили. Все это мне не понравилось, и я сказал, что напрасно меня выбрали, меня не спросив. Мандельштам стал меня уговаривать «не подымать истории», чтобы не обижать Гумилева. Из его слов я понял, что «перевыборы» были подстроены некоторыми членами Цеха, которым надобно было завладеть печатью Союза, чтобы при ее помощи обделывать дела мешочнического и коммерческого свойства. Для этого они прикрылись именем и положением Гумилева. Гумилева же, как ребенка, соблазнили титулом председателя.
Раздраженный принятием Нельдихена и свержением Блока, Ходасевич вышел из Цеха, но остался в правлении Союза, решив «фактически не участвовать ни в заседаниях, ни вообще в делах. Но, как гласят документы, все же участвовал: в марте вместе с Гумилевым занимался распределением пайков etc.
Дарственная надпись Н. Гумилева Н. Тихонову на книге «Шатер» (Севастополь, 1921)
Итак, только теперь и произошло то, о чем поминает Одоевцева: Гумилев стал председателем Союза. Эту датировку подтверждают и дневник Блока, и воспоминания Павлович, которая, кстати (будучи лицом более чем заинтересованным), ничего не пишет о каких-то хитростях при проведении собрания, о нарушении регламента и т. д. Просто «на следующих выборах Блока «за неспособность» забаллотировали… и выбрали Гумилева». Что касается коммерческих и мешочнических дел членов Цеха, то речь могла идти лишь об Оцупе — но он состоял еще в первом, «павловическом», правлении Союза и, по свидетельству Одоевцевой, был у Гумилева за это в некоторой немилости до конца жизни последнего.
Павлович пишет, что затем к Блоку «явилась делегация во главе с Гумилевым (сколько я помню, в нее входили Иванов и Нельдихен), Блок наотрез отказался вернуться». Не путает ли Павлович октябрьские события с февральскими?[160] Нет, судя по упоминанию Нельдихена: осенью его еще не было в Союзе. А значит, Блока второй раз посещали и второй раз просили вернуться на председательский пост, откуда его только что сместили, через четыре месяца после первого возвращения. Но на сей раз он отказался. Павлович описала этот визит не только в прозе, но и в стихах, разумеется, трактуя события на свой лад и придавая конфликту политическую окраску:
Союз Поэтов виноват глубоко, Вернитесь к нам и окажите честь Быть снова председателем Союза! Кругом враги! Они вас не поймут! У нас, у вас — одно служенье музам, Один язык и величавый труд. Сомкнем ряды! За нами — вся культура, А что у них, у этих пришлых, есть? Но Блок смотрел внимательно и хмуро, Но Блок молчал, не предлагая сесть; И усмехнулся: «Николай Степаныч! Ошиблись вы. На месте вы своем. Мы разных вер, мы люди разных станов, И никуда мы вместе не пойдем».Трудно сказать, что на самом деле происходило, и скучно разбираться в этом литературно-профсоюзном конфликте, а приходится, потому что отчасти в результате этих событий Блок и Гумилев стали в последние несколько месяцев жизни чуть ли не врагами.
Разумется, и до этого, между 1919-м и 1921 годом, они не были близкими друзьями. Вот как виделись их отношения Одоевцевой:
Я смутно догадывалась, что Гумилев завидует Блоку, хотя тщательно это скрывает. Но разве можно было не завидовать Блоку, его всероссийской славе, его обаянию?..
Я знала, что со своей стороны и Блок не очень жалует Гумилева, относится отрицательно — как и Осип Мандельштам — к его «учительству», считает его вредным и не признает акмеизма. Знала, что Блок и Гумилев — идейные противники.
Но я знала также, что их отношения в житейском плане остаются не только вежливо-корректными… но даже не лишены взаимной симпатии.
Завидовал ли Гумилев Блоку? Если и завидовал, это была благородная зависть, основанная на восхищении. Ни разу Гумилев не поставил себя как поэта вровень с Блоком. Он лишь с надеждой говорил, что он еще молод, что он — «не скороспелка». Когда-нибудь в будущем мечтал, быть может, он создать некоторое количество стихотворений, равных «Незнакомке» или «Шагам командора»… Тем более что ему в эти годы писалось все лучше, а Блок находился в затяжном творческом кризисе. И кто же как не вождь акмеистов восторженно приветствовал стихотворение «К Пушкинскому Дому», случайный шедевр, вырвавшийся у Блока после трех лет молчания?
Но надо учитывать, что Блок был идолом решительно всех окружающих. В том числе и «гумилят». Стоило Николаю Степановичу сказать о Блоке нечто нейтральное по тону, не восторженное — в этом видели зависть. В спорах с Блоком у Гумилева, прав он был или нет, союзников не было. Все гумилевские ученики лишь в лицо поддакивали мэтру. То, что говорил Блок, было, помимо прочего, гораздо ближе к мейнстриму предреволюционной эпохи, отождествлявшему человеческую духовную жизнь с «безднами», с прямым разговором о «безднах» — и стиравшему грань между духовным и душевным. А ученики Гумилева были в большинстве своем по складу людьми дореволюционными, даже довоенными.
Да и сами споры двух поэтов продолжали дискуссию, начатую еще десять лет назад.
Вот запись Чуковского от 7 декабря 1919 года:
Третьего дня — Блок и Гумилев — в зале заседаний — сидя друг против друга — внезапно заспорили о символизме и акмеизме. Очень умно и глубоко. Я любовался обоими. Гумилев: символисты в большинстве аферисты. Специалисты по прозрениям в нездешнее. Взяли гирю, написали 10 пудов, но выдолбили всю середину. И вот швыряют гирю и так и сяк. А она пустая.
Блок осторожно, словно к чему-то в себе прислушиваясь, однотонно: «Но ведь это делают все последователи и подражатели — во всех течениях. Но вообще — вы как-то не так: то, что вы говорите, — для меня не русское… Вы как-то слишком литератор. Я — на все смотрю сквозь политику, общественность»…
В этом, пожалуй, заключалась суть их расхождений. Блок был творчески гениален, но беспомощен в собственно литературном, филологическом разговоре (вот уж кто был «не способен к какой-либо историко-литературной работе») и уходил от него в мистику или в политику. Его раздражал гумилевский «ремесленный» взгляд на искусство, а как это «ремесло» связывается с религиозными поисками и с той же «общественностью», он толком не понимал. Не надо думать, что Гумилев не отдавал себе отчет в той доле правоты, которая была у его собеседника. По свидетельству Рождественского, он признавал: «Конечно, стихотворение можно подвергнуть тщательному анализу, но всегда остается какая-то нерастворимая часть. Она-то и делает стихи поэзией». — «Что же это такое — нерастворимая часть?» — «Не знаю, честное слово, не знаю. Спросите у Блока». Лично же Блоком Гумилев восхищался безоговорочно — даже после их полного разрыва. «Он лучший из людей. Не только лучший русский поэт, но лучший из всех людей, кого я знаю. Джентльмен с головы до ног. Чистая, благородная душа, но — ничего не понимает в стихах, поверьте мне» (Голлербах). И это была правда: в чужих стихах Блок понимал мало. Как проницательно тот же Голлербах замечает, он «был влюблен в поэзию и, в сущности, равнодушен к стихам».
Надо сказать, что Гумилев в открытом споре с Блоком чувствовал себя скованно — слишком велик был пиетет перед собеседником. «Что бы вы могли сказать, если бы разговаривали с живым Лермонтовым?» — эту его фразу запомнили независимо друг от друга М. Слонимский и В. Рождественский. Многие возражения, предназначенные Блоку, высказывались заглазно, задним числом. А слушателям казалось, что Гумилев злобствует и завидует. Знали ли они, что Гумилев в 1920 году сказал Ольге Арбениной, что, если бы в Блока стреляли, он бы его заслонил, и что возлюбленная Гумилева всерьез его к Блоку приревновала?
В сфере «общественности» у двух поэтов тоже, конечно, были расхождения. В июле 1919-го Гумилев читал в Институте Зубова цикл лекций о Блоке. Блок (с Чуковским) пришел на лекцию, посвященную «Двенадцати».
Когда кончилось, он сказал очень значительно с паузами: мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Но он цельный, не приклеенный. Он с поэмой одно целое. Помню, когда я кончил, я задумался: почему же Христос? И тогда же записал у себя: «К сожалению, Христос. К сожалению, именно Христос».
В случае «Двенадцати» Гумилев изменял своей подчеркнутой терпимости к содержательной и идейной стороне чужих стихов. Эстетически поэма его восхищала. «Конечно — гениально. Спору нет. И тем хуже, что гениально. Соблазн малым сим». Дело было, думается, не в том, что в «Двенадцати» воспевалась революция, а в пафосе разрушения, уничтожения, «погружения в бездну» — на сей раз окончательного. Этого пафоса Гумилев, в отличие от того же Ходасевича, понять не мог. И тем более не мог принять отождествления его с христианством.
Гумилеву в этом смысле был ближе не Блок, не Ходасевич, а позитивист Горький, тоже (по-своему) ненавидевший стихийные силы, что зародились в «срубах у оловянной реки» и хлынули в города. И Блок записывал в своем дневнике, что Горький и Гумилев «оба не ведают о трагедии — о двух правдах». А Гумилев считал, что Блоку (ведь он же разочаровался в большевиках) самое время написать «Анти-Двенадцать», так же гениально, разумеется.
И вот в феврале-марте 1921 года этим дружественным спорам приходит конец, а в апреле появляется печально известная статья Блока «Без божества, без вдохновенья (Цех акмеистов)». Что побудило Блока написать ее? Нервозное состояние, раздражение (уже начиналась его предсмертная болезнь, сопровождавшаяся, как известно, помутнением рассудка)? Интриги знакомых, обиженных пертурбациями в Союзе и пытавшихся поссорить Блока с Гумилевым? И это, вероятно… (Поневоле вспоминаются по аналогии 1911–1913 годы, когда Блока старательно превращали — и превратили-таки — из друга акмеистов в их врага; только масштаб людей, «обрабатывавших» великого поэта, заметно снизился — от Вячеслава Иванова до Надежды Павлович.) Кроме того, всю весну 1921-го Блок зачем-то перечитывал старые, дореволюционные и довоенные журналы, и былые конфликты вдруг ожили в его сознании. Наконец, как раз в марте ему (в качестве члена суда чести Союза) пришлось разбирать нелепое дело Гумилева и Эриха Голлербаха.
Отношения Гумилева с молодым царскоселом складывались сложно. В 1917 году сын кондитера написал на своего земляка эпиграмму:
Законодатель рифмоплетов, Кумир дантисток-полудев, Ты, хоть и жил средь готтентотов, Не царь зверей, а гумми-лев.Но спустя три года Голлербах близко познакомился с Гумилевым и даже вошел было в его окружение. Он написал заметку к 15-летию литературной деятельности Гумилева и большое стихотворение-портрет поэта.
Не знаю, кто ты — набожный эстет Или дикарь, в пиджак переодетый? Под звук органа или кастаньет Слагаешь ты канцоны и сонеты? Что, если вдруг, приняв Неву за Ганг, Ты на фелуке уплывешь скользящей Или метнешь свистящий бумеранг В аэроплан, над городом парящий? Тебе сродни изысканный жираф, Гиппопотам медлительный и важный, И в чаще трав таящийся удав, И носорог свирепый и отважный…Гумилев стихи похвалил, но, как известно, голосовал против приема Голлербаха в Союз. Этого Голлербах не забыл.
21 февраля в «Известиях Петросовета» под псевдонимом Ego был напечатан фельетон, где о «Драконе (Поэме начала)» сказано так: «…Поэма звонкая, легкокрылая, но, явленная миру «посередине странствия земного», она не может встать в ряд с лучшими достижениями автора и может быть истолкована не как поэма начала, а как поэма конца или, если угодно, как начало конца…» Кроме того, автор статьи (что это был Голлербах, выяснить не составило труда) позволил себе двусмысленный намек, касающийся Гумилева и Одоевцевой.
О дальнейшем — см. заявление Голлербаха в суд чести:
Н. С. Гумилев, встретившись со мной 25 февраля в Доме литераторов, заявил мне буквально следующее:
1) что, прочитав статью о «Драконе», он и его домашние ломали себе голову над вопросом — «какой негодяй мог это напечатать?»;
2) что статья моя — гнусная, неприличная и развязная;
3) что я не джентльмен;
4) что я занимаюсь «оглашением непроверенных слухов»;
5) что я намеренно «бросил тень на его отношения к г-же Одоевцевой (которая для него «не больше, чем ученица») и оскорбил тем самым саму г-жу Одоевцеву;
7) что посему он отныне не будет подавать мне руку;
8) что моя «литературная карьера с 23 февраля окончательно и безвозвратно погибла» и что я могу «поставить на ней крест», потому что по его, Гумилева, требованию «меня не станет печатать ни один приличный орган» и мне придется перейти «из гнусных «Известий» в другие, еще более гнусные газеты»…
Суд состоялся только 22 мая и признал обе стороны неправыми. Но, понятно, что и без того больного и усталого Блока вся эта история должна была довести до крайнего раздражения. Тем более что Голлербах бомбардировал его многословными письмами…
И вот в марте 1921 года Блок написал злосчастную статью. Она предназначалась для «Литературной газеты» — еженедельника, так и не увидевшего свет (по распоряжению Зиновьева первый номер, содержащий несколько политически неприемлемых текстов, был изъят еще в типографии).
Вот несколько цитат:
Россия — молодая страна, и культура ее — синтетическая культура. Русскому художнику нельзя и не надо быть «специалистом». Писатель должен помнить о живописце, архитекторе, музыканте; тем более — прозаик о поэте и поэт о прозаике… Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга — философия, религия, общественность, даже — политика… Когда начинают говорить об «искусстве для искусства», а потом скоро — о литературных родах и видах, о «чисто литературных» задачах, об особенном месте, которое занимает поэзия и т. д., и т. д. — это, может быть, иногда любопытно, но уже не питательно и не жизненно.
Разумеется, все это говорилось от чистого сердца, и едва ли Блок (развивавший, собственно, те же идеи, что и в устных спорах с Гумилевым) мог предвидеть, как этой статьей сыграет он на руку той «черни», тем «чиновникам», кого сам же он месяц назад заклеймил в речи «О назначении поэта» (речи, Гумилева восхитившей). «Черни», для которой непредсказуемое «искусство для искусства» во все времена было еще нетерпимей, чем искусство политически враждебное.
Эрих Голлербах, 1910-е
Но дальше Блок объявляет «признаком неблагополучия» культуры «дробление на школы и направления»: «Об одном из таких новейших «направлений», если его можно назвать направлением, я и буду здесь говорить».
Последующее жалко и цитировать. В ярости, с которой Блок полемизирует со статьями десятилетней давности, чувствуется уже налет безумия. Впрочем, отчасти и сами «гумилята» провоцировали на это: так наивно на страницах «Дракона» они продолжали довоенные литературные споры, сводили счеты с давно уже мифической «старой школой», строго одергивали футуристов, словно не чувствуя, как изменился контекст. Чутче других к эпохе был Оцуп: его рецензии (на «Ночь в окопе» Хлебникова и др.) выделяются даже по слогу. Все же мешочничьи поездки в теплушках что-то давали.
Дальше — яростный и не слишком грамотный спор с гумилевскими теориями. Особенно возмущает Блока слово «эйдолология». Говоря о стихах акмеистов, Блок, как прежние критики, делает исключение для Ахматовой и не забывает (после всего случившегося!) помянуть добрым словом первые стихи Городецкого. «В стихах самого Гумилева было что-то холодное и иностранное, что мешало его слушать». Прежде, мы знаем, Блок в общем неплохо относился к Гумилеву-поэту. Но в последние месяцы жизни неприязнь переносится и на стихи. Ни «Заблудившийся трамвай», ни «У цыган», перед которыми даже Павлович оказалась беззащитна, ни другие стихотворения «Огненного столпа» не вызывали у Блока сочувственного отклика. Мандельштама, новые стихи которого так было ему понравились, Блок упомянуть забывает, а остальных и вовсе не удостаивает разговора: «Говорить с каждым и о каждом из них серьезно можно будет лишь тогда, когда они оставят свои «цехи», отрекутся от формализма, забудут все «эйдолологии» и станут самими собой».
Блок противопоставлял зряшным забавам «цеховых и гильдейских» страдания «охваченной разрухой страны». В сущности, его упреки — хотя и с другим политическим оттенком и на несравнимо более высоком нравственном и интеллектуальном уровне — перекликались с пасквилем Городецкого в «Известиях». Но Гумилев как раз и мыслил свою структурообразующую работу (сначала — в своей профессиональной области) как попытку преодолеть хаос и разруху. Впрочем, мы не знаем, чем и как ответил он Блоку. Известно, что «Без божества, без вдохновенья» он прочитал в рукописи и написал ответ — статью «Душа поэзии». Она не дошла до нас.
История Блока и Гумилева в последние месяцы жизни — это, конечно, история Моцарта и Сальери… Но очень странных. Подавляющий свою зависть, благоговейный Сальери. И раздраженный, недружелюбный, порой впадающий в истерику Моцарт… Герои поменялись ролями, и это не случайно: Моцарт разучился писать великую музыку, а у Сальери она как раз начала получаться.
5
Летом 1919-го, после почти годового перерыва (раньше с ним такого не случалось!), Гумилев снова начинает писать стихи.
Начинается его «акмэ». В течение нескольких месяцев он пишет ряд стихотворений, превосходящих все созданное им прежде.
Мы не знаем, какое из них было первым. Но предположим, что это «Память», открывающая «Огненный столп», — история перевоплощений человеческой личности, преображенная поэтической фантазией автобиография, романтизированная исповедь. Гумилев прощается с собой — «колдовским ребенком», и с надменным молодым поэтом, и с «мореплавателем и стрелком». И вот:
Я — угрюмый и упрямый зодчий Храма, восстающего во мгле, Я возревновал о славе Отчей, Как на небесах, и на земле.Образ «каменщика» уже возникал в 1913 году в «Пятистопных ямбах», но два года спустя Гумилев заменил его в окончательной редакции стихотворения иной своей ипостасью — тем, кто «променял веселую свободу на священный долгожданный бой». Но прошло еще четыре года — и образ «каменщика», строителя вернулся; только теперь он — дерзкий зодчий, соперничающий с самим Богом, архитектор рукотворного, но священного Храма. Именно таков последний выбор Гумилева, именно таков образ поэта, на котором он останавливается. Зодчий, вооруженный точным расчетом, познавший все законы своего ремесла, «угрюмый и упрямый». И этой души не изжить:
…Вплоть до дня, когда взойдут, ясны, Стены Нового Иерусалима На полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный И прольется с неба страшный свет, Это Млечный Путь расцвел нежданно Садом ослепительных планет.Это — то грядущее преображение мира под властью поэтов и мудрецов, которое Гумилев рассчитывал вскоре увидеть вживе и в котором мечтал сыграть важную роль. И это — конец и начало времен, предсказанные в Библии. Этим эсхатологическим напряжением полны и другие стихи той поры — «Слово», написанное в том же 1919 году, и датированное весной следующего года «Шестое чувство».
Но кто из близких Гумилеву людей способен был понять и разделить эти ощущения? Иванов, Адамович, Одоевцева? Конечно нет. Чуковский? Лозинский? Тоже нет.
Ахматова? Мандельштам? Ходасевич? Наконец, Блок? Все они в какие-то моменты жизни ощущали нечто подобное:
И так близко подходит чудесное К развалившимся грязным домам, Никому, никому не известное, Но от века желанное нам.* * *
Прервутся сны, что душу душат, Начнется все, чего хочу, И солнце ангелы потушат, Как утром — лишнюю свечу.* * *
…Я не Лейпциг, не Ватерлоо, Я не Битва Народов. Я новое, — От меня будет свету светло.Но их ощущения почему-то звучали диссонансом с чаяниями Гумилева. И Ахматова услышала в его последних стихах лишь предчувствие смерти, а Ходасевич написал: «Гумилев не забывал креститься на все церкви, но никогда я не видел человека, до такой степени не понимавшего, что такое религия». Мог бы понять Гумилева Вячеслав Иванов — несмотря на все их еще не изжитые споры и расхождения. Но Вячеслав был в Москве и, похоронив ужасной зимой 1920 года Веру Шварсалон, отправился из Москвы на юг — в Баку, где на четыре года намертво ушел в профессорство, в академическую науку.
Среди шедевров 1919 года — конечно же «Душа и тело». Христианская триада тело — душа — дух у Гумилева трактуется очень нетрадиционно. Тело и душа у него — ровня, и оба несопоставимо ниже неназванного «третьего».
Я тот, кто спит, и кроет глубина Его невыразимое прозванье: А вы, вы только слабый отсвет сна, Бегущего на дне его сознанья!Любовь (причем не только эротическая) приписывается исключительно телу. Единственный атрибут, который Гумилев оставляет душе — «холодное презрительное горе». Любопытно спроецировать первые две части этого стихотворения на отношения символизма и акмеизма. «Душа» у Гумилева — апофатическая и скорбная символистка. «Тело» воплощает акмеистическое приятие жизни — с тем тайным условием, о котором теленок-Городецкий предпочитал не знать:
Но я за все, что взяло и хочу, За все печали, радости и бредни, Как подобает мужу, заплачу Непоправимой гибелью последней.Но для Гумилева этого было уже мало. Не «простое тело, но с горячей кровью», а тот, «кто, словно древо Издрагиль, пророс корнями семью семь вселенных» — вот отныне субъект его поэзии.
Конечно, у Гумилева 1919-го и начала 1920 года есть стихи и более «земные». Нельзя, например, предавать забвению «Персидскую миниатюру», в которой сквозь гумилевскую тонкую иронию (которой часто не замечают) проскальзывает восходящее к Анненскому, свойственное именно поэзии XX века ощущение: привычные соотношения человека и вещи, искусства как стихии и «артефакта» необратимо изменились. Гумилев прямо говорит об этой революции понятий в стихотворении, почему-то в «Огненный столп» не включенном:
Стань ныне вещью, Богом бывши, И слово вещи возгласи, Чтоб шар земной, тебя родивший Вдруг дрогнул на своей оси.К этому же времени относится и несколько переоцененный, на наш взгляд, «Лес», и «Слоненок» — чуть ли не лучший образец гумилевской любовной лирики.
С датировкой некоторых из этих стихотворений, впрочем, есть проблемы. В течение всего 1920 года печататься было негде. Все, написаное за два года, появилось в печати лишь в начале НЭПа. Гумилев многократно переделывал и переписывал стихи, составлял из них рукописные мини-сборники («Канцоны», «Персия») и, если верить мемуаристам, в конце 1920-го — начале 1921-го читал их знакомым как только что написанные.
Во всяком случае, по свидетельству Чуковского,
зимою 1921 года он каждое воскресенье заходил за мной, и мы шли через весь город на Петроградскую сторону к нашей общей знакомой Варваре Васильевне Шайкевич, большой поклоннице его поэзии. И покуда мы шли по пустынному, промозглому, окоченевшему, тихому городу, он всю дорогу читал мне стихи Иннокентия Анненского[161] и свои, новые, сочиненные только что, в последние дни…
У Варвары Васильевны он чинно садился в кресло, прямой как линейка (в креслах он никогда не разваливался), и, прихлебывая красное вино, которое каким-то чудом сохранилось у нее от старых времен, вновь прочитывал ей все свои последние стихи. Однажды мы застали у нее А. М. Горького, который незадолго до этого и познакомил нас с нею. Алексей Максимович, умевший слушать чужие стихи с необыкновенным вниманием, веско сказал Гумилеву: «Вот какой из вас вышел талантище».
Якобы весной 1921-го Гумилев читал Одоевцевой как новое стихотворение «Заблудившийся трамвай», а всего через неделю — «У цыган».
«Трамвай» сам Гумилев считал лучшим своим стихотворением: «Сразу через семь ступенек прыгнул», — говорил он; потомки согласились с ним в этой оценке. Но написано это стихотворение годом (больше чем годом) раньше, и уже в октябре 1920-го поэт впервые прочел его с эстрады Дома искусств, а в январе 1921-го оно было опубликовано. Нет, вероятно, Одоевцева ошиблась в датах. Может быть, и Чуковский перепутал зиму 1921 года с предыдущей?
«Заблудившийся трамвай» — кажется, одно из немногих стихотворений Гумилева, которые можно точно датировать. Вот свидетельство Н. Оцупа:
Однажды… в 5 часу утра мы с Гумилевым и несколькими знакомыми возвращались домой после ночи, проведенной на Васильевском острове у инженера Крестина. Гумилев был в прекрасном настроении — он только что подписал с нашим гостеприимным хозяином договор о переиздании своих книг и получил аванс.
Он не задумывался, почему какой-то чудак в такое трудное время нашел возможность купить у него права на «Жемчуга», «Колчан» и другие книги стихов. О дружеском заговоре Н. С. не подозревал. Между тем написанный им от руки на двух листках договор за подписью поэта был тогда же передан мне инженером Крестиным, и любители автографов могут видеть у меня, когда захотят, этот любопытный документ. Благодаря вмешательству друзей Гумилева Крестин сыграл благородную роль мецената под видом издателя…
Гумилев был оживлен, шутил, говорил о переселении душ, и вдруг посередине его фразы над нами послышался какой-то необычайный грохот и звон, неожиданность была так велика, что мы все остановились, неожиданнее всего было то, что эти странные звуки производил обыкновенный трамвай, неизвестно откуда и почему взявшийся в 5 часов утра на Каменноостровском проспекте…
Трамвай почти поравнялся с нами и чуть замедлил ход, приближаясь к мосту. В этот момент Гумилев издал какой-то воинственный крик и побежал наискось и наперерез к трамваю. Мы увидели полы его развевающейся лапландской дохи, он успел сделать в воздухе какой-то прощальный взмах рукой, и с тем же грохотом и звоном таинственный трамвай мгновенно унес от нас Гумилева.
Я вдвойне благодарен Крестину, говорил мне через день Гумилев… за аванс и за то, что, не засидись мы у него, я не написал бы «Заблудившийся трамвай».
Договор с Крестиным подписан 29 декабря 1919 года, значит, черновая редакция стихотворения датируется следующим днем. Мы уже говорили о выводах, которые делает из этого факта Ю. В. Зобнин, однозначно отождествляя «Машеньку» с покойной Марией Кузьминой-Караваевой.
Беловой автограф стихотворения Н. Гумилева «Подражание персидскому», 1919 год. Государственный литературный музей (Москва)
Пример того, как далеко могут завести поиски реальной Машеньки, — в мемуарах О. Арбениной-Гильдебрандт (относящихся ко времени ее второго романа с Гумилевым, начавшегося через несколько дней после 30 декабря 1919):
Был вечер поэтов, и много фамилий на афише. Фамилия участницы с именем на М. («Машенька») была Ватсон. Я взбесилась. На Бассейной меня поймал Гумилев и стал расспрашивать… Я по-идиотски разревелась и закричала: «Уходите к своей Машеньке Ватсон». Он ужасно хохотал…
Марии Ватсон, известной приятельнице Надсона, было хорошо за семьдесят. Самой Арбениной Гумилев в первый раз прочитал: «Оленька, я никогда не думал…». А по свидетельству Одоевцевой, в раннем варианте стихотворения была «Катенька» — «Машенька появилась несколько дней спустя, в честь «Капитанской дочки». По совету Чуковского, прибавляет Арбенина.
Ахматова, соглашаясь с Оцупом, в беседе с Лукницким характеризовала принцип построения «Трамвая» как «несколько снимков на одну пластинку». Но в расшифровке этих снимков она, на наш взгляд, проявила наивность. Чего стоят предположения о том, что «нищий старик… что умер в Бейруте» — «вероятно, реальное лицо», и тем более — очередные попытки найти бытовой прототип Машеньки: «Имя — может, и Кузьминой-Караваевой, а женщина — та, от которой он ушел в 1916 году, ушел представляться Марии Федоровне (напудренная коса — это для цензуры и только для цензуры)»[162].
Все это свидетельствует, насколько далека еще была Ахматова в 1920-е годы от того, что позднее назовут «русской семантической поэтикой». У Гумилева же в «Трамвае» эта поэтика впервые прорывается. Несколько рядов жизненных и культурных ассоциаций теснейшим образом переплетены между собой. На поверхности же они связаны разве что логикой сна. В данном случае это сон на тему Царского Села и русского XVIII века. Герой изменяет невесте, которая «ковер ткала» (как Пенелопа!), — и идет «представляться Императрице» (чтобы стать ее фаворитом?). Императрица становится соперницей Пенелопы — роднею коварных нимф и сирен. Вспомним стихи военного времени: «Обо мне, далеком, звучит Ахматовой сиренный стих». Но Машенька живет за «дощатым забором» — там, где жила будущая Императрица-сирена, царскосельская русалка Аня Горенко. Не ее ли образ двоится в сознании поэта? Это лишь одна из десятков ассоциаций — биографических и культурных, — которые возникают при чтении «Заблудившегося трамвая». Расшифровать «У цыган» еще труднее — так тесно переплелась в этом стихотворении отчаянная барская цыганщина XIX века с эстетическим демонизмом предреволюционнных лет, так неотделимы культурные цитаты от намеков на некие малоизвестные нам житейские обстоятельства. Образы идут за захватывающим музыкальным ритмом и начинают жить самостоятельной жизнью, вызывая сложные и непредсказуемые ассоциации.
Шире, всё шире, кругами, кругами Ходи, ходи и рукой мани, Так пар вечерний плавает лугами, Когда за лесом огни и огни. Вот струны-быки и слева и справа, Рога их — смерть и мычанье — беда, У них на пастбище горькие травы, Колючий волчец, полынь, лебеда.3 (или 2) ноября Гумилев вместе с Кузминым читал свои новые стихи в Москве — на вечере современной поэзии в Политехническом музее. Читали в нетопленном помещении, не снимая верхней одежды — Кузмин в шубе, Гумилев в знаменитой оленьей дохе. «Во время чтения «Трамвая» в верхней боковой двери показался Маяковский с дамой. Он прислушался, подался вперед и так замер до конца стихотворения» (из воспоминаний О. Мочаловой). После чтения он подошел к Гумилеву, похвалил его новые стихи — особенно «У цыган». Увы, в декабре, когда Маяковский выступал в Петрограде, неблагодарный Гумилев в разгар чтения вышел из зала — раздраженный не столько стихами, сколько восторженной «истерикой» аудитории. Именно тогда и были сказаны приведенные нами в свое время слова про «антипоэзию». А все же, выступая в следующем году в Бежецке с докладами о современной поэзии и с чтением стихов, он вроде бы включал в программу и стихи Маяковского.
Гумилев считал «Трамвай» и «У цыган» этапными стихотворениями, меняющими его литературную судьбу. Но он медленно и осторожно нащупывал свою новую манеру. Летом 1920 года он пишет «Поэму начала». Был замыслен поворот от напряженной и личной лирики к философскому эпосу, к попытке создать развернутую «картину мира», какой сложилась она у Гумилева к середине (как казалось ему) жизни.
Мир когда-то был легок, пресен, Бездыханен и недвижим И своих трагических песен Не водило время над ним. А уже в этой тьме суровой Трепетала первая мысль, И от мысли родилось слово — Предводитель священных числ.Но, закончив первую Песнь и начав писать вторую, Гумилев остановился. «Писал со страстью, запоем, в полную меру таланта. А вижу — нет, поторопился. Надо еще подождать, «повзрослеть» душевно и умственно…» — объяснял он Одоевцевой.
В конце 1920-го — начале 1921-го он пишет маленькую поэму «Звездный ужас» — просветленное, лукавое, монументальное и при этом очень конкретное, достоверное произведение о первой встрече человека с возвышенным и пугающим, спасительным и губящим миром звезд и знаков. «Звездный ужас» — не революционное в структурном отношении произведение, если угодно, это «шаг назад» — к акмеизму; но одной этой поэмы было бы достаточно, чтобы имя Гумилева не было забыто историками русской поэзии. Потом — уже чисто акмеистический «Леопард» и две традиционные постромантические баллады — «Перстень» и «Дева-птица»[163]. Потом — «Мои читатели», шаг в противоположную, в сравнении с «Трамваем», сторону. Никакого сюрреализма, никакой игры культурными пластами — «точность военного приказа и банковского чека». А потом, вероятно, в последние недели, проведенные на свободе, появляются такие обескураживающе простые и в то же время прекрасные стихотворения, как «Вот гиацинты под блеском…» и «На далекой звезде Венере…».
На Венере, ах, на Венере Нету слов обидных или властных. Говорят ангелы на Венере Языком из одних только гласных.На этой нежной и мечтательной ноте Гумилеву суждено было замолчать. Но она была лишь одной из многих, доступных ему в это время.
Только список задуманных и, возможно, начатых им стихотворений впечатляет: «Голубой зверь», «Верена (аэроплан)», «Наказ художнику, иллюстрирующему Апокалипсис», «Как летают поэты (Пегас, Гриф, Орел и др.)», «Ангел Хаиль», «Религия деревьев», «Знаки зодиака» (другое название — «Читатель»), «Земля — наследие кротких» (другое название — «Улица кабатчиков»), «Дом Бога», «Великий предок». На пороге какого творческого взлета, какого странного и богатого неожиданными поворотами периода работы, вероятно, стоял он!
Почти все стихи 1919–1920 годов и часть стихотворений 1921-го вошли в «Огненный столп», окончательно составленный в июле этого года и вышедший в «Петрополисе» в середине августа — еще при жизни поэта, но уже после его ареста. А между тем уже был задуман новый сборник — «На половине странствия земного». Тридцать пять лет — середина человеческой жизни по Данту. Гумилев опасался этого названия: боялся накликать слишком раннюю смерть. Ему нужно было много лет, чтобы воплотить все задуманное. Семидесяти — не хватало…
А на самом деле счет оставшегося времени шел не на месяцы, не на недели — на дни.
6
Лукницкий (под впечатлением бесед с Ахматовой) говорит о «шахстве» Гумилева в последние годы жизни, о том, что «до последних лет у Николая Степановича было много увлечений, но не больше в среднем, чем по одному в год. А в последние годы женских имен — тьма. И Николай Степанович никого не любил в последние годы». Вероятно, Ахматовой очень хотелось отнести пик гумилевского донжуанства ко времени его второго брака, если она даже составила (на основе непроверенных слухов) его «донжуанский список». Разумеется, вольно было братьям литераторам записывать в гумилевские любовницы каждую его студистку. Но, если обратиться к тем материалам, которыми располагаем мы, придется не согласиться ни с одним из этих утверждений. И в 1913–1918 годы у Гумилева было больше чем по одному увлечению в год, и после развода с Ахматовой ничего в этом смысле не изменилось. Собственно, для особенно бурной романтической жизни (или для особенно темного разврата) как раз в последние годы у него не было ни времени, ни сил. И по крайней мере одну из своих спутниц этих лет он любил — долго и страстно.
Речь идет об Оленьке Арбениной-Гильдебрандт, появившейся в жизни поэта, напомним, уже в 1916 году. Два года спустя Гумилев женится на ее ближайшей подруге (и своей давней любовнице) Ане Энгельгардт.
В конце лета Ольга была у Гумилевых на Ивановской.
Что ели, пили — не помню. А разговор? Помню, он высказал мысль, что на свете настоящих мужчин и нет — только он, Лозинский и… Честертон… Он сравнил меня с борющейся и отбивающейся валькирией. А Аню — с едущей за спиной повелителя кроткой восточной женщиной…
Мы так засиделись, что пришлось «разойтись» и лечь спать. Аня уговаривала меня остаться… Комнатка с двумя детскими кроватями, беленькая, уютная — верно, детей Маковского. Аня устроила меня на одной… и удрала попрощаться со своим супругом. Вернулась со смехом. «Слушай! Коля с ума сошел! Он говорит: приведи ко мне Олю!» — я помертвела.
Я не знаю, как вытерпела выждать, пока она заснет, и выбралась из незнакомой квартиры, которая теперь казалась мне пещерой людоеда.
«Восточная женщина», вероятно, решила, что «повелитель» пошутил, и отнеслась к его выходке благодушно. «Валькирия» поняла его всерьез — и испугалась.
Больше они не виделись до начала 1920 года. Ольга стала актрисой Александринского театра, много играла на стороне, зарабатывая добавочные пайки, понемногу училась живописи (впоследствии она состоится как видный акварелист и график — историки искусства отводят ей далеко не последнее место среди художников группы «Тринадцать», рядом с такими большими мастерами, как Удальцова, Древин, Маврина), кружила голову многочисленным молодым людям. У Гумилева были, вероятно, другие подруги. Ухаживал он, в частности, за уже помянутой Дорианой Слепян — актрисой и скрипачкой.
В начале 1920 года Ольгу во время «Маскарада» в Александринском театре («Маскарада», поставленного Мейерхольдом, с Юрьевым в главной роли; Арбенину — во время «Маскарада» — «бывают странные сближения») в одном из антрактов попросили выйти в зал. «Он стоял на сцене. Не помню ничего, что он объяснял. Кажется, он пришел поговорить с режиссером насчет «Отравленной туники». После спектакля пошли вместе («Моя» дорога домой была теперь и «его» дорога — он жил на Преображенской»). Зашли к нему; он читал только что написанный «Трамвай», потом «были и другие стихи и слова».
«Когда все было кончено, он сказал: «Я отвечу за это кровью». В последние годы жизни Гумилев часто говорил это. Прочитав только что написанные удавшиеся стихи… После первой близости с давно любимой и желанной женщиной… Заговаривал он судьбу или легкомысленно, как венецианский купец Шейлоку, предлагал ей подходящую цену за ее дары? Но в отношении судьбы все «кровавые наветы» справедливы — она и впрямь не брезгует подобной платой.
Если то, что испытывал Гумилев к Ольге, не было любовью, тогда — что же любовь?
Лицо Гумилева… было (для меня) добрым, милым, походило, скорее, на лицо отца, который смотрит на свою выросшую дочку. Иногда — слегка насмешливым. Скорее — к себе. Очень редко — раз или два — оно каменело.
Я смотрела на Гумилева с первого дня знакомства как на свою полную собственность. Конечно, я фактически исполняла его желания и ничего от него не требовала, но вот сознание было такое, и думаю, он это понимал.
Правда, было состояние, что ртуть покатилась по своему руслу, и, может быть, это было счастьем. Он часто говорил мне: «Мое счастье! Как неистощимый мед!»
Я бы могла еще сильнее «закрутить» своего Гумилева, хотя в том периоде мне было достаточно его любви и даже верности.
Что еще? Она писала стихи, и он, такой суровый к чужому творчеству, в том числе и к творчеству своих любовниц, хвалил их… И они — до конца! — оставались на «вы».
Он чем дальше, тем чаще говорил о разводе с Аней и женитьбе. Об Ане — он понял, конечно! ее глупость! И даже ненормальность. Но ведь и я была в житейском смысле глупа…
Ей самой замуж не хотелось — 23-летнюю красавицу не прельщал «брак с готовкой».
Он довольно часто говорил мне: «Кошка, которая бродит сама по себе»… «О мой враг, и жена моего врага, и сын моего врага…»
Раз он как-то пожаловался на физическую слабость… Я, имея в виду образ «конквистадора», безжалостно отвернулась.
Как же плохо ему было, если он позволил себе пожаловаться! Вот что пишет Одоевцева:
«Я никогда не устаю, — говорил он. — Никогда».
Но стоило ему вернуться домой и надеть войлочные туфли, он садился в кресло, бледный, в полном изнеможении. Этого полагалось не замечать… Длились такие припадки слабости только несколько минут. Он вставал, отряхивался, как пудель, вышедший из воды, и как ни в чем не бывало продолжал разговор.
Эти отношения продолжались весь год. Иногда Олечка бросала Гумилева — потом возвращалась. Он время от времени ездил в Бежецк к семье.
Был ли Гумилев в самом деле верен ей? В июне, в доме отдыха, немного пофлиртовал с некой рыженькой Зоей Ольхиной. Вероятно, еще в 1919 году, но возможно и в 1920-м, был у него роман с Ниной Шишкиной (позднее по мужу Цур-Милен) — цыганской певицей из знаменитого рода. Надо сказать, что культура цыганского пения, вдохновлявшего когда-то Державина, Пушкина, Языкова, Полежаева, Бенедиктова, Аполлона Григорьева, к концу XIX века выродилась. Цыганские певцы стали атрибутом дешевых ресторанов, где порою черпал вдохновение Блок. Едва ли ту же Нину Шишкину можно было сравнить как певицу с легендарными Таней и Стешей, современницами Пушкина… Увлечение Гумилева «цыганщиной» на первый взгляд странно, но именно этому увлечению мы обязаны одним из его зрелых шедевров. В течение 1920-го Гумилев бывал «у цыган» неоднократно. 28 октября 1920 года Кузмин записывает в дневнике: «Совсем собрался спать, как прибежали Рождественский и Берман. Пошел все-таки… У печки все сидят. Маленькая цыганка со странным личиком и огромной гитарой. Мила, но петь еще не умеет. Большая прелесть. Гумилеву говорит «ты»…» Павел Лукницкий, у которого также был в 1920-е годы с Шишкиной роман, кажется, склонен был сильно преувеличивать ее роль в жизни Гумилева. Сделанная ей 25 сентября 1920 года надпись на «Жемчугах» («Богине из Богинь, Любимейшей из Любимых, крови моей славянской простой, огню моей таборной крови, последнему Счастью, последней Славе…) — лишь свидетельство малоудачных попыток поэта, возможно бывшего в этот момент во хмелю, имитировать «цыганский стиль». Арбенина, кстати, о визитах Гумилева в цыганский хор знала и особенно по этому поводу не беспокоилась.
Ольга Гильдебрандт-Арбенина. Фотография М. С. Наппельбаума, начало 1920-х. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Санкт-Петербург)
Осенью в Петербурге появился Мандельштам — и начал оказывать Ольге Арбениной знаки внимания.
Я помню папиросный дым — и стихи — в его комнате. Неколько раз мы бегали по улицам, провожая друг друга — туда и обратно… Моя «беготня» с Мандельштамом и редкие свидания… в его комнате не вызывали сомнений у Гумилева. Или он ревновал к моему восхищению стихами Мандельштама?
Мандельштама Гумилев не считал соперником (впрочем, когда-то он не считал соперником Шилейко). О любовных неудачах Осипа Эмильевича рассказывали анекдоты. Так же как о его любви к сладкому… О его героической трусости и изобретательной непрактичности… О его манере прикуривать от серной спички, не дожидаясь, пока сера догорит, и, куря, сбрасывать пепел на левое плечо… О его знаменитом жабо — «жабе»… О золотом зубе, который вставил ему дантист из Коктебеля — так и не дождавшийся оплаты… Вместе со всеми смеялся и Гумилев — смеялся и умилялся: «Какой смешной, какой милый. Такого нарочно не придумаешь». Конечно, все эти насмешники любили и ценили стихи Мандельштама, но едва ли понимали масштаб его гения. Который, впрочем, еще не вполне проявился.
Между тем Мандельштам, вернувшийся из Киева, уже привык к другому отношению: «Там я впервые почувствовал себя знаменитым. Со мной все носились, как здесь с Гумилевым… Тамошний мэтр, Бенедикт Лившиц, совсем завял при мне… А тут Гумилев верховодит, и не совсем, признайтесь, по праву». Так говорил он Одоевцевой. Раздраженный любовным, но несколько покровительственным отношением «старшего братца» Гумилева, уставший от его менторства, Мандельштам не спорил с ним в лицо, но исподволь переучивал по-своему Одоевцеву — и ухаживал за Арбениной. «Со времен Натальи Пушкиной женщины предпочитали гусара поэту» — эта полушутливая фраза, сказанная Мандельштамом «Олечке», была для Гумилева более чем обидна: ведь Мандельштам сравнил себя с Пушкиным, а его — с Дантесом и отказал ему в принадлежности к поэтическому цеху. Другой раз, провожая «Олечку» домой, Мандельштам стал передавать ей какие-то сплетни о гумилевском донжуанстве. «Я выговорила все это Гумилеву. Где и как не помню, но помню, как на Бассейной… Гумилев при мне выговаривал Осипу, а я стояла ни жива ни мертва и ждала потасовки…»
Видимо, именно в этот момент отношения поэтов осложнились и подошли к черте разрыва. И именно в это время под пером Мандельштама рождается несколько прославленных любовных стихотворений («За то, что я руки твои не сумел удержать…», «Я наравне с другими…») и еще одно, традиционно относимое к их числу, — «В Петербурге мы сойдемся снова…». К фразе Мандельштама, сказанной позднее жене, о том, что стихи эти «обращены скорее к мужчинам, чем к женщинам», никто всерьез не отнесся. И никто (в том числе и М. Л. Гаспаров, посвятивший этому стихотворению большую статью) не обратил должного внимания на две загадочные строчки:
Заводная кукла офицера — Не для черных душ и низменных святош…Эти строчки понимались по-разному. В них видели и намек на «наводнивших Петроград после Брестского мира немецких офицеров». Но все это не объясняет напора и пафоса второй строки. Лишь советская цензура 1928 года все поняла правильно и вырезала два опасных стиха, заставив поэта заменить их другими, благозвучными, благополучными, понятными.
Если этот образ — «заводная кукла офицера» — имеет отношение к Гумилеву (вспомним, сколько мемуаристов писали о его «деревянности»), то понятны и «черные души», и «низменные святоши». Это те, кто сплетничает за спиной поэта и судит его, «светская чернь» из «пушкинского» сюжета, который, парадоксально меняясь ролями, разыгрывают два акмеиста; те, кому смешно это патетическое лицедейство на краю советской ночи. Отсюда мотив театра, «шифоньерки лож», «афиши-голубки» — именно в театральном зале произошла, как мы помним, встреча Гумилева и Оленьки в январе 1920 года. Но тогда перестраивается весь семантический строй стихотворения, и оно оказывается обращенным уж точно не к юной Арбениной (которая, в сущности, была Мандельштаму не нужна — его успех в Киеве был не только литературным: там ждала его Надя Хазина, и впереди у него было семнадцать лет счастливого, хотя и странно-счастливого, брака), а скорее к другу-сопернику. Увлечение Мандельштама Ольгой Арбениной-Гильдебрандт было лишь частью той сложнейшей и многолетней эмоциональной игры, которая сопровождала его дружбу с Ахматовой и Гумилевым. В 1934 году, ненадолго, но пылко влюбившись в Марию Петровых (у которой был роман со Львом Гумилевым), Мандельштам (по свидетельству Э. Герштейн), говорил: «Ах, как это интересно. У меня было такое же с Колей». Возможно, «В Петербурге мы сойдемся снова…» — это объяснение в любви к собрату-поэту по ту сторону творческого «бунта» и мужского соперничества (и в связи с тем и другим), признание в братстве перед лицом «вчерашнего солнца», похороненного в Петербурге. Это, конечно, лишь версия. Но, на наш взгляд, имеющая право на рассмотрение.
А Гумилев? И его преследовал в эти месяцы дух Мандельштама. Одоевцева передает мистический случай: в переполненном вагоне, по дороге из Бежецка, Гумилев повторял про себя в такт колесам старые мандельштамовские стихи: «Сегодня дурной день, кузнечиков хор спит…» И вдруг кто-то из попутчиков отчетливо произнес: «Сегодня дурной день». Такие случайности не случайны…
Но уже 1 января 1921 года Мандельштам пришел к Гумилеву и сказал: «Мы оба обмануты». Для него этот обман значил, однако, несравнимо меньше, чем для Гумилева.
Еще весной 1920-го Гумилев познакомил свою подругу с Кузминым и его неразлучным спутником Юрочкой Юркуном. 48-летний (но убавлявший себе годы) Кузмин и 25-летний Юркун жили вместе уже семь лет. К Юркуну были обращены самые возвышенные образцы кузминской любовной лирики:
Вы так близки мне, так родны, Что кажетесь уж нелюбимы, Наверно, так же холодны В раю друг к другу серафимы.Однако все знали, что Юркун — денди, небольшой милый прозаик (роман «Шведские перчатки», рассказы), художник-акварелист, библиофил — дарит нежность не только своему немолодому другу, но и молодым женщинам. Призрак Дантеса выступает вновь. Но в случае Юркуна и Арбениной Кузмин вел себя отнюдь не как барон Геккерн. Он уговаривал Юрочку: «Что вы делаете? Она хорошая молодая девушка… Она собирается выходить за Гумилева». Это была не столько ревность, сколько жалость к юной Олечке, «Психее».
Нина Шишкина. Фотография М. С. Наппельбаума, 1925 год
«Психея», «Коломбина», «Валькирия»… Как по-разному виделась и воспринималась мужчинами одна и та же очаровательная молодая женщина. Сколько образов и сколько масок! И какие разные стихи посвящались ей.
Моя любовь к тебе сейчас — слоненок, Родившийся в Берлине иль Париже И топающий ватными ступнями По комнатам хозяина зверинца. (Гумилев)И:
Ольга, Ольга! — вопили древляне С волосами желтыми, как мед, Выцарапывая в раскаленной бане Окровавленными ногтями ход. (Гумилев)И:
…Ты как нарочно создана Для комедийной перебранки. В тебе все дразнит, все поет, Как итальянская рулада, И маленький вишневый рот Сухого просит винограда. (Мандельштам)(В поэтическом «сухом винограде» можно узнать пайковый академический изюм, который два влюбленных сладкоежки, Гумилев и Мандельштам, просто от сердца отрывали для удовольствия красавицы.)
На католическое Рождество Гумилев грустно сидел у себя на Преображенской. Пришла Одоевцева; он от души обрадовался ей, долго выбирал для нее рождественский подарок — в конце концов снял со стены и подарил картину Судейкина. Под этим «отверстием в стене» состоялось несколько дней спустя последнее объяснение с Ольгой.
Гумилев говорил угрожающе, прямо как Отелло… Тон его речей был странен. Он говорил, что его ревность разгорится и рассыпется, как пепел. Так было с Ахматовой. И еще там с кем-то…
Почему он не сказал простых русских слов, вроде «не уходи» или «не бросай меня»? Что это — гордость? Стыд? Отчего можно говорить раболепные слова, чтобы уложить в постель, и не сказать ни слова, чтобы остановить свою женщину?
Почему? Да потому, что женщина, которой мужчина (уже не юный и с утра до вечера работающий) не может признаться в плохом физическом самочувствии (она, видите ли, имеет в виду образ конквистадора!), — это не его женщина.
Во время встречи Нового года в Доме литераторов Ольга ушла с Юркуном. Так начался «самый странный брак втроем» Серебряного века (по выражению Н. А. Богомолова и Дж. Малмстада) — Кузмин — Юркун — Арбенина. До смерти Кузмина (1936), до ареста и расстрела Юркуна (1938). Но это уж другая история…
Мандельштам радовался — Юрочка такой бархатный. Юрочка был не бархатный, а железный. Выбросил из моей жизни и Мандельштама, и Гумилева.
Михаил Кузмин и Юрий Юркун, 1910-е
Через несколько дней в Доме литераторов Ольга Арбенина «из-за портьеры» слышала, как Гумилев читает своим ученикам свежие стихи — «Перстень»:
«Мой жених, он живет с молитвой, С молитвой одной о любви, Попрошу — и стальною бритвой Откроет он вены свои». «Перстень твой, наверно, целебный, Что ты молишь его с тоской, Выкупаешь такой волшебной Ценой — любовью мужской». «Просто золото краше тела И рубины красней, чем кровь, И доныне я не умела Понять, что такое любовь».…Никогда в жизни я не испытывала такого стыда и такого желания смерти… Я видела в себе только бесстыдную, мерзкую тварь.
Вера Лурье, ок. 1921 года
11 января Гумилев присутствует на рождественском балу в Институте истории искусств.
…В огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади — скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург — налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснясь к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам… Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхал» (Ходасевич).
Одоевцева утверждает, что никакой спутницы у Гумилева не было. Напротив, Дориана Слепян рассказывает, что спутницей Гумилева в тот день была именно она, но что поэт был не во фраке (фрак он надел в другой раз — на пушкинское торжество, в феврале), а «в своем обычном, изрядно поношенном черном костюме, но на этот раз в очень высоком белом, туго накрахмаленном воротничке (которых давно уже никто не носил) и в черном старомодном галстуке». Но с учетом того, что произошло двумя неделями раньше, такое пышное появление поэта на балу эпохи военного коммунизма — в «старомодном» парадном костюме! с дамой в декольтированном платье! — было вызовом не столько революции, сколько личной судьбе.
Появлялись какие-то новые кратковременные барышни. Две юные студистки — Ида Наппельбаум и Вера Лурье — были приглашены весной на некую вечеринку в квартире Оцупа. По словам Наппельбаум, там был еще Адамович; по словам Лурье — Георгий Иванов и Колбасьев. Но Колбасьев в тот момент (весной 1921-го) еще не появился в Петрограде. «Электричества не было. Мы ходили из одной комнаты в другую с керосиновой лампой в руках. Пили нечто отвратительное, приготовленное из денатурата» (Лурье). «Мужчины были агрессивны… и разочарованы» (Наппельбаум). С Верочкой у мэтра все же был, по свидетельству той же Иды Моисеевны Наппельбаум[164], «одноразовый постельный флирт».
Другим утешением были наркотики. Эфир (с которым Гумилев был знаком давно) был доступен в пореволюционном городе — куда доступнее, чем, скажем, говядина или хорошее вино. Гумилева угощал этим снадобьем его добрый знакомый — красный муниципальный чиновник, председатель коллегии Петросовета, 26-летний Борис Гитманович Каплун, кузен Урицкого, муж балерины Спесивцевой и шурин поэта Сергея Спасского. Каплун считался меценатом. В дни военного коммунизма он учреждал кружки ритмического танца для милиционерш и литературную студию для коммунальщиков, где Гумилев, естественно, преподавал. Но любимым детищем Каплуна был крематорий — первый в России, открытый в исторический день 14 декабря 1920 года в бане на Васильевском острове. Обложку для брошюры, рекламирующей кремацию, рисовал сам Юрий Анненков. Гумилев — так уж получилось — вместе с Каплуном, Анненковым и «одной девушкой» — участвовал в церемонии открытия прогрессивного учреждения. Галантный Каплун предоставил даме выбрать первый подлежащий сожжению труп. Милейший Борис Гитманович и впредь обожал развлекать своих гостей, устраивая им экскурсии в крематорий. Впрочем, по тем временам это было невиннейшее развлечение. Яков Блюмкин — тот, как известно, позволял своим друзьям-поэтам присутствовать при расстрелах, и Есенин якобы соблазнял этим аттракционом барышень.
Кроме эфира, в городе нетрудно было разжиться кокаином и опиумом. Опиум Гумилев курил — по крайней мере в первые месяцы 1921 года. Курильни держали китайцы; эти заведения просуществовали до конца 1920-х — одну из последних описал Вагинов в «Бамбочаде». Не будем, однако, связывать с этой — мало известной нам — стороной жизни поэта визионерские мотивы его зрелой лирики. Брюсов был настоящим наркоманом, морфинистом — и как это сказалось на его творчестве?
Не знаю, как у читателя, а у автора на протяжении последних страниц пару раз сжалось сердце от жалости к герою. Будем все же объективны. Пожалеем и его глупую, сварливую, никчемную молодую жену.
Гумилев отвез ее в Бежецк голодной зимой… И не торопился привезти обратно. Петроградского гостя, когда он наезжал в уездный город, принимали с почетом. Местные поэты (имена их нам, к сожалению, неизвестны) избрали его почетным главой своего объединения. Был случай, когда Гумилев, грозно сказав: «Я председатель!» — избавил от поборов каких-то местных обывателей. Здесь простодушно чтили любых «председателей» и любые казенные бумаги с печатями. Но жить здесь Николай Степанович, конечно, не мог. Да и Анна уже не могла.
Объявление об открытии крематория в Петрограде. Экземпляр сохранен в «Чукоккале», 1920 год
Он все понимал, жалел ее… И ничего не в силах был с собой поделать.
Аня сидит в Бежецке с Леночкой и Левушкой, свекровью и старой теткой[165]. Скука невыносимая, непролазная. Днем еще ничего. Аня возится с Леночкой, играет с Левушкой — он умный, славный мальчик. А вечером тоска — хоть вой на луну от тоски. Втроем перед печкой — две старухи и Аня. Они шьют себе саваны — на всякий случай все подготовляют к собственным похоронам. Очень нарядные саваны с мережкой и мелкими складочками. Примеряют — удобно ли в них лежать. Не жмет ли где?[166] И разговоры, конечно, соответствующие. И Аня вежливо слушает или читает сказки Андерсена, всегда одни и те же. И плачет по ночам. Единственное развлечение — мой приезд. Но ведь я езжу в Бежецк раз в два месяца, а то и того реже. И не больше чем на три дня. Больше не выдерживаю. Аня в каждом письме просит взять ее в Петербург. Но и здесь ей будет несладко. Я привык к холостой жизни (Одоевцева).
В свою очередь, родственники Гумилева были Анной Николаевной недовольны. «Ася капризничала, требовала разнообразия в столе, а взять было нечего… Ася плакала, впадала в истерику…» (Сверчкова).
В краткие приезды в Петербург Анна Николаевна оказывалась в положении более чем двусмысленном: сидела за столом бок о бок со «второй хозяйкой дома», своей же лучшей подругой. Гумилев, вероятно, в их окружении выглядел заправским восточным двоеженцем — отсюда и разговоры о «шахстве».
Весной нарыв вскрылся. Аня совершила поступок, достойный дурно воспитанной не 14-летней, а 9-летней[167] девочки. «Чтобы получить от мужа лишние деньги, она писала ему, будто бы брала у Александры Степановны в долг, и теперь по ее «неотступной» просьбе должна ей возвратить. Оказалось, что все выдумки…» 18 мая Гумилев вынужден был на день выехать в Бежецк, чтобы забрать оттуда жену и дочь. Прощаясь, он (по словам Ахматовой) сказал матери: «Если Аня не изменится, я с ней разведусь».
Но он не развелся с ней. Более того, он (искупая свои вольные и невольные вины?) посвятил ей свою последнюю и лучшую книгу.
Николай Гумилев. Фотография М. С. Наппельбаума. Фрагмент одной из групповых фотографий участников кружка «Звучащая раковина», 1921 год
А Анна Ивановна больше никогда не видела сына.
Через несколько дней по приезде семьи Гумилев спешно покидает Преображенскую и переселяется в ванную Дома искусств.
— Можно с ума сойти, хотя я очень люблю свою дочь, — жаловался Гумилев. — Мне для работы необходим покой. Да и Анна Николаевна устает от работы и от возни с Леночкой.
В Диске нельзя было держать детей. То, как поступил Гумилев, поразило всех его знакомых:
Он отдал Леночку в один из детдомов.
Этим детдомом… заведовала жена Лозинского… Гумилев отправился к ней и стал расспрашивать, как живется детям в детдоме.
— Прекрасно. И уход, и пища, и помещение — все выше похвал, — ответила она…
— Я очень рад, что детям у вас хорошо. Я собираюсь привести вам мою дочку — Леночку…
Она всплеснула руками.
— Но это невозможно, Господи!
— Почему? Вы же сами говорили, что детям у вас прекрасно?
— Да. Но каким детям? Найденным на улице, детям пьяниц, воров, проституток. Мы стараемся для них все сделать. Но Леночка ведь ваша дочь (Одоевцева).
Мемориальная доска на доме в Бежецке, где в семье бабушки жил Лев Гумилев. Фотография 1990-х
И все же Гумилев отдал Леночку в этот парголовский детдом и сам пересказывал Одоевцевой свой разговор с Т. Б. Лозинской, дивясь тому, «как живучи буржуазные предрассудки».
Нет, Гумилев не был бы чужим в мире 20-х годов с коммунальными кухнями и коммунальными яслями. В конце концов, это был новый способ защиты людей умственного труда от тягот быта, как прежде — домашняя прислуга, повара и няньки.
Но знакомые, люди с «буржуазными предрассудками», были шокированы. Разумеется, всю вину они возлагали на Гумилева.
Вот дневниковая запись Чуковского (24 мая 1921 года):
Молодую хорошенькую женщину отправил с ребенком в Бежецк — в заточение, а сам здесь процветал и блаженствовал. Она там зачахла, поблекла, он выписал ее сюда и приказал ей отдать девочку в приют в Парголово. Она — из безотчетного страха перед ним — подчинилась… Я встретил их обоих в библиотеке. Пугливо поглядывая на Гумилева, она говорила: «Не правда ли, девочке там будет хорошо? Даже лучше, чем дома? Ей там позволили брать с собой в постель хлеб… У нее есть такая дурная привычка: брать с собой в постель хлеб… потом там воздух… а я буду приезжать… Не правда ли, Коля, я буду к ней приезжать…»
Конечно, Гумилев не был таким домашним тираном, как выглядит в этой записи, и Чуковский хорошо знал, как «процветал и блаженствовал» поэт в голодном городе: вместе блаженствовали. Несправедливо возлагать всю ответственность за противоречащий «буржуазным предрассудкам» поступок лишь на Николая Степановича — но несправедливо и упрекать лишь Анну Николаевну (как это делает Лукницкая), которая «считала для себя обременительным уход за ребенком». Хотя, конечно, ей очень нравилось в Диске — «хозяйством заниматься не надо, и с утра до вечера можно встретить столько знакомых, и все знаменитости» (Одоевцева). Поэт, «привыкший к холостой жизни», и инфантильная женщина — не лучшая пара. И уж конечно — неважные родители. Особенно в голодные годы. И особенно при отсутствии пылких взаимных чувств…
Кроме того, могли быть и другие обстоятельства, которые заставили Гумилева в мае спешно покинуть квартиру на Преображенской (где у него, впрочем, оставалась библиотека и где он временами уединялся с музой… и, сколько известно, не только с музой). Эти обстоятельства связаны с тем доселе смутным историческим сюжетом, который так трагически завершился 25 августа 1921 года в Бернгардовском лесу.
Глава одиннадцатая Герой, идущий на смерть
1
Трудно сказать, эти ли, только что помянутые обстоятельства, или мучительное нежелание делить какой бы то ни было кров с опостылевшей женой (бросить которую у него не хватало духа), или просто усталость от петроградских трудов заставили Гумилева в июне 1921 года предпринять совершенно бессмысленное в практическом плане путешествие на юг России, в Крым. Есть несколько более или менее вздорных предположений о цели этого путешествия — но нужно ли искать цель? Африка была на данный момент закрыта, Париж тоже — Крым был единственной возможной заменой, паллиативом странствий более дальних. И — не забудем, какие мучительные и трогательные воспоминания связаны были у Гумилева с Севастополем.
Еще в апреле Мандельштам познакомил Гумилева с неким Владимиром Александровичем Павловым — молодым человеком, служащим на флоте и пишущим стихи, «брюнетом в пенсне, с неприятным и резким голосом и сумбурной речью» (таким его увидел в 1923 году Лев Горнунг). Павлов был услужлив — мог доставать спирт, что в то время ценилось: начался НЭП, но сухой закон, введенный еще царем, никто не отменял.
Сергей Колбасьев, сентябрь 1918 года
Имя Павлова некоторые называли в связи с гибелью Гумилева. Ни подтвердить, ни опровергнуть ничего нельзя. КГБ даже в перестроечные годы не раскрывал имен доносчиков; в отношении Павлова (и уж явно несправедливо оговоренного Георгием Ивановым Колбасьева) прозвучало вроде бы твердое «нет».
Павлов предложил отправиться в Крым с поездом А. В. Немитца, бывшего царского контр-адмирала, на короткий срок ставшего наркомвоенмором республики. Ехали через Украину — в Севастополь.
«Украина сожжена», — вздохнет Гумилев несколько недель спустя, в Москве. После двух лет Гражданской войны, Махно, Петлюры, Котовского, Буденного и пр., после десятков сражений и погромов — конечно. Но и Крым, в который он приехал, был страшным, поруганным местом. Здесь за годы войны сменилось несколько правительств — красные, белые, опять красные, автономные татары, опять белые (Врангель). Никто не был похож на ангела, но никто сверх меры и не свирепствовал; красные поначалу были не лучше и не хуже других. Самозваный «киммерийский царь» Максимилиан Волошин по мере сил защищал белых от красных и красных от белых. Сидя в своем коктебельском доме, он слагал свои знаменитые политические стихи, которыми равно восхищались красные и белые вожди и которые равно запрещала красная и белая цензура. Так продолжалось, пока Красная армия при участии Николая Тихонова не штурмовала Перекоп. Зимой и весной 1921 года начался местный Апокалипсис. По приказу коммунистического наместника, венгра-интернационалиста Белы Куна все оставшиеся в Крыму офицеры должны были зарегистрироваться — в обмен на гарантии безопасности. Затем все, кто имел неосторожность исполнить это распоряжение — по меньшей мере 20 тысяч человек, — были расстреляны.
Предстояло нечто еще ужаснейшее: страшный крымский голод, увековеченный в «Солнце мертвых» Шмелева, унесший 150 тысяч жизней, но это начиная с осени 1921 года. А летом — между расстрелами и голодом — уже послевоенный, уже нэповский Севастополь казался почти уютным. Гумилев посидел с приятелями в открытой ресторации, пофлиртовал с некой дамой, которая подарила ему розу. «Когда вышли из ресторана, Гумилев имел очень эксцентрический вид: в расстегнутой косоворотке и заломленной назад кепке, он шел, обмахиваясь розой, как веером». Еще Гумилев участвовал с новыми друзьями в облаве на каких-то бандитов (что твой молодой Багрицкий в тогдашней Одессе) и спас жизнь некоему инженеру Микридину, оказавшемуся поэтом. Конечно, он зашел к Инне Эразмовне Горенко и рассказал, что ее дочь замужем за замечательным человеком и замечательным ученым, «и вообще все прекрасно» (а что он еще мог сказать?); здесь узнал он о смерти Андрея Горенко. Это была смерть страшная, вызывающая мучительную жалость и досаду, — но житейская, человечная, принадлежащая давно минувшим мирным временам. У Андрея умер ребенок; он и жена решили покончить с собой — не могли жить. Он умер, жену спасли… Оказалось, что она беременна.
Из новых друзей Гумилева самым близким стал Сергей Колбасьев, 22-летний красавец (в его жилах текла итальянская кровь), бывший гардемарин, сражавшийся в Гражданскую войну на стороне красных — и соратниками, и противниками были его товарищи по Морскому корпусу. Эта ситуация, возможная лишь во время гражданской войны, порождала множество трагикомических ситуаций, запечатленных впоследствии Колбасьевым в его знаменитых морских рассказах. Но в 1921 году будущий прозаик-маринист начинал как поэт — и был горячим поклонником Гумилева.
Лейтенант, водивший канонерки Под огнем неприятельских батарей, Целую ночь над южным морем Читал мне на память мои стихи.Гумилев не был особенно избалован славой. В сущности, он впервые увидел в лицо «своего читателя», не принадлежащего к столичной литературной среде. А «читателю» хотелось угодить любимому поэту. И он нашел способ: издал «Шатер» (на «Огненный столп» у Гумилева уже был договор с «Петрополисом»). «Колбасьев совершенно кустарным способом издал эту книжку. Я не знаю, где он достал грубую бумагу, на которой она напечатана, а переплет он сделал из синей бумаги, которая шла на упаковку сахарных голов, их выдавали на матросский паек. Конечно, опечаток в этой книге было до черта» (Тихонов). Бумагу выдал Немитц. Благодаря его щедрости весь тираж (впрочем, более чем скромный — 50 экземпляров) был за одну ночь отпечатан во флотской типографии[168]. Весь этот тираж Гумилев по возвращении из Крыма раздарил друзьям и ученикам.
Гумилев взял Колбасьева (как и Микридина) с собой в Петроград, где тот вошел сперва в группу «Голубой круг», потом примкнул к «Островитянам». Именно враждой между «Островитянами» и Цехом (двумя фракциями гумилевцев) можно объяснить возведенную Г. Ивановым на Колбасьева клевету. Потом Колбасьев служил переводчиком в Афганистане (оттуда его выжил полпред Раскольников, на дух не переносивший все, связанное с Гумилевым), писал морские рассказы, одним из первых в СССР пропагандировал джаз (капитан Колбасьев в фильме «Мы из джаза» — это он) и погиб во время Большого террора.
Пока он взялся свозить Гумилева на катере в Феодосию. («Чудесно было… Во мне заговорила морская кровь»). В этот день в городе случайно оказался Волошин. Рукопожатие поэтов, случайно встретившихся в здании Центросоюза, чуть не закончилось новым вызовом на поединок — но об этом мы уже писали.
Так странно полупримирившись с Волошиным, Гумилев вернулся в Севастополь, а оттуда — не в адмиральском вагоне, а на обычном поезде — отправился в Ростов-на-Дону, где — еще одна приятная неожиданность! — обнаружил театрик, как раз поставивший «Гондлу». Актеры рады были встретить автора пьесы, а он одобрил их игру и в качестве как-никак начальствующего лица предложил им перебираться в Петроград. Согласования на сей счет на вполне официальном уровне велись в июле и увенчались успехом. Но увы! — когда ростовские актеры (среди них, между прочим, Г. Халайджиева — первая жена Евгения Шварца) достигли невских берегов, Гумилева в живых уже не было. «Гондла» в Петрограде имел успех, но шел недолго: публика слишком громко скандировала: «Автора!» Это справедливо сочли политической демонстрацией и спектакль запретили.
Потом — Москва, где Гумилев встречает навещавшую брата Одоевцеву и приехавших в столицу хлопотать о выезде за рубеж Сологуба и Чеботаревскую. В Москве НЭП уже ощущался вовсю. Столица стала заполняться народом. Питерские квартиры пустовали — в Москве уже начались «уплотнения». Московские поэты, тяготевшие к футуризму, петроградцев презирали (всех, кроме Одоевцевой, — стихи Тихонова до Москвы еще не дошли).
Гумилев выступил с чтением в «Кафе поэтов» на Тверской, 18. Стихи он подобрал неудачно — не под вкус здешней (в основном околоимажинистской) публики («Душа и тело», «Молитва мастеров», «Либерия»), и успеха на сей раз не имел совсем. «Молодые люди кокакинистического вида, девушки с сильно подведенными глазами, в фантастических шляпах и платьях» надменно слушали петербуржца. Та смесь начальственной бесцеремонности, веселой туповатости и наивного снобизма, которая доселе выделяет Москву среди всех городов мира, уже начала оформляться: трех лет столичного статуса на это хватило. Сергей Бобров, друг молодости Пастернака и Асеева, прерывал гумилевское чтение грубыми репликами, стихотворец Василий Федоров («тогдашний лит. заправила») называл его «третьесортным брюсенком», а Надежда Вольпин — «поэтом для обольщения провинциальных барышень» (она-то была барышней столичной — ее обольстил сам Есенин).
Но уже после чтения Гумилев обратил внимание на молодого человека, которого за колоритную внешность назвал Самсоном («Крепко пришитая к плечам голова, крупные черты лица, окаймленного черной бородой, чуть кривоватые под тяжестью тела, мускулистые, в обмотках, ноги» — Г. Лугин; Одоевцева же называет его «рыжим»… Вот и верь после этого мемуаристам!). Человек, как несколько недель назад Колбасьев, декламировал наизусть стихи Гумилева. Кожаная куртка не оставляла сомнений в роде занятий этого любителя поэзии. Но, когда тот подошел к Гумилеву и представился, поэт пришел в восторг[169]. Это был Яков Блюмкин, тот самый чекист-эсер, который 26 июля 1918 года застрелил германского посла Мирбаха, сорвав Брестский мир. В тот момент доблестному террористу было всего 18 лет. После изменения политической обстановки Блюмкин был помилован и принят в РКП. С осени 1920-го он учился на Восточном отделении Академии Генштаба. Учеба прерывалась на рубеже 1920–1921 годов командировкой в Персию: там Блюмкин опекал незадачливого народного вождя Кучук-хана, чей мятеж большевики попытались использовать в своих целях.
В 1922–1923 годы Блюмкин состоял «для особых поручений» при Троцком и стал горячим приверженцем харизматического председателя Реввоенсовета. Дальнейшая карьера этого незаурядного и преступного человека связана с внешней разведкой. Известно, что он работал в Палестине, во Внутренней Монголии… Впрочем, документальная биография Блюмкина еще не написана, а легенды, окружающие его имя, — одна выразительнее другой. Согласно одной из них, в ранней юности он состоял в банде Мишки Япончика, одесского Робин Гуда, ставшего прототипом Бени Крика… Согласно другой, кремлевские оккультисты послали Блюмкина в Тибет на поиски Шамбалы. Совсем уж странный, но вроде бы реальный эпизод — когда одесскому еврею Блюмкину удалось выдать себя за тибетского ламу, и Рерих, которого он сопровождал на «крыше мира», не распознал обмана.
Легендами окутана и смерть Блюмкина. В 1929 году он был расстрелян за тайные контакты с высланным Троцким — привез в Россию из Константинополя написанные химическим раствором письма опального вождя своим сторонникам. Но А. В. Азарх-Грановская в беседах с Дувакиным намекает на особые причины его казни. Об этих причинах она рассказывала в 1970-е годы нескольким лицам, в том числе поэту Елене Шварц. Вернувшись из-за границы, Блюмкин якобы отдал Грановской на хранение чемодан, который актриса после его гибели уничтожила. Там были документы, способные, будь они оглашены, изменить ход мировой истории. Речь идет о известной (увековеченной Ю. Трифоновым в «Другой жизни») легенде о сотрудничестве Иосифа Джугашвили с охранкой. Будто бы Блюмкин сумел найти «компромат» на вождя… Последняя легенда: чекист Блюмкин умер как заправский самурай — с именем сюзерена на устах. «Да здравствует Лев Троцкий!» — крикнул он, как рассказывают, перед расстрелом. Гумилеву бы это понравилось.
Блюмкин как-никак был одесситом, и его тянуло к поэтам, хотя эта тяга доставляла хлопоты. Нервные поэты позволяли себе неадекватные поступки — ну хоть тот же Мандельштам, однажды, как известно, в припадке отчаянной смелости вырвавший из рук Блюмкина расстрельные бланки с подписью и печатью Дзержинского, в которые подвыпивший чекист вписывал первые попавшиеся имена. У Блюмкина после этого были неприятности, а Мандельштам, опасаясь его мести, бежал из Москвы в Крым. И все-таки Яков Григорьевич любил поэтов. И некоторые поэты любили его. Гумилев, например, радушно ответил на его рукопожатие и сказал: «Я люблю, когда мои стихи читают воины и сильные люди». Но Ольге Мочаловой Гумилев передал свои слова иначе: «Убить посла невелика заслуга, но то, что вы стреляли среди белого дня, в толпе людей — это замечательно».
Человек, среди толпы народа Застреливший императорского посла, Подошел пожать мне руку, Поблагодарить за мои стихи.«Мои читатели» были написаны вскоре после возвращения из Москвы. Литературоведы догадались уже, что прообразом послужило Гумилеву стихотворение Кузмина «Мои предки», написанное в 1907 году, тоже верлибром, и уже упоминавшееся в самом начале нашей книги. Вот спор с собратом и приятелем: у того — предки, у Гумилева — читатели; там — «моряки старинных фамилий» (допустим, родственниками-моряками и сам Гумилев мог бы похвастаться) и «цветы театральных училищ», а у нас — и моряк (тоже, между прочим, «старинной фамилии» — род Колбасьевых был известен на флоте), и террорист, и конквистадор…
Много их, сильных, злых и веселых, Убивавших слонов и людей, Умиравших от жажды в пустыне, Замерзавших на кромке вечного льда, Верных нашей планете, Сильной, веселой и злой, Возят мои книги в седельной сумке, Читают их в пальмовой роще, Забывают на тонущем корабле.После встречи с Колбасьевым и Блюмкиным Гумилеву хотелось в это верить. В свою очередь советские историки литературы приводили эти строки в подтверждение «империалистической» природы гумилевского творчества, не зная (или забывая), что по крайней мере два из трех описанных поэтом «читателей» — люди советской службы, краснофлотец и чекист. Третий же, как мы помним, пытался создать эфиопский отдел Коминтерна.
Впав вдруг, как в юности, в романтическое ницшеанство, Гумилев забыл другие свои строки:
Ну, теперь мы увидим потеху! Эта лютня из финской страны, Эту лютню сложили для смеху, На забаву волкам колдуны. Знай же: где бы ты ни был, несчастный, В поле, в доме ли с лютней такой, Ты повсюду услышишь ужасный, Волчий, тихий, пугающий вой. Будут волки ходить за тобою И в глаза тебе зорко глядеть, Чтобы, занятый дивной игрою, Ты не мог, ты не смел ослабеть. Но когда-нибудь ты ослабеешь, Дрогнешь, лютню опустишь чуть-чуть И, смятенный, уже не успеешь Ни вскричать, ни взглянуть, ни вздохнуть. Волки жаждали этого часа, Он назначен им был искони, Лебединого сладкого мяса Так давно не терзали они.Это — «Гондла»…
Обаятельный Блюмкин был, конечно, из стаи волков. Волки заслушались песни поэта и окружали его плотным кольцом. Гумилев и не догадывался, насколько они близко.
В Москве был и Борис Пронин, бывший хозяин «Собаки». Он был вновь полон планов. Гумилев посетил его, обсуждал планы поэтических вечеров в Петрограде и Москве («Позовем Пастернака, он милый человек и талантливый поэт, а Сергей Бобров только настроение испортит»). В первый же день Гумилев заинтересовался Адалис (Аделиной Ефрон), юной поэтессой, официальной пассией Брюсова — и посетил ее во Дворце искусств, где она жила (это в Питере — всего лишь Дом, в Москве — Дворец; бывший особняк княгини Сологуб на Поварской). Поэтесса впустила поклонника к себе в комнату, но ночь они провели исключительно в возвышенных разговорах. Он был разочарован: «Адалис слишком человек. А в женщине так различны образы — ангела, русалки, колдуньи… У вас в Москве нет легенд, сказочных преданий, фантастических слухов…» Зато он встретил старую знакомую Ольгу Мочалову — гулял с ней по Москве, вдвоем и вместе со старым приятелем, священником-авиатором, бывшим поэтом Николаем Бруни (Ольга запомнила произнесенное где-то в дверях: «Сперва пройдет священник, дальше женщина и поэт»), пригласил к себе в пустое купе. Там они пили красное вино — потом, судя по всему, были близки. Мочалова со своей обычной скрупулезностью записала разговоры Николая Степановича — от рассуждений о стихах до любовных излияний и «скабрезностей» («о французских приемах, о случаях многократных повторений»).
По возвращении в Петроград Гумилев энергично занялся устройством Дома поэтов (или Клуба Союза поэтов, как он официально именовался) в Доме Мурузи. Ведь Диска как культурного центра больше не существовало. Гумилев нашел место в новой структуре даже для своего оставшегося без работы брата — Дмитрию Степановичу прочили место юриста и кассира. Нашли некоего нэпмана-стихотворца по имени Зигфрид Кельсон, который внес четыре миллиона рублей на ремонт здания, а взамен получил право открыть в новосозданном Доме поэтов буфет. Фактически Дом поэтов начал работать уже в первой декаде июля, официальное открытие намечалось на август. Уже 20 июля «Красная газета» писала:
В Москве на каждом углу какое-нибудь артистическое или поэтическое кафе. В Петрограде долгое время ничего подобного не было. Но вот к 4-й годовщине июльских дней в красном Петрограде открылся на Литейном «Клуб Союза поэтов»… Весь нерв клубной жизни — это пирожные. Пирожные на буфете, на столиках, на блюдцах, на зубах жующих и чавкающих поэтов… В клубе поэтов выступают Гумилев, Георгий Иванов, Нельдихин (sic) и другие поэты — все противники пролетарской поэзии…
Уже после смерти Гумилева состоялся скандал: Кельсон был исключен из числа членов-учредителей. Члены комитета обвиняли стихотворца-буфетчика в денежной непорядочности (тот, по их словам, продавал в Доме поэтов несвежие пирожные и черствые булки, не распроданные в также принадлежавшем ему буфете Театра Буфф) и в бестактном и заносчивом поведении (в частности, возмущение вызвало такое его публичное высказывание: «…Программа не выполнена, так как произошло три несчастья — арестован Гумилев, умер Блок — и… перегорело электричество»)[170]. Суд, состоявшийся в конце октября, принял, однако, сторону Кельсона. Оцуп и Иванов за «мошенничество и самоуправство» были приговорены к трем месяцам заключения условно. Вскоре Дом поэтов прекратил свою деятельность. Эта история дала повод для слухов, преобразивших ее до неузнаваемости. Ахматова, скажем, рассказывала Лукницкому, что Оцуп требовал «взятки» с буфетчика за знакомство с Гумилевым.
С самой Анной Андреевной Гумилеву пришлось еще дважды повидаться.
9 июля он зашел к ней рассказать о смерти ее брата и встрече с ее матерью. Его сопровождал Георгий Иванов. Гумилев напомнил ей о вечере поэтов, который издательство «Петрополис» через два дня устраивало в Доме искусств и в котором оба они должны были участвовать, и пригласил на открытие Дома поэта.
АА отказалась, сказав, что она совсем не хочет выступать, потому что у нее после известия о смерти брата совсем не такое настроение. Что в вечере «Петрополиса» она примет участие только потому, что обещала это, и что зачем ей идти в Дом Мурузи, где будут веселиться и где ее никто не ждет (Acumiana).
Говорили очень холодно: Ахматова обиделась, что Гумилев пришел рассказать горестное известие не один, а с Ивановым, и только потом поняла, что он не знал об отсутствии Шилейко и не хотел дать тому повод для ревности. Это происходило на Сергиевской улице, где Ахматова и Шилейко тогда жили. «Лестница была совсем темная, и, когда Николай Степанович стал спускаться по ней, АА сказала: «По такой лестнице только на казнь ходить…»
На вечере «Петрополиса» Ахматова выступила, и с успехом (газеты хвалили ее чтение и ругали Гумилева). Дом поэтов Гумилев открыть не успел. А ведь какое представление было задумано — «Взятие Фиуме». Это был, по-нынешнему, перформанс на тему активного участия поэта в истории. Самочинный захват маленького далматинского городка Фиуме в 1919 году был самым ярким эпизодом политической деятельности Габриэля Д’Аннунцио. 27 декабря 1920 года он вынужден был капитулировать перед частями итальянской же регулярной армии: Италия заключила договор с Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев, а на спорной территории было создано Свободное государство Риека. Два года спустя Бенито Муссолини, друг Д’Аннунцио, но не поэт, а человек дела, присоединил-таки Фиуме к Италии — на четверть века.
Вероятно, и сам Гумилев чувствовал себя в этот момент не только поэтом, но и «деятелем». Пример Д’Аннунцио вдохновлял его давно. Увы, ничто не говорило ему в эти дни, как скоро и как трагически будет он наказан за попытки участвовать в практической жизни. Никаких грустных предчувствий, видимо, не было в его душе. После крымского путешествия силы и воля вернулись к нему. «Он был здоров, полон сил и планов, материально и душевно все складывалось для него именно так, как ему хотелось… Прибавлю, что в эти теплые августовские дни Гумилев был влюблен — и это была счастливая любовь» (Г. Иванов. «Посередине странствия земного»).
О своей счастливой любви Гумилев говорил и Одоевцевой:
Обыкновенно, когда я влюблен, схожу с ума, мучаюсь, терзаюсь, не сплю по ночам, а сейчас я весел и спокоен. И даже терпеливо ожидаю «заветный час свиданья». Свиданье состоится в пятницу, пятого августа, на Преображенской, 5. И, надеюсь, все пройдет на «пять».
Но вот еще один источник — «Курсив мой» Нины Берберовой. Берберова, в течение следующих десяти лет невенчанная жена Ходасевича, неплохой прозаик (особенно прозаик-документалист), посредственная поэтесса, редкая красавица, была щедро наделена волей, высокомерием, язвительностью, способностью к афористической характеристике человека или явления — качествами, которые большинство людей путает с умом. В 1921 году ей было двадцать лет. Она родилась в Петербурге (в гимназии училась у Татьяны Адамович), потом, бежав с семьей в дни Гражданской войны на юг России, — в Донском университете в Ростове-на-Дону. В ее воспоминаниях много фактических неточностей — так, она говорит, что была принята в Союз поэтов в один день с Тихоновым. Но дата приема Берберовой в Союз — 25 июля 1921 года. Тихонов же состоял в Союзе с осени 1920-го; Нина в это время еще не вернулась в Петроград.
Нина Берберова, начало 1920-х
Главное же в воспоминаниях Берберовой о Гумилеве — описание назойливых и тщетных ухаживаний за ней мэтра. Берберова неприступна. Она отказывается принять купленные Гумилевым для нее книги — и он швыряет их в Неву.
Затем наступили два дня, 31 июля и 1 августа, когда мы опять ходили в Летний сад, и сидели на гранитной скамье у Невы, и говорили о Петербурге, об Анненском, о нем самом, о том, что будет со всеми нами. Он читал стихи. Под вечер, проголодавшись, мы пошли в посольскую кофейню у Полицейского моста, в том доме на Невском, где когда-то был магазин Треймана… Там мы пили кофе и ели пирожные и долго молчали… Мне он мгновениями казался консервативным пожилым господином, который, вероятно, до сих пор иногда надевает фрак и цилиндр.
Членский билет Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов на имя Н. Н. Берберовой, подписанный Н. С. Гумилевым и Г. В. Ивановым, 1920–921 годы Публикуется впервые по фотокопии, предоставленной А. Б. Устиновым (Сан-Франциско)
Прислонясь к одной из колонн, он положил мне руку на голову и провел ею по моему лицу, по моим плечам.
— Нет, — сказал он, когда я отступила, — вы ужасно благоразумная, взрослая, серьезная и скучная. А я вот остался таким, каким был в двенадцать лет. Я — гимназист третьего класса, а вы со мной играть не хотите.
Это прозвучало делано. Я ответила, что я и в детстве-то не очень любила играть и теперь страшно рада, что мне не двенадцать лет.
Я оставила его в колоннаде недовольного и злого.
После «лекции» Гумилев предложил поиграть студентам в жмурки, и все с удовольствием стали бегать вокруг него, завязав ему глаза платком. Я не могла заставить себя бегать со всеми вместе… но я боялась, что мой отказ покажется им обидным.
Он долго не отпускал меня, наконец мы вышли и через Сенатскую площадь пришли к памятнику Петру Первому, где долго сидели, пока не стало темно. И он пошел провожать меня через весь город. Я не знала, на что решиться: дать всему этому растаять постепенно… или же сказать ему, чтобы он придумал для наших отношений другой тон и другие темы.
Я видела, что моя дорога внезапно скрестилась с человеком далекого прошлого, который не только не понимал свое время, но и не хотел его понять, а заодно не понял и меня… Зачем я встретила его? — думала я. Зачем он говорил вещи, от которых меня коробило, и тоном, от которого все во мне сжималось?
Опасно самомнение людей, считающих, что уж они-то «поняли свое время». В данном случае «человек далекого прошлого» был любимцем петроградской литературной молодежи (в том числе красной), и его стихам еще лет двадцать пять напропалую подражали советские поэты. Но любопытнее другое: противоречие между действиями, которые Берберова совершает, и чувствами, которые она себе приписывает. В самом деле, забавная ситуация: девушка целые дни проводит со своим поклонником… и постоянно твердит, как он ей неприятен. Если кому-то этого недостаточно, то тот факт, что Нина Берберова после ареста Гумилева отнесла в тюрьму передачу (яблочный пирог), — хотя бы этот факт убеждает: «счастливая любовь» была к ней, и в пятницу 5 августа на Преображенской Гумилев именно с ней ждал свидания.
Она пыталась самой себе и окружающим перетолковать эту историю по-другому. Ей не хотелось вспоминать об этом эпизоде своей жизни, а не вспоминать она не могла, потому что к ней — так уж вышло! — обращено последнее дошедшее до нас стихотворение поэта.
Как странно подумать, что в мире Есть кто-нибудь, кроме тебя, Что сам я не только ночная Бессонная мысль о тебе.2
Год спустя Берберова навсегда уехала из России с Владиславом Ходасевичем — сверстником Гумилева, поэтом, который по принципу отношения к слову был, может быть, ближе всех ему… А по мировосприятию — дальше всех. Впервые он увидел Нину как раз играющей в жмурки с другими «гумилятами». Ходасевич, как видно из его воспоминаний, не то чтобы не любил, а скорее не понимал Гумилева, мерил его брюсовской меркой. Но есть в его очерке место, от которого сжимается сердце:
В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду, 3 августа, мне предстояло уехать… Накануне отъезда пошел я проститься кое с кем из соседей по Дому искусств. Уже часов в десять я постучал к Гумилеву. Он был дома, отдыхал после лекции…
И вот как два с половиной года назад меня удивил слишком официальный прием со стороны Гумилева, так теперь я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу… Мне нужно было еще зайти к баронессе В. И. Икскуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз, когда я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать: «Посидите еще». Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилева часов до двух ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Федоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго — «по крайней мере до девяноста лет»…
До тех пор собирался написать кучу книг. Упрекал меня:
— Вот мы однолетки с вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю — и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.
И он, хохоча, показывал, как через пять лет я буду, сгорбившись, волочить ноги и как он будет выступать «молодцом».
Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда наутро, в условленный час, я подошел к дверям Гумилева, мне на мой стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сказал мне, что Гумилева арестовали и увезли. Итак, я был последним, кто видел его на воле.
Потрясающая сцена из романа или фильма (почему автор «Некрополя» не писал художественную прозу?), но…
Одоевцева утверждает, что Гумилева арестовали 3 августа не утром, а вечером: когда он вернулся домой, его ждала засада. В засаду попали и случайные гости поэта, в том числе Лозинский, — их задержали, а потом выпустили.
Анна Гумилева в разговоре с Лукницким описывает арест мужа так:
6 августа н. ст. — в день святой Анны… Встала в 10 часов утра. Я должна была уехать за город к дочери… Я оставила ему записку, уезжая. Когда я приехала, в 11 часов вечера я была дома, мы думали: кипятить чай или нет. Чая не пили. Он стал ложиться, попросил Жуковского…[171]
И в этот момент за ним пришли.
Как ни странно, эти рассказы поддаются совмещению. Во-первых, в РСФСР действовало «декретное время», сдвинутое не на один час, как ныне, а на три часа против астрономического. Люди могли по привычке считать часы «по-старому». Одиннадцать вечера как раз соответствуют двум часам ночи. Значит, Ходасевич был не последним, кто видел Гумилева на воле: последней была все же поздно вернувшаяся из Парголова жена. Дату она, видно, просто перепутала — бестолковая была женщина.
Засаду поставили, вероятно, не до, а после ареста. Кроме Одоевцевой, про нее упоминает в своих записных книжках Александр Бенуа: «Арестован Гумилев. В его комнате в Доме искусств — засада, в которую уже угодил Лозинский и еще кто-то неизвестный. Говорят, что он обвинен в принадлежности к какой-то военной организации. С этого дурака стало!»[172] Запись датирована 6 августа. К этому времени слух об аресте Гумилева разнесся в городе, а Лозинский, видимо, уже был на свободе.
Записка Анны Николаевны сохранилась:
Дорогой Котик конфет ветчины не купила, ешь колбасу не сердись. Кушай больше, в кухне хлеб, каша, пей все молоко, ешь булки. Ты не ешь и все приходится бросать, это ужасно.
Целую
Твоя Аня.Этот архиважный документ, вместе с планом подборки стихов для антологии Гржебина, счетами на продукты для банкета в честь открытия Дома поэтов и т. д., был изъят при аресте и сохранился в материалах дела.
4 августа Гумилева не дождался Юрий Анненков, который должен был писать его портрет. А 5 августа, в пятницу, не состоялось свидание на Преображенской.
В тюрьме Гумилев якобы читал Евангелие и Гомера, а в не сохранившемся письме к жене он сообщал, что «пишет стихи и играет в шахматы». Записка на адрес Дома литераторов дает, однако, более суровую и приземленную характеристику условий его заключения; поэт просит прислать: «1) постельное и носильное белье, 2) миски, кружку и ложку, 3) папирос и спичек, чаю 4) мыло, зубную щетку и порошок, 5) ЕДУ. Я здоров. Прошу сообщить об этом жене». Впрочем, записка эта, написанная 9 августа, дошла до адресатов лишь через 15 дней — ровно за день до смерти поэта. Анна Николаевна побоялась нести в тюрьму передачу, просила сделать это гумилевских учениц, уверяя, что для них это безопаснее. Ей этого не забыли до конца жизни.
Собственно, ничего удивительного в аресте одного из интеллигентов не было (на Гороховую таскали даже А. Ф. Кони), и литературная общественность не сразу всполошилась. Правда, 5 августа в ЧК было подано ходатайство от имени Председателя Петроградского отдела Всероссийского Союза писателей А. Л. Волынского, товарища председателя Союза поэтов (председатель-то и был арестован) Лозинского, председателя коллегии по управлению Дома литераторов Харитона, главы Пролеткульта А. Маширова-Самобытника и персонально от М. Горького — об освобождении Гумилева под их поручительство.
А 7 августа после многомесячных мучений умер Блок. Его многолюдные и скорбные похороны стали роковым, этапным событием в истории петербургской культуры. Гумилев не держал обид на «Гаэтана». Он знал, что Блок тяжело болен, и, вероятно, сострадал ему вместе со всеми. В июле он говорил Георгию Блоку, литературоведу, двоюродному брату поэта, — с прежней интонацией и почти прежними словами: «Это прекраснейший образчик человека. Если бы прилетели к нам марсиане и попросили показать им человека, я бы только его и показал — вот, мол, что такое человек…» (Почти то же самое он, впрочем, несколькими годами раньше говорил о Лозинском.)
Неизвестно, узнал ли он о кончине Блока. Но из-за всеобщего горя на некоторое время стало не до арестованного Гумилева. О нем вспомнили уже после блоковских похорон.
Никаких сведений о том, что происходит с Гумилевым на Шпалерной, у собратьев по перу не было. Один из руководителей Дома литераторов, Н. Волковысский, оставил колоритные воспоминания о предпринятом уже после 20 августа визите группы писателей к председателю Петроградского ЧК Борису Александровичу Семенову. Чекист
производил впечатление скорее не рабочего, а мелкого приказчика из мануфактурного магазина. Среднего роста, с мелкими чертами лица, с коротко по-английски подстриженными рыжеватыми усиками и бегающими, хитрыми глазками, он, разговаривая, делал рукой характерные округлые движения, точно разворачивал перед покупателем куски сатина или шевиота.
— Что вам угодно?
— Мы пришли просить за нашего друга и товарища, недавно арестованного — Гумилева.
— Гумилевича?[173]
— Нет, Гумилева, поэта, Николая Степановича Гумилева, известного русского поэта… Мы крайне поражены его арестом и просим о его освобождении. Гумилев никакой политикой не занимался, и никакой вины за ним быть не может.
— Напрасно-с думаете. Я его дела не знаю, но поверьте, это может быть и не политика-с. Должностное преступление или растрата денег-с.
— Позвольте? Какое должностное преступление? Какие деньги? Гумилев никаких должностей не занимает[174]: он пишет стихи и никаких денег, кроме гонорара за стихи, не имеет.
— Не скажите-с, не скажите-с… бывает… бывает… и профессора попадаются, и писатели… бывает-с… преступление по должности, казенные деньги…
Раз у нас появился Семенов, дадим о нем небольшую справку: уроженец Иркутской губернии, русский, 1890 года рождения, окончил один курс техникума, член партии с 1907-го, подвергался арестам, ссылке, участвовал в Гражданской войне — член РВС 7-й армии… И такой человек говорит со словоерсами и употребляет такие выражения, как «казенные деньги»? Сомнительно. Революция породила свой жаргон, к 1921 году уже вошедший в плоть нового чиновничества.
Наведя справки у подчиненных, Семенов счел нужным сообщить гостям только, что Гумилев «действительно арестован» и находится под следствием, которое закончится «через недельку», — и разрешил по истечении этого срока позвонить себе.
Почуяв недоброе, писатели «заметались, телеграфировали в Москву». Слухи о неком заговоре, который раскрыла ЧК, давно ходили по городу. Уже были арестованы сотни человек. Теперь имя Гумилева упоминалось рядом с именем Таганцева, которого называли главой заговорщиков. Нужно было спасать поэта… Но за неделю ничего сделать и даже узнать не удалось. Семенов, которому в назначенный срок позвонили, на заданный вопрос ответил коротко: «Послезавтра прочитаете в газете».
Значит, «через недельку» наступило 29 августа. Гумилева уже четыре дня не было в живых…
К Семенову как будто ходила и делегация Пролеткульта — стихотворец Илья Садофьев, автор книги «Динамо-стихи», и другие. Со «своими» чекисты были более откровенны и про «должностное преступление» не толковали. Но сказали, что ничего не могут поделать — поэт на допросах ведет себя вызывающе, оговаривает себя, преувеличивает свою вину, говорит, что в случае победы заговора стал бы «командующим петербургским военным округом». Так родилась одна из легенд, связанных с арестом и гибелью Гумилева.
Слухи подтвердились, и обещание Семенова было исполнено. Всю вторую и третью страницы газеты «Петроградская правда» за 1 сентября 1921 года занимали материалы о «раскрытии контрреволюционного заговора».
Объединенные организационными связями и тактическим объединением своих центров, находящихся в Финляндии, белые организации представляли собой единый заговорщицкий фронт, готовивший вооруженное восстание в Петрограде к моменту сбора продналога.
Длинный и довольно хаотический текст, смутно характеризовавший структуру заговора (в центре которого — некая «Петроградская боевая организация») и подробно — замысленные (но так и не осуществленные) злодейства (убийства руководителей Северной коммуны, восстания в Петрограде, Рыбинске и Бологом — с целью отрезать город от Москвы и т. д.), завершался списком расстрелянных. Их 61 человек. Под номером один — Владимир Николаевич Таганцев, профессор, секретарь Сапропелевого комитета, глава ПБО. Под номером тридцать — «Гумилев Н. С., 33 л. (на самом деле 35 лет. — В. Ш.), поэт, филолог, член коллегии издательства «Всемирная литература», беспартийный, б. офицер. Содействовал составлению прокламаций. Обещал связать с организацией в случае восстания группу интеллигентов. Получал от организации деньги на технические надобности».
3
Смерть Гумилева породила несметное множество легенд и версий.
Согласно некоторым из них, он и впрямь был героическим (или демоническим) заговорщиком, пламенным монархистом и одним из вождей контрреволюционного подполья. Эта точка зрения была распространена, с одной стороны, в эмиграции, с другой — в официальных советских кругах. Никто из ее сторонников не видел, вероятно, «Петроградской правды» и не знал, какие жуткие преступления («содействовал составлению прокламаций», «обещал связать», «получал деньги») инкриминировались поэту. Хотя Михаил Зенкевич, акмеист и член двух Цехов, не видеть ее не мог. И однако в его романе «Мужицкий сфинкс» действует Гумилев — заправский заговорщик, дающий инструкции террористу Лене Каннегиссеру и представляющий своих товарищей по подполью самому Николаю II. Конечно, это фантасмагория, коллаж, намеренное смешение разновременных событий и пр. И все-таки, насколько же легко близкие Гумилеву люди верили в его выдающуюся подпольную роль!
Другие (в основном советские либералы начиная с 1960-х годов) утверждали, что заговор был, но поэт в нем не участвовал, или почти не участвовал: он был оговорен или оговорил себя. Здесь была простая тактическая цель: добиться реабилитации поэта и разрешения на издание его произведений. Лукницкому в 1967 году это чуть не удалось.
Третья версия заключается в том, что заговора и вовсе не было, что он был целиком сфабрикован ЧК. Эта последняя точка зрения, тоже имевшая хождение с 1960-х годов и широко распространившаяся в дни «перестройки», является уже более десяти лет официальной: она зафиксирована в заключении Государственной прокуратуры от 29 июля 1992 года:
Петроградской боевой организации как таковой не существовало, она была искусственно создана следственными органами из отдельных групп… занимавшихся переправкой денег и ценностей за границу и переправкой людей, желающих эмигрировать из России[175].
Результат — посмертная реабилитация всех «таганцевцев» (Гумилев уже был реабилитирован годом раньше). Мнение о таганцевском деле как о полностью сфабрикованном (причем по заданию «с самого верха») выражено в книге Г. Е. Миронова «Начальник террора» (1993) и во множестве газетных статей.
Где же правда?
Дать исчерпывающий ответ на вопрос до сих невозможно. Причина кажется фантастической: дело до сих пор закрыто. Не потому, скорее всего, что что-то в нем спустя почти столетие может представлять некую угрозу для нынешних властей или каких-то частных лиц. Вероятно, рассекречивание 383 томов требует от архивистов ФСБ непомерных для них технических усилий. Впрочем, такая же ситуация и со многими другими делами 1920-х годов.
В распоряжении большинства исследователей до сих пор были лишь выписка из дела, составленная в 1991 году Генеральной прокуратурой РСФСР, и копии четырех томов. Три из них касаются главы организации, Таганцева, и были предоставлены для ознакомления его сыну. Четвертый относится непосредственно к Гумилеву: до него удалось добраться Лукницкому.
Начнем сначала. Кто такой Владимир Таганцев? Его отец, выдающийся правовед, академик Николай Степанович (полный тезка Гумилева!) Таганцев (1843–1923), пользовался уважением даже у большевиков. Его многочисленные труды переиздавались и переиздаются по сей день; один из них, по иронии судьбы, — «О пределах карательной деятельности государства». Владимир, родившийся в 1890 году, был младшим и поздним сыном. Специалист по экономической географии, он в последние годы жизни работал в комитете, занимавшемся проблемами использования в качестве удобрения особого сорта ила — сапропеля. К тридцати одному году он успел стать не профессором, а лишь доцентом: чекисты завысили его ученое звание, должно быть, для важности.
Таганцев был арестован в последних числах июня в Вышнем Волочке, куда поехал в командировку. Первоначально ему вроде бы инкриминировали лишь незаконное хранение крупной денежной суммы. Возможно, это было уловкой. 1 июля была арестована жена Таганцева, 27-летняя Надежда, мать двоих детей. Академик Таганцев и его супруга были взяты под домашний арест.
В. Н. Таганцев. Так выглядел глава заговорщиков. Гумилев, вероятно, никогда его не видел, 1910-е
Между тем еще 30 мая — как раз накануне отъезда Гумилева в Крым — при нелегальном переходе финской границы был убит некто Юрий Павлович Герман. При нем были обнаружены (согласно книге Миронова) частное письмо от Бюро по защите прав русских за границей, статья С. Ухтомского «Музеи и революция» и пр. Однако в выписке из дела сказано, что при Германе были также листовки (по тысяче экземпляров каждая):
1. «Граждане! — о расстреле коммунистами лучших рабочих».
2. «Крестьяне, комиссары отбирают у вас весь хлеб, обещают отдать, не отдадут, заплатят пулей».
3. «Большевики распинают Россию».
В деле оригиналов этих листовок (и этих писем), судя по всему, нет. На первый взгляд это может служить подтверждением того, что их и не было никогда — весь заговор сфабрикован. Но зачем было чекистам хранить вещественные доказательства? Им ведь не требовалось доказывать свои обвинения перед судом — судом они сами и были, а ответственность они несли лишь перед собственным начальством, которое вдаваться в бумажные дела не любило и уж за чрезмерную суровость точно никого не карало. Этим же объясняется чудовищная неряшливость, с которой велись протоколы. Следователи постоянно путают имена-отчества своих подопечных (так, Гумилев в некоторых документах именуется Николаем Станиславовичем), даты их рождения и т. д. Обычное дело в 1937 году, но в 1921-м количество арестованных было все же на несколько порядков меньше.
Таганцев сначала молчал и сотрудничать со следствием отказывался. Отец его тем временем написал письмо Ленину с просьбой, во-первых, смягчить участь сына, во-вторых, вернуть отобранные при обыске лично ему, академику Таганцеву, принадлежащие вещи. 17 июля Ленин пишет Дзержинскому: «Очень просил бы рассмотреть как можно скорее заявление в обеих его частях…» Дзержинский отвечает:
Питерское ЧК дало распоряжение — немедленно вернуть вещи Таганцеву. Таганцев Владимир Николаевич — активный член террористической (правой) организации «Союз Возрождения России», связывающей и организующей матросов из Кронштадта в Финляндию, взорвавшей для опыта памятник Володарскому. Непримиримый и опасный враг Советской власти. Дело большое и не скоро закончится. Буду следить за ним.
Два дня спустя перед Лениным за Таганцева ходатайствовала его тетка, врач А. Кадьяк. Эта дама была личной знакомой Ленина, лечила его, отказывать ей в лицо ему было неудобно, и вождь просил своего секретаря Л. Фотиеву «написать ей: что я письмо прочитал, по болезни уехал и поручил Вам ответить: Таганцев так серьезно обвиняется и с такими серьезными уликами, что освободить его сейчас невозможно».
Ленин еще пару раз выражал пожелание смягчить участь отдельных обвиняемых (например, Тихвинского как активного сотрудника Сапропелевого и Нефтяного комитетов), но особо на своих ходатайствах не настаивал. Это существенно, поскольку имела хождение (вплоть до «перестроечного» времени) легенда о том, что Ленин помиловал Гумилева, но бумага была задержана некими злодеями и пришла уже после расстрела поэта. Восходит она к Горькому, который любил сочинять подобные истории — и сам же через какое-то время начинал в них верить. Это позволяло этому не способному на открытый цинизм человеку оправдывать свою дружбу (или по крайней мере союзничество) с большевиками.
С другой стороны, существует свидетельство А. Э. Коблановского, секретаря Луначарского:
Однажды в конце августа 1921 г. около 4 часов ночи раздался звонок. Я пошел открывать дверь и услышал женский голос, просивший срочно пустить к Луначарскому. Это оказалась известная всем член партии большевиков, бывшая до революции женой Горького, бывшая актриса МХАТа Мария Федоровна Андреева. Она просила срочно разбудить Анатолия Васильевича… Когда Луначарский проснулся… она попросила позвонить Ленину. «Медлить нельзя. Надо спасать Гумилева. Это большой и талантливый поэт. Дзержинский подписал приказ о расстреле целой группы, куда входит и Гумилев. Только Ленин может отменить его расстрел»…
Когда Ленин взял трубку, Луначарский рассказал ему все, что только что узнал от Андреевой. Ленин некоторое время молчал, потом произнес: «Мы не можем целовать руку, поднятую против нас». — И положил трубку.
К этому рассказу мы еще вернемся.
Итак: 21–22 июля доцент Таганцев предпринял в камере попытку самоубийства. Его спасли… И уже через несколько дней он стал давать показания.
Почему?
Именно в этот момент на сцене появляется новый человек — Яков Саулович Агранов.
Дадим досье и на него: настоящая фамилия — Соренсон, уроженец Могилевской губернии, еврей, сын лавочника, окончил четыре класса городского училища, работал конторщиком. Член партии с 1912 года, подвергался арестам и ссылкам (в Енисейскую губернию)… До этого момента биография очень похожа на биографию Семенова. Самоучка-полуинтеллигент из провинции, с подростковых лет прибившийся к большевикам. Еврейское мещанство в черте оседлости было, конечно, грамотней великорусского мещанства Сибири, но, с другой строны, техникум — это повыше классом, чем городское училище… Правда, Янкл Соренсон очень усердно занимался самообразованием. При аресте в 1915 году у него было найдено множество самых разных книг — от Токвилля до Леонида Андреева.
И вдруг в 1918 году происходит карьерный скачок — бывший конторщик из Полесья, красный чиновник губернского масштаба волей судеб становится секретарем Совнаркома. В 1919-м — новое назначение, на должность с очень внушительным названием: особоуполномоченный Особого отдела ВЧК…
Весной 1921 года Агранов участвовал в расследовании Кронштадтского мятежа. Теперь он был снова командирован в Петроград. Почему? В ВЧК сочли, что дело — не из совсем обычных?
По многим свидетельствам, Агранов пообещал Таганцеву (от имени Дзержинского), что никто из его сподвижников не будет казнен. То, что Владимир Николаевич поверил этим заверениям, само по себе свидетельствует о степени его политической и человеческой наивности. Судя по всему, обещан был и гласный суд. Таганцев, видимо, хотел воспользоваться возможностью высказать свои взгляды публично.
Есть сведения и о том, что в камеру к Таганцеву был подсажен провокатор Александр Опперпут (личность с фантастической биографией, двойной перебежчик и тройной агент). Вероятно, давление оказывалось и через него.
Итак, Таганцев стал говорить… Именно на его «противоречивых и неконкретных показаниях» и было основано обвинение, как гласит заключение прокуратуры еще от 27 апреля 1982 года (когда дело впервые взялись пересматривать). В принципе, этого было бы и в те времена достаточно для отмены приговора и реабилитации. Прокуроры и чекисты-андроповцы, которым приходилось действовать в условиях стабильной юстиции, выдвигать обвинения против диссидентов перед послушным, но все же формально самостоятельным судом и при этом спорить с настоящими адвокатами, были, должно быть, в ужасе от юридической небрежности коллег из 1921 года.
Конечно, беспристрастный суд не осудил бы Таганцева и его подельников, в том числе Гумилева, на основании тех данных, что представило следствие. Но суд потомства отличается от суда уголовного.
С современной точки зрения, участвовать в заговоре против большевиков нисколько не стыдно и не преступно; стыдно и преступно помогать ЧК в фабрикации дела против невинных людей. «Реабилитируя» Таганцева, прокуратура на деле выдвинула против него тяжкое обвинение. Справедливо ли оно?
Итак, что же сказал Таганцев о целях и сути своей организации?
Мы видели начавшуюся апатию, тоску изуверившихся людей… и решили употребить все наши силы на борьбу с победителями. Мы знали, что воинственное настроение наблюдается среди крестьянства в разных губерниях… Явилась мысль — о необходимости взять в руки и связать такие движения и перенести их на север, в Великороссию.
После завершения Гражданской войны и неудачи интервенции надежды многих противников большевизма были связаны с крестьянскими бунтами. Мелкие и не очень мелкие восстания («антоновщина» на Тамбовщине и т. д.), происходившие по всей России, виделись им началом нового «пугачевского бунта», который сметет Ленина. Такие надежды высказывал, в частности, Милюков, с которым на этой почве резко разошелся В. Д. Набоков.
В Петрограде тоже зрело недовольство, в том числе среди рабочих. В январе 1921 года в городе начались «волынки» — рабочие выходили к станкам, но так и не приступали к работе. Это была новая, более гибкая форма борьбы. В конце феврале — начале марта пошли уже собственно забастовки, сопровождавшиеся уличными демонстрациями с выдвижением политических лозунгов (прямые тайные выборы, многопартийная система, «раскрепощение личности», свобода торговли и т. д.). 25 февраля в городе было объявлено военное положение, но открыто применить силу против рабочих власти боялись по идеологическим причинам. Однако к началу марта, как только в столицу подвезли продовольствие и топливо и стали распределять его по заводам, волна протеста схлынула, так и не приведя (как в 1905-м или 1917 году) к общенациональной революции. К 11 марта все предприятия города уже работали. Но в начале марта восстал Кронштадт. Ирина Одоевцева характеризует настроение петроградской интеллигенции в дни с 1 по 18 марта как «пытку надеждой». Только на матросскую братву, которая во многом и привела-то большевиков к власти, надеялись ныне те, кто ненавидел ленинский режим. Но командарм Тухачевский взял крепость штурмом и, в острастку и поучение прочим, расстрелял половину пленных.
В центральном руководстве большевиков накануне (в конце 1920-го — начале 1921-го) тоже намечался раскол. Но (цитируя показания Таганцева) «мы с удивлением увидали, что перед лицом надвинувшейся опасности наблюдалось быстрое сплочение рядов только что ссорившихся предводителей РКП. Усмирился Троцкий, успокоилась рабочая оппозиция…». В конце концов был достигнут на какое-то время консенсус — все осознали необходимость перехода к НЭПу.
Очевидно, что в этой обстановке в Петрограде не могло не существовать политических кружков, связанных между собой, но составлявших скорее сетевую, чем иерархическую структуру. Одним из них был кружок Таганцева, возникший еще в 1919 году. Четкого названия у него не было («Петроградская боевая организация» — скорее плод творчества чекистов). Программа была, если судить по словам Таганцева, довольно умеренной: советы предполагалось на первое время сохранить (без большевиков), Красную армию — тоже, о земельной реституции речи не было: вся помещичья земля отходила к крестьянам… Все это — в сочетании с политической свободой и частно-государственной экономикой.
О чем-то в этом роде мечтали и говорили многие. Особенностью таганцевской группы было то, что, кроме Таганцева и подобных ему людей, таких как профессор-финансист Н. И. Лазаревский, профессор-нефтяник М. П. Тихвинский или уже упоминавшийся скульптор и музейный работник С. А. Ухтомский, занимавшихся в основном проектами «обустройства России», в нее входило и несколько «людей дела». Это были прежде всего бывшие офицеры Ю. П. Герман и подполковник В. Г. Шведов (Вячеславский).
Сам Таганцев «человеком дела» отнюдь не был. Вот как характеризуют его чекисты: «Политические взгляды Таганцева расплывчатые и не цельные, к чисто практической работе не был способен, потому и провалил организацию в самом ее начале». Если бы заговор был сфабрикован, вероятно, на роль предводителя поискали бы кого поимпозантнее этого кабинетного ученого. Но Герман и Шведов были, судя по всему, заправскими авантюристами. Они регулярно ходили через финскую границу, проносили в Россию и эмигрантскую прессу, и контрабандные товары, а возможно, и оружие, были связаны с зарубежным антибольшевистским сопротивлением (например, с представителем Врангеля в Финляндии профессором Д. Д. Гриммом). Некоторые члены организации для облегчения путешествий через границу устраивались курьерами в разведывательное отделение финляндского генерального штаба.
В кронштадтские дни Герман ходил по льду в мятежный город, пытался (тщетно) вызвать на помощь восставшим добровольцев из Финляндии. После разгрома восстания к таганцевской организации примкнули пятнадцать матросов-кронштадтцев. Судя по всему, они не отличались дисциплинированностью и действовали сами по себе. Ими были осуществлены две единственные реальные акции того, что называют ПБО, — вполне бессмысленные и привлекшие внимание властей. Перед 1 мая подожгли трибуны на Дворцовой площади и Петроградской стороне, а две недели спустя, 15 мая, взорвали памятник Володарскому на Конногвардейском бульваре. Задержанный на месте преступления Василий Иванович Орловский (он же Хейнеман, он же Варнухин), бывший матрос, быстро признался в своих намерениях уничтожить всю городскую верхушку и утвердительно ответил на вопрос о знакомстве и связи с Таганцевым. Два других матроса — Паськов и Комаров — сразу же при аресте дали подробные, предательские показания. Именно матросня, судя по всему, Таганцева и погубила.
Газета «Петроградская правда», вышедшая 1 сентября 1921 года с сообщением о расстреле «таганцевцев»
Возможно, с организацией были связаны и другие военные люди. «Петроградская правда» сообщает о неком подполковнике Н. И. Иванове, возглавлявшем военную часть организации. В общем, все это очень напоминает декабристское Северное общество: противоестественное соединение людей типа Рылеева и Кюхельбекера с людьми типа Каховского и Якубовича.
Только вот в чем загвоздка: ни Герман, Шведов, ни, кажется, Иванов чекистами не допрашивались, и среди осужденных по делу их нет. Почему? Герман был убит при задержании, арестованный Шведов бежал и затем (как было позднее установлено) также погиб в стычке с чекистами при попытке его вторично задержать. При арестах погибло пять чекистов. Они были застрелены Шведовым, Лебедевым и Старком. Лебедев убит вместе со Шведовым. А Старк?
Обратим внимание на список из «Петроградской правды»:
Таганцев Владимир Николаевич, 31 года, бывший помещик, профессор географии, б/п, секретарь Сапропелевого комитета; поставил себе целью свержение советской власти путем вооруженного восстания, применения тактики политического и экономического террора по отношению к Советской власти. Состоял в деловых отношениях с разведками Финского Генерального штаба, американской, английской.
Звучит солидно. А вот следующий обвиняемый:
Максимов Григорий Григорьевич, 32 лет, сын учителя, инженер-технолог, ассистент профессора по кафедре технологии Технологического института, женат, б/п. Активный член Петроградской боевой организации, оказывал организации услуги, выразившиеся в перепечатке подложных документов для отправки за границу трех гардемаринов.
Без комментариев. Дальше: «Попов Гавриил Константинович — заведующий отделом автопункта», «Туманов Константин Давыдович — заведующий отделом снабжения РОСТа». Всё это люди, оказывавшие заговорщикам мелкую техническую помощь.
Потом — Лазаревский и Ухтомский. На седьмом месте — жена Таганцева, домохозяйка, расстрелянная, по существу, только за то, что знала о деятельности своего мужа.
Осуждены и расстреляны либо идеологи, либо второстепенные члены организации. А где же «люди дела»? Все погибли при задержании?
Вот наконец военный человек:
Мациевский Антон Валерианович, 23 лет, мичман, беспартийный. Командир подводной лодки «Тур». Участник ПБО. Знаком со всеми курьерами американской и финской разведки… Перепечатывал сведения для американской разведки. Обещал курьеру американской разведки Никольскому достать документы, но отказался исключительно из-за малой платы.
Но где же этот Никольский? Где эти курьеры, которых молодой подводник знал? Где тот, кто не отказался достать документы?
Таким образом, при знакомстве с официальным объявлением ВЧК с выпиской из дела и с его доступной для ученых частью остается немало вопросов. Может быть, ответ на них можно найти с другой стороны? Ведь если Герман и Шведов были как-то связаны с эмиграцией, сведения о них и об их организации должны быть в материалах белого зарубежья.
Да, есть такие сведения.
22 марта 1922 года А. Ставрогин, один из бывших руководителей созданного Савинковым Российского эвакуационного комитета, в своем тексте, озаглавленном «Правда о савинковцах (не для печати)», признает, что члены РЭК были в 1921 году осведомлены «о существовании в Петрограде антибольшевистской организации и о характере ее работы» и пытались установить с ней связь. «Центр указывал, что петроградский район наилучше подготовлен к восстанию и обладает для того достаточными силами, но боится провала. Ввиду того, что организация разбухла».
Далее: в 1995 году опубликованы депеши Таганцева Гримму, написанные во время Кронштадтского восстания. Таганцев сообщал о готовящемся выступлении в городе, просил помочь деньгами, продовольствием, типографским оборудованием.
Наконец, есть письмо Гримма Врангелю от 4 октября, в котором он докладывает о разгроме таганцевской организации, сообщает кое-какие подробности о ее работе в Финляндии. Между прочим, названо имя главного представителя таганцевцев по ту сторону финской границы. Это имя (вот ведь ирония истории!) — лейтенант Шмидт.
Документов не так уж мало, но доказывают они только одно: что организация существовала, была довольно деятельной и даже стала разбухать.
А вот странности расследования дела…
4
Каковы же возможные объяснения?
Первое: следователи были такими же дилетантами, как и заговорщики. Для ЧК были гораздо привычнее массовые расправы с ни в чем не повинными заложниками из бывших «привилегированных классов», чем расследование мало-мальски сложного конспиративного дела.
Это отчасти правда. Если забыть, кто именно курировал дело таганцевской группы. Яков Агранов был мастером, ювелиром полицейского ремесла. Он умел, если прикажут, инсценировать заговор и создать политический процесс на голом месте (дело Промпартии). А мог с помощью утонченной провокации заманить в СССР и захватить настоящих, сильных и опытных врагов советской власти, в том числе самого Савинкова («Операция Трест»). Да, в 1921 году ему еще не хватало опыта. Но все же к концу августа он, судя по всему, успел выяснить довольно много… И вдруг — скоропалительный смертный приговор и уничтожение всех основных свидетелей.
Достойно внимания: спустя месяц после приговора «таганцевцам» Петроградская ЧК распускается и формируется заново. Семенова год спустя мы видим на невзрачной должности начальника Алданских приисков (потом его карьера опять медленно идет в гору, и к середине 30-х он — секретарь Крымского, а потом Сталинградского обкома). А вот Агранов взлетает все выше и выше: становится замначальника, а потом — начальником секретного управления ОГПУ.
Значит, Семеновым и его компанией были за что-то недовольны, а Аграновым — довольны. На этом основана версия, изложенная в первом издании настоящей книги. Суть ее в следующем: Агранов замышлял большой, может быть, и публичный процесс, в котором главным героем, главным обвинителем должен был стать он, а не Семенов. Но начальник Петроградской ЧК не мог допустить, чтобы московский эмиссар перехватил у него честь разоблачителя заговорщиков. Коллегией ЧК был скоропалительно вынесен и приведен в исполнение приговор, важные свидетели были уничтожены, дело осталось раскрытым лишь наполовину — зато Семенов смог отчитаться о разгромленном им, им, а не Аграновым, грандиозном заговоре.
Есть лишь одно обстоятельство, ставящее эту версию под сомнение. Обычно приговоры приводились в исполнение на следующий день после вынесения. В данном случае приговор датируется 24 августа. Лукницкий датирует смерть Гумилева 25 августа. У Павла Николаевича были хорошие информаторы в ЧК-ОГПУ, верить ему можно.
Казалось бы, все сходится. Но в книге Г. Е. Миронова указано, что Таганцев в последний раз был допрошен 27 августа! Миронов ошибся (в его книге вообще много неточностей и ошибок)? Или Таганцев 27-го был еще жив? Это, конечно, не значит, что были живы все остальные. Но если бы приговор был вынесен за спиной Агранова, но не приведен в исполнение немедленно, у особоуполномоченного было бы время добиться его отмены…
До полной публикации материалов дела (а сколько десятилетий нам еще ждать?) можно строить только предположения. Несомненно одно: следствие продолжалось и после 1 сентября, выносились новые приговоры. Еще более 30 человек было расстреляно, 83 — отправлено в концентрационный лагерь. В то же время из 833 арестованных 448 человек (больше половины) были освобождены — в том числе, например, Николай Пунин. А вот о судьбе 200 с лишним человек никаких данных нет. То ли их без официального оформления расстреляли, то ли без оформления отпустили. Еще одна загадка.
Конечно, в любом случае и при любом обороте дела «мелкие сошки заговора» не уцелели бы. Год спустя Агранов так ответил на вопрос поэта Бермана (он еще появится чуть ниже) о том, почему так жестоко расправились с «таганцевцами»: «В 1921 г. 70 % петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны были эту ногу ожечь».
По существу, на этой фразе основана третья версия, высказанная Ю. В. Зобниным в книге «Казнь Николая Гумилева. Разгадка трагедии» (2011):
…В данном деле заботиться о безопасности РСФСР и ее властей Агранов вообще целиком предоставил семеновским головорезам, гонявшимся за головорезами из боевой группы ПБО и, кстати, к моменту активного аграновского старта уже почти всех посадившим (или — перестрелявшим).
У Агранова — совершенно иная, особая миссия.
Летом 1921 года Агранов «обкатывал» созданный им по заданию партии механизм величайшей в истории машины правового и нравственного подавления личности. Масштаб был, как и полагается для обкатки, скромным, можно сказать, крошечным — всего чуть более восьмисот человек (именно столько людей так или иначе проходили по «делу ПБО»), — но сам-то механизм мыслился для подавления целых народов, а в ближайшем историческом будущем — всего человечества.
Прямо-таки им. В одиночку! Дзержинский, Менжинский, Ягода и даже Ленин и Сталин превращаются в бледные тени Агранова, а сам он из талантливого и деятельного контрразведчика и палача (каковым он, несомненно, был) делается настоящим Князем Тьмы.
И кстати, кого из боевой группы посадили «семеновские головорезы»? Дело в момент прибытия Агранова, судя по всему, находилось в кризисном состоянии: два руководителя организации погибли при аресте, третий молчит. Именно Агранов «разговорил» Таганцева. Все, что стало известно следствию о финляндских связях «таганцевцев», об их конспиративной деятельности, выяснил он. У него были основания принять заговор всерьез. Возможно, Таганцев и даже Герман со Шведовым и не были сами по себе особенно опасны для Советской власти. Но их связи с заграницей меняли дело. Что было бы, например, если бы Герман в марте 1921-го уговорил савинковского эмиссара Эльвенгрена отправить людей в помощь Кронштадту?
Задача пугануть петроградскую интеллигенцию, несомненно, тоже ставилась. Конечно, та была уже достаточно запугана террором 1918–1920 годов. Но важно было донести до образованного сословия, что НЭП не предусматривает никакой политической либерализации. Да, сотнями расстреливать заложников, как в 1918 году, теперь не станут, но всякое, даже самое незначительное, участие в антисоветской деятельности будет караться без пощады. Важно было сформировать новые правила игры — для мирного времени, для новой фазы диктатуры.
5
Какую же роль играл в этом сюжете Гумилев?
9 августа он дает такое показание:
Месяца три тому назал ко мне утром пришел молодой человек высокого роста и бритый и сказал, что привез мне поклон из Москвы. Я пригласил его войти, и мы беседовали минут двадцать на городские темы. В конце беседы он обещал показать мне имеющиеся в его распоряжении русские заграничные издания. Через несколько дней он действительно принес мне несколько номеров каких-то газет и оставил их у меня, несмотря на мое заявление, что я в них не нуждаюсь. Прочтя эти номера и не найдя в них ничего для себя интересного, я их сжег. Приблизительно через неделю он пришел опять и стал спрашивать меня, не знаю ли я кого-нибудь, желающего работать для контрреволюции. Я объяснил, что никого такого не знаю, тогда он мне указал на незначительность работы: добывание разных сведений и настроений, раздачу листовок, и сообщил, что эта работа может оплачиваться. Тогда я отказался продолжать разговор с ним на эту тему, и он ушел. Фамилию свою он назвал мне, представляясь. Я ее забыл, но она была не Герман и не Шведов.
Таким образом, Гумилев вовсе не лез на рожон. Вероятно, это была сознательно выбранная тактика: признаться в чтении эмигрантских газет и недоносительстве и при том рассказать подробную и убедительную (писатель же!) новеллу о своей беседе с «бритым молодым человеком», чтобы убедить следователя в своей искренности.
Однако к тому времени следствие располагало показаниями Таганцева, данными 6 августа:
Поэт Гумилев после рассказа Германа обращался к нему в конце ноября 1920 г. Гумилев утверждал, что с ним связана группа интеллигентов, которой он может распоряжаться и которая в случае выступления согласна выйти на улицу, но он желал бы иметь в распоряжении для технических надобностей некоторую свободную наличность. Таковой у нас не было. Мы решили предварительно проверить надежность Гумилева, командировав к нему Шведова для установления связей.
В течение трех месяцев, однако, это не было сделано. Только во время Кронштадта Шведов выполнил поручение: разыскал на Преображенской ул. поэта Гумилева. Адрес я узнал для него во «Всемирной литературе», где служит Гумилев. Шведов предложил ему помочь нам, если представится надобность в составлении прокламаций. Гумилев согласился, сказав, что оставляет за собой право отказываться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам. Гумилев был близок к Совет. ориентации. Шведов мог успокоить, что мы не монархисты, а держимся за власть Сов. Не знаю, насколько он мог поверить этому утверждению. На расходы Гумилеву было выделено 200 000 советских рублей и лента для пишущей машинки. Про группу свою Гумилев дал уклончивый ответ, сказав, что для организации ему потребно время. Через несколько дней пал Кронштадт. Стороной мы услышали, что Гумилев весьма далеко отходит от контрреволюционных взглядов. Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать.
Гумилева, вероятно, ознакомили с этими показаниями, и несколько дней он размышлял. 18 августа он признается в следующем:
Летом прошлого года я был знаком с поэтом Борисом Вериным[176] и беседовал с ним на политические темы, горько сетуя на подавление частной инициативы в Советской России. Осенью он уехал в Финляндию… Затем, зимой, перед Рождеством, ко мне пришла немолодая дама, которая передала неподписанную записку, содержащую ряд вопросов, связанных, очевидно, с заграничным шпионажем, например, сведения о готовящемся походе на Индию. Я ответил ей, что никаких таких сведений давать не хочу, и она ушла…
Мы видим, что тактика Гумилева прежняя: он рассказывает о не имеющих отношение к делу эпизодах, признается в неподобающих разговорах с давно эмигрировавшим человеком и под конец придумывает фантастическую «немолодую даму», которой он отказался выдать «советского завода план»… то есть, простите, откуда-то известный эксперту «Всемирной литературы» план похода на Индию. Другими словами, он морочит следователю голову, чтобы отвлечь его внимание от самой неприятной детали: от того, что он по собственной инициативе предложил свои услуги заговорщикам. (Причем группа Таганцева была не единственной, с которой поэт пытался наладить связь осенью 1920 года. По свидетельству поэта Лазаря Васильевича Бермана, он привел Гумилева, по просьбе того, на «конспиративную встречу» с действующими в подполье эсерами. Имя Гумилева Берман подпольщикам не назвал, упомянув лишь, что его знакомый — знаменитый поэт. Но Гумилева сразу же узнали по «известной всему Петрограду» оленьей дохе[177].)
Затем в начале Кронштадтского восстания ко мне пришел Вячеславский с предложением доставлять для него сведения и принять участие в восстании, буде оно переносится в Петербург. От дачи сведений я отказался, а на выступление согласился, причем указал, что мне, по всей вероятности, удастся в момент выступления собрать и повести за собой кучку прохожих… Я дал также согласие на писание контрреволюционных стихов. Дней через пять он пришел ко мне опять… и принес гектографировальную ленту и деньги на расходы… Деньги 200 000 р. на всякий случай взял и держал их у себя в столе, ожидая или событий, или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их, потому что после падения Кронштадта я резко изменил свое отношение к Советской власти…
Почему Гумилев переменил свои показания?
Вот что пишет Георгий Иванов:
Допросы Гумилева более походили на диспуты, где обсуждались самые разнообразные вопросы — от «Принца» Макиавелли до «красоты православия». Следователь Якобсон, ведший таганцевское дело, был, по словам Дзержибашева, настоящим инквизитором, соединявшим ум и блестящее образование с убежденностью маньяка. Более опасного следователя нельзя было выбрать, чтобы подвести под расстрел Гумилева. Если бы следователь испытывал его мужество или честь, он бы, конечно, ничего от Гумилева не добился. Но Якобсон Гумилева чаровал и льстил ему. Называл его лучшим русским поэтом, читал наизусть гумилевские стихи, изощренно спорил с Гумилевым и потом уступал в споре, сдаваясь или притворяясь, что сдался перед умственным превосходством противника…
Я уже говорил о большой доверчивости Гумилева. Если прибавить к этому его пристрастие ко всякому проявлению ума, эрудиции, умственной изобретательности, наконец, не чуждую Гумилеву слабость к лести — легко себе представить, как, незаметно для себя, Гумилев попал в расставленную ему Якобсоном ловушку. Как незаметно в отвлеченном споре о принципах монархии он признал себя убежденным монархистом. Как просто было Якобсону после диспута о революции «вообще» установить и запротоколировать признание Гумилева, что он непримиримый враг Октябрьской революции.
Иванов, как известно, склонен был разукрашивать мемуары собственными фантазиями, да и источник у него сомнительный: чекист, чью фамилию он перепутал (Зобнин предполагает, что под «Дзержибашевым» имеется в виду Терентий Дерибас, действительно работавший в Секретном отделе ВЧК). Якобсон вел допросы и некоторых других участников таганцевского дела. Есть даже предположение, что это был «псевдоним» Агранова. Если то, что рассказывает Иванов про практиковавшиеся им методы допроса, верно, то, может быть, и да… И, вполне вероятно, таким методам Гумилев поддался бы.
Но в том-то и дело, что протоколы допросов Гумилева совершенно об этом не свидетельствуют! А свидетельствуют, наоборот, об осторожности и самообладании.
Что происходит 18 августа? Скорее всего, Николаю Степановичу просто-напросто читают показания Таганцева. И он понимает, что полное запирательство и вождение следствия за нос смысла больше не имеют. Он подтверждает сказанное Таганцевым — но не говорит ни слова сверх этого. Более того, он делает все, чтобы его показания никому не повредили:
Я действительно сказал Вячеславскому, что могу собрать активную группу моих товарищей, бывших офицеров, что являлось легкомыслием с моей стороны, потому что я встречался с ними лишь случайно и исполнить мое обещание было бы крайне затруднительно.
Говоря о группе лиц, могущих принять участие в восстании, я не имел в виду кого-нибудь определенного, а просто человек десять встречных знакомых, из числа бывших офицеров…
Таганцев, однако, говорит о «группе интеллигентов», а не об офицерах. Гумилеву ничего не стоило бы повести на баррикады своих друзей-поэтов. Хотя, конечно, Жоржики в роли повстанцев выглядели бы забавно.
Но, если Гумилев в самом деле участвовал в заговоре, не могли же об этом не знать его друзья — особенно учитывая гумилевский характер?
Они и знали. Более того, они знали куда больше, чем следователь Якобсон.
Опять слово Георгию Иванову:
Однажды Гумилев показал мне прокламацию, лично им составленную. Это было в Кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать кронштадтских матросов. Говорилось в ней что-то о «Гришке Распутине» и «Гришке Зиновьеве». Написана она была довольно витиевато, но Гумилев находил, что это как раз язык, доступный рабочим массам. Я поспорил с ним немного, потом спросил:
— Как же ты так свою рукопись отдаешь? Хоть бы на машинке переписал. Ведь мало куда она может попасть.
— Не беспокойся, размножат на ротаторе, а рукопись вернут мне. У нас это дело хорошо поставлено.
Месяца через два, придя к Гумилеву, я застал его кабинет весь разрытым. Бумаги навалены на полу, книги вынуты из шкафов. Он в этих грудах рукописей и книг искал чего-то.
— Помнишь ту прокламацию? Рукопись мне вернули. Сунул куда-то, куда, не помню. И вот не могу найти. Пустяк, конечно, но досадно. И куда я мог ее деть? — Он порылся еще, потом махнул рукой, улыбнулся: — Черт с ней! Если придут с обыском, вряд ли найдут в этом хламе. Раньше все мои рукописи придется перечитать.
Адамович:
В дни Кронштадтского восстания он составил прокламацию — больше для собственного развлечения, чем для реальных целей. В широковещательном этом «обращении к народу» диктаторским тоном перечислялись права и обязанности гражданина и перечислялись кары, которые ждут большевиков. Прокламация была написана на листке из блокнота.
Восстание было подавлено. Недели через две Гумилев рассеянно сказал:
— Какая досада. Засунул этот листок в книгу, не могу найти.
На листке этом написан был его смертный приговор.
Одоевцева (описывается переезд Гумилева с Преображенской в Дом искусств):
Я застаю Гумилева за странным занятием. Он стоит перед книжной полкой, берет книгу за книгой и, перелистав ее, кладет на стул, на стол или просто на пол.
— Неужели вы собираетесь брать все эти книги с собой? — спрашиваю я.
Он трясет головой.
— И не подумаю. Я ищу документ. Очень важный документ… Черновик кронштадтской прокламации.
С учетом того, что Иванов, Одоевцева и Адамович — люди, мягко говоря, «из одной компании», совпадение их рассказов может насторожить. Возможно, Гумилев читал прокламацию Иванову в дни Кронштадта (про «Гришку Распутина» и «Гришку Зиновьева» — колоритная и достоверная деталь); спустя два месяца Одоевцева застала его за поисками этого «важного документа». У беллетризовавших свои воспоминания Иванова и Адамовича эти два эпизода сложились в цельный сюжет. Но суть дела от этого не меняется.
Черновика Гумилев так и не отыскал — и решил, что ничего страшного: ключ-то от квартиры остается у него. И Иванов, и Адамович считают, что ЧК эту бумагу нашла. Мы знаем, что она ее и не искала, удовольствовавшись признанием Гумилева в намерении написать прокламации. За намерение его и расстреляли. Но он свое намерение осуществил — это можно считать несомненно доказанным[178].
Это первый фигурировавший в деле эпизод. Второй — получение денег.
Одоевцева:
Не рассчитав движения, я вдруг открыла ящик и громко ахнула. Он был весь набит пачками кредиток.
— Николай Степанович, какой вы богатый! Откуда у вас столько денег? — крикнула я, перебивая чтение.
Гумилев вскочил с дивана, подошел ко мне и с треском задвинул ящик, чуть не прищемив мне пальцы…
— Простите… — забормотала я. — Я нечаянно. Я не хотела… Не сердитесь…
— Перестаньте. — Он положил мне руку на плечо. — Вы ни в чем не виноваты. Виноват я, что не запер ящик на ключ. Ведь известна ваша манера вечно все трогать…
И он, взяв с меня клятву молчать, рассказал, что участвует в заговоре. Это не его деньги, а деньги на спасение России. Он стоит во главе ячейки и раздает их членам своей ячейки.
200 тысяч рублей в 1921 году — это всего 5 рублей 60 копеек «старыми». Но тут не все просто. Ю. Зобнин обращает внимание на две детали: во-первых, при аресте Гумилева в числе документов была изъята расписка, выданная Мариэтте Шагинян на 50 тысяч рублей. Зобнин резонно замечает, что трудно «представить себе Гумилева, ссужающего Мариэтте Шагинян сумму на покупку десяти почтовых марок, а затем требующего… расписку в получении денег». Вторая деталь: в ходе поездки на юг Гумилев закупал продукты для Диска. В деле Гумилева сохранились отчеты по этим закупкам с указанием потраченных сумм. Они таковы: за 20 фунтов сахара — 210 рублей, за 4 фунта риса — 20 рублей, за 6 фунтов гречневой крупы — 30 рублей. Исследователь задается вопросом: может быть, были в хождении какие-то другие рубли, более полновесные?
Да, были. Весной 1921 года правительство РСФСР начало выпускать серебряные рублевые монеты. Это был первый шаг в борьбе с гиперинфляцией (которая была подавлена лишь несколько лет спустя — и борьба с которой, между прочим, входила в программу Таганцева). Так что сумма, полученная Гумилевым, могла быть и вполне солидной (и именно из этих, чужих, выданных на дело и неиспользованных, денег он давал Шагинян в долг — потому и расписка).
Если Гумилев и вправду создал ячейку, кто входил в нее? Странно, что ни один из этих людей не оказался за границей и не рассказал о своем участии в антисоветском подполье бок о бок со знаменитым поэтом. Впрочем, Георгий Иванов в 50-е годы вроде бы утверждал, что «Гумилев принял его в ПБО». Но раньше он говорил совершенно иное.
Итак, все, в чем признался Гумилев следствию, — правда, причем еще не вся правда. Полностью совпадает с данными дела зафиксированное Ивановым свидетельство Гумилева, что тот был связан только с двумя членами подпольной организации. Одного из этих двух людей, Германа, Иванов и сам хорошо знал. Они вместе учились в кадетском корпусе. Очерк Иванова о Германе кажется слишком «литературным». И тем не менее, похоже, он основан на фактах, пусть приукрашенных. Итак, в конце 1920 года Гумилев упоминал Иванову о своем общении с его товарищем по корпусу, «одним из замечательнейших русских людей». Потом Иванов встречает Германа в кронштадтские дни в красноармейской шинели. Герман приглашает его к себе, угощает давно не виданными в Петрограде разносолами (икра, печенье), ведет хвастливые и циничные разговоры («Вот я контрреволюционер, за контрреволюцию рискую по десять раз в день головой. За нее, наверно, и погибну. Что же, ты думаешь, я в контрреволюцию верю? — Не больше, чем они в революцию… А твой друг Гумилев говорит — героизм, Россия, Бог…»). Конец рассказа — уже полный гиньоль: случайно арестованному брату Германа показывают в ЧК заспиртованую голову Юрия.
Разумеется, Гумилев полагал, что он — «винтик в огромном механизме». Герман и Шведов внушали ему это…
Понятно, почему Гумилев решил «признаться» в том, что дал согласие на составление прокламаций: он рассчитывал, что это удовлетворит чекистов и они не будут копаться в остальном. Об одном эпизоде гумилевской «подпольной работы» вспоминают Одоевцева, Арбенина и Иванов. В дни Кронштадта Гумилев появился в Доме литераторов «в поношенном рыжем пальтишке, перетянутом ремнем в талии, в громадных стоптанных валенках, на макушке белая вязаная шапка, как у конькобежца, и за плечами большой заплатанный мешок». На недоуменный вопрос Кузмина Гумилев ответил: «Я, Мишенька… иду на Васильевский остров агитировать и оделся так, чтобы внушить пролетариям доверие» (Одоевцева). Второй раз в жизни Гумилев попробовал себя в этой роли: первый раз — в Березках, в 1903 году. По слову другого поэта: «Баррикады в пятом строили — мы, ребятами… История. Баррикады, а ныне троны, но все тот же мозольный лоск…»
Но уж больно нелепо выглядел «агитатор». Узнав, что мешок набит старыми газетами, Одоевцева и Арбенина, оказавшиеся свидетельницами этой сцены, не смогли сдержать смеха. Повернувшись к девушкам, Гумилев «медленно и веско произносит: «Так провожают женщины героя, идущего на смерть!» (Так запомнила этот эпизод Одоевцева; Арбениной показалось, что Гумилев сказал «женщина», в единственном числе, — и имел в виду именно ее.)
После этого в хохоте заходятся уже все присутствующие (Мандельштам, Иванов, Юркун, Зоргенфрей… Какая уж тут конспирация — герой идет на смерть на глазах всего литературного бомонда!).
Интересно, чем закончилась агитация? Как восприняли потешно вырядившегося поэта в рабочих районах? Во всяком случае, не убили.
В эти же дни Гумилев, как утверждает Одоевцева, получил у кого-то пистолет. Видимо, через несколько дней, после подавления восстания, он вернул или выбросил оружие: хранить его было опасно.
Любопытно, что Таганцев упоминает о «далеко не правых взглядах» Гумилева. Это вполне логично: если «в советских кругах» поэт, чтобы сохранить независимость, подчеркивал свой монархизм, то, общаясь с подпольщиками, он, наоборот, выступал против реставрации дореволюционных порядков. В действительности его идеалом было «царство поэтов»… Или «республика поэтов»… Где-то в апреле-мае 1921 года, предчувствуя худшее, Гумилев прочитал своим ученикам стихотворение, являющее пример «пантума» — экзотической малайской строфической формы («переплетенные секстины»):
Какая смертная тоска Нам приходить и ждать напрасно. А если я попал в Чека? Вы знаете, что я не красный. Нам приходить и ждать напрасно, Пожалуй, силы больше нет. Вы знаете, что я не красный, Но и не белый — я поэт! Пожалуй, силы больше нет Читать стихи, писать доклады, Но и не белый я поэт, Мы все политике не рады. Писать стихи, читать доклады, Рассматривать частицу «как» — Путь к славе медленный, но верный — Моя трибуна — Зодиак…Более чем вероятно, что отход от заговора после Кронштадта — правда. «Изменение отношения к советской власти» не означает, конечно, возникновения симпатий к ней. Оцуп вспоминает, как тяжело подействовала на Гумилева расправа с кронштадтцами. «Сидим на бревнах на Английской набережной, смотрим на льдины, плывущие по Неве. «Убить безоружного, — говорит он, — величайшая подлость». Но Гумилев понял, что «плетью обуха не перешибешь». Должно быть, в это время он говорил старику Немировичу-Данченко:
На переворот в самой России — никакой надежды. Все усилия… разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа… Из-за границы спасение тоже не придет… Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда — бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно… И готовиться к нему глупо. Все это — вода на их мельницу.
Верно ли Немирович передал слова поэта? Если бы он чувствовал «небывалый в мире шпионаж» (что в 1921 году было, кстати, очень сильным преувеличением), то, вероятно, вел бы себя осторожнее…
По словам Немировича, в апреле-мае 1921 года Гумилев замыслил нелегальный побег через границу. Об этом же поэт говорил Соломону Познеру, отцу своего ученика. Но в самом ли деле он готов был бежать?
Начавшийся НЭП принес новые возможности, в том числе издательские. (В отличие от Ходасевича, у которого возвращение буржуазной пошлости вызвало резкое неприятие, Гумилев не склонен был к социальному мазохизму — он совсем не настолько был лишен здравого смысла, как это казалось Честертону.) Цех поэтов, Союз, «Петрополис», Дом Мурузи… Гумилев с такой страстью этим занимался! Готов ли он был бросить все начатое и, рискуя жизнью, с мешком за плечами переходить границу — притом что, если на то пошло, уже открывался путь для вполне легальной эмиграции? Скорее всего, планы, которыми поэт делился с Немировичем и Познером, были порождены коротким депрессивным настроением после Кронштадта.
Вот еще одно свидетельство, относящееся, видимо, к этим же дням. Философ и литературовед А. З. Штейнберг передает такие слова Гумилева:
Вот когда обнаружится, что самый умный большевик — это Троцкий, тогда все пойдет по-иному. Вы знаете знаменитое изречение Троцкого, что Красная армия как редиска, извне — красная, изнутри — белая?.. Бонапарт у нас уже есть! Это маршал Красной армии Тухачевский.
«Таганцевцы» после (или во время?) Кронштадтского восстания действительно пытались установить контакт с Тухачевским. В блестящем кадровом офицере, к двадцати семи годам ставшем «маршалом» (хотя формально это звание он получил лишь через пятнадцать лет), многие склонны были видеть потенциального Бонапарта, что в конце концов и стоило ему жизни. Гумилев в апреле-мае уже, видимо, не был связан с подпольной организацией, но его мысль работала в том же направлении. Разочаровавшись в народном восстании и подпольной борьбе, он теперь уповал на военный путч. И это снова подняло ему настроение. Не забудем, что он вел литературные кружки у красноармейцев. Может быть, даже пытался в какой-то момент заниматься среди них политической агитацией. И может быть, даже небезуспешно. По крайней мере, никто его не выдал.
Не исключено, что именно желанием на время порвать все связи с заговорщиками и обезопасить себя (для новых подвигов — в свите Бонапарта-Тухачевского?) и был, помимо прочего, продиктован переезд с Преображенской в Дом искусств. Может быть, это же заставило поэта воспользоваться предложением Павлова и на время уехать из города[179]. Возможно, задержись он на юге или в Москве до осени — все и впрямь обошлось бы. Но он вернулся как раз в разгар следствия.
В июле среди петроградской интеллигенции уже курсировали слухи о «каком-то большом заговоре», который расследует ЧК; Гумилев, по свидетельству Иванова, не знал, о том ли заговоре, в котором он участвовал, идет речь, но не мог не чувствовать, что тучи сгущаются. За несколько дней до ареста Юрий Юркун, недавний соперник в любви, предупредил поэта: за ним следят. Гумилев поблагодарил «Юрочку»… и ничего не предпринял.
Или все же попытался предпринять — нечто уж совсем странное?
Вот отрывок из письма литератора и филолога Бориса Павловича Сильверсвана к Амфитеатрову от 20 сентября 1931 года:
…Он был арестован в начале августа, выданный Таганцевым, а в конце июля 1921 предложил мне вступить в эту организацию… Предполагалось, м. пр., воспользоваться моей тайной связью с Финляндией… Он сообщил мне тогда, что организация состоит из «пятерок», членов каждой пятерки знает только ее глава, а главы пятерок известны самому Таганцеву; вследствие летних арестов в этих пятерках оказались пробелы, и Гумилев стремился к их заполнению, он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленны и захватывают влиятельные круги Красной армии… Я говорил ему тогда же, что чекисты несомненно напали на след организации, м.б., следовало бы временно притаиться, что арестованный Таганцев, по слухам, подвергнут пыткам и может начать выдавать; на это Гумилев ответил, что уверен, что Таганцев никого не выдаст и, наоборот, теперь-то и нужно действовать; из его слов я заключил, что он составлял все прокламации и вообще ведал пропагандой в Красной армии…
Трудно сказать, где здесь хвастовство Гумилева, а где фантазии Сильверсвана. Но идея «действовать» именно в тот момент, когда вождь организации (Желябов, Пестель) арестован, — вполне в традициях русского освободительного движения.
Вообще-то подобный разговор с малознакомым человеком может быть свидетельством не столько детской беспечности, сколько истерической лихости. Пассивно встречать опасность для такого человека, как Гумилев, было мучительно, бежать — стыдно. А вот под угрозой ареста попытаться затеять собственную авантюру, выдать себя чуть ли не за второе лицо в «разветвленной» организации, сколотить группу сторонников, нанести упреждающий удар, устроить в зиновьевском Петрограде нечто вроде Фиуме, а там — как Бог рассудит… Гумилев, у которого периоды спокойной трезвости чередовались с приступами безумного авантюризма, в принципе мог задумать что-то в этом духе.
6
А теперь вернемся к свидетельству Коблановского.
Мог ли состояться описанный им разговор? Мог. Но только не о Гумилеве. Будить Ленина в четыре часа утра и сообщать ему, что приговорен к расстрелу какой-то неизвестный ему поэт… Луначарский не стал бы этого делать — даже если бы за те (скорее всего) несколько часов, которые прошли между приговором и расстрелом, кто-то успел бы добраться до него с ходатайством. Не стал бы за явной бесполезностью.
Видимо, на самом деле речь шла о каком-нибудь профессоре-естественнике, о полезном техническом специалисте. Может быть, даже об одном из осужденных по таганцевскому делу. И уже в 90-летнем возрасте бывший секретарь Луначарского «вписал» в рассказ имя Гумилева. Люди любят украшать свои воспоминания. Или приводить их в соответствие с общей памятью. Кто сегодня помнит профессора Тихвинского? А вот Гумилева…
Есть другое свидетельство — троцкиста Виктора Сержа (Кибальчича). Якобы один из чекистов, расположенных к Гумилеву, «поехал в Москву, чтобы задать Дзержинскому вопрос: «Можно ли расстреливать одного из двух или трех величайших поэтов России?» Дзержинский ответил: «Можем ли мы, расстреливая других, сделать исключение для поэта?» Это уж полная фантастика. Кто это считал Гумилева при его жизни «одним из двух или трех величайших поэтов России»? Нет, разговор мог иметь место! Но… задним числом. Через год или два. Когда смерть Гумилева стала «литературным фактом», а отчасти и фактом общественным.
Давайте рассуждать трезво.
Для Ленина и Дзержинского Гумилев в августе 1921 года был никем. А для чекистов? Для Семенова? Для Якобсона? Для Агранова?
Вот что думает Ю. В. Зобнин:
ЧТО ТАКОЕ Гумилев для России и мира, Агранов понимал не хуже Горького. И даже гораздо лучше Горького. И лучше всех эстетов Дома литераторов и Дома искусств.
Я даже думаю, что Агранов понимал это лучше всех вообще.
И ныне, и присно, и во веки веков.
А что такое Гумилев для мира? Для какого мира?
Для мира «драконов, водопадов и облаков» он — присно и во веки веков — зодчий, демиург, полубог, волшебное и прекрасное существо.
Для бесстрастной истории литературы — один из… не двух-трех, конечно, а десяти — пятнадцати больших русских поэтов своего времени. Один из лучших русских критиков XX века. Один из замечательных поэтов-переводчиков. Один из…
А для того мира, в котором жил Агранов? Всего лишь видный и влиятельный представитель творческой интеллигенции. Расстрел которого, возможно, произведет некоторый шум в писательских и «профессорских» кругах. Хотя шум от расстрела участников Сапропелевой комиссии все равно больше. Из-за них подавал в отставку президент Академии наук Карпинский (правда, потом отозвал свое прошение). А из-за Гумилева только Диск тихонько пошумел…
Есть одно доказательство — неопровержимое! — того, что Гумилев сам по себе не особенно волновал следователей: перепутанные в документах отчество и возраст… Это мы сегодня помним таганцевское дело в основном из-за Гумилева, из-за поэта. Нам трудно представить, что он был всего лишь одним из 448 арестованных и 96 расстрелянных. Что поэт не становится жертвой прицельного выстрела или целенаправленного заговора, а умирает «с гурьбой и гуртом», ложится в одну расстрельную яму с десятками, сотнями, тысячами своих безвестных современников.
Цветаева писала, имея в виду именно Гумилева: «…Самое идеологическое из всех правительств в мире поэта расстреляло не за стихи (сущность), а за дела, которые мог сделать всякий». Мандельштам впоследствии написал стихи, которые могли стоить ему жизни, — а погиб в итоге «массовой» смертью в гекатомбах Большого террора, незаметной жертвой лагерной дистрофии на Второй Речке.
Но, я думаю, именно такая гибель соответствовала этике акмеизма. Поэт живет с людьми, делит их страдания и труды, с ними гибнет — и через эту жизнь и смерть обретает свою уникальность и бессмертие.
Существует апокрифическое стихотворение, якобы написанное Гумилевым в тюрьме:
Предположительное место расстрела и захоронения «таганцевцев» в Бернгардовском лесу. Фотография С. П. Лукницкого, 1987 год. Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
В час вечерний, в час заката Каравеллою крылатой Проплывает Петроград… И горит на рдяном диске Ангел твой на обелиске, Словно солнца младший брат. Я не трушу, я спокоен, Я моряк, поэт и воин Не поддамся палачу. Пусть клеймит клеймом позорным. Знаю — сгустком крови черной За свободу я плачу…Кто написал эти стихи на самом деле и когда — неизвестно. Может быть, в 20-е годы. А может, и в 60-е. Есть версия, приписывающая эти стихи Сергею Колбасьеву — одному из учеников Гумилева, которого ждала такая же гибель в 1937 году…
Но сам факт рождения таких апокрифов — знак превращения поэта в символ, в полубога, в легенду. Гумилев мечтал об этом всю жизнь. Смерть подарила ему это преображение.
Настоящим последним текстом Гумилева были, вероятно, несколько слов, нацарапанных на стене камеры. Вместе со множеством таких же надписей других заключенных они сохранились до осени. Их видел в камере номер 7 ДПЗ на Шпалерной случайно арестованный 20-летний студент (позднее — известный филолог-классик) Г. А. Стратановский, сообщивший их своему сыну, поэту Сергею Стратановскому. С его слов эту надпись опубликовал в 1994 году М. Эльзон. Вот эти слова: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Н. Гумилев».
О месте расстрела Гумилева и его товарищей много спорят. Скорее всего, это произошло на берегу реки Лубья — либо в Бернгардовке, около Всеволожска (там установлен памятный знак), либо в Ковалевском лесу в районе Ржевского полигона. Ахматова, по каким-то своим данным, считала, что Гумилева расстреляли на Пороховых. Еще одна версия — Лисий Нос. В любом случае — северные окрестности Петербурга.
По распространенному в разные времена и в разных странах варварскому обычаю осужденных заставили самих вырыть себе яму. Гумилев, по свидетельствам очевидцев, держался с большим мужеством и достоинством. Впрочем, «очевидцами» были только палачи. Они и воздали должное поэту-герою, идущему на смерть.
Глава двенадцатая 25 августа 1921 года
1
В 1921 году русская литература, кроме Блока и Гумилева, недосчиталась Короленко и Боборыкина. Из общественных деятелей умер знаменитый географ и анархист князь Кропоткин.
На самом западе Европы шла война за независимость Ирландии. Путч 1916 года был подавлен, но в начале 1919-го 73 депутата британского парламента от Ирландии объявили остров независимым, а себя — его законодателями. Было сформировано Временное республиканское правительство, и отряды Ирландской республиканской армии начали террористическую войну по всему острову. Лишь протестантский Ольстер хранил верность короне. Борьба закончилась через два года: в июле 1921-го было подписано перемирие, а затем и мирный договор. Ирландия была разделена — северо-восток остался в Великобритании, большая же часть страны превращена в британский доминион. Но крайнее крыло республиканцев не согласилось с этими компромиссными условиями, и война за независимость вылилась в войну гражданскую. Разочарованный Йейтс покинул родину. «Ольстерский вопрос» не решен, как известно, и поныне.
На востоке Азии разыгрывались события не менее поэтические и кровавые. Барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг, колчаковский (точнее семеновский) генерал, садист и мистик, ушедший со своими войсками в Монголию (которая уже восемь лет борется за независимость с Китаем), в начале 1921-го изгнал китайские республиканские войска из Урги (нынешний Улан-Батор), восстановил власть монгольского духовного и светского владыки Богдо-гэгэна и стал от его имени управлять страной. Правление его было тираническим. В Угре на глазах удивленных азиатов он устроил, между прочим, еврейский погром. Унгерн считал евреев худшими людьми на земле — оригинально не это, а то, что лучшими на земле людьми он считал монголов. Он принял буддизм и носил монгольскую одежду. В конце мая 1921 года во главе на треть русского, на две трети монгольского войска он двинулся на запад — завоевывать Россию и Европу, очищать их от коммунистической и республиканской скверны. Дошел он до окрестностей Верхоудинска, где был разгромлен Красной армией и просоветскими монгольскими частями Сухэ-Батора, попал в плен, был судим и расстрелян.
В Америке закончился второй срок Вудро Вильсона, джентльмена, идеалиста и миротворца. Семь лет назад Вильсон овдовел и женился вторично на привлекательной 40-летней вдове. Новая миссис Вильсон была первой «первой леди», сопровождавшей супруга в международных поездках. Когда некая британская аристократка отказалась принимать у себя супругу президента — «простую американку», посол сообщил ей, что Эдит Вильсон происходит по прямой линии от знаменитой индейской принцессы Покахонтас (что было, кстати, правдой), — и аристократка смягчилась. В конце второго срока Вильсона разбил паралич; любящая жена катала его в кресле и служила связующим звеном между ним и внешним миром. Спустя двенадцать лет другого президента вкатит в инвалидном кресле в Белый дом энергичная супруга. Но пока что болезнь президента подорвала доверие к Демократической партии. На выборах 1920 года она потерпела сокрушительное поражение. Президентом стал республиканец Уильям Гардинг, за два года пребывания у власти успевший запятнать свое имя коррупционными скандалами и ушедший из жизни при весьма подозрительных обстоятельствах.
А в России после Гражданской войны начинается новое бедствие — голод в Поволжье. Плодородные, но засушливые степи не в первый раз становились жертвой неурожая. Всем был памятен голод 1892 года. Но в 1921-м ситуация многократно усугублялась последствиями Гражданской войны и разрухой. Гумилев еще в 1919 году написал «гражданское» стихотворение, в котором возникает образ разоренной страны:
Если плохо мужикам, Хорошо зато медведям, Хорошо и их соседям, И кабанам, и волкам. Забираются в овчарни, Топчут тощие овсы, Ведь давно издохли псы, На войну угнали парней.Голод охватил не только Поволжье, но и Крым, и юг Украины — огромную территорию с почти 50-миллионным населением.
Помощь России берет на себя, с одной строны, АРА (Американская администрация помощи) во главе с Гербертом Гувером, будущим президентом, с другой — миссия Международного Красного Креста во главе с полярником и филантропом Фритьофом Нансеном. Комитет помощи голодающим, созданный по инициативе Горького, возглавляемый Каменевым, при участии представителей интеллигенции и даже видных членов запрещенных небольшевистских партий, был распущен в последних числах августа — после того как выполнил свою (с точки зрения Ленина) единственную функцию: помог привлечь западных благотворителей. Члены Комитета по большей части сосланы в провинцию (а позднее высланы из страны).
Собственно, о голоде (и главным образом о голоде) и писали все газеты (советские и эмигрантские) 25 августа 1921 года. Поражает (сравнительно с 1886-м, да и с 1913 годом) резкое изменение формата прессы. Никакой рекламы, почти никакой уголовной хроники, очень мало внешней политики. Времена настали серьезные.
«Правда» помещает передовицу А. Винокурова «Об агитации в местах голода»:
Существует мнение, что в голодных местах агитация не достигает своей цели, что человеку не до агитации, ему нужней кусок хлеба… Такое мнение не выдерживает никакой критики… Сущность вопроса об агитации в голодных местах сводится к формам и методам агитации и правильному подходу к голодному крестьянину…
В добротном старорежимном духе выдержаны очерки Я. Окунева «У земли». Мужички обсуждают средства помощи голодающим:
— Жертвую восемнадцать тысяч, — крикнул патриарх.
Кругом засмеялись.
— Ишь чем отделаться вздумал!
— Чего они, твои бумажки, стоят?
Кто-то нерешительно сказал:
— Хлебом бы надо…
— У самих до урожая не хватит.
— Выдюжим! Картофель нынче уродился…
Но уже готова новая плеяда доблестных партийных журналистов. Карл Радек на страницах «Правды» смело касается самой болезненной темы — помощи красной России со стороны мирового капитала. Демагогический потенциал будущего мужа Ларисы Рейснер позволяет легко справиться с этой щекотливой ситуацией. Его фельетон называется «Голод русских масс и парижская биржа».
Нельзя открыто сказать: мы, буржуа всего мира, бесконечно рады, что русский рабочий и русский мужик голодают, и мы надеемся, что голод научит их уму-разуму. Это нельзя сказать открыто, потому что слушают рабочие всего мира…
Под давлением рабочих масс капитал вынужден оказывать России помощь. Но на бирже рабочие, «к сожалению, еще не играют роль чуткого контролера». И вот результат: царские облигации выросли в цене! За этим стоит «надежда, что силы трудового народа ослабли, что он сдастся на милость мировых акул… что вернется время, когда все эти подписанные царской казной бумажки получат старую ценность…».
Другой будущий гений советского агитпропа, Михаил Кольцов, только начинает свою карьеру в петроградской «Красной газете». Жало своей язвительности он направляет в журналистов-эмигрантов (запрещенные к ввозу в страну газеты ему, вероятно, специально предоставили «для работы»):
Страшно не то, что в России голод. Не то, что пути помощи сложны и трудны… Ужасно то, что уже довольно долгое время английские газеты и сам престарелый «Таймс» именует большевиков — вы подумайте, именует грабителей-большевиков русским правительством!
Во всех петроградских газетах третью полосу занимает доклад товарища Зиновьева на областной партийной конференции. Касаясь предстоящей партийной чистки, вождь петроградских большевиков предупреждает: «Я не защищаю интеллигенцию как класс, но при этом не надо впадать в махаевщину» (ср. гумилевское донесение 1917 года о «бюллетенях ленинского, с оттенком махаевского направления»). Предупреждая о недопустимости автоматического исключения из партии всех интеллигентов, Зиновьев напоминает о таких верных делу революции представителях интеллигенции, как «Плеханов, Засулич, Чичерин и товарищ Иннокентий (Дубровинский)».
О вопросах литературы и искусства советские газеты практически ничего не пишут. Лишь в «Петроградской правде» проскальзывает краткая заметка о книжной выставке (с участием «Петрополиса» и издательства Гржебина). Впрочем, центральная «Правда» посвящает целый подвал переписке со стихотворцами, присылающими в главную газету страны плоды своего труда.
Панов: из 44 строк только 4 не повторяют себя:
Еще усилье, Ударим смело, Чтоб солнце пело, Чтоб сталь звенела.Больше и вдумчивей работайте, товарищ… Поэтическое творчество — творчество образами. Больше читайте классиков художественного слова, а также и своих пролетарских поэтов, у которых вы научитесь твердо идти по пути пролетарской идеологии…
С. Лапкин: Ведром моря не вычерпать, с малыми средствами изобразительности не стоит подходить к большой теме.
Другим — в том числе Тимофееву-Пронскому, Голицынскому-Поликарпову, а также однофамильцам знаменитых мятежников — Болотникову и Булавину — кратко сообщается: стихи не пойдут.
Эмигрантская пресса также в основном сосредоточила внимание на голоде. В «Руле» Гессена, Каминки и Набокова напечатано воззвание патриарха Тихона:
Цветущая хлебородная земля стала пустыней, жилища обезлюдели, селения превратились в покинутые без врачебной помощи больницы, и деревни в кладбища непогребенных мертвецов… Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стране, кормившей всех и ныне погибающей от голода!
В передовице редакторы возмущаются равнодушием эмигрантов, игнорирующих объявленный «Рулем» сбор средств в пользу голодающих: «Лишь два или три десятка нашлось, которые прислали в редакцию свою лепту…» Помимо голода, газета (представляющая правое крыло кадетов) много места уделяет полемике с левым, «милюковским» крылом партии, после Гражданской войны впавшем в «народничество», сблизившимся с эсерами и сделавшим ставку на крестьянскую войну. «Надо не верить в народ и не преклоняться перед ним, а поскорее открыть перед ним все школы, в том числе общественного и политического служения стране», — пишет С. Потресов. Год спустя Набоков погибнет, по существу, закрыв собой от пули своего «друга-врага» Милюкова — как Гумилев готов был заслонить собой Блока.
Л. Н. Гумилев, А. А. Ахматова, А. И. Гумилева, середина 1920-х
Милюковские «Последние новости», «Новое время» и другие эмигрантские газеты публикуют попавшее в их распоряжение письмо Ленина к неизвестному иностранному адресату:
Русские рабочие и русские крестьяне предали свои интересы… Наивность, детская жестокость, полное непонимание и невозможность сознания необходимости работать на грядущий день, лень и неспособность воспринимать новые мысли — это оказалось той плотиной, прорвать которую оказалось нам не под силу… Если мы держимся, то только усилиями партии, которая дает все свои силы на сохранение власти…
Но я чувствую, что силы партии день ото дня выдыхаются. Я давно осознал необходимость компромиссов, которые дадут партии новые силы.
А вот все же иностранные дела: «Последние новости» радостно приветствуют «аутоликвидацию фашизма». Муссолини заключил соглашение с социалистами о мирных методах борьбы. Теперь «насилие будет орудием только крайних групп — коммунистов и неисправимых фашистов… Вопрос о них переводится с политической на полицейскую почву». Год спустя Муссолини попросту силой захватит власть в Италии и запретит все оппозиционные партии, в том числе и социалистов.
Сообщение о расстреле «Таганцева, Ухтомского, поэта Гумилева и др.» появится в газете лишь 4 сентября.
Таков был мир, из которого Гумилев ушел. Представление Гумилева о будущем этого мира было иногда фантастическим, а иногда — отчетливым и пугающе трезвым.
Все теперь кричат: Свобода! Свобода! А в тайне сердца, сами того не понимая, жаждут одного — попасть под неограниченную деспотическую власть… Ну, и конечно, достигнут своего идеала. И мы, и другие народы. Только у нас деспотизм левый, а у них будет правый. Но ведь хрен редьки не слаще…
Гумилев говорил это Одоевцевой незадолго до своей гибели; через двадцать лет (1921 + 20 = 1941) он предсказывал войну с Германией (где установится «правый деспотизм»). Гумилев, конечно, собирался принять участие и в этой войне. «И на этот раз мы побьем немцев».
Одоевцевой эти суждения казались в высшей степени эксцентричными и парадоксальными.
Какова была бы судьба самого поэта в этом мире? Можно строить много предположений.
Судьбы близких к нему людей сложились по-разному. Многих ждали бедствия, нищета, изгнание, заточение — но некоторые пережили все, дожили до старости и успеха. Анне Ахматовой и Льву Гумилеву выпала, как известно, долгая и плодотворная жизнь, всероссийская и мировая слава.
Судьба Анны Николаевны Гумилевой и ее дочери — совсем иная, глухая, жалкая. Однажды Анна Гумилева с горечью сказала Ольге Арбениной: «Как жаль, что вы разошлись… Он бы не влез в этот дурацкий «заговор»… Вы бы уехали за границу, как Ходасевич с Берберовой, и ты могла бы в Париже стать мадам Рекамье, как хотела». Анна, должно быть, думала и о себе: лучше был бы для нее статус брошенной жены, а не вдовы расстрелянного поэта. «Крошка Доррит» работала танцовщицей в нэповских кафе (больше никуда не брали, да и умела она, вероятно, мало что кроме танцев), пользовалась репутацией доступной женщины. Потом, постарев, стала посредственной актрисой театра кукол. Родила еще одну дочь — от случайной связи с соседом по коммунальной квартире.
Елена Гумилева в детстве была нехороша собой (в отца). Потом неожиданно расцвела — стала, как мечтал Николай Степанович, красавицей. Увы, судя по всему, она была девушкой ограниченной и пустой. Работала где-то счетоводом… Закончилась ее жизнь и жизнь ее матери страшно: обе они, как и старики Энгельгардты, умерли от голода в блокаду, в 1942 году.
В том же году умерла Анна Ивановна. Она так и не поверила в смерть любимого сына: считала, что он где-то в Африке, на Мадагаскаре… Второго сына тоже не было в живых: Дмитрию Степановичу удалось уехать в Ригу, там он сошел с ума и умер в лечебнице в 1922 году, пережив Николая лишь на год. Незадолго до его смерти в эмигрантских газетах была объявлена подписка в пользу бедствующего брата поэта-героя. Александра Степановна мирно проработала учителем в советской школе до пенсии: родство ей не повредило. Умерла она в 1952 году, успев написать мемуары (поступок для России середины XX века весьма неординарный).
Часть друзей, приятелей, врагов и знакомых Гумилева погибла по время Большого террора (Мандельштам, Нарбут, Бруни, Юркун, Бенедикт Лившиц, Колбасьев). Другие — Георгий Иванов, Одоевцева, Оцуп, Адамович — в 1922–1923 годы эмигрировали. Одоевцева в 1987 году, 92-летней старухой, приехала доживать в Ленинград, который через год после ее смерти снова стал Петербургом. Долгая жизнь выпала и другим молодым в пору общения с Гумилевым женщинам — Иде Наппельбаум, Нине Берберовой, Вере Лурье. Все они ушли совсем недавно. Кажется, сегодня уже не осталось людей, которые видели Николая Гумилева и говорили с ним…
2
Некрологов в обычном смысле слова после смерти Гумилева почти не появлялось. Правда, Городецкий не упустил случая сплясать на костях бывшего друга. На страницах бакинского журнала «Искусство» (1921. № 2/3) он поместил текст, начинающийся следующей фразой: «Контрреволюционное болото погубило незаурядного, талантливого и упорного литературного работника» — и заканчивающийся так: «…Из насмешливого европейца он превращается в православного христианина, и все эти проклятые силы затягивают его в авантюру. Давно погибший творчески, он уходит и физически. Певец буржуазии уходит вместе с ней».
Зато Корней Чуковский в рукописном «Отчете литературного отдела Дома искусств» не только отдал дань памяти поэту, но и со всей резкостью — в условиях того времени отчаянно смелой — высказался в адрес его убийц:
Зверски убит Гумилев… Смерть Гумилева — оскорбление для всей русской литературы, и этого оскорбления литература не забудет. В лице Гумилева Дом искусств утратил не только даровитого поэта, но и учителя…
Тем временем некоторые члены петроградского Союза поэтов заказали по Гумилеву церковную панихиду. Из Москвы, из правления Союза поэтов был прислан «ревизор» для расследования этого «возмутительного случая». Выход из положения нашел Ходасевич, как раз вернувшийся из Бельского устья. В газетном варианте воспоминаний о Гумилеве он так рассказывает об этом:
Вызвав к себе ревизора, я объявил ему, что завтра еду в Москву и там отчитаюсь перед самим Наркомпросом. «Ревизор», разумеется, не посмел требовать от меня доклада, предназначенного высшему начальству. Я же поехал в Москву (речь идет об уже описанной выше поездке 1–16 октября. — В. Ш.), провел там недели две по своим личным делам, а затем вернулся в Петербург и собрал общее собрание Союза. На этом собрании я заявил, что был в Москве, посетил главное правление Союза и убедился в том, что это не правление Союза, а ночной притон с тайной продажей спирта и кокаина (это была правда). Затем я предложил членам Союза резолюцию следующего содержания: «Решительно осуждая устройство предприятий ресторанного типа под видом литературы, мы, нижеподписавшиеся, заявляем о своем выходе из числа членов как Всероссийского союза поэтов, так и его петербургского отделения».
Эта резолюция, конечно, весьма не понравилась устроителям Дома поэтов, так как была направлена столько же против них, как и против московского центра. Однако она была принята единогласно всеми присутствующими, а затем подписана и всеми остальными членами Союза.
Поскольку петроградское отделение Союза формально более не существовало (потом оно возродилось под председательством Георгия Иванова, снова закрылось, снова возродилось — но это уже другая история), спрашивать стало не с кого, да и москвичи «после нашей резолюции, разоблачившей их кабацкое мероприятие… предпочли не доводить дела до начальства»[180].
Что до панихиды литературной, то ею стали рецензии на книги Гумилева, которые после его смерти продолжали появляться и в Советской России, и за границей, и многочисленные мемуарные очерки о нем, публикация которых была возможна лишь за границей. Книг было немало: в 1922–1923 годах усилиями Иванова и Оцупа были изданы «Посмертные стихотворения», в Ревеле появился полный «Шатер», собраны и прозаические произведения Гумилева («Тень над пальмой») и его статьи («Письма о русской поэзии»).
В числе тех, кто сказал высокие и прочувствованные слова о Гумилеве, был ставший в последние месяцы его врагом Голлербах. Пусть в своей рецензии на «Огненный столп» он называет «неудачным стихотворением» «Заблудившийся трамвай» и не может удержаться от бестактного, с учетом предыдущих событий, выпада против «Леса», все же в целом его характеристика поэта не лишена проницательности:
«Я — упрямый и угрюмый зодчий храма, восстающего во мгле». Именно зодчий, а не живописец и не ваятель… Но точно так же, как «не хлебом единым жив человек», одними формальными достижениями невозможно утолить жажду красоты. Отсюда понятна тоска, пронизывающая произведения Гумилева, ожидание какой-то новой, чудесной, просветленной эры бытия человеческого…
И — неизбежное сравнение:
Если в часы душевной боли, в минуты молитвенного уединения рука невольно тянется к томику Блока, то в тревоге повседневности, в вагоне заблудившегося трамвая, в суете или в унылой очереди за продуктами хорошо раскрыть экзотическую книгу Гумилева и заглянуть в «мир чужой, но стройный и прекрасный» (Вестник литературы. 1921. № 10).
Некрологический характер носит и рецензия Вивиана Итина на все последние (и посмертные) книги Гумилева, напечатанная далеко от Петрограда — в Новониколаевске (Новосибирске) в журнале «Сибирские огни» (1922, № 4). Рецензия эта не слишком глубока, но все же в ней черным по белому написаны были слова, публично произнести которые несколько лет спустя было бы уже невозможно: «Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России остается глубокой трагедией».
За границей «Огненный столп» отрецензировал один из отцов русского символизма Николай Минский.
«Теперь… читая стихи Гумилева, мы больше думаем о его судьбе, чем о его гении. За его стихами мы ловим намеки на самооценку и самоопределение поэта, которые помогли бы нам понять тайну его последних переживаний. Какие молитвы он шептал перед лицом смерти? Какие пророчества шептала она ему?» Дальше критик рассматривает «Память», в которой он видит духовную исповедь поэта. «Четвертой душе Гумилева судьба, быть может, предназначала воссиять огненным столбом в русской поэзии, Но этой судьбе не суждено было сбыться» (Новая русская книга. 1922. № 1).
Надо сказать, что как раз ближайшие ученики и друзья поэта, выполнившие свой долг в том, что касается сбора и издания его наследия, не оценили по достоинству его предсмертного творческого взлета. Тот же Г. Иванов в рецензии на «Огненный столп» писал:
…Это характернейшая, но вряд ли самая сильная из книг Гумилева. Зная все его творчество, мы знаем, что он почти всегда находил удачное разрешение поставленных себе задач. Аналогия с «Чужим небом» — здесь вполне уместна. Наступление в недоступные еще поэту области было начато в «Чужом небе», но достижения совершенной победы собраны не в нем, а в более отстоявшихся «Колчане» и «Костре». Так и здесь — целый ряд ритмических, композиционных и эйдолологических завоеваний намечается в «Огненном столпе», но вчерне, наспех, в горячке созидания, и поэтому местное значение многих (составляющих ядро сборника) стихотворений не соответствует их самодовлеющей ценности» (Летопись Дома литераторов. 1 ноября).
Холодок, звучащий в этих словах, не случаен. Иванова, как и некоторых других членов третьего Цеха, все больше тянуло к тому, «что Анненский жадно любил, чего не терпел Гумилев». Адамович — тот и не скрывал полного равнодушия к поэзии мэтра и под старость, в 1965 году, встретившись с Ахматовой, открыто говорил ей об этом.
Характерно, что в начале 1920-х о Гумилеве часто говорят как о представителе «классицизма». Отчасти это были отзвуки его прежней репутации «парнасца», отчасти — дань новой моде. В начале 1920-х годов термин «неоклассицизм» часто употреблялся в литературных дискуссиях. Вкладывая в это слово совершенно разное содержание, его употребляли Мандельштам, Жирмунский, Святополк-Мирский, Адамович. «Неоклассиками» называли себя и эмигрировавшие члены Цеха поэтов, и, скажем, московские поэты круга Г. Шенгели. Это влияло и на интерпретацию поэзии Гумилева. Так, Н. Оцуп в третьем номере «Цеха поэтов» помещает статью «О Гумилеве и классической поэзии».
Акмеист, по Гумилеву, равномерно и наиболее интенсивно направляет все свои человеческие способности для миропознания. Его внимание направлено на все явления жизни во вселенной и распределяется между ними равномерно по их удельному весу. Такое миропонимание нельзя не назвать классическим.
С Оцупом, который пересказывает гумилевские декларации, перекликается университетский товарищ поэта К. Мочульский, основывающий свои выводы на филологическом наблюдении над стихами:
Н. Гумилев освобождает фразу от аксессуаров, выделяя ее стержень — глагол. Экзотика и стилизация служат ему средствами нового оформления поэтической речи. И через примитив он приходит к классицизму (Современные записки. 1922. № 11).
А, скажем, Юрий Верховский, соратник Вячеслава Иванова, в своей статье о Гумилеве («Путь поэта», в сборнике «Современная литература» (М., 1925) утверждает: вождь акмеистов шел обратно к символизму. «Освобождение в себе того, что мы называем душевно-музыкальным, — вот основная линия творческого пути Гумилева». О возвращении к символизму можно прочитать и у других авторов. Конечно, это сильное упрощение. Но для той поэтики, к которой пришел Гумилев в некоторых последних стихах, просто еще не было определений. Она принадлежала не прошлому, а будущему русской поэзии. Опыт символизма присутствовал в ней, но в преображенном, «снятом» виде.
Совсем не так — наивнее, но горячее — читали Гумилева с первого же дня после его смерти неискушенные читатели, особенно молодые, и в метрополии, и в эмиграции. Для них слово «Гумилев» означало не классическую строгость формы, а романтику борьбы и битв. Смерть в Бернгардовском лесу превратила биографию поэта в легенду. Все — Африка, война — внезапно заняло в ней свое место. Так стихотворение внезапно выстраивается благодаря удачной последней строке.
Одно лишь количество стихотворных посвящений Гумилеву в 1921–1922 годы, да и позднее, впечатляет. В приложении к нашей книге мы частично приводим их.
Некоторые из них написаны гумилевскими друзьями и учениками — Одоевцевой, Идой Наппельбаум, Верой Лурье, Колбасьевым. Из сверстников к его образу часто возвращался, как ни странно, Городецкий. Бывшему «синдику» как будто еще хотелось что-то доказать старому товарищу. Он как будто еще чего-то стыдился. Увы, попытки объясниться в рифму с покойником оборачивались новыми глупостями и гадостями:
На львов в агатной Абиссинии, На немцев в Каиновой войне Ты шел — глаза холодно-синие Всегда вперед и в зной и в снег. ……………….. Когда же в городе огромнутом Всечеловеческий стал бунт, Скитался по холодным комнатам, Твердя, что хлеба только фунт. И ничего под гневным заревом Не уловил, не уследил, Лишь о возмездьи поговаривал И перевод переводил.См. публицистические опыты Городецкого в 1920 году… Заканчивается стихотворение (вошедшее в цикл «Друзья ушедшие» и напечатанное в 1925 году) риторическим вопросом: «Ужель поэтом не был ты?»
Если тот, кого Гумилев считал своим другом, так отпевал его, то тот, кого Гумилев считал врагом, — Максимилиан Волошин — посвятил памяти Блока и Гумилева свой знаменитый реквием:
Темен жребий русского поэта: Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот.Но среди тех, кто откликнулся стихами на смерть поэта, были и юноши, никогда в глаза его не видевшие. В их числе — юный Владимир Набоков-Сирин.
Павел Лукницкий. Фотография работы А. А. Ахматовой, 1925 год
Отдельная тема (не для короткого пассажа в заключении к толстой книге, а по меньшей мере для диссертационной работы) — восприятие творчества Гумилева в СССР. До 1925 года его можно было свободно упоминать, хвалить и включать в антологии. Обстоятельства его смерти при этом часто обходили молчанием. Именно в эти годы молодой Павел Лукницкий, никогда не видевший Гумилева вживе, но влюбленный в его героический образ, ничуть не таясь, занимался составлением биографии расстрелянного поэта. Затем, с общим изменением культурной политики, запрет коснулся и стихов Гумилева, и его имени. Но это произошло не сразу. О ситуации тех лет наглядно свидетельствует следующий факт: в «Городе муз» Голлербаха (1927; 2 изд.: 1930) поэту посвящен 12-страничный проникновенный пассаж, но имя Гумилева ни разу на протяжении этого пассажа не названо (хотя помещен его силуэтный портрет)! Однако критики-марксисты, писавшие о книге Голлербаха, Гумилева упоминали свободно. Другой характерный случай — «Стихи о поэте и романтике» (1925) Багрицкого. В первоначальном варианте стихотворения были такие строки (от лица персонифицированной «Романтики»):
Депеша из Питера: страшная весть О том, что должны расстрелять Гумилева. Я мчалась в телеге, проселками шла, Последним рублем сторожей подкупила, К смертельной стене я певца подвела, Смертельным крестом его перекрестила.При публикации (в 1927-м) Багрицкий вынужден был изменить это место таким образом:
Депеша из Питера: страшная весть О черном предательстве Гумилева; Я мчалась в телеге, проселками шла, И хоть преступленья его не простила, К последней стене я певца подвела, Последним крестом его перекрестила.Тому, как можно было тогда говорить и писать о Гумилеве, пример — статья В. Ермилова «О поэзии войны» (в книге «За живого человека в литературе» (М., 1928). Напомним, что автор ее — одна из самых одиозных фигур в истории российской словесности, чуть ли не главный литературный погромщик сталинской эпохи, но при этом личность по-своему незаурядная. В 1928 году Ермилов был молод, напорист, откровенен.
Война для войны, кровь для крови — вот что осталось «конквистадору» наших дней, не понимающему расстановки сил в период капитализма, перешедшего в последнюю — империалистическую — стадию. Идеологом вольнонаемнической интеллигенции, идущей на службу к империалистической буржуазии, той интеллигенции, которая служит сейчас Муссолини… — вот чем объективно становится Гумилев…
Он был одним из тех поэтов, которые чувствуют эпоху… Два слагаемых образуют в своей сумме содержание нашей эпохи. Это — эпоха войн и революции. Второго слагаемого не видел, не чувствовал Гумилев. Он понял нашу эпоху как эпоху войн…
Но у врагов можно многому учиться… И, в частности, у художников империалистической буржуазии должны заимствовать художники советской страны их готовность к войне, их умение находить горячие и пламенные слова для идущих в бой бойцов.
Так советская культура 1920-х годов (еще не впавшая в лицемерие, еще откровенная и потому талантливая в своем культе насилия) вылепила «врага» по своему образу и подобию — и стала у него (не у настоящего Гумилева, а у этого фантома) учиться.
Обложка книги стихотворений Н. Гумилева, изданной в 1943 году в Одессе
Творчество Гумилева и вообще акмеизм интерпретировались в те годы как «поэзия русского империализма». Их появление связывалось (в работах В. Саянова, О. Бескина и др.) с интенсивным развитием капитализма в предвоенные годы, с «третьеиюньским блоком» (широкая правоцентристская коалиция в последней Думе), с милитаризмом и колониализмом. Нельзя не отметить, что первым такую фантастическую интерпретацию предложил не Бескин и прочие вульгарные социологи, не Саянов, а Городецкий в «Лукоморье» в 1916 году. Разумеется, с совершенно иными целями…
Учиться у империалистов технике, в том числе технике стиха, разрешалось. Киплинга переводили и издавали. Гумилев считался «русским Киплингом» — и в этом качестве был актуален. Можно сказать, что в эти годы Гумилева больше и чаще читали в СССР, чем в эмиграции. Однако в середине 30-х тезис об «учебе у акмеистов» был официально осужден, и уж тут Гумилева запретили всерьез и надолго.
Открытка с портретом Н. Гумилева, нелегально напечатанная его поклонниками в 1964 году в Тамбове (тираж 300 экземпляров)
И все же одна его книжка на территории России увидела свет в годы запрета. Книга эта, включавшая избранные стихи разных лет, вышла в 1943 году в Одессе, оккупированной немецкими и румынским войсками. Предисловие к этой книге начиналось так:
Сейчас, когда все подлинно русские люди по ту и по эту сторону фронта с нетерпением ждут гибели ненавистного большевизма, когда приходит время решительной борьбы за Новую Россию, стихи Николая Гумилева звучат для нас с новой силой…
Биография поэта излагалась с симптоматичными изъятиями (не упоминалось, в частности, о его участии в Первой мировой войне) и с довольно фантастическими подробностями (Гумилев якобы не только «охотился на львов в Африке», но и «дрессировал крокодилов в Америке»).
Кто был инициатором издания этой книги, мы не знаем, но, по всей вероятности, это были люди, которые видели в войне путь к сокрушению «ненавистного большевизма» и ради этой цели готовы были даже на сотрудничество (пусть временное и лукавое) с оккупантами. Гумилев едва ли одобрил бы их выбор (вспомним его разговор с Одоевцевой о будущей войне). Но среди тех, кто знал и любил его стихи, были и молодые люди, чья позиция в схватке тоталитарных держав была совершенно противоположной. Так, цитатой из «Жирафа» заканчивается одно из стихотворений Павла Когана, чья пресловутая «Бригантина», конечно, восходит к наивному экзотизму «Жемчугов» и «Романтических цветов».
Как свидетельствует автор того же предисловия к одесской книжке, в предвоенной Москве «молодежь разыскивала книги Гумилева. Платили букинистам от 50 до 100 рублей за томик». А после войны, по отзывам мемуаристов, Гумилев был самым популярным (наряду с Есениным) поэтом в лагерях «перемещенных лиц».
Запрет на Гумилева не был снят до 1986 года. Его стихи не только не издавались книгами, но и не входили в антологии[181]. Но его прижизненные сборники беспрепятственно продавались в «Букинистах», и молодые читатели никогда не забывали его. Всплеск интереса к Гумилеву относится к середине 50-х — началу 60-х. Именно в это время среди всего написанного и напечатанного им был выделен просвещенными ценителями поэзии «Огненный столп».
Потом, с «открытием» Мандельштама, Цветаевой, а чуть позже — Ходасевича, Анненского, Кузмина, Гумилев для читателей-профессионалов оказался несколько отодвинут в тень. Это было несправедливо, но исторически обусловлено. Однако более широкий читательский круг не изменил Гумилеву. Этот «широкий читатель» самиздата — младший научный сотрудник какого-то НИИ, школьный учитель, библиотекарь, инженер — продолжал упиваться машинописными копиями «Жирафа» и «Капитанов», а в конце 80-х ринулся раскупать бесчисленные новые гумилевские книги, появившиеся в продаже.
Тот Гумилев, о котором можно прочитать на этих страницах, — другой, гораздо более сложный: мастер, труженик, тайновидец, глубокий и тонкий, хотя и не лишенный слабостей, человек. Но если автор этой книги написал ее, то уж точно не для того, чтобы отнять у сотен тысяч людей их кумира.
У лубочного, но обаятельного «охотника на львов» и у «упрямого зодчего» (двух образов одной и той же личности, ее проекций на разное культурное сознание) есть одна общая черта — способность внушать к себе любовь. Любовь, которая относится не только к стихам, но и к написавшему их человеку.
И автор настоящей книги надеется, что ему простят ее недостатки — потому что только искренняя любовь к поэту двигала его рукой.
Приложение Из стихотворных откликов на смерть Гумилева
Ирина Одоевцева
Памяти Гумилева
Мы прочли о смерти его. Плакали громко другие. Не сказала я ничего, И глаза мои были сухие. А ночью пришел он во сне Из гроба и мира иного ко мне, В черном своем пиджаке, С белой книгой в тонкой руке, И сказал мне: «Плакать не надо, Хорошо, что не плакали вы. В синем раю такая прохлада, И воздух синий такой, И деревья шумят надо мной, Как деревья Летнего сада…» 1921Баллада о Гумилеве
На пустынной Преображенской Снег кружился и ветер выл… К Гумилеву я постучала, Гумилев мне двери открыл. В кабинете топилась печка, За окном становилось темней. Он сказал: «Напишите балладу Обо мне и жизни моей! Это, право, прекрасная тема». Но, смеясь, я ответила: «Нет! Как о вас напишешь балладу? Ведь вы не герой, а поэт». Он не спорил. Но огорченье Промелькнуло в глазах его. Это было в вечер морозный. В Петербурге на Рождество… Я о нем вспоминаю все чаще, Все печальнее с каждым днем. И теперь я пишу балладу Для него и о нем: Плыл Гумилев по Босфору В Африку, страну чудес, Думал о древних героях Под широким шатром небес. Обрываясь, падали звезды Тонкой нитью огня. И каждой звезде говорил он: «Сделай героем меня!» Словно в аду, в пустыне Полгода жил Гумилев, Сражался он с дикарями, Охотился на львов. Со смертью не раз он встречался В пустыне, под небом чужим. Когда он домой возвратился, Друзья потешались над ним: «А, Николай Степаныч, Ну как веселились вы там? И как поживают жирафы И друг ваш гиппопотам?» Во фраке, немного смущенный, Вошел он в сияющий зал И даме в парижском платье Руку поцеловал. «Я вам посвящу поэму, Я вам расскажу про Нил, Я вам подарю леопарда, Которого сам убил». Веял холодом страусовый веер, Гумилев не нравился ей: «Я стихов не люблю. На что мне Шкуры диких зверей?» Когда войну объявили, Гумилев ушел воевать. Ушел. И оставил в Царском Сына, жену и мать. Средь храбрых он был храбрейшим, И, может быть, оттого Вражеские снаряды И пули щадили его. Но приятели косо смотрели На Георгиевские кресты: «Гумилеву их дать — умора!» И усмешка кривила рты. «Солдатские. По эскадрону Кресты такие не в счет. Известно, он дружбу с начальством По пьяному делу ведет!..» Раз, незадолго до смерти, Сказал он уверенно: «Да! В любви, на войне и в картах Я буду счастлив всегда. Ни на море, ни на суше Для меня опасности нет!» И был он очень несчастен, Как несчастен каждый поэт. Потом поставили к стенке И расстреляли его. И нет на его могиле Ни креста, ни холма — ничего. Но любимые им серафимы За его прилетели душой, И звезды в небе пели: …Слава тебе, герой!.. 1923Елизавета Васильева (Черубина де Габриак)
Памяти Анатолия Гранта
Как это странно во мне преломилась Пустота неоплаканных дней. Пусть Господня последняя милость Над могилой пребудет твоей. Все, что было холодного, злого, Это не было ликом твоим. Я держу тебе данное слово И тебя вспоминаю иным. Помню вечер в холодном Париже, Новый мост, утонувший во мгле… Двое русских, мы сделались ближе, Вспоминая о Царском Селе. В Петербург мы вернулись — на север. Снова встреча. Торжественный зал. Черепаховой бабушкин веер Ты, читая стихи мне, сломал. После в «Башне» привычные встречи, Разговоры всегда о стихах, Неуступчивость вкрадчивой речи И змеиная цепкость в словах. Строгих метров мы чтили законы, И смеялись над вольным стихом, Мы прилежно писали канцоны, И сонеты писали вдвоем. Я ведь помню, как в первом сонете Ты нашел разрешающий ключ… Расходились мы лишь на рассвете, Солнце вяло вставало меж туч. Как любили мы город наш серый, Как гордились мы русским стихом… Так не будем обычною мерой Измерять необычный излом. Мне пустынная помнится дамба, Сколько раз, проезжая по ней, Восхищались мы гибкостью ямба Или тем, как напевен хорей. Накануне мучительной драмы… Трудно вспомнить… Был вечер… И вскачь Над канавкой из Пиковой Дамы Пролетел петербургский лихач. Было сказано слово неверно… Помню ясно сияние звезд… Под копытами гулко и мерно Простучал Николаевский мост. Разошлись… Не пришлось мне у гроба Помолиться о вечном пути, Но я верю — ни гордость, ни злоба Не мешали тебе отойти. В землю темную брошены зерна, В белых розах они расцветут — Наклонившись над пропастью черной, Ты отвел человеческий суд. И откроются очи для света. В небесах он совсем голубой. И звезда твоя — имя поэта Неотступно и верно с тобой. 16 ноября 1921Сергей Колбасьев
Смерть
…И медленно в комнату вошел, Покачиваясь и звеня, В железных перьях большой орел… Так медленно в комнату вошел И замер около меня. Камин зашипел и сразу погас, Так глухо заворчал рояль. Затянусь папиросой в последний раз И больше ничего не жаль. А может быть, еще вернусь назад, Оттуда, куда летим? Железные крылья свистят, свистят И воздух стал голубым. Поля, города и ленты рек, Гранитные скалы, синий снег, И кровь на снегу и снова снег, Паденье и быстрый бег. Сорвался и руки хватают тьму, А сверху — глаза орла… Там, в комнате, телу моему Хорошо лежать у стола. Август 1921Ида Наппельбаум
Молитва
Н. Гумилеву
Ты правишь надменно, сурово и прямо. Твой вздох — это буря. Твой голос — гроза. Пусть запахом меда пропахнет та яма, В которой зарыты косые глаза. Пусть мертвые пальцы на ангельской лире, Как прежде врезают свой пламенный след, И пусть в Твоем царственном, сказочном мире Он будет небесный, придворный поэт. 1921Поминальное
Я напрасно ходила в болотном лесу, Я напрасно искала на Лисьем Носу, Ты холмом безымянным в лесу не поднялся, И жасмином цветущим не стал — Ты в пучину морскую стрелою ворвался, Грозный смерч над собою поднял. И содрогнулись горы, закричала сова, И рябина упала вся в кровавых слезах, Ты виновным ушел безо всякой вины, И накрыла тебя у луны на глазах Прибалтийская пена волны Вся в брабантских твоих кружевах. 1985Узел
В этом круглом, белом танцевальном зале На полу еще паркетном и зеркальном Янтари мои, как льдинки, грохотали И, катясь гурьбою под столы и кресла, исчезали. И тогда поэты весело и дружно На паркет ложились — янтари искали, Как ловцы таинственных жемчужин В бездне моря счастье добывали. И любимый наш Учитель падал на колено И, мешая вместе и стихи, и прозу, Сам с улыбкой гордой и всегда надменной Мне янтарик каждый подавал, как розу. А потом другое, страшное виденье. В этом самом доме, в пестрой галерее Обухом убило чье-то откровенье О расстреле диком, всем на потрясенье. Нет улыбки гордой и всегда надменной — Это было, было в доме на Литейном В мавританском стиле, богача Мурузи. Но и то, другое, — тоже на Литейном, В доме — саркофаге душам убиенным. А колдунья-память эти два виденья Завязала крепко в цепкий, вечный узел. 1990Вера Лурье
На смерть Гумилева
1
«Никогда не увижу вас». Я не верю в эти слова! Разве солнечный свет погас, Потемнела небес синева? Но такой же, как все, этот день, Только в церкви протяжней звонят, И повисла черная тень. Не увижу тот серый взгляд! А последней зеленой весной Он мимозу напомнил мне… Подойду и открою окно: От заката весь город в огне.2
Слишком трудно идти по дороге, Слишком трудно глядеть в облака, В топкой глине запутались ноги, Длинной плетью повисла рука. Был он сильным, свободным и гордым, И воздвиг он из мрамора дом, Но не умер под той сикоморой, Где Мария сидела с Христом. Он прошел спокойно, угрюмо, Поглядел в черноту небес. И его последние думы Знает только северный лес. 1921–1922Осень
На смерть Гумилева
Иду быстрей по Невскому вперед, Куда, зачем, не знаю и сама, Но только прошлый не вернется год И будет новой снежная зима. Я вспоминаю Мойку всю в снегу, Его в дохе и шапке меховой И с папиросой дымною у губ, И то, как он здоровался со мной. Потом, прищурив глаз, лениво шел К столу, где мы садились в длинный ряд, Клал папиросы медленно на стол. Я не увижу больше серый взгляд. Из ресторанных глаз пронзает свет, Томительно зовут, зовут смычки. По Невскому проспекту сколько лет Отстукивают осень каблуки. 1921Анна Ахматова
* * *
Не бывать тебе в живых, Со снегу не встать. Двадцать восемь штыковых, Огнестрельных пять. Горькую обновушку Другу шила я. Любит, любит кровушку Русская земля. 16 августа 1921Из «Северных элегий»
Третья
В том доме было очень страшно жить. И ни камина свет патриархальный, Ни колыбелька нашего ребенка, Ни то, что оба молоды мы были И замыслов исполнены — ничто Не уменьшало это чувство страха. И я над ним смеяться научилась И оставляла капельку вина И крошки хлеба для того, кто ночью Собакою царапался у двери Иль в низкое заглядывал окошко, В то время как мы заполночь старались Не видеть, что творится в зазеркалье, Под чьими тяжеленными шагами Стонали темной лестницы ступеньки, Как о пощаде жалостно моля. И говорил ты, странно улыбаясь: «Кого «они» по лестнице несут?» Теперь ты там, где знают всё — скажи: Что в этом доме жило кроме нас? 1921, Царское СелоВладимир Набоков
Памяти Гумилева
Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила. Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем медном Петре и о диких ветрах африканских — Пушкин. 19 марта 1923Николай Оцуп
* * *
Теплое сердце брата укусили свинцовые осы, Волжские нивы побиты желтым палящим дождем, В нищей корзине жизни — яблоки и папиросы, Трижды чудесна осень в бедном величьи своем. Медленный листопад на самом краю небосклона, Желтизна проступила на теле стенных газет, Кровью листьев сочится рубашка осеннего клена, В матовом небе зданий желто-багряный цвет. Желто-багряный цвет всемирного листопада, Запах милого тленья от руки восковой, С низким поклоном листья в воздухе Летнего Сада, Медленно прохожу по золотой мостовой. Тверже по мертвым листьям, по савану первого снега, Солоноватый привкус поздних осенних дней, С гиком по звонким листьям летит шальная телега, Трижды прекрасна жизнь в жестокой правде своей. 30 августа 1921Максимилиан Волошин
На смерть Блока и Гумилева
С каждым днем все диче и все глуше Мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит. Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь. Темен жребий русского поэта. Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий выну, Горькая детоубийца, Русь, И на дне твоих подвалов сгину Иль в кровавой луже поскользнусь. Но твоей Голгофы не покину, От твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, Но удел не выберу иной: Умирать, так умирать с тобой, И с тобой, как Лазарь, встать из гроба. 12 января 1922. КоктебельБиблиография
Тексты Гумилева цитируются по трехтомному (М., 1991) и восьмитомному (М., 1998–2007) собраниям сочинений; «Африканские дневники» — по публикациям в журналах «Огонек» (1987, № 14) и «Наше наследие» (1988. № 1); письма — по трехтомному собранию сочинений, а также по изданиям, указанным ниже под № 20, 41 и 42. Использованы также рукописные материалы из Центрального государственного исторического архива (Санкт-Петербург), Института русской литературы (Пушкинского Дома), Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, а также из частных собраний.
Из многочисленных материалов о Гумилеве, включенных в библиографии В. П. Крейда (см. ниже, № 68), а также Ю. В. Зобнина, М. Д. Эльзона и С. Л. Слободнюка (№ 93), упомянуты лишь те, которые напрямую использованы в книге.
Не описаны отдельно статьи, в том числе рецензии на книги Гумилева, перепечатанные в изданиях, указанных ниже под № 21, 88 и 93.
Не включены библиографические описания изданий сочинений наиболее известных поэтов Серебряного века (Ахматова, Маяковский, Мандельштам, Анненский и др.), кроме описаний изданий текстов мемуарного или дневникового характера, специально связанных с Гумилевым.
При написании книги были использованы комплекты журналов «Сириус», «Аполлон», «Весы», альманахов «Гиперборей», а также комплекты ряда российских газет за апрель 1886 г., июль — август 1914 г. и август — сентябрь 1921 г.
1. Адамович Г. В. Гумилев. 1921–1971. Гумилев (к десятилетию со дня расстрела) // Адамович Г. В. Сомнения и надежды. СПб., 2002. С. 26–37.
2. Азадовский К. М., Тименчик Р. Д. К биографии Гумилева // Русская литература. 1988. № 2. С. 171–186.
3. Азарх-Грановская А. В. Воспоминания: Беседы с В. Д. Дувакиным / Коммент. В. Хазана, И. Г. Казовского; [The Hebrew univ. of Erusalem и др.]. Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 2001. 198 с., [8] л. ил. (Совместный издательский проект Bibliotheka judaica). (Серия «Прошлый век»).
4. Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым: [Сб.] / Ст. и коммент. К. Ю. Лаппо-Данилевского. СПб., 1995. 366, [2] с., [8] л. ил.: ил.
5. Анна Ахматова в записях Дувакина: [Сб. / Вступ. ст., сост. и коммент. О. С. Фигурнова; Подгот. текстов: В. Ф. Тейдер и др.]. М., 1999. 366, [1] с.: ил., портр. (Memoria).
6. Антоний (Булатович А. К.). С войсками Менелика II: [Сб.] / Под ред., с предисл. и примеч. И. С. Кацнельсона; АН СССР. Ин-т востоковедения. М., 1971. 352 с.: ил.
7. Артамонов Л. К. Через Эфиопию к берегам Белого Нила: [Отчет и ст. об экспедиции 1897–1899 гг.] / [Вступ. ст. и примеч. И. С. Кацнельсона]. М., 1979. 214 с.: ил.
8. Ауслендер С. А. [Рец.] // Речь. 1909. 29 июня С. 24–25. Рец. на кн.: Остров: Ежемесяч. журн. стихов. № 1.
9. Ахматова А. А. Николай Гумилев — самый непрочитанный поэт XX века: [Из цикла «Листки из дневника»] // Ахматова А. А. Собр. соч. М., 2002. Т. 5. С. 72–85.
10. Ахматова А. А., Гумилев Н. С. Стихи и письма / Вступ. ст., публ., сост. и примеч. Э. Г. Герштейн // Новый мир. 1986. № 9. С. 196–227.
11. Ахматова А. А. Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / Сост. и подгот. текста К. Н. Суворовой; Рос. гос. архив лит. и искусства. М.; Torino, 1996. XIX, 849 с.: схем.
12. Баскер М. Ранний Гумилев: путь к акмеизму. Санкт-Петербург: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 2000. 158, [1] с.
13. Белый А. Начало века: [Воспоминания: В 3 кн. / Подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова]. М., 1990.
14. Бенуа А. Н. <О Блоке> Из дневников 1921 года // Звезда. 2005. № 8. С. 47–51.
15. Бескин О. Гумилев Н. С. // Литературная энциклопедия. М., 1930. Т. 3. Стб. 81–86.
16. Библиотека А. А. Блока: Описание: В 3 кн. / Составили О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина; Под ред. К. П. Лукирской; Б-ка АН СССР; Ин-т русской литературы АН СССР. Л., 1984–1986.
17. Блок А. А. Дневник / [Подгот. текста, вступ. ст. и примеч. А. Л. Гришунина]. М., 1989. 508, [2] с. (Русские дневники).
18. Богомолов Н. А. Гумилев и оккультизм // Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999. С. 113–145.
19. Богомолов Н. А. Печальная доля… (Обзор книг о Н. Гумилеве) // Новое литературное обозрение. 2005. № 71. С. 422–427.
20. Болгар Ф., фон. Правила дуэли = Die Regeln des Duells / Пер. с 4-го нем. изд. Е. Фельдман. СПб., 1895. 86 с.
21. Бронгулеев В. В. Африканский дневник Н. Гумилева // Наше наследие. 1988. № 1. С. 80–87.
22. Бронгулеев В. В. Жизнь Николая Гумилева: Докум. повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева: Годы: 1886–1913. М., 1998. 352 с.: ил.
23. Брюсов В. Я. Из моей жизни. Моя юность. Памяти / Предисл. и примеч. Н. С. Ашукина. М., 1927. IX, 132 с. (Записи прошлого: Воспоминания и письма / Под ред. С. В. Бахрушина, М. А. Цявловского).
24. Брюсов В. Я. Среди стихов, 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии /[Вступ. ст. и коммент. Н. А. Богомолова]. М., 1990. 714, [1] с.: ил.
25. Буренин В. П. Критические очерки // Новое время. 1911. 30 сент. (№ 12770). С. 4.
26. Венгров Н. [Вейнгров М. П.]. «Колчан» Гумилева: [Рец.] // Летопись. 1916. № 1. С. 416. Рец. на кн.: Гумилев Н. Колчан: Стихи. М.; Пг., 1916.
27. [Вензель Н.] «Четки» А. Ахматовой: [Рец.] // Новое время. 1914. 19 июля (1 авг.). Рец на кн.: Ахматова А. Четки. Пг., 1914.
28. Вильчковский С. Н. Царское Село / [Вступ. ст. А. А. Алексеева]. Репринт. воспроизведение изд. 1911 г. СПб., 1992. VIII, 276, [9] с., [99] л. ил.
29. Волошин М. А. Автобиографическая проза, дневники / Сост., ст., примеч. З. Д. Давыдова, В. П. Купченко. М., 1991. 413 с.: ил. (Из литературного наследия).
30. Воспоминания о серебряном веке: [Сборник / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд]. М., 1993. 558, [1] с.
31. Гельвальд Ф., фон. Земля и ее народы. СПб., 1896. Т. 3: Живописная Европа. 744 с., 2 л. к.: ил.
32. Герценштейн В. А. Иллюстрированный спутник по Тифлису и окрестностям. Тифлис, 1899. [4], IV, 218 с.: ил.
33. Глинский Д. Л. Харрар и его обитатели. Гродно, 1897. [2], 36 с. 34. Голлербах Э. Ф. «Огненный столп» Гумилева: [Рец.] // Вестник литературы. 1921. № 10 (34). С. 9. Рец. на кн.: Гумилев Н. Огненный столп. Пг., 1921.
35. Голлербах Э. Ф. Город муз: Царское Село в поэзии / [Предисл. Е. Голлербаха]. СПб., 1993. 223 с.: ил., портр., факс. (Петербургская антология; Вып. 3).
36. Ego [Голлербах Э. Ф.] «Дракон». Альманах стихов: [Рец.] // Известия Петросовета. 1921, 23 февр. (№ 40). Рец. на кн.: Дракон: Альманах стихов. Пг., 1921.
37. Гордин Я. А. Дуэли и дуэлянты. СПб., 1996. 84, [1] с.: ил. (Былой Петербург: Панорама столичной жизни).
38. Городецкий C. М. Четырнадцатый год: [Стихи]. Пг., 1914. 60, [4] с.: ил.
39. Городецкий С. М. Н. С. Гумилев: Некролог // Искусство (Баку). 1921. № 2/3.
40. Городецкий С. М. Поэзия как искусство // Лукоморье. 1916. № 18. С.19–20.
41. Городецкий С. М. Разложение интеллигенции // Известия Петросовета. 1920. 24 июля.
42. Городецкий С. М. Покойнички // Красная газета. 1920. 8 авг.
43. Гумилев Н. С. Неизданное и несобранное = Unpublished and collected material / Сост., ред. и коммент. М. Баскер, Ш. Греем. Paris, 1986. 297 с., [3] л. портр.: портр., факс.
44. Гумилев Н. С. Неизданные стихи и письма. Париж, 1980. 226 с.
45. Гумилевские чтения: Материалы междунар. конф. филологов-славистов, 15–17 апр. 1996 г. / Сост. В. Е. Триодин, Ю. В. Зобнин; Санкт-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов. СПб., 1996. 286 с.
46. Д. В. О-в [Коковцев Д. И., Коковцев И. Н.]. Остов, или Академия на Глазовской улице // Царскосельское дело. 1909. 2 окт.
47. Давидсон А. Б. Муза странствий Николая Гумилева. М., 1992. 316, [2] с.: ил., факс.
48. Давыдов Ю. В. Судьба Усольцева: Рассказы, повесть. М., 1973. 302 с.: ил.
49. Две дуэли // Биржевые ведомости. 1909. 23 нояб.
50. Дело литераторов-дуэлянтов // Русское слово. 1910. 13 окт. (№ 235).
51. Дмитренко А. Л. О воспоминаниях С. Е. Нельдихена // De visu. 1994. № 3/4 (15). С. 69–72.
52. Дмитриев П. Журнальное обозрение // Образование. 1907. № 11. С. 115–116.
53. Долинин А С. Акмеизм // Заветы. 1913. № 5. С. 152–163.
54. Дубнова-Эрлих С. С. Хлеб и маца. СПб.: Максима. 1994. 296 с.
55. Дурасов В. Дуэльный кодекс. СПб., 1912. 132 с.
56. Елисеев Н. Л. Кто такой А.? // Елисеев Н. Л. Предостережение пишущим. СПб., 2003. С. 165–174.
57. Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост. авт. коммент. Ю. В. Зобнин, В. П. Петрановский, А. К. Станюкович. Л., 1991. 334 с.
58. Загуляев П. М. Город Калачов // Царскосельское дело. 1908. 4 апр.
59. Зобнин Ю. В. Казнь Николая Гумилева: разгадка трагедии. М.: Яуза, Эксмо, 2010. 222 с.
60. Зобнин Ю. В. Николай Гумилев. М.: Вече, 2012 (макет 2013). 477, [2] с., [8] л. ил., портр., факс.
61. Зобнин Ю. В. Н. Гумилев — поэт Православия. С.-Петерб. гуманит. ун-т профсоюзов. СПб., 2000. 381, [2] с. (Серия «Новое в гуманитарных науках»; Вып. 7).
62. Иванов Г. В. О новых стихах // Дом искусств. 1921. № 2. С. 96–98.
63. Из литературного быта Петрограда начала 1920-х годов: (Альбомы В. А. Сутугиной и Р. В. Руры) / Публ. Т. А. Кукушкиной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 341–402.
64. Измозик В. Петроградская боевая организация (ПБО) — чекистский миф или реальность? // Исторические чтения на Лубянке. 1997–2007. С. 140–149.
65. Из поэтического архива В. С. Алексеева / Публ. А. Л. Дмитренко // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 403–430.
66. Изучение Африки в России: Дореволюц. период: Сб. ст. / АН СССР. Ин-т Африки. М., 1977. 188 с., 1 л. к.: ил.
67. Иннокентий Анненский и русская культура XX века: Сб. науч. тр. / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме; [Сост. и науч. ред. Г. Т. Савельевой]. СПб., 1996. 151, [2] с.
68. История Первой мировой войны: В 2 т. / Под ред И. И. Ростунова; АН СССР. Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР. М., 1975.
68. Колосов А. Галоша // Биржевые ведомости. 1909. 24 нояб.
69. Колпакова Н. Студия // Нева, 1991, № 1, С. 194–199.
70. Комаровский В. А. Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии / Сост. И.В. Булатовский и др. СПб., 2000. 535 с.
71. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. / Глав. ред. А. А. Сурков. М.; Л., 1962–1978.
72. Краткий отчет об Императорской Николаевской Царскосельской гимназии за последние 15 лет ее существования (1896–1911): Дополнение к крат. истор. очерку этой гимназии за первые 25 лет (1870–1895). СПб., 1912. 100 с., 3 л. портр.
73. Крейд В. П. Гумилев: Библиография. Orange, 1988. 142 с.
74. Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху, 1905–1930 / [Предисл., науч. ред. засл. деят. науки Рос. Федерации А. П. Левандовского]. М., 2000. 200, [2] с., [8] л. ил.: ил. (Живая история: Повседневная жизнь человечества).
75. Кузмин М. А. Дневник 1934 года / Под ред., со вступит. ст. и примеч. Г. Морева. СПб., 1998. 415 с.: ил., цв. ил., факс., портр.
76. Кузмин М. А. Н. Гумилев, «Чужое небо», 3-я кн. стихов. Изд. «Аполлон». Пб., 1912: [Рец.] // Нива. 1912. Т. 1. № 1. С. 161–162. Рец. на кн.: Гумилев Н. Чужое небо: Третья кн. стихов. СПб., 1912.
77. Лавров А. В., Тименчик Р. Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры. Новые открытия, 1981. Л.: Наука, 1983.
78. Лебедев А. А. Путеводитель по Тифлису: С планом города и театров / Сост. А. А. Лебедев. Тифлис, 1904. 138, [6] с., 1 л. план.
79. Левинсон А. Я. «Эмали и камеи» Т. Готье в переводе Н. Гумилева // Прил. к газ. «День», 1914. № 14 (57). С. 9–11. Рец. на кн.: Готье Т. Эмали и камеи / Пер. Н. Гумилева. СПб., 1914.
80. Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. 704 с.
81. Лелевич Г. О социальной природе акмеизма // Жизнь искусства. 1928. 24 янв. (№ 4). С. 7.
82. Лукницкая В. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. 302 с., [24] л. ил.: ил.
83. Лукницкий П. Н. Труды и дни Н. Гумилева. Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом). СПб.: Наука, 2010. 891, [1] с.: портр.
84. Лукницкий П. Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Paris, 1991. Т. 1–2.
85. Лунц Л. Н. Цех поэтов // Книжный угол. 1922. № 8. С. 52–53.
86. Лурье В. «Шатер»: [Рец.] // Дни. 1922. 30 нояб. Рец. на кн.: Гумилев Н. Шатер: Стихи. Ревель, 1921.
87. М. Д. [Долинов М.] «Эмали и камеи» Т. Готье. Пер. Н. Гумилева: [Рец.] // Петроградские вечера. Пг., 1915. Кн. 4. С. 234. Рец. на кн.: Готье Т. Эмали и камеи / Пер. Н. Гумилева. СПб., 1914.
88. Марков А. Из коллекции книжника // День поэзии. 1986. М., 1986. С. 77.
89. Мартынов И. Ф., Клейн Т. П. К истории литературных объединений первых лет советской власти (Петроградский Дом литераторов) // Русская литература. 1971. № 1. С. 125–134.
90. Милашевский В. Вчера, позавчера… Воспоминания художника. 2-е изд., испр. и доп. М., 1989. 398, [1] с.: ил. (Художник и книга: Воспоминания).
91. Мимоза [Садовской Б. А.] Аполлон-сапожник // Русская молва. 1912. 17 дек.
92. Миронов Г. Е. «Начальник террора» (заговор В. Таганцева): Докум. повесть / [Вступ. ст. В. Степанкова]. М., 1993. 135, [2] с.
93. Мочульский К. «Огненный столп»: [Рец.] // Современные записки. 1922. № 11. С. 68–70. Рец. на кн.: Гумилев Н. Огненный столп. Пг., 1921.
94. Н. Гумилев, А. Ахматова: по материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); [отв. ред. А. И. Павловский]. СПб.: Наука, 2006. — 342, [1] с., [8] л. ил., портр.
95. Н. Гумилев и Русский Парнас: Материалы науч. конф., 17–19 сент. 1991 г. / Сост. И. Г. Кравцова, М. Д. Эльзон; Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. СПб., 1992. 136 с.
96. Н. С. Гумилев: Pro et contra: Личность и творчество Николая Гумилева в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология / Сост. и авт. вступ. ст. Ю. В. Зобнин; Рос. акад. образования, РХГИ. СПб., 1995. 671 с.: портр. (Русский путь).
97. Нарбут В. И. Н. Гумилев «Чужое небо»: Рец. // Новая жизнь. 1912. № 9. С. 265–266. Рец на кн.: Гумилев Н. С. Чужое небо: Третья книга стихов. СПб., 1912.
98. Неведомский М. [Миклашевский М. П.] Об акмеизме // За 7 дней. 1913. № 1. С. 12.
99. Никитин А. Л. Неизвестный Николай Гумилев: Исслед. и стихи. М., 1996. 94, [1] с.: портр. (Семейный архив. XX век).
100. Николай Гумилев в воспоминаниях современников: [Репринт. изд.] / Сост. В. Крейда. М. 1990. 316 с.
101. Николай Гумилев: Исследования. Материалы. Библиография / Российская Академия наук. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). СПб., 1994. 680 с.
102. Новое о Сергее Гедройц / Публ. и коммент. А. Г. Меца // Лица. 1992. № 1. М.; СПб., 1992. № 1. С. 291–316.
103. Носик Б. М. Анна и Амадео: История тайной любви Ахматовой и Модильяни, или Рисунок в интерьере: Докум. повесть. М., 1997. 237, [2] с.: ил.
104. О раскрытом в Петрограде заговоре против советской власти // Петроград. правда. 1921, 1 сент. (№ 181). С. 3.
105. Одоевцева И. Г. На берегах Невы / Вступ. ст. К. Кедрова; Послесл. А. Сабова. Л., 1988. 336 с.
106. Олесич Н. Я. Господин студент императорского С.-Петербургского университета / С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 1998. 207 с., [6] л. ил., портр.
107. Оцуп Н. А. Николай Гумилев: Жизнь и творчество. СПб., 1995. 197 с.
108. Памяти Якова Григорьевича Гуревича, 1843–1906: [Ст. и речи]. СПб., 1906. [2], 28 с.
109. Панкеев И. А. Николай Гумилев. М., 1995. 157, [2] с., [8] л. ил.: ил. (Биография писателя).
110. Папюс (Анклосс Ж.). Практическая магия. М., 2003. 816 с.
111. Париж: [Описание города]. М., 1914. [4], 288 с., [14] л. ил.: ил. (Культур. центры Европы; Т. 4).
112. Париж: Описание города и его окрестностей и путеводитель по музеям: С полным планом Парижа и 12 планами музеев, окрестностей и проч.: Сост. по лучшим иностр. источникам. СПб., 1908. XII, 223 с., 1 л. план: план. (Рус. Бедекер: Рус. путеводители по Западной Европе).
113. Перченок Ф., Зубарев Д. На полпути от полуправд. О таганцевском деле и не только о нем // IN MEMORIAM: Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.; СПб.: Феникс; Athenium. 1995. С. 362–370.
114. Петровский М. С. В Африку бегом // Новый мир. 2011. № 1. С. 145–171.
115. Петровский М. С. Заочная гастроль доктора Фрикена // Городу и миру. Киевские очерки. — Киев: Радянськый пысьмэннык, 1990. С. 101–115.
116. Петровский М. С. Книги нашего детства. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006, 421, [3] с.: ил., портр.; 19.
117. Петроград на переломе эпох: Город и его жители в годы революции и гражд. войны / [Е. М. Балашов, В. И. Мусаев, А. И. Рупасов и др.]; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. С.-Петерб. филиал. СПб., 2000. 348, [1] с., [8] л. ил.
118. Письмо Д. Д. Гримма П. Н. Врангелю от 4 октября 1921 г. (из архива Гуверовского института войны, революции и мира) // Русское Прошлое. 7. СПб., 1996. С. 106–113.
119. Полушин В. Л. Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта. Москва: Молодая гвардия, 2007. 749, [3] с., [16] л. ил., портр., факс.
120. Пржиборовская Г. А. Лариса Рейснер. М.: Молодая гвардия. 2008, 496 стр.
121. Редько А. М. У подножия африканского идола. Символизм. Акмеизм. Эго-футуризм // Русское богатство. 1913. № 7. С. 180–181.
122. Рейснер Л. М. Автобиографический роман // Литературное наследство. 1983. Т. 93. С. 190–260.
123. Рейснер Л. М. Женские типы Шекспира: В 2 вып. Рига, 1913. (Миниатюр. Б-ка «Наука и жизнь». № 34/35).
124. Рейснер Л. М. Собрание сочинений / [Вступ. ст. К. Радека]. М.; Л., 1928. Т. 1. XIX, 355 с., 1 л. портр.
125. Реклю Э. Земля и люди: Всеобщая география Элизе Реклю / Пер. сделан со 2-го нем. изд. под ред. С. П. Зыкова, д. члена Императорского Географического общества: СПб., 1898–1901. Кн. 7.
126. Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: Антология / РАН. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; Вступ. ст. М. Л. Гаспарова]. М., 1993. 782 с., [32] л. ил.
127. Русские писатели, 1800–1917: Биогр. словарь / Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) РАН; Гл. ред. П. А. Николаев. М., 1995–1999. Т. 1–5. (Русские писатели, XI–XX вв.: Серия биографических словарей).
128. Садовской Б. А. Конец акмеизма // Современник. 1914. № 13/15. С. 230–233.
129. Садовской Б. А. Юбилей безвременья // Садовской Б. Озимь. М., 1915. С. 47.
130. Сажин В. Н. Предыстория гибели Гумилева // Даугава. 1990. № 11. С. 90–93.
131. Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энцикл. справ. / [Редкол.: …Б. Б. Пиотровский (гл. ред.) и др.]. М., 1992. 687 с.: ил., к.
132. Саянов В. М. О социальной природе акмеизма // Жизнь искусства. 1928. 7 февр. (№ 6.) С. 8.
133. Слободнюк С. Л. «Дьяволы» «Серебряного» века: (Древний гностицизм и русская литература 1890–1930 гг.). СПб., 1998. 428 с.: ил.
134. Слободнюк С. Л. Н. С. Гумилев: Проблемы мировоззрения и поэтики. Душанбе, 1993. 182 с.
135. Слоним М. «Костер»: [Рец.] // Воля России. 1923. № 11. С. 44–47. Рец. на кн.: Гумилев Н. Костер: Стихи. 2-е изд. Берлин; Пб.; М., 1922.
136. Смирнов А. А. Н. Гумилев «Костер»: [Рец.] // Творчество (Харьков). 1919. № 3. С. 27–28. Рец. на кн.: Гумилев Н. Костер: Стихи. СПб., 1918.
137. Степанов Е. Е. Неакадемические комментарии // Toronto Slavic Quarterly. Вып. 17, 18, 20, 22. Toronto, 2007–2010.
138. Степанов Е. Е. Поэт на войне Ч. 1. Вып. 1–4. // Toronto Slavic Quarterly, вып.24–28, Toronto, 2010–2012.
139. Степанов Е. Е. Николай Гумилев. Хроника // Николай Гумилев. Сочинения в трех томах, т. 3. М., Художественная литература, 1991, С. 344–429.
140. Степунин А. Н., Степунина И. Н. Эфиопия. М., 1965. 85 с.: ил., к. (У карты мира).
141. Тименчик Р. Д. Гумилев // Родник. 1988. № 10. С. 21–22.
142. Тименчик Р. Д. Неизвестные письма Н. Гумилева // Известия АН СССР. 1987. № 1. С. 50–52.
143. Тименчик Р. Д. По делу № 214224 // Даугава. 1990. № 8. С. 116–121.
144. Тимофеевский Ф. А. Краткий исторический очерк двухсотлетия города Кронштадта / Сост. по поручению Кронштадт. город. думы отставным Генерал-майором корп. флот. штурманов Ф. А. Тимофеевским; Под ред. город. юбилейной комиссии. Кронштадт, 1913. 288 с., 20 л. ил.: ил.
145. Тропическая Африка: Сб. ст. / Ред. коллегия А. Б. Левинсон и др.; АН СССР. Ин-т Африки. М., 1973. 268 с.
146. Федоров А. В. Иннокентий Анненский: личность и творчество. М., 1984. 255 с., 1 л. портр.
147. Философов Д. В. Акмеисты и Неведомский // Речь. 1913. 17 февр.
148. Флит Н. В. Школа в России в конце XIX — начале XX веков: Гос. и част. гимназии, прогимназии, домаш. обучение, экстернат: Метод. пособие / Ленингр. предприятие «Экстерн». Л., 1991. 96, [1] с.
149. Фырин А. Голова медузы: Первая книга стихов. СПб., 1910. 48 с.
150. Ходасевич В. Ф. Некрополь: [Сборник] / [Сост., вступ. ст., коммент. Н. А. Богомолова]. М., 2001. 442, [2] с., [16] л. ил., портр., факс. (Мой 20 век). (Мемуары).
151. Хренков А. В. Эфиопская «миссия» Николая Ашинова [1885–1889 гг.: Правда и вымыслы]: (По неопублик. документам архивов Москвы и Ленинграда) / АН СССР. Ин-т Африки. М., 1987. 54 с. (Африка).
152. Черных В. Летопись жизни и творчества А. А. Ахматовой. Ч. 1: 1889–1917 / РАН, Ин-т славяноведения, Археогр. комис. СПб., 1998. 111 с.: ил.
153. Черняев В. Ю. Дело «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» // Репрессированные геологи. М. — СПб., 1999. С. 391–395.
154. Черняев В. Ю. Финляндский след в «деле Таганцева» // Россия и Финляндия в XX веке. СПб., 1997. C. 180–200.
155. Чернявский М. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год: С алфавит. указателем и прил. Тверь, 1869. XIII, 219 л.
156. Черубина де Габриак [Васильева Е. И.] Исповедь: [Сборник]. М., 1998. 383 с.: ил. (Символы времени).
157. Чиняков М. К. Русские войска во Франции и Македонии (Салониках), (1916–1918). М., 1997. 120 с. ил.
158. Чуковский К. И. Дневник 1901–1929 / Подгот. текста Е. Ц. Чуковской; Вступ. ст. В. А. Каверина. М., 1997. 544 с., [16] л. ил.: ил.
159. Чуковский Н. К. Литературные воспоминания / [Вступ. ст. Л. И. Левина]. М., 1989. 327, [2] с., [16] л. ил.
160. Чукоккала: Рукопис. альманах Корнея Чуковского / Предисл. и пояснения К. Чуковского; Сост., подгот. текста и примеч. Е. Чуковской. М., 1999. 400 с.: ил.
161. Чуносов М. [Ясинский И. И.] Н. Гумилев. «Жемчуга»: [Рец.] // Новое слово. 1911. № 3. С. 159. Рец. на кн.: Гумилев Н. Жемчуга: Стихи. М., 1910.
162. Штейнберг А. З. Литературный архипелаг. Москва: Новое литературное обозрение, 2009. 399, [2] с., [8] л. ил., порт.
163. Шубинский В. И. Владислав Ходасевич: чающий и говорящий. Второе изд. М.: Молодая гвардия, 2012. 526 с.
164. Шульц С. С. мл. Дом искусств. СПб., 1997. 191, [1] с.: ил. (Знаменитые здания Санкт-Петербурга).
165. Элифас Леви [А. Л. Констан]. Учение и ритуал высшей магии. Т. 1: Учение. Краснодар, 1995. 110, [1] с.: ил.
166. Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1890–1907. Т. 1–41а (кн. 1–82), Т. 1–2 (кн. 1–4).
167. Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: [в 3 т.]; подгот. Б. Я. Фрезинским. — Изд. испр. — Москва: Текст, 2005. — 21.
168. Эфиопские исследования: История. Культура: [Сб. ст.] / АН СССР. Ин-т Африки. М., 1981. 168 с.
Указатель имен
Аба Муда, абиссинский пророк 280–282, 285, 517
Абдуи О. Ф. Е., автор письма о Н. Г. в газету «Московские новости» 271, 281
Абдулайе, проводник 271
Абдуррахман (1844–1901), эмир Афганистана с 1880 г. 23
Абто Георгис, абиссинский сановник 242
Абуна Матеос, абиссинский архиепископ 256
Аверинцев Сергей Сергеевич (1937–2004), литературовед и культуролог 353
Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881–1925), писатель 258
Агранов Яков Саулович (наст. имя и фам. Янкель Шмаевич Соренсон, 1893–1938), ответственный работник ЧК 638–646, 657
Адалис (наст. имя и фам. Аделина Ефимовна Ефрон, 1900–1969), поэт 625
Адамович Георгий Викторович (1892–1972), поэт и критик 91, 152, 162, 164, 173, 367, 381, 397, 399–400, 440, 444, 464, 502, 515, 517–518, 524, 537, 544, 558, 575, 580, 586, 595, 597, 612, 628, 651, 668, 671
Адамович Татьяна Викторовна (в замуж. Высоцкая, 1891–1970), балерина 363, 400–402, 441, 464
Азадовский Константин Маркович, литературовед 10, 49
Азарх-Грановская Александра Вениаминовна (1892–1980), актриса 519, 623
Аксенов Иван Александрович (1884–1935), писатель 248–249
Алданов (наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886–1957), писатель 26, 519
Александр I Павлович (1777–1825), российский император с 1801 г. 218
Александр II Николаевич (1818–1881), российский император с 1855 г. 19
Александр III Александрович (1845–1894), российский император с 1881 г. 24, 26, 30, 42, 56, 408
Александр Баттенберг (1857–1893), болгарский князь в 1879–1886 гг. 22
Александр Македонский (Александр III Великий, 356–323 до н. э.), царь Македонии с 336 г. до н. э., полководец 157, 430, 504
Александра Федоровна (1872–1918), российская императрица, жена Николая II 95, 415, 454–456, 461, 518, 631
Алексеев Владимир Сергеевич (1903–1942), поэт 583
Алексей Николаевич (1904–1918), цесаревич, сын Николая II 452
Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь с 1645 г. 218
Алехин Александр Александрович (1892–1946), шахматист 193
Алонкина Мария Сергеевна (1901–1936?), уполномоченная Дома искусств 577
Альберт Виктор (1864–1892), британский принц 24
Альтман Моисей Семенович (1896–1986), литературовед 31, 174–177, 296, 320
Альтман Натан Исаевич (1889–1970), художник 123, 367, вклейка
Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938), писатель, журналист 541, 560, 656
Амха Селассие I (р. 1913), претендент на эфиопский престол 276, 277
Анастасия Николаевна (1901–1918), великая княжна, дочь Николая II 455
Андерсен Ханс Кристиан (1805–1875), датский писатель 49, 348, 613
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), писатель 93, 447, 453, 458, 475, 639
Андреева Екатерина Алексеевна (в замуж. Бальмонт, 1867–1950), переводчик 92, 152, 460
Андреева (наст. фам. Юрковская) Мария Федоровна (1868–1953), актриса, жена Горького 638
Анджелико (наст. имя Фра Джованни да Фьезоле, прозвище Беато Анджелико, 1387 или ок. 1400–1455), итальянский художник 127, 376–377, 380
Анненков Юрий Павлович (1889–1974), художник, писатель, мемуарист 181, 612, 632
Анненская Александра Никитична (1840–1915), жена Н. Ф. Анненского, переводчик 73
Анненская Наталья Владимировна (урожд. фон Штейн, 1885–1975), жена В. Кривича 84, 116, 306
Анненский В. И., см. Кривич В. И.
Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909), поэт 9, 69–74, 77–78, 84, 97–104, 119, 124, 147–148, 150, 161–162, 165, 168–169, 183, 185, 188–203, 205, 213, 217, 229–232, 246, 298, 306, 321, 331, 353, 375, 439, 462, 483–484, 596–597, 628, 671, 677
Анненский Николай Федорович (1843–1912), экономист, публицист 73
Анреп Борис Васильевич (1883–1969), художник-мозаичист 132, 441, 478–482, 487, 504
Антиной (?–130), греческий юноша, любимец римского императора Адриана 243
Антоний Марк (83–30 до н. э.), римский полководец Антоний Великий (ок. 251–350), святой 156, 343
Аполлинер Гийом (наст. имя Вильгельм Аполлинарий Костровицкий, 1880–1918), французский поэт 112, 413
Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893), поэт 26
Арбенин Николай Федорович (1863–1906), отец О. Гильдебрандт-Арбениной 504
Арбенина-Гильдебрандт О. Н., см. Гильдебрандт-Арбенина О. Н.
Аренс Анна Евгеньевна (в замуж. Пунина, 1887–1942), жена Н. Пунина 166-167
Аренс Вера Евгеньевна (1883–1969), поэт 166-167
Аренс Зоя Евгеньевна 166-167
Аренс Лев Евгеньевич (1890–1967), поэт 85, 166-167
Аренс Лидия Евгеньевна 166–167, 215
Ариосто Лодовико (1474–1533), итальянский поэт 50
Аристофан (ок. 445 — ок. 385 до н. э.), древнегреческий комедиограф 473
Аркос Жан Рене (1881–1959), французский поэт 322
Артамонов Леонид Константинович (1857–1933), офицер, исследователь Африки 240-242
Асеев Николай Николаевич (1889–1963), поэт 622
Асфау, абиссинский сановник 278
Ата-Йосеф, абиссинский поэт 256
Ауслендер Сергей Абрамович (1886–1937), писатель 122, 179–181, 186, 189, 192, 200, 215, 222, 229, 246–247, 249, 251, 298–299, 358, 443, 471
Ауслендер Михаил Яковлевич, врач, дядя С. Ауслендера 222, 443
Афанасьев Леонид Николаевич (1864–1920), поэт 409, 437
Ахматова Анна Андреевна (урожд. Горенко, в замуж. Гумилева, 1889–1966) 10–11, 14, 29–31, 33–35, 51–52, 54, 64, 66, 76, 79–88, 100, 103, 124, 132–134, 136–138, 141, 143–144, 147, 152–153, 160–169, 171–172, 182–183, 193, 210, 214–215, 224, 227, 229–230, 233, 244, 246, 248–253, 256–258, 263, 265–267, 269–270, 285, 289, 316–331, 336–355, 357–363, 365–366, 369, 372–375, 377–384, 388, 391, 393–402, 405–407, 412–416, 419, 425, 433–444, 446, 448, 453, 457, 461–480, 483–487, 504–505, 507–511, 515, 518, 522, 533, 541–542, 553, 560–561, 571, 575–577, 580–583, 593, 595–596, 600, 603, 605–606, 608, 610, 615, 621, 626–627, 660, 666–668, 671, 693–694, вклейка
Ашинов Николай Иванович (1856–?), казачий атаман 239
Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940), писатель 266, 356
Бабичев Иван Филаретович (1871–1955), русский офицер на абиссинской службе 293
Бабичев Мишка (Михаил Иванович, 1908–1962), летчик 293
Багратион Петр Иванович (1765–1812), генерал от инфантерии 56
Багрицкий Эдуард Георгиевич (наст. фам. Дзюбин, 1895–1934), поэт 356, 620, 673
Баженова Елизавета Михайловна, учительница музыки 80
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) 9, 327, 378, 534
Бакст Лев Самойлович (наст. фам. Розенберг, 1866–1924), художник 185–189, 196, 267, 487
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт 65–68, 79, 82, 88–92, 99-100, 102, 104, 116–117, 121, 130, 146, 152, 173, 179, 185, 196–199, 259, 301, 323, 361–362, 376, 451, 458–461, 541
Бальмонт Николай Константинович (Никс, 1890–1926), сын К. Бальмонта 460
Барант Эрнест де (1818–1859), сын французского посла 221
Бараташвили Николоз Мелитонович (1817–1845), грузинский поэт 58
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844), поэт 46, 413, 585
Баттенберг Александр, болгарский князь 22
Батюшков Константин Николаевич (1787–1855), поэт 42, 449, 550
Башмаков Марк Иванович, коллекционер, вклейка 11
Бебель Август (1840–1913), немецкий социалист 96
Бедный Демьян (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов, 1883–1945) 572
Бейлис Мендель (1874–1934), подсудимый на известном процессе о «ритуальном убийстве» 249, 564
Бекетовы, дворянский род 13
Бёклин Арнольд (1827–1901), швейцарский художник 128
Белкин Вениамин Павлович (1884–1951), художник 126, 359
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), критик 17, 93
Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич (1778–1852), мореплаватель 18
Беллок Хилэр (1870–1953), английский писатель 484
Белый Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934), поэт, писатель 92, 94, 117–118, 120, 122, 151, 185, 194, 314, 333, 335–337, 391, 475, 483
Беляев, генерал 495
Бен-Гурион Давид (1886–1973), первый премьер-министр Израиля 26
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873), поэт 605
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), художник, искусствовед 126–128, 143, 195–196, 487, 632
Бенуа Анна Леонтьевна, сестра милосердия, дочь архитектора Л. Н. Бенуа 436
Берберова Нина Николаевна (1901–1993), писатель 139, 628–630, 667-668
Бергсон Анри (1859–1941), философ 113, 482
Бердяев Николай Александрович (1874–1948), философ 417
Беринг Морис (1874–1945), английский поэт и переводчик 483-484
Берман Лазарь Васильевич (1894–1980), поэт 605, 645, 648, 651
Бернерс Джеральд, лорд (1883–1950), английский композитор 497
Берцов, гимназический товарищ Н. Г. 60
Бескин Осип Мартынович (1892–1969), критик 675
Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927), невролог, психиатр и психолог 457
Бечхофер (Бехгофер) Робертс Карл, английский писатель и журналист 481–483, 500
Биск Александр Акимович (1883–1973), поэт, переводчик 117, 122, 130-131
Бисмарк Отто (полн. Отто Эдуард Леопольд Бисмарк фон Шенхаузен, 1815–1898), первый рейхсканцлер Германии (1871–1890) 25
Бистрати, начальник таможни в Харраре 275
Битов Андрей Георгиевич (р. 1937), писатель 537
Блаватская Елена Петровна (1831–1891), теософ и писатель 107, 156, 234
Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт 13, 24, 51, 62, 90–91, 102, 121, 148, 174, 181, 185, 188, 194, 205, 217, 231, 249, 292, 299, 300, 312–317, 324–328, 332, 348, 355, 361, 364, 366, 374–375, 384–386, 388, 391, 395, 399, 400, 402, 412–414, 450–453, 456, 458, 461, 475, 514–516, 522–531, 540–541, 545, 549, 553, 555, 559–561, 568–581, 583, 586–595, 605, 626, 633, 661, 665, 670, 673, 697
Блок Георгий Петрович, литературовед 633
Блок Любовь Дмитриевна (урожд. Менделеева, 1881–1939), жена А. Блока 324
Блох Раиса Ноевна (1899–1943), поэт 548, 568
Блох Яков Ноевич (1892–1968), издатель 575
Блюмкин Яков Григорьевич (1898 или 1900–1929), сотрудник ЧК, разведчик 293, 611, 623-625
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921), писатель 561, 661
Бобров Сергей Павлович (1889–1971), поэт, литературовед 22, 625
Богаевский Константин Федорович (1872–1943), художник 196
Богданова, парижская знакомая Н. Г 152
Богданова-Бельская (урожд. Старынкевич, в замуж. Гросс, Берг, Дерюжинская, Педди-Кабецкая) Паллада Олимповна (1887–1968), поэт 360
Боголюбов Ефим Дмитриевич (1889–1952), шахматист 193
Богомолов Николай Алексеевич, литературовед 10–11, 234, 285, 303, 610,
Богораз Владимир Германович (до крещения Натан Менделевич, псевд. Н. А. Тан и др., 1865–1936), этнограф 93, 417
Боде Александр Адольфович (1865–1939), поэт 412
Бодлер Шарль (1821–1867), французский поэт 93, 129–130, 147, 166, 377, 524
Бодуэн де Куртене Иван Александрович (1845–1929), лингвист 172, 381
Божерянов Александр Иванович (1882–1961), художник 124-126
Болгар Франц фон, составитель дуэльного кодекса 220
Болотников, стихотворец 665
Боннар Пьер (1867–1947), французский художник 108
Боратынский Е. А., см. Баратынский Е. А.
Борис Федорович Годунов (1552–1605), царь с 1598 г. 74, 242
Боровой Алексей Алексеевич (1875–1935), анархист, составитель путеводителя по Парижу 109-110
Бородаевский Валериан Валерианович (1874–1923), поэт 198
Боске Ален (1919–1998), сын А. Биска, французский поэт 130
Боткин Евгений Сергеевич (1864–1918), врач 454
Боткин Михаил Петрович (1839–1914), художник 200
Брандес Георг (1842–1927), датский писатель 23
Браунинг Элизабет Баррет (1806–1861), английский поэт, жена Р. Браунинга 206, 229
Браунинг Роберт (1812–1889), английский поэт 206, 382
Брет Гарт, см. Гарт Ф. Б.
Брехт Бертольд (лит. имя Бертольт, 1898–1956), немецкий писатель 545
Бродский Иосиф Александрович (1940–1996), поэт 40, 340, 446, 504, 546
Бронгулеев Вадим Васильевич, биограф Н. Г., коллекционер 10, 37, 138, 262
Брук Руперт (1887–1915), английский поэт 322, 413, 483
Бруни Николай Александрович (1891–1937), поэт, авиатор, священник 330, 334, 355, 398, 493, 625, 668
Бруни Федор (Фиделио) Антонович (1799–1875), художник 127
Бруно Джордано (1548–1600), итальянский философ и поэт 156
Брюллов Карл Петрович (1799–1852), художник 127, 246
Брюллова Лидия Павловна (в замуж. Владимирова, 1886–1954), поэт 205, 206, 213-217
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт 48, 64, 75, 77–78, 85, 88–96, 100–104, 113, 115–124, 127–154, 159–160, 174–177, 181, 183–184, 188–190, 194–199, 207, 230–231, 234, 243, 246–248, 258, 295–301, 304–317, 328–329, 332, 335, 348–349, 364, 369–370, 372, 393–395, 402, 413, 447, 460–461, 482, 512, 541, 556, 613, 622, 625, 630
Брюсов Александр Яковлевич (1885–1966), брат В.Я. Брюсова, археолог 258
Буа Жюль (1868–1943), оккультист 95
Будда (Сиддхарта Гаутама, 663–584 или 623–544 до н. э.) 119, 214, 317
Буденный Семен Михайлович (1883–1973), маршал 619
Булавин, стихотворец 665
Булатович Александр Ксаверьевич (в монашестве о. Антоний, 1870–1919), исследователь Африки 240–242, 256, 271, 279, 293
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859), журналист, писатель 571
Булла Карл Карлович (1852–1929), фотограф 378, 474
Бунге Николай Христианович (1823–1895), финансист 25
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), писатель 50, 77, 134, 164, 373, 465, 532
Бураков Н. И., инженер-механик 22
Бурдель Эмиль Антуан (1861–1929), французский скульптор 125
Буренин Виктор Петрович (1841–1926), критик 197, 325–329, 405
Бурлюк Давид Давыдович (1882–1967), поэт и художник 369
Бурлюк Николай Давыдович (1890–1920), поэт, брат Д.Д. Бурлюка 369, 386
Бурцев Владимир Львович (1862–1942), публицист и издатель 459
Буссенар Луи Анри (1847–1910), французский писатель 53
Бутурлин Петр Дмитриевич (1859–1895), поэт 207
Бушен Дмитрий Дмитриевич (1893–1993), художник 338,
Бэрр Аарон (1755–1836), вице-президент США 219
Вавилов Николай Иванович (1887–1943), биолог, генетик 234
Вагинов Константин Константинович (до 1915 г. — Вагенгейм, 1899–1934), писатель 46, 118, 553–559, 586, 613
Вагинова А.И., см. Федорова А.И.
Вагнер Рихард (1813–1883), немецкий композитор 25, 412
Важа Пшавела (наст. имя и фам. Лука Павлович Разикашвили, 1861–1915), грузинский поэт 58
Ваксель Ольга Александровна (1903–1932), 15–16, 545
Валлен-Деламот Жан Батист Мишель (1729–1800), архитектор 561
Ван Гог Винсент (1853–1890), голландский художник 26, 111
Ван Донген (Ван Донжен) Кеес (1877–1968), французский художник 125
Василевский Илья Маркович (псевд. Не-Буква, 1883–1938), журналист 412
Васильев Всеволод Николаевич, жених Е. Дмитриевой 207, 212, 229
Васильева Е., см. Дмитриева Е.
Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926), художник 127
Ватсон (урожд. Де Роберти) Мария Валентиновна (1848–1932), поэт 599
Вахитова Т. М. 142, 143
Введенский Александр Иванович (1856–1925), философ 172, 381
Введенский Александр Иванович (1904–1941), поэт 582-583
Вебер, художник 128
Веласкес (Родригес де Сильва Веласкес) Диего (1599–1660), испанский художник 459
Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941), критик, историк литературы 483
Венгров Натан (наст. имя и фам. Моисей Павлович Вейнгров, 1894–1962), критик 447, 515
Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827), поэт 13
Вензель Н., критик 405
Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928), писатель 364, 459
Вергилий Марон Публий (70–19 до н. э.), римский поэт 296
Верин Борис Николаевич (наст. фам. Башкиров, 1893–?), поэт 515, 648
Верлен Поль (1844–1896), французский поэт 26, 89, 92, 111, 300, 302, 329, 340, 482
Верн Жюль (1828–1905), французский писатель 50, 62, 291
Вертинский Александр Николаевич (1889–1957), певец, поэт, артист 305, 548
Верхарн Эмиль (1855–1916), бельгийский поэт 322
Верховский Юрий Никандрович (1878–1956), поэт 183, 194, 672
Верхоустинский Борис Алексеевич (1888–1919), писатель 398
Веселитская Л.И., см. Микулич В.
Вийон (Виллон) Франсуа (1431 или 1432 — после 1464) 379, 391
Виктория (1819–1901), королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии с 1837 г., императрица Индии с 1876 г. 24, 258
Викторов Яков Алексеевич (1780–1872), прадед Н. Г. 14
Виллон Ф., см. Вийон Ф.
Вильгельм I Гогенцоллерн (1797–1888), германский император с 1871 г. 25
Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941), германский император в 1888–1918 гг. 405, 410
Вильгельм-Фридрих-Август-Эрнст Гогенцоллерн (1882–1951), германский кронпринц 149
Вильдрак Шарль (наст. фам. Мессаже, 1882–1971), французский писатель 322
Вильсон Вудро (1856–1924), президент США 662
Вильсон Эдит (1872–1960), супруга В. Вильсона 662
Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1768), немецкий историк искусств 375
Винокуров Александр Николаевич (1869–1944), политический деятель 663
Витальен, доктор в Аддис-Абебе 256
Вишневский Всеволод Витальевич (1900–1951), драматург 495
Владимир Александрович (1847–1909), великий князь 30
Власов П. М., русский поверенный в Абиссинии 242
Войтинская Надежда Савельевна (1886–1965), художник 215-216
Войтинский Савелий Осипович, проф. математики, отец Н. С. Войтинской 216
Войтоловский Лев Наумович (1876–1941), писатель 300–304, 309, 371, 379, 429-430
Волков Петр Николаевич (1894–1979), поэт, участник кружка «Звучащая раковина» 555, 558–560, 586
Волковыский Николай Моисеевич (1880 — не ранее 1940), журналист 560, 633
Волконский Сергей Михайлович (1860–1937), князь, писатель, театральный деятель 360
Володарский В. (наст. имя и фам. Моисей Маркович Гольдштейн, 1891–1918), комиссар Петросовета по делам печати 519, 641
Волошин Максимилиан Александрович (полн. фам. Кириенко-Волошин, 1877–1932), поэт, критик, художник 90, 95,122–123, 127, 150, 182–183, 186, 194, 199, 201, 203–217, 220–231, 309, 333, 620, 622, 633, 673, 697, вклейка
Волынский Аким Львович (наст. имя и фам. Флексер Хаим Лейбович, 1861–1926), критик, литературовед, искусствовед 89, 197, 525, 562–563, 567, 632
Вольпин Надежда Давыдовна (1900–1998), поэт, переводчик 455, 622
Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ, 1694–1778), французский писатель и философ 129, 524
Воробьева, тифлисская знакомая Н. Г. 63
Воронский Александр Константинович (1884–1937), критик, издательский деятель 356
Врангель Николай Николаевич (1880–1915), искусствовед 200, 213, 360
Врангель, Петр Николаевич (1878–1928), 620, 641, 644
Врубель Михаил Александрович (1856–1910), художник 189
Всеволодский-Гернгросс Всеволод Николаевич (1882–1962), актер, театровед 534
Вульфиус (Вульпиус) Курт, гимназический товарищ Н. Г. 82-83
Вырубова Анна Александровна (1884–1964), фрейлина 454
Высотская Ольга Николаевна (1885–1966), актриса 362, 383
Высотский Орест Николаевич (1913–1992), сын О. Высотской и Н. Г. 362
Вышнеградский Иван Александрович (1831/32–1895), математик, финансист 25
Вязменская Фаня Львовна (1913–1998), художник вклейка
Вячеславский, см. Шведов В. Г.
Габре, абиссинский сановник, вице-губернатор Харрара 276
Габроселяси, абиссинский сановник 241
Гайдара Антонио де ла (1862–1917), французский художник 128
Газалов, Багратий Иванович, домашний учитель Н. Г. 38–40, 46, 55–56, 113
Галеб, русский вице-консул в Джибути 269
Галуа Эварист (1811–1832), французский математик 218
Гальс Ф., см. Хальс Ф.
Гальский Г., см. Шершеневич В.
Гама Васко да (1469–1524), португальский мореплаватель 298, 373
Гамильтон Александр (1755–1804), министр финансов США 219
Гамсун (наст. фам. Педерсен) Кнут (1859–1952), норвежский писатель 338
Ганн Мод, жена У. Йейтса 483
Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович (1696–1781), предок А.С. Пушкина 243
Ганнон (VII–VI вв. до н. э.) карфагенский мореплаватель 373
Гарднер (де Пайва Перера Гарднер) Вадим Данилович (1880–1956), поэт 330, 482, 505
Гаррисон Джордж, исследователь Африки 24
Гарт Фрэнсис Брет (Брет Гарт, 1836–1902), американский писатель 213
Гарун аль-Рашид (Харун аль Рашид, 763 или 766–809), халиф из династии Аббасидов 273
Гарязин Александр Львович (?–1918), литератор 355
Гаспаров Михаил Леонович (1935–2005), литературовед 607
Гастин Жюль де, французский писатель 22
Гауптман Герхард (1862–1946), немецкий драматург 53
Гевара де ла Серна Эрнесто (Че, 1928–1967), латиноамериканский революционер 219
Гедройц Сергей (наст. имя Гедройц Вера Игнатьевна, 1870–1932), врач, поэт 387–389, 453-454
Гейне Генрих (1797–1856), немецкий поэт 300–301, 329, 525,
Геккерен де Беверваард Людвиг ван (1791–1884), барон 608
Гельвальд, фон Фридрих (1842–1892), географ 292
Генрих III (1551–1589), король Франции с 1574 г. 461
Генрих Гиз, герцог Лотарингский (1550–1588) 461
Георге Стефан (1868–1933), немецкий поэт 91
Георгиевский Александр Иванович (1830–1911), педагог 37, 41, 45
Георгиевский Лев Александрович (1860 — после 1917), педагог 37
Георгиевский М., стихотворец 568
Гербель Николай Васильевич (1827–1883), переводчик 50
Герман Юрий Павлович (1890-е — 1921), член ПБО 636, 641, 644–648, 653
Гернгросс-Всеволодский, см. Всеволодский-Гернгросс
Геродот (ок. 484 до н. э. — 426 до н. э.), древнегреческий историк 233
Герцль Теодор (1860–1904), основоположник сионизма 219
Герцык Аделаида Казимировна (1874–1925), поэт 200
Гершензон Михаил Осипович (1869–1925), литературовед 311
Герштейн Эмма Григорьевна (1903–2002), литературовед 132, 362, 608
Гессен Иосиф Владимирович (до крещения Саулович, 1865–1943), политик, журналист 326, 665
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель, мыслитель 31, 314
Гиль (Гильберт) Рене (1862–1925), французский поэт 26, 91, 124, 393
Гильдебрандт-Арбенина Ольга Николаевна (1897–1980), актриса, художник 150, 343, 460–462, 466, 499, 511, 528, 590, 598–610, 653, 667, вклейка
Гинденбург Пауль фон (1847–1934), германский военачальник, затем президент Германии 416
Гинзбург Лидия Яковлевна (1902–1990), литературовед 552, 555
Гиппиус Василий Васильевич (1890–1942), поэт, литературовед 303, 388, 398, 514-515
Гиппиус Владимир Васильевич (псевд. Вл. Бестужев, Вл. Нелединский, 1876–1941), поэт, литературовед 388
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945), поэт 89, 94, 117–119, 124, 152, 173, 200, 258–259, 349, 395, 410–411, 532, 546
Гитлер Адольф (1889–1945) 400
Гладстон Уильям Юарт (1809–1898), премьер-министр Великобритании 23
Глебова-Судейкина Ольга Афанасьевна (1885–1945), актриса 359
Глез Альбер (1881–1953), французский художник 322
Глинка Михаил Иванович (1804–1857), композитор 410
Глинский Давид Львович, врач 272
Глоба, рядовой 495
Глубоковский, гимназический товарищ Н. Г. 60
Гоген Поль (1848–1903), французский художник 111, 127–129, 294, 487
Гогенберг София, фон (1868–1914), княгиня, супруга эрцгерцога Франца Фердинанда 404
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель 22, 42, 48, 162, 354, 376, 398
Годин Яков Владимирович (Вульфович, 1887–1854), поэт 352, 409
Голенищев-Кутузов Владимир Викторович (1879–?), юрист, предмет увлечения Анны Горенко 87, 132, 133
Голицынский-Поликарпов, стихотворец 665
Голлербах Евгений Александрович, историк книги, внук Э. Голлербаха 11
Голлербах Федор Георгиевич (Егорович), кондитер 30, 188
Голлербах Эрих Федорович (1895–1942), писатель 30, 71, 77–79, 85–86, 91–92, 125, 169, 188, 292–293, 297, 544, 569, 589–593, 670, 673
Головин Александр Яковлевич (1863–1930), художник 217, 223
Гомер (VIII–VII вв. до н. э.) 136, 371, 439, 521, 632
Гончарова Наталья Сергеевна (1881–1962), художник 487–489, 497–498, вклейка
Горбаневская Наталья Евгеньевна (1936–2013), поэт 31
Гордон Лев Семенович (1901–1973), филолог, поэт, муж М. Тумповской 443
Гордон Патрик (1636–1699), военный деятель 218
Горенко Андрей Андреевич (1886–1920), брат Ахматовой 83–84, 123, 132, 232, 620
Горенко Андрей Антонович (1848–1915), отец Ахматовой 84, 87, 441
Горенко Анна Андреевна, см. Ахматова А. А
Горенко И. А., см. Штейн И. А.
Горенко Инна Эразмовна (1852–1930), мать Ахматовой 25, 85, 133, 620
Горнунг Лев Владимирович (1901–1993), поэт 619
Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867–1941), критик, литературовед 309
Городецкая (урожд. Козельская) Анна Алексеевна (1889–1945), жена С. Городецкого 391
Городецкий Л., фотограф 73, 266
Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967), поэт 122, 154, 181–182, 187, 190, 197–198, 303–305, 323–324, 326, 330, 333–337, 348, 351–352, 357, 369, 372, 376–380, 385–399, 407–409, 433, 437, 446–449, 456, 458, 462, 526, 533, 571–573, 575, 593, 596, 668, 672–673, 675
Горфинкель Даниил Михайлович (1889–1966), участник кружка «Звучащая раковина», переводчик 555, 560
Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков, 1868–1936) 93, 447, 458, 522–525, 528, 532, 559, 590, 597, 633, 638, 657, 663
Готье Жюдит, дочь Т. Готье 500
Готье Теофиль (1811–1872), французский поэт, 160, 247, 269, 374, 378–379, 382, 386, 390, 395, 500
Гофман Виктор Викторович (1884–1911), поэт 146-147
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822), немецкий писатель, композитор, художник 360
Гофмансталь Гуго фон (1874–1929), австрийский поэт 91
Грааль Арельский (наст. имя и фам. Стефан Стефанович Петров, 1888 или 1889–1938?) 365
Грауны, фон 14
Гржебин Зиновий Исаевич (1869–1929), художник, издатель 522–525, 632, 664
Греч Николай Иванович (1787–1867), писатель 561
Грибоедов Александр Сергеевич (1790 или 1795–1829) 218
Григ Эдвард (1843–1907), норвежский композитор 100
Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) 605
Гримм Т.Т., представитель Врангеля в Финляндии 641, 644
Грин Александр Степанович (наст. фам. Гриневский, 1880–1932) 563
Гринвальд Маргарита, Марго, знакомая М. Волошина 208
Грушко Наталья Васильевна (в замуж. Маркова, Островская, 1891–1974), поэт 571, 574
Губер Ада Аркадьевна (1892– после 1938), литератор, жена П. К. Губера 362
Губер Петр Константинович (псевд. Аркадий Фырин, 1886–1941), литературовед 260, 262
Гумилев Григорий Прокопьевич (1745–1820), прадед Н. Г. 17, 362
Гумилев Дмитрий Степанович (1884–1922), брат Н. Г. 18, 35–39, 46, 53–55, 69, 80–82, 161, 414, 520, 626, 668
Гумилев Лев Николаевич (1912–1992), сын Н. Гумилева и А. Ахматовой 154, 289, 331, 362, 383, 401, 434, 470, 533, 537, 538, 540, 541, 549, 608, 613, 616, 666, 667
Гумилев Прокофий (1720–?), прапрадед Н. Г. 17
Гумилев Степан (Стефан) Яковлевич (1836–1910), отец Н. Г. 17, 18, 21, 27, 34, 36–39, 48, 52–54, 69, 245–246, 469
Гумилев (Панов) Яков Федотович (1790–1858), дед Н. Г. 17
Гумилева Анна Андреевна (урожд. Горенко), см. Ахматова
Гумилева Анна Андреевна (урожд. Фрейганг, 1887–1956), жена Д.С. Гумилева 17, 21, 34, 35, 520
Гумилева Анна Ивановна (урожд. Львова, 1854–1942), мать Н. Г. 15, 18, 20, 27, 36, 55, 106, 161, 153, 245, 383, 401, 457, 520, 537, 540, 615, 616, 666
Гумилева Анна Михайловна (урожд. Некрасова, 1841–1872), первая жена С.Я. Гумилева 18, 20
Гумилева Анна Николаевна (урожд. Энгельгардт, 1895–1942), вторая жена Н. Г 459–462, 469, 509–510, 537, 603, 605, 613, 614–615, 618, 631, 632, 667
Гумилева Елена Николаевна (1919–1942), дочь Н. Г. 511, 540, 613, 615–617, 667-668
Гумилева Зинаида Степановна (после 1876 — до 1887), сестра Н. Г. 18
Гурвич Исидор Яковлевич (1882 — после 1931), критик 447
Гуревич Любовь Яковлевна (1866–1940), писатель 46, 89
Гуревич Себастьян (Шеба) Абрамович (1878–?), художник 123, 140
Гуревич Яков Григорьевич (1843–1906), педагог 37–48, 52, 54, 73
Гуревич Яков Яковлевич (1869–?), педагог и беллетрист 46
Гурмон Реми де (1858–1915), французский писатель 95
Гуро Елена (наст. имя и фам. Элеонора Генриховна Нотенберг, 1877–1913), поэт 204, 386
Гучков Александр Иванович (1862–1936), политический деятель 219, 222
Гюго Виктор (1802–1885) 111, 129, 141, 145
Гюисманс Жорж Шарль Мари (1848–1907), французский писатель 165
Гюнтер Иоганнес фон (1886–1973), немецкий писатель, переводчик 193, 195, 201–207, 214–215, 221–222, 228
Давидсон Аполлон Борисович, африканист, литературовед 10, 137, 241, 267, 270, 274, 291, 293
Давыдов Денис Васильевич (1784–1839), поэт 422, 526-527
Давыдов Юрий Владимирович (1924–2002), писатель 239
Дагмара (Дагмар), вождь зулусов (первая половина XIX века) 290
Далькроз (Жак-Далькроз) Эмиль (1865–1950), создатель системы ритмической гимнастики 360, 519
Данзас Константин Карлович (1801–1870), секундант Пушкина на дуэли с Дантесом 223
Данилевский В.Г., коллекционер 10, 262
Д’Аннунцио Габриэле (1863–1938), итальянский писатель, поэт 354, 430–431, 485, 493, 502, 515–517, 627
Данте Алигьери (1265–1321) 136, 298, 365, 378, 602
Дантес Жорж-Карл, барон Геккерен (1812–1895) 607, 608
Данчич, врач 34
Данишевский Семен Исаакович (1870–1944), художник 126
Дарвин Чарльз Роберт (1809–1882), английский естествоиспытатель 18
Дегтярев Константин, литературовед 246
Де ла Мар Уолтер (1873–1956), английский поэт 322
Делла-Вос-Кардовская Ольга Людвиговна (1875–1952), художник 114, 161-165
Дельвиг Антон Антонович, барон (1798–1831), поэт 76
Дементьев, врач 76
Дени Морис (1870–1943), французский художник 125
Деникер Жозеф (1852–1918), французский антрополог 292
Деникер Николя, поэт 124, 292, 322
Денисьева Елена Александровна (1826–1864), возлюбленная Тютчева 37
Державин Гавриил Романович (1743–1816) 29, 51, 74, 449, 550, 605
Дешевов Владимир Михайлович (1889–1955), композитор 71, 78, 85
Джеймс Генри (1843–1916), американский писатель 322, 480
Джеймс Уильям (1842–1910), американский философ 322
Джелаль-эд-Дин (1194–1231), хан Хорезма 59
Джугашвили И. В., см. Сталин
Дзержибашев (Терентий Дерибас), сотрудник секретного отдела ВЧК 649
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) 634, 637–639, 646, 657
Димитрий Ростовский (Даниил Саввич Туптало, 1651–1709), митрополит, писатель 173
Дине Этьен, французский художник 128
Дмитренко Алексей Леонидович, литературовед 11, 553, 583, 612, 626
Дмитриев В., ученик Н.С. 550
Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), поэт 107
Дмитриев Николай Петрович (1903 — не ранее 1940), поэт, участник «Звучащей раковины» 555-556
Дмитриев Павел Вячеславович, критик 144
Дмитриева Елизавета Ивановна (в замуж. Васильева, псевд. Черубина де Габриак, 1887–1928), поэт, прозаик 123, 140, 183, 188, 200–215, 221, 228–230, 251, 333, 685-686
Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957), художник 190, 293, 359, 361, 565, 582
Донкинг, английский доктор 407
Дорфман Елизавета Григорьевна (1899–1941), художник вклейка
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) 17, 42, 52, 92, 217, 226, 365, 673, 697
Драчевский Даниил Васильевич (1858–1928), петербургский градоначальник 194
Древин (Древиньш) Александр Давыдович (1889–1938), художник 604
Дубровинский Иосиф Федорович (товарищ Иннокентий, 1877–1913), революционер 664
Дувакин Виктор Дмитриевич (1909–1982), литературовед 132, 623
Думер Поль (1857–1932), французский политический деятель 476
Дункан Айседора (1877 или 1878–1927), американская танцовщица 84, 88, 267
Дурасов В., составитель дуэльного кодекса 220, 223, 229
Ду Фу (712–770), китайский поэт 500
Дымов Осип (Перельман Осип Исидорович, 1878–1959), писатель 199, 202
Дюамель Жорж (1884–1966), французский писатель 322
Дюбуше Елена Карловна (в замуж. Ловель), парижская знакомая Н. Г. 499-500
Дюркгейм Эмиль (1858–1917), французский философ и социолог 322
Дягилев Сергей Павлович (1872–1929), театральный и художественный деятель 125–127, 189, 251, 487, 497-499
Евгеньев-Максимов (Максимов) Владислав Евгеньевич (1881–1955), литературовед 77, 561
Евреинов Николай Николаевич (1879–1953), режиссер, драматург, теоретик театра 181–182, 359, 412, 546, 555
Еврипид (ок. 480–406 до н. э.), древнегреческий драматург 73, 152
Егоров Петр Егорович (1731–1789), архитектор 40
Екатерина II Алексеевна (1729–1796), императрица 87, 137,
Елизавета Петровна (1709–1761/62), императрица 561
Елисеев Никита Львович, критик, литературовед 249
Елисеев Петр Елисеевич (1775–1825), и его потомки, владельцы винных и продовольственных магазинов 561–562, 563, 565
Ермак Тимофеевич (между 1537 и 1540–1585), казачий атаман 419
Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965), критик 674
Ермолов, русский военный агент в Англии 502-503
Есенин Сергей Александрович (1895–1925), поэт 30, 292, 329, 355, 399, 453, 455, 458, 519, 613, 622, 676
Ефим, служитель Дома искусств 631
Жаботинский Владимир Евгеньевич (1880–1940), писатель, еврейский общественный деятель 266
Жакоб Макс (1876–1944), французский поэт 112
Жамм Франсис (1868–1938), французский поэт 482
Желябов Андрей Иванович (1851–1881), террорист, революционер-народник 519, 656
Жером, иезуит, глава католической мисии в Харраре 274
Жид Андре (1869–1951), французский писатель 502
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971), литературовед 194, 381, 395, 399, 446, 460, 671
Житков Борис Степанович (1882–1938), писатель 266
Жордания Ной Николаевич (1869–1953), грузинский политик 58
Жуков Н. Г., присяжный поверенный, пайщик «Гиперборея» 388
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) 29, 42, 50–51, 75, 631
Заболоцкий Николай Алексеевич (1903–1958) 58, 582
Завадовский Александр Петрович (1794–1856), участник «двойной дуэли» 218
Загуляев П. М., литератор 103, 168, 186
Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882), критик 326
Залшупин Борис, гимназический товарищ Н. Г. 53
Залшупина Наталья Александровна, секретарь издательства «Петрополис» 484
Замятин Евгений Иванович (1884–1937), писатель 524, 527, 559
Занкевич Михаил Александрович (1877–1945), генерал 488, 493, 494–495, 502-503
Засулич Вера Ивановна (1849–1919), революционный деятель 664
Заудиту (1876–1930), императрица Абиссинии с 1916 г. 256, 276
Захаров Андреян (Адриан) Дмитриевич (1761–1811), архитектор 20
Зборовская Надежда Александровна (ум. 1952), актриса, сестра Е. Зноско-Боровского, жена С. Ауслендера 246
Звягина Мария Михайловна (Майя, 1886–1942)), знакомая М. Волошина 208
Згоржельский Марьян Генрихович, гимназический преподаватель Н. Г. 78–79, 82
Згоржельский Марьян Марьянович (1880-е — 1909), гимназический товарищ Н. Г. 79
Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944), филолог-классик 183, 194
Зенкевич Михаил Александрович (1886–1973), поэт 336–337, 356–357, 366, 388, 393, 398, 575, 580, 635
Зив Ольга Максимовна (наст. фам. Вихман, 1904–1963), писатель 555
Зилов Лев Николаевич (1883–1937), писатель 146
Зина, горничная в доме Гумилевых, затем в доме Кленовских 101
Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. фам. Радомысльский, 1883–1936) 507, 519, 592, 650–651, 657, 664
Зиновьева-Аннибал Лидия Дмитриевна (наст. фам. Зиновьева, в первом браке Шварсалон, во втором Иванова, 1865–1907), писатель, жена В. Иванова 174, 323, 386
Злобин Владимир Ананьевич (1894–1967), поэт, критик 457
Зноско-Боровский Евгений Александрович (1884–1954), критик, театровед, шахматист 192–193, 200, 215, 222, 225, 231, 246, 252, 316, 358, 374, 397, 436
Зобнин Юрий Владимирович, литературовед 10, 342, 518, 598, 646, 649, 652, 657
Золя Эмиль (1840–1902), французский писатель 22
Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882–1938), поэт 531, 653
Зотов Владимир Рафаилович (1821–1896), писатель, журналист, переводчик 50
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) 562, 564
Ибсен Генрик (1828–1906), норвежский драматург 477
Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584), великий князь московский с 1533 г., царь с 1547 г. 42
Иванов Александр Александрович (1936–1996), поэт-юморист 187
Иванов Александр Андреевич (1806–1858), художник 127
Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), писатель 562
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт 31, 48, 51, 90, 92, 121, 174–179, 183–186, 194, 207, 212, 214, 220–224, 231, 234, 243, 245, 252, 258, 292, 295–298, 304–305, 309–325, 330, 333–337, 339, 343, 348–349, 361, 384–385, 389, 391, 395, 483, 572, 591, 596, 672
Иванов Георгий Владимирович (1894–1958), поэт 261, 265, 350, 354–355, 358–361, 365–368, 400–401, 407, 440, 444, 458, 464, 502, 504, 515, 519, 524, 531, 537, 540–541, 544, 547, 558, 560, 562, 567, 575–576, 580, 583, 586–587, 595, 612–613, 621, 626–627, 629, 649–653, 656, 668-671
Иванов Н.И., полковник, деятель антисоветского подполья 642, 643
Иванова Лидия Вячеславовна (1896–1985), композитор, дочь В. И. Иванова 386
Иванов-Разумник (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов, 1878–1946), писатель 292, 514
Иван-да-Марья (псевд.), см. Тхоржевские И. Ф. и А. А.
Ивнев Рюрик (наст. имя и фам. Михаил Александрович Ковалев, 1891–1981), поэт 366, 367
Игнатьев Александр Александрович (1877–1954), генерал 490, 497, 502-503
Игнатьев Иван Васильевич (наст. фам. Казанский, 1892–1914), поэт 366, 396
Извольский Александр Петрович (1856–1919), министр иностранных дел (1906–1910) 243
Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921), писатель, критик, пародист 187, 226
Илличевский Александр Демьянович (1798–1837), поэт 76
Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920), историк 41
Ильф Илья (наст. имя и фам. Илья Арнольдович Файнзильберг, 1897–1937) 241
Имр-уль-Кас (ок. 500 — между 530–540), арабский поэт 498
Инбер Вера Михайловна (урожд. Шпенцер, 1890–1972), поэт 267, 545
Иоанн IV (?–1889), император Абиссинии с 1872 г. 238
Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев, 1829–1908), проповедник, духовный писатель 20, 29
Искуль фон Гильденбанд Варвара Ивановна (1854–1939), общественная деятельница 631
Исократ (около 436 до н. э. — 338 до н. э.), древнегреческий оратор 173
Итин Вивиан Азарьевич (1894–1938), писатель 670
Ихаджан, Артем, житель Харрара 273
Йейтс (Йитс) Уильям Батлер (1865–1939), ирландский поэт 23, 483–484, 661
К. Р., см. Константин Константинович
Кабринович Неделько (1895–?), сербский террорист 404
Кабир Аббас, последователь Шейха Гусейна 281
Кавальканти Гвидо (ок. 1255–1300), итальянский поэт 152
Кавафис Константинос (1863–1933), греческий поэт 158
Каверин Вениамин Александрович (наст. фам. Зильбер, 1902–1989), писатель 562
Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) 107
Кадьяк А., врач 638
Калантаров В., редактор газеты «Тифлисский вестник» 63
Каллимах (310–240 до н. э.), древнегреческий поэт 157
Калмаков Николай Константинович (1878–1957), художник 291, вклейка
Кальдерон де ла Барка Педро (1600–1681), испанский драматург 249, 552
Каляев Иван Платонович (1877–1905), революционер-террорист 519
Каменев Лев Борисович (наст. фам. Розенфельд, 1883–1936) 663
Каменский Василий Васильевич (1884–1961), поэт 493, 566
Каминка Август Исаакович (1865–1940), политик, журналист 665
Кан М. А., фотограф 171, 208
Кандинский Василий Васильевич (1866–1944), художник 91, 189
Каннегисер Леонид Иоакимович (1896–1918), поэт 519, 635
Кант Иммануил (1724–1804), немецкий философ 94, 335
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744), поэт 42
Капабланка Хосе Рауль (1888–1942), кубинский шахматист (1921–1927) 193
Каплун Борис Гитманович (1894–1938), ответственный работник Петросовета 612
Каразин В. А., однополчанин Н. Г. 451
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) 29, 42, 107, 115
Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943), художник 161–162, вклейка
Карпинский Александр Петрович (1846–1936), геолог, президент Российской академии наук 658
Карсавина Тамара Платоновна (1885–1978), балерина 360
Катаев Валентин Петрович (1897–1986), писатель 354-356
Каутский Карл (1854–1938), немецкий социалист 96
Каховский Петр Григорьевич (1799–1826), декабрист 642
Кваренги Джакомо (1744–1817), архитектор 30
Квицинский Михаил Михайлович (1864–?), врач 34
Кекманович В., педагог 41
Кельсон Зигфрид Симонович (1892–1938?), стихотворец, коммерсант 626
Керенский Александр Федорович (1881–1970) 489, 495, 504, 519
Кереселидзе Ванэ, грузинский культурный деятель 60
Кереселидзе Иван (1880-е — 1921), гимназический товарищ Н. Г. 60
Кереселидзе Давид (1880-е — 1937), гимназический товарищ Н. Г. 60
Киплинг Джозеф Редьярд (1865–1936), английский писатель 23, 251, 290, 318, 373, 484, 502, 545, 548, 584, 675
Кипренский Орест Адамович (1782–1836), художник 127
Кириенко-Волошина Елена Оттобальдовна (урожд. Глазер, 1850–1923), мать М. Волошина 209
Кирилл Владимирович (1877–1938), великий князь 473
Кирилл Туровский (1130–1182), церковный деятель, проповедник 42
Киров Сергей Миронович (наст. фам. Костриков, 1886–1934) 26
Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872), генерал, государственный деятель 218
Кленовский Дмитрий Иосифович (наст. фам. Крачковский,1893–1976), поэт 72, 75–76, 79, 96–97, 101
Клеопатра (69–30 до н. э.), царица Египта с 51 г. до н. э., из династии Птолемеев 156-157
Клодель Поль (1868–1955), французский писатель 482
Клычков Сергей Антонович (наст. фам. Лешенков, 1889–1937), писатель 323, 399
Клюев Николай Алексеевич (1884–1937), поэт 30, 51, 178, 292, 323, 329–331, 333, 399, 448, 453, 458, 483, 559
Книге А. А., литератор 362
Княжевич, командир уланского полка 421
Князев Василий Васильевич (1887–1937), поэт 572
Князев Всеволод Гавриилович (1891–1913), поэт 359
Коблановский Арнольд Эммануилович, секретарь А. Луначарского 638, 657
Коган Павел Давыдович (1918–1942), поэт 676
Кожебаткин Александр Мелетьевич (1884–1942), издатель 444, 447, 448
Козлов Иван Иванович (1779–1840), поэт 250
Козловы, двоярнский род 14
Козырева Марианна Львовна (урожд. Гордон, 1929–2004), писатель 10, 443
Козырева Марина Георгиевна, литературовед 39
Коковцев (Коковцов) Дмитрий Иванович (1887–1918), поэт, сын И. Коковцева 75–78, 103, 186-188
Коковцев (Коковцов) Иван Николаевич, гимназический преподаватель Н. Г. 77–78, 186-188
Кокошкин Федор Федорович (1871–1918), политик 470
Колбасьев Сергей Адамович (1899–1937 или 1938), писатель 290, 293, 556, 586, 612, 619–622, 624, 660, 668, 672, 687
Коленкин А. Н., полковой командир 450
Колосов Андрей (наст. фам. Зорин, 1863–?), журналист 225
Колпакова Н., ученица Н.С. 550
Колумб Христофор (1451–1506) 370, 373, 499, 531
Кольридж Самуэль Тейлор (1772–1834), английский поэт 50, 174, 524
Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), поэт 40
Кольцов Михаил Ефимович (нас. фам. Фридлянд, 1898–1940), журналист 664
Комаров, матрос 641
Комаровский Василий Алексеевич (1881–1914), поэт 13, 163–166, 168, 201, 318, 330, 375–376, 413
Комаровский Егор Евграфович (1803–1873), дед В. Комаровского 13
Кондратьев Александр Алексеевич (1876–1967), поэт 258-259
Коневской Иван Иванович (наст. фам. Ореус, 1877–1901), поэт 13
Кони Анатолий Федорович (1844–1927), юрист 632
Константин Константинович (К. Р.), великий князь (1858–1915), поэт 29, 78, 173
Константин Николаевич, великий князь (1827–1892) 19, 461
Конт Огюст (1798–1857), французский философ 94
Конфуций (551–479 до н. э.), древнекитайский мыслитель 317
Корбьер Тристан (1845–1875), французский поэт 338
Корзилин, художник 126
Коринфский Аполлон Аполлонович (1868–1937), поэт 50, 174
Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), писатель 524, 661
Кортес Эрнан (Фернандо) (1485–1547), маркиз, испанский мореплаватель, конкистадор 99, 466
Косиковский, купец 561
Коскелло Алексей Валерьевич, библиограф 10
Костров Ермил Иванович (1755–1796), поэт 526
Котляревский Нестор Александрович (1863–1925), литературовед 555, 560
Котовский Григорий Иванович (1881–1925), атаман разбойников, затем советский военачальник 619
Котылев Александр Иванович (1885–1917), журналист 184
Кохановский Н. И., посольский врач в Аддис-Абебе 243
Кошерин, художник 126
Кнорринг, барон фон (ум. 1917), полковник 470
Крамелашвили, гимназический товарищ Н. Г. 60
Крамер Теодор (1897–1958), австрийский поэт 545
Красников И. Е., секретарь Санкт-Петербургского университета1 71
Краснов Петр Николаевич (1869–1947), генерал, один из руководителей Белого движения, писатель 240, 293
Крейд Вадим Прокопьевич (наст. фам. Крейденков), литературовед 10, 580
Креспель Ж. А., французский историк 111
Крестин Платон Фредерикович, инженер 598
Кречетов (наст. фам. Соколов) Сергей Алексеевич (1878–1936), поэт, издатель 149, 197-198
Кривич Валентин Иннокентьевич (наст. фам. Анненский, 1880–1936), поэт, сын И. Анненского 77, 84, 98, 101–103, 116, 124, 155, 160, 173, 187, 198, 231
Кропоткин С. А., однополчанин Н. Г. 435
Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) 661
Кроули Алистер (наст. имя Эдвард Александер Кроули, 1875–1947), оккультист 114
Кругликов Николай Сергеевич (1861–1920), инженер 184
Кругликова Елизавета Сергеевна (1865–1941), художник 122, 223, 285, 423
Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) 39
Крученых Алексей Елисеевич (1886–1968), поэт 26
Крыленко Николай Васильевич (1885–1938), советский государственный деятель 486
Ксенофонт (430–354 до н. э.), греческий историк 37
Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) 13, 51, 61, 125, 141, 156, 177–181, 185–188, 192, 194, 199, 213–215, 217, 220–223, 229, 231, 244–345, 252, 258, 286, 294, 314–315, 322, 330–332, 337, 359, 361, 366, 374–375, 380, 384–386, 396, 402, 410, 412, 433, 459, 474, 483, 508, 519, 555, 568–571, 573, 601, 605, 608–610, 611, 624, 653, 677
Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878–1968), художник 465
Кузьмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1886–1959), юрист, родственник Н. Г. 181, 331, 333
Кузьмин-Караваев Сергей Александрович (1886–?), родственник Н. Г. 153
Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна (урожд. Пиленко, в постриге мать Мария, 1891–1945) 181, 324
Кузьмина Караваева Констанция Фридольфовна (урожд. Лямпе, 1865–?), родственница Н. Г. 153
Кузьмина-Караваева Мария Александровна (1888–1911), родственница Н. Г. 153, 341–342, 598, 600
Кузьмина-Караваева Ольга Александровна (1890–1986), родственница Н. Г. 153, 341–342, 346, 374
Кузьмины-Караваевы 16, 153, 328
Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868), поэт, драматург 93
Кульбин Николай Иванович (1868–1917), художник 359, 360
Кун Бела (1886–1938), деятель коммунистического движения 620
Кунина Ирина Александровна (в замуж. Александер, 1900 — после 1997), писатель 511, 517
Купер Джеймс Фенимор (1789–1851), американский писатель 50, 210
Куприн Александр Иванович (1870–1938), писатель 179, 219
Куракин Александр Борисович, князь (1752–1818), дипломат 561
Курбский Андрей Михайлович (1528–1583) 42
Курдюмов Всеволод Валерьянович (1892–1956), поэт 330
Курляндский Игорь Александрович, литературовед 69, 464
Курманов Н., исследователь Африки 242
Курнос Джон (1881–1966), англо-американский поэт и переводчик 482
Кучук-хан (1880–1921), вождь персидских повстанцев 623
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846), поэт 642
Лаврова, владелица папиросной фабрики в Курске 63
Лагидзе Митрофан, изобретатель сиропов 56
Ладыжников Иван Павлович (1874–1945), издатель 523
Лазаревский Николай Иванович (1868–1921), юрист и экономист, член ПБО 641, 643
Ламздорф Владимир Николаевич (1844/45–1907), министр иностранных дел 239
Ланн Жан (1769–1809), маршал Франции 449
Ланской Петр Петрович (1799–1879), второй муж Н. Пушкиной 460
Лаперуз Жан Франсуа (1741–1788), французский мореплаватель 530-531
Лапкин С., стихотворец 665
Лаппо-Данилевский Константин Юрьевич, литературовед 10, 258
Ларионов Михаил Федорович (1881–1964), художник 487–492, 497, 505
Лассаль Фердинанд (1825–1864), немецкий философ, социалист 218, 524
Ласточкин Владимир, гимназический товарищ Н. Г. 53
Лебедев, предполагаемый участник таганцевского дела 643
Лебедев А. А., краевед 56
Лебедев-Кумач Василий Иванович (наст. фам. Лебедев, 1898–1949), поэт 412
Лебеденко, рядовой 23
Лев XIII (1810–1903), римский папа с 1878 г. 22
Леви Элифас (наст. имя Констан Альфонс Луи, 1810–1875), оккультист 113–114, 130, 212
Левберг Мария Евгеньевна (урожд. Купфер, в замуж. Ратькова, 1894–1934), писатель 441-442
Левин Давид Самойлович, завхоз «Всемирной литературы» 529-530
Левинсон Андрей Яковлевич (1887–1933), литературный критик, театровед 145–148, 151, 379, 513–514, 525, 534
Лега Марсель, парижский шансонье 111
Легран Борис Васильевич (1884–1936), дипломат, музейный администратор 60-61
Легран Георгий Васильевич, брат Б. Леграна, гимназический товарищ Н. Г. 60
Лекманов Олег Андершанович, литературовед 10
Леконт де Лиль Шарль (1818–1894), французский поэт 21, 93, 149, 305, 311, 378, 524
Леман Лев, гимназический товарищ Н. Г. 53
Ленин Владимир Ильич (наст. фам. Ульянов, 1870–1924) 96, 174, 470, 495, 502, 504, 522, 532, 585, 637–641, 646, 657, 663, 665
Леонардо да Винчи (1452–1519) 260
Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891), писатель и философ 267
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) 42, 48, 51–52, 55, 59, 218, 220, 225, 307, 317, 449, 481, 542, 582, 58590
Лернер Николай Осипович (1877–1934), литературовед 539
Ли Бо (701–762), китайский поэт 500
Ливий Тит (59 до н. э. — 17 н. э.), римский историк 42
Ливингстон Давид (1813–1873), исследователь Африки 281
Лившиц Бенедикт Константинович (1887–1938), поэт 26, 143, 150, 188, 231, 360–361, 369–370, 413, 607, 668
Лидж Адену, абиссинский сановник 256
Лидж Иясу (1896–1935), император Абиссинии в 1913–1916 гг. 254–256, 275
Липкин Семен Израилевич, поэт, переводчик 521
Липавский Леонид Савельевич (1904–1941), философ, поэт 582
Литвинов Максим Максимович (наст. фам. Валлах, 1876–1951), советский дипломат 504-505
Литке Федор Петрович (1797–1882), полярный исследователь 18
Лобачевский Николай Иванович (1792–1856), математик 38
Ловель Е. К., см. Дюбуше Е. К.
Лодий Зоя Петровна (1886–1957), певица 360
Лонгфелло Генри Уодсворт (1807–1882), американский поэт 23, 50, 481
Лозинская Татьяна Борисовна, жена М. Лозинского 615
Лозинский Леонид Яковлевич (1856–1915), отец М. Лозинского, юрист 329, 388
Лозинский Михаил Леонидович (1886–1955), поэт, переводчик 26, 285, 328–329, 331–332, 336, 358, 381, 387, 413, 420, 425, 433, 440, 444, 469, 475, 482–483, 486, 522, 525–526, 542, 546, 557, 563, 568–569, 571, 574, 580, 595, 603, 615, 631-633
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) 383, 550
Лопатин Герман Александрович (1845–1918), революционер 25, 519
Лопатто Михаил Осипович (1892–1981), поэт 330
Лопухин, генерал-майор 421
Лорансен Мари (1883–1956), французский художник 112
Лорис-Меликов Михаил Тариэлович, граф (1825–1888), министр внутренних дел 56
Лоуренс Томас Эдуард (Лоуренс Аравийский, 1888–1935), английский разведчик, писатель 493, 502
Лукомский Григорий Крескентьевич (1884–1954), художник 195
Лукницкая Вера Константиновна, вдова П. Лукницкого, биограф Н. Г. 10, 243, 475, 618
Лукницкий Павел Николаевич (1902–1973), писатель, биограф Н. Г. 10, 14, 33–34, 37, 39–40, 49, 53, 55, 61–62, 64, 70, 76–77, 84, 86, 108, 126, 132, 135, 136–137, 141, 147, 153, 160, 166, 182, 193, 243, 245, 250, 252, 294, 340, 352, 425, 469, 541, 550, 600, 603, 606, 626, 631, 636, 645, 674
Лукницкий Сергей Павлович, сын П. Лукницкого 346, 659
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) 522, 532, 533, 535, 638, 657
Лунц Лев Натанович (1901–1924), драматург, прозаик 546–547, 563
Лурье Артур Сергеевич (1892–1966), композитор 351, 358, 465
Лурье Вера Иосифовна (1901–1998), поэт 553–555, 560, 612, 668, 672, 682, 691-692
Льдов К. (наст. имя и фам. Константин-Витольд Николаевич Розенблюм, 1862–1937), поэт 504
Людвиг II (1845–1886), король Баварии с 1863 г. 25
Людовик XVII (1785–1795), дофин Франции (с 1793 г. монархисты считали его королем) 114
Лямпе Варвара Ивановна (урожд. Львова, 1839–1921), тетка Н. Г. 15, 341
Львов Александр Федорович (1798–1879), композитор 15
Львов Василий Васильевич (1730–1800), прапрадед Н. Г. 16
Львов Георгий Егорович (1861–1925), премьер-министр в 1917 г. 475
Львов Дмитрий Игнатьевич (первая половина XVII в.), тверской помещик 15
Львов Иван Игнатьевич (первая половина XVII в.), тверской помещик 15
Львов Иван Львович (1806–1862), дед Н. Г. 15
Львов Лев Васильевич (1764–1824), прадед Н. Г. 15-16
Львов Лев Иванович (1838–1894), дядя Н. Г. 15, 18, 153
Львов Никита Диомидович (первая половина XVII в.), тверской помещик 15
Львов Николай Александрович (1751–1803), поэт, архитектор 15
Львов Пимен Никитич (первая половина XVII в.), тверской помещик 15
Львов Федор Игнатьевич (первая половина XVII в.), тверской помещик 15
Львов Яков Иванович (1836–1876), дядя Н. Г. 15, 613
Львов-Рогачевский В. (наст. имя и фам. Василий Львович Рогачевский, 1873/74–1930), критик 301–306, 395
Львова Агата Ивановна, см. Покровская А. И.
Львова Анна Ивановна, см. Гумилева А. И.
Львова Анна Ивановна (урожд. Милюкова), прабабка Н. Г. 16
Львова Варвара Ивановна, см. Лямпе В. И.
Львова Любовь Владимировна (?–1907), жена Л. И. Львова 153
Львова Юлия Яковлевна (урожд. Викторова, 1814–1865), бабка Н. Г. 15
Людендорф Эрих (1865–1937), германский военачальник 416
Мавра Ивановна, няня Н. Г. 34
Маврина Татьяна Алексеевна (1902–1996), художник-график 604
Мазепа Иван Степанович (1639–1709), гетман Украины (1687–1708) 353
Мазуркевич Владимир Александрович (1871–1942), поэт 409
Майдель, генерал-майор 418
Майзельс Дмитрий Львович (1888– не ранее 1936), поэт 457, 515
Майков Аполлон Николаевич (1821–1897), поэт 51, 375, 550
Майоль Аристид (1861–1944), французский скульптор 125
Маковский Владимир Егорович (1846–1920), художник 189
Маковский Константин Егорович (1839–1915), художник 189
Маковский Сергей Константинович (1877–1962), поэт и критик 177, 189–197, 200–205, 212–214, 217, 229–230, 244, 251–252, 321, 349, 369, 389,391, 402, 520, 603
Маконен (1855–1906), абиссинский государственный деятель 273
Макридин Николай Васильевич (1882–1942), инженер, поэт 620
Максимилиан (1832–1867), мексиканский император с 1864 г. 405
Максимов Григорий Григорьевич (1889–1921), инженер-технолог, член ПБО 643
Малларме Стефан (1842–1898), французский поэт 26, 92
Малмстад Джон, американский литературовед 610
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (наст. фам. Мамин, 1852–1912), писатель 89, 199
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938), поэт 9, 13, 31, 61, 82, 156, 182–183, 226, 242, 289, 321, 330–331, 336, 348, 349–358, 367, 369, 374, 377, 381, 388, 391–393, 396–400, 412–413, 425, 433, 440, 446–447, 450, 453, 464, 470, 483, 504, 507, 516, 518, 531, 553–555, 558, 563, 565, 567, 574–575, 577–580, 584–586, 588, 593, 595, 606–610, 619, 623–624, 653, 658, 668, 671, 677
Мандельштам Надежда Яковлевна (урожд. Хазина, 1899–1980), жена О. Мандельштама, мемуарист 353, 518
Мануйлов Виктор Андроникович (1903–1987), литературовед 175
Мапа, оккультист 113
Маринетти Филиппо Томмазо (1876–1944), итальянский поэт и драматург 363
Мария Антуаннетта (1755–1793), королева Франции, жена Людовика XVI 114
Мария Николаевна (1899–1918), великая княжна, дочь Николая II 455
Мария Федоровна (1847–1926), императрица, жена Александра III 455, 457, 600
Марк Твен (наст. имя и фам. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, 1835–1910), американский писатель 90
Марков (Марков 2-й) Николай Евгеньевич (1866–1945), депутат Государственной думы 220
Маркс Адольф Федорович (1838–1883), издатель 375
Маркс Карл (1818–1883) 60, 218, 573
Маркс Мария Михайловна (в замуж. Синягина, 1889–1967), тифлисская знакомая Н. Г. 63, 65, 68, 77, 134
Маро Клеман (1496–1544), французский поэт 379, 381
Мартене Л., тифлисская знакомая Н. Г. 63
Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964), поэт, переводчик 27
Маслов Георгий Владимирович (1895–1920), поэт 457
Матиаш Корвин (1443–1490), король Венгрии c 1458 г. 450
Махайский Иван (Ян Вацлав) Константинович (1867–1926), социолог и экономист 495
Махно Нестор Иванович (1888–1934) 619
Мациевский Антон Валерианович, участник ПВО 643
Маширов Алексей Иванович (псевд. Самобытник, 1884–1943), поэт 632
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) 243, 307, 337, 357, 360, 368, 369, 413, 601
Мейер Бернс, спирит 84
Мейердорф Александр Феликсович, барон (1868–?), политический деятель, юрист 222
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940), актер, режиссер 181, 196, 246, 249, 362, 604
Мелик-Шахназаров, эскадронный командир Н. Г. 467
Мельник Татьяна Евгеньевна (урожд. Боткина), дочь Е.С. Боткина 455
Менгисту Хайле Мариам (р. 1941), диктатор Эфиопии в 1977–1991 гг. 277
Менделе Мойфер-Сфорим (наст. имя Шолом-Янкев Абрамович, 1836–1917), писатель 266
Менелик II (1844–1913), император Абиссинии с 1889 г. 238, 240–243, 254–256, 259, 271, 277
Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) 646
Менцель Адольф фон (1815–1905), немецкий художник 128
Меншиков (Меньшиков) Александр Данилович (1673–1729), сподвижник Петра I 18
Меньшиков Михаил Осипович (1859–1919), публицист 98
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941), писатель 65, 89–90, 94, 117–120, 122, 126, 152, 173–174, 214, 258–260, 349, 395, 482, 504, 532–533, 546, 559
Мерсеро Александр (псевд. Эсмер-Вальдер, 1884–1946?), французский поэт 126, 322
Месмер Франц (1734–1817), австрийский врач 114
Метерлинк Морис (1862–1949), бельгийский драматург, поэт 92, 104
Микулич В. (наст. имя и фам. Лидия Ивановна Веселитская, 1856–1936), писатель 77, 118
Милашевский Владимир Алексеевич (1893–1976), художник 125, 543, 549, 566, вклейка
Миллер Валентин Фридрихович (1896–1938), участник «Звучащей раковины» 555, 556, 560
Миллер Ольга Валентиновна, дочь В.Ф. Миллера 690
Миллер Федор Иванович (1818–1881), поэт и переводчик 50
Мильтон (Милтон) Джон (1608–1674), английский поэт 50
Милюков Павел Николаевич (1859–1943), политический деятель, историк, публицист 219, 458, 640, 665
Милюков Яков Иванович (вторая половина XVII в.), тверской помещик 16
Милюковы, дворянский род 16
Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889), поэт-сатирик 326
Минский (Виленкин) Николай Максимович (1856–1937), поэт 65, 89–90, 504, 670
Мирбах Вильгельм (1871–1918), граф, немецкий дипломат 623
Миронов Г.Е., историк 636, 645, 694
Миропольский Александр Александрович (наст. фам. Ланг, 1873–1917), поэт 90
Митрохин П. П., гимназический преподаватель Н. Г. 71
Михаил Федорович (1596–1645), царь с 1613 г. 15
Модильяни Амедео (1884–1920), итальянский живописец, скульптор 112, 124, 250, 340–341, 344, 373
Мозар-бей, турецкий дипломат 267, 269-270
Мозлекие, аббисинский чиновник 277
Молчанова Е., знакомая К. Чуковского 412
Монигетти Иван Александрович (1819–1878), архитектор 71
Монина Варвара Александровна (1894–1943), поэт 461
Мопассан Ги де (1850–1893), французский писатель 218
Мор Яков Георгиевич (1840 — после 1912), директор Царскосельской гимназии с 1906 г. 97
Моравская Мария Людвиговна (1889–1947), поэт 355
Мордвинов И.Н. (?–1823), участник дуэли 218
Мореас Жан (наст. имя и фам. Яннис Пападиамандопулос, 1856–1910), французский поэт 26, 113, 566
Морелль, леди Оттолин (1873–1938), английская меценатка 480
Морозов Николай Александрович (1854–1946), революционер, писатель 92
Моррас Шарль (1868–1952), французский поэт 502
Мочалова Ольга Александровна (1898–1981), поэт 52, 67, 76, 443, 462, 541, 601, 624-625
Мочульский Константин Васильевич (1892–1948), литературовед 351, 381–382, 672
Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791) 352, 414, 594
Муйжель Виктор Васильевич (1880–1924), писатель 559
Мулигата, абиссинский сановник 241
Муратов Павел Павлович (1881–1951), писатель, искусствовед 375
Муссолини Бенито (1883–1945) 238, 627, 667, 674
Мухаммед (Магомет, 570–632), основатель Ислама 214, 256, 317
Мухаммед Али (1769–1849), паша Египта с 1805 г. 157-158
Мухин А. А., гимназический преподаватель Н. Г. 72, 92
Мясников А., художник 556
Набоков Владимир Владимирович (1899–1977), писатель, сын В.Д. Набокова 14, 152, 193, 388, 400, 673, 695
Набоков Владимир Дмитриевич (1870–1922), политический деятель, отец В.В. Набокова 219, 220, 222, 482, 640, 665
Набоков Константин Дмитриевич (1872–1926), дипломат 504
Набоковы, дворянский род 16
Нагродская Евдокия Аполлоновна (1866–1930), писатель 459
Надар Гаспар Феликс (наст. фам. Турношон, 1820–1910), фотограф 378
Надсон Семен Яковлевич (1862–1887), поэт 26, 48, 65, 91, 168, 185, 208, 334, 364, 599
Нана-сагиб (наст. имя Данду Пант), один из вождей восстания сипаев (1857–1859) 53
Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французский император 1804–1814 и в 1815 г. 96, 129, 156, 420, 424
Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт, 1808–1873), французский император в 1852–1870 гг. 107
Наппельбаум Ида Моисеевна (1900–1992), поэт 555, 557, 560, 586, 612, 668, 672, 688–690, вклейка
Наппельбаум Моисей Соломонович (1869–1958), фотограф 2, 441, 547, 555–559, 576, 616
Наппельбаум Фредерика Моисеевна (в замуж. Миллер, 1901–1958), поэт 555–556, 558–560, 586
Нарбут Владимир Иванович (1888–1938), поэт 194, 261–262, 266, 337, 354–358, 372, 388, 392–393, 398–399, 575, 668
Нарбут Георгий (Егор) Иванович (1886–1920), брат В. Нарбута, художник-график 354
Наталья Алексеевна (1673–1716), царевна, сестра Петра I 173
Неведомская Вера Алексеевна, жена В. Неведомского 344–346, 378
Неведомский Владимир Константинович, сосед Н. Г. по имению 344
Неведомский М. (наст. имя и фам. Михаил Петрович Миклашевский, 1866–1943), критик 394, 395
Неволин Б., сапожник 84
Недоброво Николай Владимирович (1882–1919), поэт, критик 194, 433, 441
Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/78), поэт 39, 42, 48, 51–52, 73, 77, 92, 98, 384, 410, 550
Нельдихен Сергей Евгеньевич (наст. фам. Ауслендер, 1891–1942?), поэт 515, 581–585, 587, 626
Немирович-Данченко Василий Иванович (1844/1845–1936), писатель 482, 561, 654-655
Немитц Александр Васильевич (1879–1967), контр-адмирал 227, 619, 621
Нерадовский Петр Иванович (1875–1963), художник 508
Никаноров, участник кружка «Звучащая раковина» 560
Никитин Андрей Леонидович., литературовед 290, 621
Никитин Иван Саввич (1824–1861) 526
Николадзе Яков (1876–1951), художник 126
Николаев Николай Иванович, литературовед 126
Николай I Павлович (1796–1855), император с 1825 г. 18, 218
Николай II Александрович (1868–1918), император 1894–1917 гг. 30, 83, 95, 405–408, 454, 476, 635
Николай Михайлович, великий князь (1859–1919), историк 29
Никольская Татьяна Львовна, литературовед 58, 60
Никольский, предполагаемый участник таганцевского дела 643
Никулин Лев Вениаминович (наст. имя и фам. Лев Владимирович Ольконицкий, 1891–1967), писатель 457
Нимцович Арон (1886–1935), шахматист 193
Ницше Фридрих (1844–1900), немецкий философ, поэт 61–62, 115, 154, 175, 196, 317, 319, 338, 340, 373, 389–390, 417–418, 428–429, 457, 518, 525, 573, 624
Ниязов Сапармурат Атаевич (р. 1941) 373
Новалис (наст. имя Фридрих фон Харденберг, 1772–1801), немецкий поэт 145, 299
Новосильцев Владимир Дмитриевич (1800–1825), участник известной дуэли 218
Носик Борис Исаакович, писатель 250
Нувель Вальтер Федорович (1871–1949), искусствовед 184
Ньютон Исаак (1643–1727), английский математик, астроном, физик 41
Обатнина Елена Рудольфовна, литературовед 259
Огарев Николай Платонович (1813–1877), поэт 93
Одоевский Александр Иванович (1802–1839), поэт 13
Одоевский Владимир Федорович (1803–1869), писатель 313, 537
Одоевцева Ирина (наст имя и фам. Ираида Густавовна Гейнике, 1895–1990), поэт 9, 31–34, 46, 49, 55, 62, 64, 87, 137, 339, 349, 366, 368, 385, 400, 425, 435, 509–510, 516–517, 525, 533–534, 331–332, 401, 463, 536–548, 552, 556–558, 560, 565, 570, 574–575, 580, 587–588, 592, 595, 597, 599, 601–602, 605, 607–609, 611, 613, 618–622, 627, 631–632, 640, 648, 651, 653, 667–668, 672, 676, 681–684, вклейка
Окунев Я. (наст имя и фам. Яков Маркович Окунь, 1882–1932), писатель и журналист 663
Олесич Н. Я., историк 695, 720
Олдингтон Ричард (1892–1962), английский писатель 482
Олеша Юрий Карлович (1899–1960), писатель 354, 356
Ольга Николаевна (1895–1918), великая княжна, дочь Николая II 454, 455
Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934), востоковед 40, 529
Оношкович-Яцына Ада Ивановна (1897–1935), поэт-переводчик 547, 584
Опперпут Александр 639
Орвиц-Занетти, баронесса, парижская знакомая Н. Г. 123, 131, 132, 138
Орджоникидзе Серго (наст. имя Георгий Константинович, 1886–1937) 26
Орешин Петр Васильевич (1887–1938), поэт 399
Орлов В. И., гимназический преподаватель Н. Г. 72, 98,
Орловский (Хайнеман, Варнухин) Василий Иванович (1888 или 1898–1921), фигурант в деле Таганцева 641
Осман Жорж Эжен (1809–1891), префект Парижа 111
Островский Александр Николаевич (1823–1886) 26, 53,
Отрепьев Григорий Богданович, Лжедмитрий I (ок. 1581–1606), русский царь (1605–1606) 203
Оуэн Уилфред (1893–1918), английский поэт 413, 470
Охотников, доктор 22
Оцуп Николай Авдеевич (1894–1958), поэт 10, 16, 76, 342–343, 515, 537, 546, 552, 556, 558, 573, 575–577, 580, 586–587, 598, 600, 612, 626, 654, 668, 670, 671–672, 696
Ояма Ивао, принц (1842–1916), японский военачальник 95
Павел I (1754–1801), российский император с 1796 г. 561
Павлов Владимир Александрович (1900–?), поэт 619, 656
Павлова Вера поэт 547
Павлова Каролина Карловна (1807–1893), поэт 93, 229, 331, 375
Павлович Надежда Александровна (1895–1979), поэт 566–567, 570–571, 573–574, 587, 591, 593
Павлюк, денщик Я. А. Викторова, прадеда Н.Г. 14
Пален Петр Алексеевич фон дер (Петр Людвиг, 1745–1826), генерал от кавалерии 561
Панкеев Иван Алексеевич, литературовед, биограф Н. Г. 10, 37, 138, 160
Панов Я.Ф., см. Гумилев Я. Ф.
Панов, стихотворец 664
Папини Джованни (1881–1956), итальянский писатель 486
Папюс (наст. имя Жерар Анаклетр Винсент Анкосс, 1865–1916), оккультист 94–95, 114, 137, 212, 234
Парацельс (наст. имя Филипп Аореул Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493–1541), алхимик и врач 156
Парнелл Чарльз Стюарт (1846–1891), ирландский политик 23
Парнок Софья Яковлевна (наст. фам. Парнах; псевд. Андрей Полянин, 1885–1933), поэт, критик 446
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт 249, 337, 355, 357, 394, 622, 625
Паськов, матрос 641
Паунд Эзра (1885–1972), американский поэт 286, 322, 482–483, 500
Паша, прислуга в доме Н. Г. 542, 565
Пеги Шарль (1873–1914), французский поэт 413
Пергамент Оскар Яковлевич (1868–1909), юрист, политический деятель 219
Перельман Яков Исидорович (1882–1942), брат О. Дымова, популяризатор науки 199
Перетц Абрам Израилевич (1771–1833), откупщик 561
Перовская Софья Львовна (1853–1881), участница революционного движения 519
Перцов Петр Петрович (1868–1947), критик 90
Пестель Павел Иванович (1793–1826), полковник, декабрист 656
Петен Анри Филипп (1856–1951), французский военачальник, государственный деятель 502
Петлюра Симон Васильевич (1879–1926), политический деятель 619
Петр I Алексеевич Великий (1672–1725), российский царь с 1683 г., император с 1721 г. 18, 218, 242, 449, 561
Петрановский Виталий Павлович, биограф Н. Г. 10, 39, 138
Петров Дмитрий Константинович (1872–1925), филолог 382
Петров Евгений (наст. имя и фам. Евгений Петрович Катаев, 1902–1942), писатель 241
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939), художник 189
Петрова Александра Михайловна (1871–1921), педагог 231
Петровская Нина Ивановна (1879–1928), писатель 108, 136, 156, 402
Петровский Мирон Семенович литературовед, писатель 259
Петровых Мария Сергеевна (1908–1979), поэт 608
Пикассо Пабло (полн. Пабло Руис-и-Пикассо, 1881–1973) 112, 249
Пиленко Е. Ю., см. Кузьмина-Караваева
Пильский Петр Мосеевич (1879–1941), критик 145, 154, 226
Пиросмани (Пиросманашвили) Нико (Николай Асланович, 1862–1918), художник 58
Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868), критик и публицист 326
Писарро Франсиско (между 1470 и 1475–1541), испанский конкистадор 99
Писсарро Камиль Жакоб (1830–1903), французский художник 108
Платон (427–347 до н. э.), древнегреческий философ 155, 177
Платонов Вячеслав Михайлович, африканист 10
Платонов Сергей Федорович (1860–1933), историк 172, 381
Платонова-Лозинская Ирина Витальевна, невестка М. Лозинского 11
Плетнев Петр Александрович (1791–1865/66), поэт, филолог 329
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) 458, 664
По (Пое) Эдгар Аллан (1809–1849), американский писатель 23, 104, 551
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), обер-прокурор Синода 24
Погорельский Антоний (Перовский Алексей Алексеевич, 1787–1836), писатель 249, 419
Познер Владимир Соломонович (1905–1992), писатель 547
Познер Соломон Владимирович (1876–1946), журналист 547, 655
Покахонтас (1595–1617), дочь индейского вождя Поухатана 662
Покровская Агата Ивановна (урожд. Львова, 1840–1897), тетка Н. Г. 15
Покровский Борис Владимирович, сын А.И. Покровской 153
Покровский Михаил Николаевич (1868–1932), историк 494
Полежаев Александр Иванович (1804–1838), поэт 605
Полознев Д., литератор
Полонская Елизавета Григорьевна (1890–1969), поэт 547–549, 573, 586
Полонский Яков Петрович (1819–1898), поэт 51
Поляков Лазарь Соломонович (1842–1914), банкир 488
Поляков Сергей Александрович (1874–1942), меценат, переводчик 88-89
Полякова Альма Александровна, жена Л. С. Полякова 488
Полякова Марианна Дмитриевна, царскосельская знакомая Н. Г. 66–67, 79, 100
Поп Александр (1688–1744), английский поэт 526
Попов Гаврил Константинович (1894–1921), член ПБО 643
Посажный Александр Васильевич, однополчанин Н. Г. 467-468
Потемкин Петр Петрович (1886–1926), поэт 26, 181–184, 186–187, 197, 231, 433, 435, 437
Потресов Сергей Викторович (псевд. Яблоновский, 1870–1953), публицист 665
Принцип Гаврило (1894–1918), сербский террорист 405
Прокопий Кесарийский (между 490 и 507–?), византийский историк 498
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953), композитор 648
Пронин Борис Константинович (1875–1946), организатор «Бродячей собаки» 359–361, 362, 625
Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1917/18), министр внутренних дел 475
Пташинский, капитан корабля 239
Птолемеи (Лагиды), царская династия в эллинистическом Египте (305–30 до н. э.) 156
Пугач Зоя Леонидовна, сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 10
Пунин Николай Николаевич (1888–1953), искусствовед 30, 76, 166–167, 388, 533–534, 645
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920), политический деятель 77
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) 13, 29, 48, 51–52, 54–55, 59, 73–74, 76, 98, 115, 128, 173, 192, 218, 223, 225, 228, 236, 243, 260, 299, 313, 317, 341, 362, 369, 371, 384, 394, 396, 398, 419, 459, 481, 516, 519, 550, 571, 605–607, 673, 686, 688
Пушкин Василий Львович (1770–1830), поэт, дядя А.С. Пушкина 107
Пушкина Наталья Николаевна (урожд. Гончарова, во втором браке Ланская, 1812–1863) 460, 607
Пшибышевский Станислав (1868–1927), польский писатель 395
Пыхначев, генерал от инфантерии 471
Пюви де Шаванн Пьер (1824–1898), французский художник 128
Пяст Владимир Алексеевич (наст. фам. Пестовский, 1886–1940), поэт 183, 185, 197–198, 324, 330–331, 369, 563, 574
Рабле Франсуа (1494–1553) 322, 390, 391
Раванилуна I, королева Мадагаскара 286
Рагинский-Карейво Томас Георгиевич, участник кружка «Звучащая раковина» 555–556, 560
Радек Карл Бернгардович (наст. фам. Собельсон, 1885–1939) 469, 663
Радецкий Аксель фон, подполковник, эскадронный командир Н. Г. 450
Радлов Василий Васильевич (1837–1918), востоковед 264, 282-283
Радлов Николай Эрнестович (1889–1942), художник 259, 501, 567
Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958), режиссер 475
Радлова Анна Дмитриевна (урожд. Дармолатова, 1891–1949), жена С. Радлова, поэт 475
Раич Семен Егорович (1792–1855), поэт, переводчик 50
Рамбюто, префект Парижа 107
Рапп Е., свояченица Н. Бердяева 249
Рапп Евгений Иванович, русский военный комиссар в Париже 489–497, 503
Раскольников Федор Федорович (1892–1939), военный деятель и дипломат 469–470, 571, 621
Распутин Григорий Ефимович (наст. фам. Новых, 1869–1916) 95, 141, 178, 454–456, 650-651
Рассел Бертран (1872–1971), английский философ и общественный деятель 480
Ратгауз Даниил Максимович (1869–1937), поэт 93
Ре (Рец) Жиль де (1404–1440), маршал Франции 321
Редько Александр Мефодиевич (1866–1933), критик 395
Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926), писатель 412, 443, 457–471, 489, 495, 509, 539, 545, 571, 573, 663, вклейка
Рейснер Михаил Михайлович (1868–1928), профессор-юрист, отец Л. Рейснер 457-459
Реклю Жан Элизе (1830–1905), французский географ 292
Ремарк Эрик Мария (1898–1970), немецкий писатель 430
Рембо Артюр (1854–1891), французский поэт 26, 111, 238, 273, 524
Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957), писатель 90, 181, 258, 399, 458, 560
Ренан Жан Эрнест (1823–1892), французский писатель, историк религии 113
Ренненкампф Павел Карлович (1854–1918), генерал от кавалерии 416
Ренье Анри де (1864–1936), французский писатель 26
Репин Илья Ефимович (1844–1930) 92, 412
Рерих Николай Константинович (1874–1947), художник, путешественник, писатель 123, 128, 189, 623
Рескин (Раскин) Джон (1819–1900), английский писатель, теоретик искусств 375
Респиги Отторино (1879–1936), итальянский композитор 498
Ривера Диего (1886–1957), мексиканский художник 26
Рильке Райнер Мария (1875–1926), австрийский поэт 91, 130, 322
Рид Томас Майн (1818–1883), английский писатель 50, 62, 210
Ричард I Львиное Сердце (1157–1199), король Англии с 1189 г. 158
Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585–1642), кардинал 111
Робакидзе Григол (Григорий Титович, 1884–1962), грузинский писатель 58
Робер де Сорбон (1201–?), французский теолог 109
Роден Огюст (1840–1917), французский скульптор 95, 125–126, 562
Родичев Федор Измаилович (1853–1932), политический деятель 219
Рождественский Александр Васильевич (отец Александр), царскосельский священник 85
Рождественский Всеволод Александрович (1895–1977), поэт 85, 101, 455, 510, 515, 537, 558, 563, 568, 574, 580, 584, 590, 605
Рождественский Платон Александрович, гимназический товарищ Н. Г. 85
Розанов Василий Васильевич (1856–1919), писатель 90-91
Розен Егор (Георгий) Федорович (1800–1860), поэт, драматург, критик 409
Розенберг Айзек (1890–1918), английский поэт 413, 470
Ромен Жюль (1885–1972), французский писатель 322
Ронсар Пьер де (1524–1585), французский поэт 379
Рославлев Александр Степанович (1883–1920), писатель 149, 300, 303
Росс Роберт (1869–1918), английский писатель 24
Рублев Андрей (ок. 1370–1430), художник 377
Рудаков Сергей Борисович (1909–1944), поэт 353
Рудольф, австрийский эрцгерцог (1858–1889) 405
Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930), поэт 197-198
Рукавишниковы 14
Румянцев Александр Михайлович, коллекционер 11
Рура Роза (Розалия) Васильевна, буфетчица «Всемирной литературы» 531
Русинко Элен, литературовед 481-483
Руссо Анри (прозвище Таможенник, 1844–1910), французский художник 112, 128
Руставели Шота (конец XII — первая половина XIII в.) 56
Рылеев Кондратий Павлович (1795–1826), поэт, декбрист 642
Рындина Марина Эрастовна (в первом браке Ходасевич, во втором Маковская, 1887–1973) 538
Рябушинский Николай Павлович (1876–1951), меценат, издатель 103, 121-122
Сабашникова Маргарита Васильевна (в замуж. Волошина, 1882–1973), художник 211
Савинков Борис Викторович, один из лидеров партии эсеров 644
Садовской (Садовский) Борис Александрович (1881–1952), писатель 92–93, 96, 150, 194, 198, 370–371, 394, 399, 564
Садофьев Илья Иванович (1889–1965), поэт 634
Сажин Валерий Николаевич, историк и литературовед 648
Сазонов Петр Павлович (1883–1969), актер, режиссер, муж Ю.Л. Слонимской 465
Саладин (Салах-ад-Дин, 1138–1193), арабский военачальник, с 1175 г. султан Египта 158
Сальери Антонио (1750–1825), итальянский композитор 352, 414, 594
Сальмон Анри (1881–1969), французский поэт 112
Самсонов Александр Васильевич (1859–1914), генерал от кавалерии 416
Сапунов Николай Николаевич (1880–1912), художник 359
Сафонов, банкир 22
Саша Черный (наст. имя и фам. Александр Михайлович Гликберг, 1880–1932), поэт 226, 300, 352
Саянов Виссарион Михайлович (наст. фам. Махнин, 1903–1959), писатель, историк литературы 675
Сверчков Леонид Сергеевич (1865–1902), муж А.С. Сверчковой 36
Сверчков Николай Леонидович (Коля Маленький, 1894–1919), сын А.С. Сверчковой 264–265, 267, 270–284, 417
Сверчкова Софья Аслановна (урожд. Амилахвари,?–1920), жена Н.Л. Сверчкова 265
Сверчкова Александра Степановна (урожд. Гумилева, 1869–1952), сводная сестра Н. Г. 15, 20, 34–36, 40, 65, 69, 161, 246, 261, 280, 520, 614, 668
Святополк-Мирский Дмитрий Петрович, князь (1890–1939), критик и литературовед 166, 671
Северянин Игорь (наст. имя и фам. Игорь Васильевич Лотарев, 1887–1941), поэт 300, 364–369, 386, 447, 453, 503, 514
Седов Георгий Яковлевич (1877–1914), полярный исследователь 281
Сезанн Поль (1839–1906), французский художник 22, 128
Семенов Б. А. (1890–1940), председатель Петрогубчека 633–634, 639, 645, 657
Сен-Поль Ру (наст. имя Пьер-Поль Ру, 1861–1940), французский поэт 26
Сент-Экзюпери Антуан де (1900–1944), французский писатель 493
Сенигов Евгений Евгеньевич (1872 — после 1923), русский офицер на абиссинской службе, художник 243, 258, 293-294
Серафимович Александр Серафимович (наст. фам. Попов, 1863–1949), писатель 93
Сергеев, член партии эсеров, убивший Володарского 519
Сердар Абдурахман-хан, афганский принц 23
Сердар Искандер-хан, афганский принц 23
Сердар Якуб-хан, афганский принц, затем эмир Афганистана до 1880 г. 23
Серж Виктор (наст. имя и фам. Кибальчич Виктор Львович, 1890–1947) 657
Серов Валентин Александрович (1865–1911), художник 30, 68
Сильверсван Борис Павлович (1883–1934), литератор 656
Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979), поэт, писатель 413
Син-Лики-Уинни (Син-Лики-Уинни, ок. 2000 до н. э.), шумерский поэт, автор «Гильгамеша» 521
Синьорелли Лука (1441–1523), итальянский художник 376
Синявский Андрей Донатович (1925–1997), писатель, литературовед 298
Скалон Н., офицер, однополчанин Н. Г. 434
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), генерал от инфантерии 23, 405
Скоропадский Петр Константинович (1873–1945), генерал, гетман Украины 425
Скотт Вальтер (1771–1833) 62
Скрябин Александр Николаевич (1871/72–1915), композитор 175
Слепян Дориана Филипповна, актриса 542, 604, 611
Слободнюк Сергей Леонович, литературовед 10, 689
Слонимская Ида Исааковна (урожд. Каплан-Ингель, 1903–1999), жена М. Слонимского 562
Слонимская Юлия Леонидовна (в замуж. Сазонова, 1884–1957), писатель, театровед, режиссер кукольного театра 465
Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972), писатель 562, 567, 590
Слуцкий Борис Абрамович (1919–1986), поэт 489
Случевский Константин Константинович (1837–1904), поэт 48, 77–78, 186, 300
Смирнов, архитектор 71
Смирнов Александр Александрович (1883–1962), литературовед 53
Сократ (469–399 до н. э.) 317, 365
Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), поэт, публицист, религиозный философ 62, 173, 311–313, 320, 482
Соловьев Сергей Михайлович (1885–1942), поэт, племянник В.С. Соловьева 185–186, 188
Соловьева Поликсена Сергеевна (1867–1924), поэт, сестра В.С. Соловьева 200
Сологуб Федор (наст. имя и фам. Федор Кузьмич Тетерников, 1863–1927), писатель 43, 90, 118, 127, 152, 194, 196–197, 199, 205, 259, 300, 323, 361, 364–365, 382, 385, 410–411, 440, 447, 458, 475, 559, 561, 573, 577–580, 622, 625
Соломон (? — ок. 930 до н. э.), царь Израиля с 970 до н. э. 235–238, 256, 276
Сомов Константин Андреевич (1869–1939), художник 79, 196, 213
Сомов Орест Михайлович (1793–1833), писатель 249
Спасский Сергей Дмитриевич (1898–1956), поэт 612
Спенсер Герберт (1820–1903), английский философ 92
Спесивцева Ольга Александровна (1895–1991), балерина 612
Срезневская Валерия Сергеевна (урожд. Тюльпанова, 1888–1964), подруга А. Ахматовой 29, 69, 80–83, 161, 167–168, 250, 339, 343, 384, 400, 471, 473, 475, 486, 507-509
Ставрогин А. 644
Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фам. Джугашвили, 1878–1953) 400, 440, 469, 623, 646
Станиславский Константин Сергеевич (наст. фам. Алексеев, 1863–1938) 552
Станюкович Андрей Кириллович, историк, искусствовед, коллекционер, биограф Н. Г. 11
Старк 643
Старов И. Д., врач 54
Старов Семен Никитич (ок. 1780–1856), полковник 228
Стевен Федор, гимназический товарищ Н. Г. 53
Стенли (Стэнли) Генри Мортон (1841–1904), английский исследователь Африки 281
Степанов Евгений Евгеньевич, литературовед, биограф Н. Г. 10, 138,139, 250, 252, 258, 260, 381, 407, 421, 468, 475, 504, 546
Стивенсон Роберт Льюис (1850–1894), английский писатель 24
Столица Любовь Никитична (урожд. Ершова, 1884–1934), поэт 188, 200
Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) 219, 249
Столяров Анатолий Иванович, участник кружка «Звучащая раковина» 560
Стравинский Игорь Федорович (1882–1971), композитор и дирижер 46
Страдивари (Страдивариус) Антонио (1643–1737), итальянский скрипичный мастер 152, 307
Страннолюбская Елена Ивановна, гражданская жена А.А. Горенко 87, 441
Страннолюбский, адмирал 87
Стратановский Георгий Александрович (1901–1968), филолог-античник 660
Стратановский Сергей Георгиевич (р. 1944), поэт 660
Страхов Николай Иванович (1768 — после 1811), писатель 218
Строганов Павел Александрович, граф (1772–1817), государственный деятель 107
Струве Глеб Петрович (1898–1985), литературовед 499
Струве Михаил Александрович (1890–1949), поэт 435, 436, 440, 475
Струве Петр Бернгардович (1870–1944), политик, журналист 37, 436, 458, 522
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), издатель 225
Суворин Борис Алексеевич (1879–1940), сын А.С. Суворина, журналист 222
Суворин Михаил Алексеевич (1860–1936), издатель, сын А.С. Суворина 222, 447
Суворов Александр Васильевич (1730–1800), полководец, генералиссимус 22
Судейкин Сергей Юрьевич (Георгиевич) (1882–1946), художник 359, 609
Сулоага Игнасио (1870–1945), испанский художник 128
Суок Серафима Густавовна (1902–1982), жена Ю. Олеши, В. Нарбута, В. Шкловского 356
Сурина Наталия Петровна (1897–?), поэт, участница кружка «Звучащая раковина» 555, 560
Сурков Александр Георгиевич, секретарь литературной студии Дома искусств (с сентября 1920-го по июль 1922 г.) 564
Сухотин Павел Сергеевич (1884–1935), поэт 197
Сухэ-Батор Дамдины (1893–1923), монгольский революционер 662
Сэссун Зигфрид (1886–1967), английский поэт 470
Таганцев Владимир Николаевич (1890–1921), географ, глава Петроградской боевой организации 634–650, 652–654, 656
Таганцев Николай Степанович (1843–1920), юрист, отец В. Н. Таганцева 636-637
Таганцева Надежда Феликсовна (1895–1921), жена В.Н. Таганцева 636, 643
Тагер Елена Михайловна (1895–1964), писатель 515
Таиту, императрица Абиссинии (1840–1930), жена Менелика II 253, 256
Такшина Наталья Петровна, сотрудник Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме 10
Талон Петр (Пьер), ресторатор 561
Таня, тифлисская знакомая Н. Г. 62-63
Татьяна Николаевна (1897–1918), великая княжна, дочь Николая II 454
Тараканова, «княжна» (принцесса Елизавета) (ок. 1745–1775), самозванка 203, 229
Тарраш Зигберт (1862–1934), шахматист 193
Тартаковер Савелий Григорьевич (1887–1956), шахматист 193
Тархов Николай Александрович (1871–1930), художник 126
Тасама, абиссинский сановник 256
Тассо Торквато (1544–1595), итальянский поэт 470
Тафари, рас, см. Хайле-Селлассие I 274-277
Тверитинов Евгений Павлович (1850–1920), электротехник, лейтенант, впоследствии генерал-майор 22
Тенишева Мария Клавдиевна (урожд. Пятковская, 1867–1929), общественный деятель, коллекционер, меценат 123
Теннисон Алфред (1809–1892), лорд, английский поэт 481
Тернизьен Габриэль, подруга Т. Адамович, жена Г. Иванова 401, 464
Тименчик Роман Давидович, литературовед 10, 49, 82, 85, 160, 244, 260, 407
Тимофеев-Пронский Борис Николаевич (наст. фам. Тимофеев, 1899–1963), стихотворец, прозаик 665
Тиняков Александр Иванович (1886–1934), поэт 26, 365, 563-564
Тихвинский Михаил Михайлович (1868–1921), химик, член ПБО 638, 641, 657
Тихон, патриарх (1865–1925) 516
Тихонов (Серебров) Александр Николаевич (1880–1956), литератор, издатель 523
Тихонов Николай Семенович (1896–1979), поэт 540, 542, 544, 545, 547, 583–585, 586, 620–622, 628
Толстой Алексей Константинович (1817–1875), писатель 33, 51, 527
Толстой Алексей Николаевич (1882/3–1945), писатель 122, 140, 182–192, 209, 214, 217, 222–223, 231, 246, 258, 321, 324, 359, 409, 482
Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), министр просвещения (1865–1880) 71
Толстой Лев Николаевич (1828–1910) 23, 42, 52, 84, 96, 429, 433, 448–449, 527
Толстой Федор Иванович (прозвище Американец, 1782–1846) 218
Толстой Никита Алексеевич (1917–1994), сын А.Н. Толстого, физик и общественный деятель 222
Тормасов Александр Петрович (1752–1819), генерал от кавалерии 450
Травчетов И. М., гимназический преподаватель Н. Г. 72, 98
Тракль Георг (1887–1914), австрийский поэт 413
Тредиаковский Василий Кириллович (1703–1769), поэт 107
Трифонов Юрий Валентинович (1925–1981), писатель 623
Троцкий Лев Давыдович (наст. фам. Бронштейн, 1879–1940) 267, 532, 545, 623, 640, 655
Туган-Барановский Михаил Евгеньевич (1865–1919), экономист 77
Туманов Константин Давыдович (1892–1921), член ПБО 643
Тумповская Маргарита Марьяновна (1891–1942), поэт 442–445, 452, 457–458, 461
Тураев Борис Александрович (1868–1920), востоковед 263
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель 42, 52, 219, 342–343, 347, 457
Туркмен-баши, см. Ниязов С.
Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937), маршал 640, 655-656
Тхоржевская Александра Александровна (урожд. Пальм, псевд. Иван-да-Марья), поэт, драматург 58
Тхоржевский Иван Феликсович (псевд. Иван-да-Марья), поэт, переводчик 58
Тынянов Юрий Николаевич (1894–1942), литературовед, писатель 260
Тыркова Ариадна Владимировна (по первому мужу Борман, по второму Вильямс, 1869–1962), журналист, общественный деятель 417
Тэн Ипполит (1828–1893), французский историк, философ 113
Тэсэма, абиссинский сановник 256
Тэффи Надежда Александровна (наст. фам. Бучинская, урожд. Лохвицкая,1872–1952), писатель 182, 433, 461
Тютчев Федор Иванович (1803–1873), поэт 9, 24, 29, 37, 42, 48, 50, 51, 73, 93, 310–311, 420, 524
Уайльд Оскар (1854–1900), английский писатель 24, 62, 91, 152, 177, 320, 330, 375
Уали, брат императрицы Таиту 256
Уваров А. А., депутат Государственной думы 223
Удальцова Надежда Андреевна (1886–1961), художник 26, 604
Уитмен Уолт (1819–1892), американский поэт 322
Уманов-Каплуновский Владимир Васильевич (1865–1939), поэт 48, 409
Унгерн-Штернберг Роман Федорович, барон (1885–1921), генерал-майор 16, 661
Уоло (рас Микаэль), отец абиссинского императора Лиджа Иясу 256
Уольде Георгис (Гийоргис), абиссинский сановник 255
Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) 519
Успенский Глеб Иванович (1843–1902), писатель 22
Утрилло Морис (1883–1955), французский художник 108, 113
Ухтомский Сергей Александрович, князь (1886–1921), скульптор, искусствовед, 562, 637, 641, 643, 667
Ушков Михаил Константинович, меценат 190
Уэллс Герберт Джордж (1866–1946), английский писатель 427, 532, 541
Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958), художник 26
Фармаковский Мстислав Владимирович (1873–1946), художник 124–127, 143, вклейка
Фарфоровский С., стихотворец 568
Фасика, абиссинский переводчик 271-272
Федин Константин Александрович (1892–1977), писатель 560
Федор III Алексеевич (1661–1682), царь с 1676 г. 16
Федоров Александр Митрофанович (1868–1949), поэт 134
Федоров Василий, поэт 622
Федоров Николай Федорович (1828–1903), философ 91
Федорова Александра Ивановна (в замуж. Вагинова, 1902–1993), участница «Звучащей раковины» 555–556, 558-560
Федотов Георгий Петрович (1886–1951), философ 26
Феодор (Теодрис) II (1819–1868), император Абиссинии с 1855 г. 237, 242, 277
Феодора (480–548), жена (с 523) императора Юстиниана I (527–565) 498
Феокрит (305–240 до н. э.), древнегреческий поэт 157
Феофилактов Николай Петрович (1878–1941), художник 127
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт 42, 48, 51, 449
Фигнер Александр Самойлович (1787–1813), полковник, партизанский командир 422
Фидлер Федор Федорович (1857–1917), переводчик, гимназический учитель Н. Г. 48–49, 378, 419
Филипп Эгалите (герцог Орлеанский, 1747–1793), член королевской семьи,
перешедший на сторону революции 473
Филон Александрийский (Филон Иудей, ок. 30 до н. э. — ок. 50 н. э.), философ 247
Филонов Павел Николаевич (1883–1941), художник 369
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940), критик 89, 118, 119, 395
Финкельштейн А. И., художник 126
Флобер Гюстав (1821–1880), французский писатель 374, 534
Флоренский Павел Александрович (1882–1937), философ 465
Фомин Иван Александрович (1872–1936), архитектор 359
Фонвизин Денис Иванович (1745–1792) 48
Форен Поль (1852–1931), французский художник 111
Форш Ольга Дмитриевна (1873–1961), писатель 231, 562, 582
Фотиева Лидия Александровна (1881–1975), личный секретарь Ленина 638
Фофанов Константин Михайлович (1862–1911), поэт 173, 364
Франс Анатоль (наст. имя Анатоль Франсуа Тибо, 1844–1924), французский писатель 485
Франц Иосиф (1830–1916), император Австро-Венгрии 404-405
Франц Фердинанд (1863–1914), австрийский эрцгерцог 404-405
Френкель Дмитрий, гимназический товарищ Н. Г. 53
Фудзита (Фуджита, Фужита) Леонард (1886–1968), французский художник японского происхождения 113
Фурманов Дмитрий Александрович (1891–1926), писатель 489
Фырин Аркадий, поэт 260
Хабте Георгис (Гийоргис), абиссинский сановник 289
Хаггард Райдер (1856–1925), английский писатель 291
Хаджи Абдул Меджиб, последователь Шейха Гусейна 281
Хайле Георгис, абиссинский сановник 255
Хайле Мариам, абиссинский переводчик 273, 277, 281
Хайле Селассие I (Тафари Маконен, Тэфэри Мэконнын), император Эфиопии (1892–1975) 276
Хаксли Олдос (1894–1963), английский писатель 480
Халайджиева Гаяне Николаевна (1898–?), актриса 622
Хальс Франс (1581–1666), голландский живописец 92, 364
Харитон Борис Осипович (1876–1941?), журналист 560, 632
Хармс Даниил Иванович (наст. фам. Ювачев, 1905–1942), писатель 582
Хаусмен Альфред Эдвард (1859–1936), английский поэт 484
Хмара-Борщевская Ольга Петровна, жена пасынка И. Анненского 74
Хлебников Велимир (наст. имя Виктор Владимирович, 1885–1922), поэт 13, 330, 353, 368–369, 386, 412–413, 555, 593
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939), поэт 9, 26, 85, 136, 146–148, 189, 336, 371, 374, 400, 453, 467, 483, 515, 537–539, 548, 561–568, 577, 580–581, 586–587, 590, 595–596, 611, 628, 630–631, 655, 667, 669, 677
Ходлер Фердинанд (1853–1918), немецкий художник 196
Хокусай Кацусика (1760–1849), японский художник 95
Холодковский Николай Александрович (1858–1921), переводчик 50
Хьюм Томас Эдвард (1883–1917), английский поэт 332, 413, 482
Цадкин Осип Алексеевич (наст. имя Иосель Аронович, 1890–1967), французский скульптор 125
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941), поэт 141, 203, 229, 351, 400, 446, 456, 519, 658, 677
Цензор Дмитрий Михайлович (1877–1947), поэт 330, 352
Цепеш (Дракул) Влад (ок. 1430–1477), господарь Валахии (1456–1462, 1476) 33
Цезарь Гай Юлий (100 или 102–44 до н. э.), римский диктатор 37, 165, 280
Цицерон Марк Туллий (106–43 до н. э.), римский политический деятель, оратор, писатель 42
Чавчавадзе Илья Григорьевич, князь (1837–1907), грузинский писатель и общественный деятель 58
Чака (1787–1828), вождь зулусов 290
Чаликов А. С., командир уланского полка 415
Чарская Лидия Алексеевна (наст. фам. Воронова, в замужестве Чурилова, 1875?–1937), писатель 62
Чаттертон Томас (1752–1770), английский поэт 475
Чеботаревская (в замуж. Тетерникова) Анастасия Николаевна (1876–1921), писатель, жена Ф. Сологуба 205, 382, 385, 622
Чемерзин Борис Александрович, русский посол в Абиссинии 240, 253–254, 257, 275, 283
Чемерзина Анна Васильевна, жена Б. Чемерзина 241, 253–254, 257, 272
Чернецкий Леонид, гимназический товарищ Н. Г. 53
Черниговец-Вишневский Федор Григорьевич (1838–1915), поэт 48
Чернов Константин Пахомович (1803–1825), участник известной дуэли 218
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, публицист, критик 300
Черубина де Габриак, см. Дмитриева Е. И.
Черчилль Рэдольф (1849–1895), английский политик, отец У. Черчилля 23, 219
Черчилль Уинстон Леонард Спенсер, сэр (1874–1965), премьер-министр Великобритании 23
Честертон Гилберт Кит (1874–1936), английский писатель, религиозный мыслитель 23, 484–485, 502, 517, 603, 655
Чехов Антон Павлович (1860–1904) 43, 92, 326
Чириков Евгений Николаевич (1864–1932), писатель 93
Чичагов Михаил Михайлович, ротный командир Н. Г. 416, 433
Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936), советский дипломат и музыковед 294, 664
Чичерин Н. И., петербургский полицмейстер 561
Чудовский Валериан Адольфович (1891–1938?), критик, стиховед 316, 397
Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996), писатель, дочь К.И. Чуковского 230, 510
Чуковская Мария Борисовна (1884–1965), жена К.И. Чуковского 412
Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–1969), критик, писатель 51, 122, 149, 244, 258, 266, 375, 402, 412, 460, 482, 523–528, 530–532, 538–539, 544, 547, 555, 558, 560, 562, 564, 568, 575, 577, 581, 589–590, 595, 597, 600, 614, 617–618, 669
Чуковский Николай Корнеевич (1904–1965), писатель, сын К.И. Чуковского 51, 227, 528, 547–550, 552, 555, 561, 576, 648
Чулков Георгий Иванович (1879–1939), писатель 122, 194, 299, 321, 448-449
Чуносов М., см. Ясинский И.И.
Чурилин Тихон Васильевич (1885–1946), поэт 478
Чурлёнис Миколаус Константинас (Николай Константинович, 1875–1911), литовский художник и композитор 175, 189
Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926), политик 475
Шаброль, префект Парижа 107
Шагал Марк Захарович (1887–1985), художник 84
Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982), писатель 362, 652
Шайкевич Варвара Васильевна, жена А.Н. Тихонова 597
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938), певец 217
Шампольон Жан Франсуа (1790–1832), французский историк-ориенталист 156
Шанько Т. 212
Шахматов Алексей Александрович (1864–1920), филолог 381
Швальбе Адам, отчим О. Кипренского 127
Шварсалон (в замуж. Иванова) Вера Константиновна (1890–1920), падчерица, затем жена Вячеслава Иванова 174–175, 205, 233–234, 244, 245, 267, 321, 386, 596
Шварсалон Сергей Константинович, брат В. Шварсалон-Ивановой 220, 233, 386, 387
Шварц Евгений Львович (1896–1958), драматург 622
Шварц Елена Андреевна (1948–2010), поэт 623
Шведов (Вячеславский) Вячеслав Григорьевич (1886 или 1896–1921), член ПБО 635–641, 643–644, 646–648, 653
Шведе-Радлова Надежда Константиновна (урожд. Плансон, 1894–1944), художник 553, вклейка
Шебуев Николай Георгиевич (1874–1937), журналист 179
Шейх Нура-тукейн (Шейх Гусейн), абиссинский святой 281-286
Шекспир Вильям (1564–1616) 35. 49, 53, 107, 249, 390, 457
Шенгели Георгий Александрович (1894–1956), поэт 228, 671
Шенье Андре (1762–1794), французский поэт 116
Шервашидзе-Чачба Александр Константинович, князь (1867–1968), художник 223-225
Шереметев Василий Васильевич (1794–1817), участник знаменитой дуэли 218
Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893–1942), поэт 366, 512-513
Шилейко Владимир (Вольдемар) Казимирович (1891–1930), ассиролог, поэт 156, 381, 388, 397, 433, 439–440, 507–509, 520–522, 525, 606, 627
Шингарев Андрей Иванович(1869–1918), политик 470
Широков Михаил А., художник 126
Ширяевец Александр Васильевич (наст. фам. Абрамов, 1887–1924), поэт 398
Шишкина-Цур-Милен Нина Александровна, певица 605–606, 609
Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945), писатель 152, 567
Шишмарев Владимир Федорович (1875–1957), филолог 381
Шкапская Мария Михайловна (1891–1952), поэт 125, 547, 568, 571, 573, 584
Шкловский Виктор Борисович (1893–1984), литературовед, писатель 540, 546, 560, 567
Шляпкин Илья Александрович (1858–1918), историк литературы 173
Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950), писатель 620
Штакельберг, поручик 497
Штейн Сергей Владимирович, фон (1882–1955), литератор, муж И. фон Штейн 84, 104–105, 116, 132–134, 137
Штейн Инна Андреевна, фон (урожд. Горенко, 1885–1906), сестра А. Ахматовой 84, 441
Штейнер Рудольф (1861–1925), немецкий философ-мистик 94, 335
Штейнберг Аарон Захарович (1891–1975), литературовед, философ 655
Штернберг Лев Яковлевич (1861–1927), этнограф 264, 269–270, 277, 282
Шухаев Василий Иванович (1887–1973), художник. вклейка
Шюзевиль Жан, французский поэт и переводчик 322
Шубной Николай (псевд. Аркадий Фырин) 260
Щукин Иван Иванович (1869–1908), критик, художник 123
Щусев В.П., исследователь Африки 242
Эдисон, Томас Алва (1847–1931), американский изобретатель 25
Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948), кинорежиссер 249
Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959), литературовед 381–382, 367, 445, 560, 583
Эйхендорф Йозеф (1788–1857), немецкий писатель 145
Эккерман Иоганн Петер (1792–1854), секретарь Гёте 31
Экстер Александра Александровна (урожд. Григорович, 1882–1949), художник 60, 82, 231
Элиот Томас Стернс (1888–1965), англо-американский поэт 357, 480
Эллис (наст. имя и фам. Лев Львович Кобылинский, 1879–1947), поэт 93, 198
Эльзон Михаил Давидович, литературовед 10, 529, 660
Эльснер Владимир Юрьевич (1886–1964), поэт 149, 188, 231, 248
Эмар Густав (Гюстав) (наст. имя и фам. Оливье Глу, 1818–1883), французский писатель 50
Энгельгардт Александр Николаевич (1832–1893), писатель, дед А.Н. Гумилевой 459
Энгельгардт Александр Николаевич (1902–1976), режиссер, брат А.Н. Гумилевой 510-511
Энгельгардт Анна Николаевна, см. Гумилева А.Н.
Энгельгардт Егор Антонович (1775–1862), в 1816–1822 гг. директор Царскосельского лицея 459
Энгельгардт Лариса Михайловна (урожд. Гарелина, в первом браке Бальмонт, 1864–1942), мать А.Н. Гумилевой 460, 668
Энгельгардт Николай Александрович (1866/1867–1942), писатель, отец А.Н. Гумилевой 459, 668
Энгельс Фридрих (1820–1895) 300
Эредиа Хосе Мария (1842–1905), французский поэт 207, 524
Эрберг Константин Александрович (наст. фам. Сюннерберг, 1871–1942), писатель 571
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), писатель, публицист 351, 467
Эрлих Софья Карловна (1903–1987), участница «Звучащей раковины» 247–248, 554-556
Эртель Александр Иванович (1855–1908), писатель 89
Юань Цзы, китайский поэт 500
Юлиан Отступник (331–363), римский император с 361 г. 107, 111
Юнгер Эрнст (1895–1998), немецкий писатель 428–430, 433, 453, 471
Юнгер Владимир Александрович (1883–1917), поэт 330
Юнкер Василий Васильевич (1840–1892), исследователь Африки 24
Юркун (Юркунас) Юрий Иванович (1895–1938), писатель и художник 608–611, 653, 656, 668, вклейка
Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948), актер 604
Юстиниан I Великий (ок. 482–565), византийский император 498
Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938) 646
Языков Николай Михайлович (1803–1846/47), поэт 605
Якобсон Е. Л., следователь ЧК 649–650, 657
Якубович Александр Иванович (1792 или 1796/97–1845), декабрист, участник знаменитой дуэли 218, 642
Якубович Петр Филиппович (1860–1911), поэт 93
Янишевский Ю. В., однополчанин Н. Г. 415, 435
Янтарев Ефим Львович (наст. фам. Бернштейн, 1880–1942), журналист, поэт 305, 378
Япончик Мишка (наст. имя и фам. Михаил (Меер) Вольфович Винницкий, 1892–1919), одесский бандит, затем красный командир 623
Ясвоин В.И., фотограф 191
Ясинский Иероним Иеронимович (псевд. М. Чуносов, Максим Белинский, 1850–1931), писатель 299–300, 302, 371, 374, 417, 561
Иллюстрации
Николай Гумилев. Портрет работы М. В. Фармаковского. Париж, 1908 г.
Николаевский проспект в Кронштадте. Открытка, 1900-е гг.
Киев. Крещатик. Открытка, 1900-е гг.
Париж. Вид на Итальянский бульвар. Открытка, 1900-е гг.
Париж. Булонский лес. Открытка, 1900-е гг.
Максимилиан Волошин. Автопортрет, 1919 г.
Коктебель. Акварель М. А. Волошина, 1925 г.
Коктебель. Закат. Акварель М. А. Волошина, 1928 г.
Архангел Рафаил (?). Абиссиния.
Картины неизвестных абиссинских художников (начало ХХ в.), привезенные Н. С. Гумилевым из последней экспедиции. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого.
Обложка ревельского издания книги Н. Гумилева «Шатер». Художник Н. К. Калмаков, 1922 г.
Обложка книги Н. Гумилева «Жемчуга». Художник Д. Н. Кардовский, 1910 г.
Анна Ахматова. Портрет работы Н. И. Альтмана, 1914 г.
Лариса Рейснер. Портрет работы В. И. Шухаева, 1915 г.
Наталья Гончарова. Автопортрет, 1907 г.
Ирина Одоевцева. Портрет работы В. А. Милашевского, 1922 г.
Ольга Гильдебрандт-Арбенина. Портрет работы Ю. И. Юркуна, 1920-е гг.
Обложка альманаха «Новый Гиперборей» (Петроград, 1921 г.), отпечатанного на гектографе количестве 23 экземпляров.
Обложка альманаха «Звучащая раковина» (Петроград, 1922 г.), посвященного памяти Н. С. Гумилева. Художник Е. Г. Дорфман.
Николай Гумилев. Реконструкция несохранившегося портрета 1919–1920 гг. работы Н. К. Шведе-Радловой, созданная Ф. Л. Вяземской по фотографии и в соответствии с устными указаниями И. М. Наппельбаум, 1985 г.
Примечания
1
Хотя в справочнике «Весь Петербург» за вторую половину 1890-х (когда Гумилевы жили в столице) в числе практикующих врачей он не значится.
(обратно)2
Та самая Поповка, что упоминается в «Вот какой рассеянный» Маршака — произведении, где почти откровенно пародируется «Заблудившийся трамвай».
(обратно)3
«Бич воспоминания — прямая речь. На самом деле мы помним очень мало воспоминаний собеседника точно так, как они были произнесены» — фраза Ахматовой из мемуаров Н. Горбаневской. Увы, мемуарист опять-таки приводит прямую речь Ахматовой. Удержаться от этого, видимо, невозможно.
(обратно)4
Любопытно, что страсть к животному миру проснулась в «колдовском ребенке», который несколькими годами раньше хладнокровно протыкал кольями лягушек и ящериц, чтобы порадовать маму.
(обратно)5
Центральный государственный исторический архив (Санкт-Петербург), далее: ЦГИАЛ (СПб.). Ф. 171. Дело 973.
(обратно)6
ЦГИАЛ (СПб.). Ф. 171. Дело 972.
(обратно)7
Козырева М. Г., Петрановский В. П. Основные места, связанные с деятельностью Гумилева // Николай Гумилев. Исследования. Материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 626–631.
(обратно)8
См.: Циркуляры Министерства народного просвещения. СПб., 1896. № 1.
(обратно)9
Радикальные «классицисты» (такие, как А. И. Георгиевский) настаивали на внедрении древних языков даже в техническое образование.
(обратно)10
Английскому учили редко; это лишь в фильме «Сибирский цирюльник» вся Россия времен Александра III, включая тюремного надзирателя, бойко изъясняется на языке Голливуда.
(обратно)11
См.: Памяти Я.Г. Гуревича. Сборник речей и некрологов. СПб., 1906.
(обратно)12
Цит. по: К. М. Азадовский, Р. Д. Тименчик. К биографии Гумилева // Русская литература. 1988. № 2. С. 171–186.
(обратно)13
Имеются в виду строки из стихотворения «О погоде»:
Генерал Федор Карлыч фон Штубе, Десятипудовой генерал, Скушал четверть телятины в клубе, Крикнул «Пас!» и со стула не встал. (обратно)14
О. А. Мочаловой Гумилев также говорил о своей любви к Некрасову и о том, что некогда отвергал его «из снобизма». См: Н. Гумилев. Неизданное и несобранное. Париж, 1986.
(обратно)15
Имеется в виду Театр Литературно-художественного кружка, принадлежавший известному журналисту А. А. Суворину и располагавшийся в эти годы в здании Малого театра — ныне это здание Большого драматического театра; Суворин был в добрых отношениях с Гуревичем и охотно отпускал льготные билеты ученикам его гимназии.
(обратно)16
В «Трудах и днях Н. С. Гумилева» этой записи нет.
(обратно)17
А. А. Лебедев. Путеводитель по Тифлису. С планом города. Тифлис., 1904.
(обратно)18
Николай Гумилев: Исследования, материалы, библиография. СПб., 1994. С. 619.
(обратно)19
«Змееед» Важа Пшавела был позднее переведен на русский Н. Заболоцким (с подстрочника).
(обратно)20
Переходные экзамены до 1910 г. были обязательны лишь при переходе из четвертого класса в пятый. В других классах экзамены могли назначаться педагогическим советом всему классу или отдельному ученику. С 1910 г. обязательные экзамены по ряду предметов ввели во всех классах.
(обратно)21
См.: Никольская Т. Л. Гумилев и Грузия // Н. С. Гумилев: Исследования. Материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 617–620.
(обратно)22
Иван (погиб при захвате Грузии красными в 1921 г.) и Давид (расстрелян в 1937-м) Кереселидзе — внуки Ванэ Кереселидзе, «отца грузинской журналистики».
(обратно)23
Надпись впервые опубликована А.И. Павловским в предисловии к книге: Н. Гумилев. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 7.
(обратно)24
Некоторое время учился в Морском кадетском корпусе (как указывает В. Срезневская), затем в Николаевском кавалерийском училище (1906); сдал офицерский экзамен при Павловском военном училище; служил в лейб-гвардии стрелком батальоне и 147-м пехотном самарском полку. С 1910 г. в запасе (см.: Из послужного списка Дмитрия Степановича Гумилева. ЦГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 176788; опубликовано в статье И. А. Курляндского «Поэт и Воин» в кн.: Николай Гумилев. Исследования. Материалы…»).
(обратно)25
Архив П. Н. Лукницкого в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома).
(обратно)26
Граф Д. А. Толстой (1823–1889), министр народного просвещения в 1866–1880 гг., насаждавший классическое образование.
(обратно)27
Будущего композитора В. Дешевова (одно время приятеля Гумилева), перешедшего в реальное училище, Анненский при встрече упрекал за то, что тот «променял искусство на ремесло».
(обратно)28
Многие последующие высказывания Ахматовой перекликаются с этими словами. Ср.: «Темное время — этот царскосельский период… Потому что царскоселы — довольно звероподобные люди…»
(обратно)29
В. Веселитской-Микулич посвящены стихи Анненского про Царское Село:
Там на портретах строги лица, И тонок там туман седой, Великолепье небылицы Там нежно веет резедой. (обратно)30
Тименчик Р. Забытые воспоминания о Гумилеве // Даугава. 1993. № 5.
(обратно)31
Тименчик Р.Д. Гумилев // Родник. 1988. № 10. С. 21–22.
(обратно)32
«Там, где похоронен старый маг…», «Мой старый друг, мой верный дьявол…» и «Я зажег на горах красный факел войны…».
(обратно)33
Ж. А. Креспель. Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху. 1905–1930 гг. СПб. 2000.
(обратно)34
Концепция «животного магнетизма» принадлежит австрийскому врачу Ф. Месмеру (1734–1817), пользовавшемуся большим успехом во Франции перед Революцией.
(обратно)35
См. сайт Pans asylum camp,
(обратно)36
Весы. 1906. № 9.
(обратно)37
Любопытно, что о встрече с А. Я. Брюсовым, близким Гумилеву по возрасту, никаких свидетельств нет. Зато родителей В. Я., наведавшихся в Париж, Гумилев в январе 1907 г. посещает — они передали Гумилеву книгу своего сына и «были так добры, что показали» две его фотографии.
(обратно)38
Реминисценция из «Вия».
(обратно)39
«Лицо, похожее на лицо деревянной куклы», и «некрасивый нос, всегда воспаленный», отмечает и С. Я. Ауслендер.
(обратно)40
«У него была в живописи одна идея… О том, что композиция картины должна быть подчинена психологической перспективе. Т. е. главные персонажи были нарисованы в большем масштабе, чем второстепенные» (М. Волошин. Мое последнее пребывание в Париже). Идея верная по крайней мере для автора литературно-биографических книг, но куда девать столько колоритных второстепенных и третьестепенных персонажей?.. В том числе и самого Гуревича?
(обратно)41
«Журнал «Сириус». См.: Николай Гумилев: Исследования и материалы. С. 310–316.
(обратно)42
Лукницкий называет еще не меньше десятка знакомых Гумилеву художников: Белкин, Кошерин, Мерсеро, Широков, Корзилин, Тархов…
(обратно)43
А в письме от 16 декабря 1907 г. он уже просит Брюсова указать орган, в который он мог бы постоянно посылать корреспонденции о парижских выставках и театрах.
(обратно)44
Это, конечно, преувеличение: на Таити Гоген провел в общей сложности 14 лет.
(обратно)45
Сам Гумилев рассказывал Одоевцевой, что сравнил свою возлюбленную с Афиной Палладой. «Она решила, что я издеваюсь над ней, назвала меня глупым, бессердечным и прогнала…»
(обратно)46
«Другой конец города» — это, впрочем, преувеличение. Севастопольский бульвар находится в центре Парижа, в пятнадцати — двадцати минутах ходьбы от Сорбонны.
(обратно)47
В том же 1908 г. Александр Блок написал:
Ведь я — сочинитель, Человек, называющий все по имени, Отнимающий аромат у живого цветка. (обратно)48
Забавно, что Гумилев, по свидетельству О. Гильдебрандт-Арбениной, «как-то хорошо относился к кронпринцу» (имеется в виду кронпринц Германской империи Вильгельм Гогенцоллерн): «Вероятно, у кронпринца, как у Гумилева, была какая-то легкая дегенерация».
(обратно)49
Р. Тименчик. Неизвестные письма Н. Гумилева // Вестник АН СССР. 1987. № 1.
(обратно)50
Воспоминания Срезневской были отредактированы самой Ахматовой; без сомнения, здесь отразилось ее собственное отношение к свояченице. Заметим, однако, что Ахматова ни разу в жизни не сказала худого слова об А. И. Гумилевой.
(обратно)51
Как и Анна Евгеньевна Аренс — позднее первая жена Н. Н. Пунина, годами делившая с ним и с Ахматовой кров в Фонтанном доме.
(обратно)52
ЦГИАЛ (СПб.). Ф. 14. Д. 61522.
(обратно)53
По утверждению Г. Адамовича, это был профессор Илья Александрович Шляпкин, но последний читал в университете курс литературы Петровской эпохи (собственные его труды посвящены возникновению русского театра, царевне Наталье Алексеевне и Димитрию Ростовскому) — с чего бы ему экзаменовать Гумилева на тему творчества Пушкина?
(обратно)54
Это место в рецензии Гумилева вызвало возмущение газеты «Последние новости», «спутавшей Афродиту Уранию с Афродитой уранистов» (см. письмо к Брюсову от 15 июня 1908 г.). Уранистами (урнингами) в начале XX в. называли гомосексуалистов.
(обратно)55
Сплетня основывалась на известном косоглазии Гумилева. Позже некоторые из его товарищей по военной службе искренне считали, что его правый глаз — стеклянный и что именно поэтому он стреляет с левого плеча, а не с правого, как все.
(обратно)56
Вопрос о том, когда появился сам термин, следует считать открытым. Иногда применительно к первым месяцам 1909 г., когда собрания проходили на Башне, говорят о «протоакадемии».
(обратно)57
Достойно внимания, что 31-летний с пятилетним литературным стажем Верховский оказывается в числе слушателей лекций, а почти его ровесник Волошин — в числе потенциальных лекторов.
(обратно)58
Судя по всему, Гумилев об авторстве Коковцева не знал: он продолжал время от времени общаться с ним, в том числе на «Вечерах Случевского».
(обратно)59
Холодное отношение Кузмина к поэзии Анненского хорошо видно из его «Дневника» за 1909 г.
(обратно)60
Эта статья (в качестве доклада) была прочитана на первом заседании Академии стиха в редакции «Аполлона».
(обратно)61
Сергей Александрович Кречетов (Соколов; 1878–1936) — хозяин издательства «Гриф» и член редакции «Золотого руна», муж Нины Петровской. В стихах своих он подражал, разумеется, своему личному врагу Брюсову.
(обратно)62
Николай Николаевич Врангель (1880–1915) — историк русского искусства, родной брат знаменитого впоследствии «черного барона», являл собой тип, по выражению современника, «фланирующего ученого»; другим представителем этого типа считался Комаровский. Врангель вел неутомимую светскую жизнь, не сказывавшуюся, однако, на его научной продуктивности; о его прославленном монокле или о пощечине, данной им в 1908 г. на открытии выставки «Старые годы» художнику М. П. Боткину, говорили не меньше, чем об его статьях. Одно время он был соредактором «Аполлона».
(обратно)63
Без страха (исп.).
(обратно)64
Корень изогнутой формы, напоминавший черта, — «Габриах». Такой корень Волошин подарил Дмитриевой, между собой они называли его Гаврюшкой.
(обратно)65
Рассказ «Тайна телеграфного столба». Сюжет его — иной.
(обратно)66
Александр Константинович Шервашидзе-Чачба (1867–1968) не принадлежал к аполлоновцам. Известный сценограф, он делил с Головиным мастерскую; с Волошиным Шервашидзе был знаком по Парижу — по салону Кругликовой.
(обратно)67
Секунданты тоже показали в суде, что Гумилев «не то промахнулся, не то стрелял в воздух». Во всяком случае, особенно не прицеливался.
(обратно)68
Всем известно, что черный костюм в высшей степени антиэстетичен. (Прим. В. Шварсалон.)
(обратно)69
Горные ботинки обыкновенно очень тяжелые и снабжены толстыми гвоздями. (Прим. В. Шварсалон.)
(обратно)70
Гораздо сомнительнее попытки связать эти стихи с историей Черубины; хронологическое совпадение еще ничего не доказывает.
(обратно)71
Гумилев, несомненно, чувствовал это. Кажется, никто еще не обратил внимание, что вторая половина стихотворения «Абиссиния» из «Шатра» по структуре повторяет пушкинский «Кавказ» — в обратном направлении: описание смены природных поясов в горах Пушкин начинает с безлюдной заснеженной вершины, а Гумилев — с тропической (но тоже опасной и безлюдной) низины.
(обратно)72
То есть возникшим до Халкидонского собора, на котором был принят окончательный догмат веры.
(обратно)73
Гумилев Н. С. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 437.
(обратно)74
Как забавный отзвук русского «филоэфиопизма» начала века — образ «абиссинского негуса» в «Мистерии-буфф» Маяковского.
(обратно)75
Все даты — по Лукницкому. В письме к Иванову из Одессы Гумилев сообщает, что будет в Каире с 9 по 12 декабря.
(обратно)76
Антиеврейские беспорядки, спровоцированные римским наместником; с жалобой на последнего в Рим отправилась депутация во главе со знаменитым писателем и ритором Филоном Иудеем.
(обратно)77
Дубнова-Эрлих С. Хлеб и маца. СПб., 1994. С. 150–151.
(обратно)78
Елисеев Н. Кто такой А.? // Елисеев Н. Предостережение пишущим. СПб., 2003.
(обратно)79
Между тем Е. Е. Степанов в своей «Хронологии…» пишет о ссоре с Модильяни в 1910 г. как о несомненном факте.
(обратно)80
Хотя Е. Е. Степанов выдвигает другую версию: будто бы Гумилев отправился на юг, пересек экватор (возможно, в компании Сенигова), достиг порта Момбаса и уже оттуда отплыл в Джибути. Доказательства этой версии пока скудны.
(обратно)81
Лаппо-Данилевский К. Ю. Новонайденный конспект выступления Н. С. Гумилева в редакции журнала «Аполлон» 5 апреля 1911 г. // Н. Гумилев и Русский Парнас. СПб., 1992. С. 101–103.
(обратно)82
См.: Обатнина Е. Р. От маскарада к третейскому суду («Судное дело об обезьяньем хвосте» в жизни и творчестве А. М. Ремизова) // Лица. 1993. Книга 3. С. 448–465.
(обратно)83
Е. Е. Степанов указывает, что, согласно ходившим слухам, Гумилев не только «сорвал пояс» с абиссинки, но и «женился» на ней и жил некоторое время в ее племени. Источник этой версии ясен: русская романтическая поэма 1820-х, прежде всего «Цыганы» и «Кавказский пленник». Тот же источник у образа рыдающей «черной девы» в черновиках «Леопарда». Определить, какие реальные приключения стояли за всем этим, невозможно. Ниже мы увидим, как деформировались эпизоды африканских путешествий под вдохновенным пером Гумилева-поэта.
(обратно)84
См. Тименчик Р. Д. Тынянов и «литературная культура» 1910-х годов // Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 161–163.
(обратно)85
Современные записки. 1931. Т. 47. С. 310.
(обратно)86
Причем директором Одесской Талмуд-торы был Ш. Абрамович — он же Менделе Мойфер-Сфорим, первый по времени классик новой еврейской литературы.
(обратно)87
Цитируются стихотворения Ахматовой «Вижу выцветший флаг над таможней…» и Гумилева «Возвращение Одиссея».
(обратно)88
В следующем письме эти услуги перечисляются: Галеб «устроил бесплатный пропуск оружия в Джибути и в Абиссини, скидку на провоз багажа по железной дороге, дал рекомендательные письма».
(обратно)89
Глинский Д. Л. Харрар и его обитатели. Гродно, 1897. С. 6–12.
(обратно)90
Дихотомия «черного — золотого» вообще очень важна для африканских текстов Гумилева. Взять хотя бы «Дагомею» («золотое» — «черное» солнце) или приведенную выше цитату из «Африканского дневника» (про Черечерские горы). Ср.: аналогичные (но несущие совсем другую семантику) мотивы у Мандельштама.
(обратно)91
«Немилость» Иванова не могла быть связана с рецензией на Cor ardens, как пишет Ахматова, — рецензия появилась лишь в июле 1911 г.
(обратно)92
Так же, как небезгрешный, но отнюдь не преступный Кузмин превращается под ее пером чуть не в Жиля де Ре («перед ним самый смрадный грешник — воплощенная благодать»).
(обратно)93
Видимо, измененная цитата из Чехова — про библиотеку, которую посещали «только девушки и молодые евреи».
(обратно)94
По свидетельству Иванова, на соблюдении этого правила особенно настаивал Мандельштам.
(обратно)95
Не всегда облыжно — в леволиберальных партиях, от кадетов до меньшевиков, масонов было предостаточно, хотя никакой согласованной политики они не проводили.
(обратно)96
Само по себе это было бы не так удивительно: идею «кларизма» подсказал Кузмину Вяч. Иванов. Эстетические идеи и ярлычки «школ» странствовали внутри круга деятелей искусства, порою меняя смыслы на противоположные.
(обратно)97
См. хотя бы интервью с Д. Бушеном в «Жизни Николая Гумилева…».
(обратно)98
Ср.: «Я увлекся также верховой ездой, собственно, вольтижировкой или подобием ее. Уже могу на рыси вскакивать в седло и соскакивать с него при помощи стремян. Добиваюсь делать то же на галопе, но неудачно» (письмо Ахматовой, лето 1912 г., Слепнево).
(обратно)99
И в 1911-м, и в 1912-м Ахматова провела в Слепневе в общей сложности лишь около месяца, зато позднее она подолгу жила там с сыном.
(обратно)100
По словам Ахматовой, «тогдашние литературные нравы не позволяли публично хвалить свою жену». Но Гумилев жаловался, что даже и за такую сверхсдержанную рецензию на него «накинулись».
(обратно)101
Городецкий в свою очередь ответил Гумилеву в статье «Поэзия как искусство» (Лукоморье. 1916. № 18). Он кисловато признает, что Мандельштам «изучил язык. И хотя никаким изучением не заменить природного знания языка, тем не менее стихи Мандельштама вполне литературны. Правда, всякий чуткий к языку человек видит в них некоторые недостатки, которые поэт выдает за свои, личные особенности… Большая ошибка считать условный язык Мандельштама за какую-то «русскую латынь», как выражаются почитатели его таланта».
(обратно)102
Этот «подвиг» в 1920 г. повторил сам Гумилев.
(обратно)103
Позже, когда журнал снова сменил редактора (1914), тон в нем стали задавать эпигоны акмеизма (М. Моравская, Н. Бруни). Ахматова и Гумилев, однако, периодически там печатались.
(обратно)104
Позднее он стал убавлять себе годы.
(обратно)105
См.: Лекманов О. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000.
(обратно)106
Возможно, сестрой или женой Петра Константиновича Губера, автора книги «Донжуанский список Пушкина» (1923).
(обратно)107
Легенда о посещении Северяниным Цеха и об обстоятельствах его ссоры с акмеистами, изложенная Одоевцевой в «На берегах Сены» со слов Иванова, очень смешна, но едва ли достоверна. Будто бы Гумилев вместо обсуждения стихов Северянина начал заинтересованно расспрашивать эгофутуриста о содержащемся в одной из строчек кулинарном рецепте. Взбешенный «гений» покинул собрание.
(обратно)108
Одно время с Жоржиком был нераздельно дружен Мандельштам — они даже, по утверждению Иванова, завели общие визитные карточки. По свидетельству поэта-эгофутуриста, а позднее имажиниста Р. Ивнева, «и тому, и другому, очевидно, нравилось «вызывать толки». Они всюду показывались вместе. В этом было что-то смешное, вернее, смешным было их всегдашнее совместное появление в обществе и их манера подчеркивать, что они неразлучны… Но вскоре им, очевидно, надоела эта комедия. Осип Мандельштам «остепенился», а Георгий Иванов начал появляться с Георгием Адамовичем». Прекращению «вызывающей толки дружбы» способствовал Гумилев, объяснивший своему молодому другу: «Осип, это — не твое».
(обратно)109
Как «парными» являются стихи Мандельштама про Нотр-Дам и Айя-София, так в паре могут восприниматься «Фра Беато Анджелико» Гумилева и его «Андрей Рублев» (1916). Итальянский художник и его русский современник (ум. 1430) воплощают духовный опыт западного и восточного христианства, с предельной чистотой воплощенный в живописи, в пластических образах. Не случайно оба художника были позднее канонизированы соответственно Римской католической и Русской православной церквами — Фра Анджелико в 1984-м, Андрей Рублев в 1988 году.
(обратно)110
Между тем Городецкий приветствовал появление у Гумилева новых мотивов в одном из восьмистиший, составивших его сборник «Ива»:
С тех пор, как в пламени и дыме Встречаем вместе каждый бой, Как будто судьбами своими Мы поменялися с тобой. Ты вглубь России смотришь строго, Как бодрый кормчий сквозь туман, Меня ж далекая дорога Ведет к познанью чуждых стран. (обратно)111
От Царскосельского (Витебского) вокзала до клиники Отто — не менее сорока минут ходу.
(обратно)112
Вере Гедройц принадлежали три из четырех «паев», т. е. она оплачивала половину стоимости издания. Другими «пайщиками» были Л. Я. Лозинский, отец поэта, его друг, тоже присяжный поверенный Н. Г. Жуков и сам Гумилев.
(обратно)113
См. письмо Ахматовой к Гумилеву от 17 июля 1914 г.
(обратно)114
В оглавлении: «Заветы символизма и акмеизм»: прямой ответ Вячеславу Иванову».
(обратно)115
См.: Нарбут В. Неизданные стихи и письма // Арион. 1995. № 3. С. 205–269.
(обратно)116
«Инициатором этого брака был Георгий Адамович, построивший этот нелепый план… он решил, что если Георгий Иванов женится на Габриэль, то Гумилев разведется с Ахматовой и женится на Тане» (И. Одоевцева, «На берегах Сены»).
(обратно)117
Слова из письма к Ахматовой в Слепнево — «манифестировал с Городецким» — следует, вероятно, понимать именно так; здесь надо согласиться с Е. Е. Степановым. Р. Д. Тименчик считает, однако, что Гумилев и Городецкий составляли какой-то новый совместный литературный манифест.
(обратно)118
Перевод Н. О. Гучинской, В. Г. Ноткиной.
(обратно)119
Не забудем, однако, что мы сравниваем текст, созданный по свежим следам событий и к тому же прошедший цензуру, с книгой, написанной задним числом, с учетом горького опыта последующих лет, и прошедшей обратную цензуру — советскую. Кроме того, на позицию Войтоловского влияли многочисленные притеснения, которым евреи (как потенциальные «лазутчики») подвергались в прифронтовой полосе, — этой теме он уделяет немало внимания.
(обратно)120
Возможно, это вызывало зависть у других «вольноперов» и раздражение у офицеров первого эскадрона. Не эти ли конфликты имеются в виду в «Балладе о Гумилеве» (1923) Ирины Одоевцевой:
Но приятели косо смотрели На Георгиевские кресты: «Гумилеву их дать — умора!» И насмешка кривила рты. Солдатские по эскадрону Кресты такие не в счет. Известно, он дружбу с начальством По пьяному делу ведет». (обратно)121
При этом в части тиража книги Адамовича «Облака» в качестве издательства значится «Гиперборей»; «Колчан» Гумилева большинство критиков тоже рецензирует как издание «Гиперборея».
(обратно)122
См.: Бродский об Ахматовой. Диалоги с С. Волковым. М., 1992. С. 41.
(обратно)123
Венгрову было 22 года.
(обратно)124
Забавно, что позднее Есенин рассказывал Н. Вольпин вполне апокрифическую историю о своем романе с великой княжной Анастасией — впоследствии героиней других, более знаменитых апокрифов.
(обратно)125
Последний печатал в «Рудине» сонеты, посвященные своему путешествию в США. Любопытен сонет «В негритянском кафе», где впервые на русском языке употреблено слово «рэгтайм».
(обратно)126
Поэт и воин / Публ. И. А. Курляндского // Николай Гумилев: Исследования. Материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 254–298.
(обратно)127
Студия была организована по инициативе Т. Адамович при гимназии Хворовой, где сестра Жоржика преподавала французский язык. Сначала Татьяна вместе с братом и «сестрой» Габриэль училась в студии, потом преподавала, одновременно давая частные уроки.
(обратно)128
По этим словам можно подумать, что Посажный был командиром эскадрона; это не так. Да и про год — явное преувеличение: Гумилев и Посажный служили бок о бок не больше полутора месяцев.
(обратно)129
Орден Святого Станислава пришел в Россию после присоединения Царства Польского и принятия русским императором соответствующего титула. Он давался и офицерам, и гражданским чиновникам, и неслужащим подданным (за благотворительность и общественно полезную деятельность). Когда-то именно с орденом Святого Станислава Гумилевотец получил потомственное дворянство…
(обратно)130
С этими событиями связан тогдашний гумилевский «экспромт»:
Взгляните: вот гусары смерти! Игрою ратных перемен Они, отчаянные черти, Побеждены и взяты в плен. Зато бессмертные гусары, Те не сдаются никогда, Войны невзгоды и удары Для них как воздух и вода. (обратно)131
Как прапорщику экспедиционного корпуса, Гумилеву, согласно приказу от 7 мая, полагалось жалованье в сумме 852 рубля, т. е. примерно 2200 франков, в год. Кроме того, он получил около 1200 рублей единовременно на обмундирование, на покупку пистолета, теплых вещей и т. д.
(обратно)132
Цит. по: Э. Русинко. Гумилев в Лондоне: Неизвестное интервью // Николай Гумилев: Исследования. Материалы. Библиография. С. 300.
(обратно)133
Там же. С. 305–307.
(обратно)134
Это не совсем так: Джон Курнос (Kournos), американец русского происхождения, был другом Паунда и Олдингтона и печатался в весьма престижных британских изданиях.
(обратно)135
Банкирская семья Поляковых была довольно многочисленной. Возможно, А. Э. Полякова была вдовой Лазаря Соломоновича (1842–1914), самого известного представителя этого клана, председателя Московского земельного и Московского торгового банков, действительного тайного советника, консула турецкого, консула персидского и проч., и проч., умершего в Париже перед самой войной.
(обратно)136
Бывший военный атташе в Швеции и Персии генерал-лейтенант Михаил Александрович Занкевич (1877–1945) в дни войны находился в действующей армии, а в 1917-м, перед назначением в Париж, некоторое время исполнял должность генерал-квартирмейстера.
(обратно)137
Имеется в виду 3-я бригада.
(обратно)138
Занкевич, которому ходатайство было передано, отказал «ввиду небольшого числа офицеров, несущих дежурство».
(обратно)139
Примечательное свидетельство! Шарль Моррас (1868–1952), неоклассик в искусстве и пламенный националист в политике, основатель Action française, начинал свою деятельность как активный антидрейфусар, а закончил как один из ближайших сподвижников Петена. Умер он вскоре после выхода из заключения.
(обратно)140
См. у Е. Е. Степанова.
(обратно)141
Или все же отличались? «Керенский — какая тема для трагедии лет через пятьдесят!» — обронил Гумилев как-то Георгию Иванову. Злосчастного «кратковременного вождя», чья судьба казалась большинству темой скорее не трагедии, а фарса, воспел Мандельштам — правда, при ложном известии о его гибели. «Благословить тебя в далекий ад сойдет стопами легкими Россия». Но к этой трагедии уж в полной мере оказалась применима формула Бродского: гибнет не герой, а хор.
(обратно)142
Гумилев общался с ним в 1917 г. — между прочим, напомнил о «хорошенькой дочке» его старого друга Н. Ф. Арбенина. «Да, какие-то дети были», — небрежно ответил К. Д. Набоков, «к женщинам равнодушный», как сказано в «Других берегах».
(обратно)143
Сборник членов одноименного кружка, который включал Г. Иванова, Г. Адамовича, Н. Оцупа, В. Рождественского, С. Нельдихена, Д. Майзельса, Е. Тагер, Б. Верина. Все эти поэты (кроме Майзельса и Тагер) либо уже входили, либо спустя несколько лет вошли в близкое окружение Гумилева.
(обратно)144
Ср.: на «Счастливом домике» Ходасевича — ни одной пометки!
(обратно)145
Раньше, в Царском, во время войны Гумилев, по свидетельству Ахматовой, говел. Но это немного другое: ритуальное поведение приехавшего с фронта на побывку воина…
(обратно)146
По этой же причине Гумилев подчеркнуто употреблял при обращении слова «господин», «господа», обращаясь так, между прочим, и к своим студийцам-краснофлотцам. Когда его поправляли («Господ больше нет!»), отвечал с усмешкой: «Такого декрета еще не было». Характерно, что в черновиках в эти годы Гумилев пользуется то старой, то новой орфографией, в беловых же рукописях и в надписях на книгах старается следовать старым правилам.
(обратно)147
См.: Н. Гумилев и русский Парнас. СПб., 1992. С. 105–108.
(обратно)148
Альбом Р. В. Руры // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 390–396.
(обратно)149
Уэллс в своей «России во мгле» упоминает этот эпизод, но реплики Гумилева у него нет.
(обратно)150
Гумилевых? В 1830-е гг. это была семья сельского дьячка.
(обратно)151
В Институте живого слова он, однако, еще зимой 1920–1921 гг. возглавлял некий литературный кружок под названием Laboremus (лат. «Давайте поработаем»). Из участников этой группы известно лишь одно имя — Ольга Ваксель. По ее свидетельству, занятия иногда происходили дома у мэтра. «Не переставая разговаривать или хвататься за книжку, чтобы прочесть ту или иную выдержку, мы жарили в печке баранину или пекли яблоки». Баранину, яблоки — зимой 1920 г.? Звучит невероятно.
Потом от Laboremus отделилась другая группа — «Метакса» (слово означает шелк-сырец). Члены Laboremus называли раскольников «Мы, таксы». Был ли как-то связан Гумилев с этой второй группой, неизвестно.
(обратно)152
Тут очень хорошо видна суть гумилевского «монархизма»: «власть царей», по крайней мере прежних, живших в Царском Селе, — лишь меньшее зло в сравнении со «злыми детьми».
(обратно)153
В пятницу Гумилев присутствовал, кроме того, на заседаниях во «Всемирной литературе» и Секции исторических картин; другим присутственным днем во «Всемирке» был вторник; в понедельник — Балтфлот, вторник — Пролеткульт… Все это — помимо переводческой и редакторской работы за письменным столом. Во второй половине года Балтфлот отпал, но прибавился Союз поэтов.
(обратно)154
В первом издании этой книги цитируется по рукописи из фонда Лукницкого в ИРЛИ.
(обратно)155
Ниже использованы материалы из двух неопубликованных статей А. Л. Дмитренко, любезно предоставленные мне автором.
(обратно)156
И. — то есть Иосиф.
(обратно)157
Эти два слова купировались во всех советских изданиях.
(обратно)158
Второй номер под названием — «Альманах Цеха поэтов», третий и четвертый (вышедший в 1923 г. в Берлине) — просто — «Цех поэтов».
(обратно)159
Из поэтического архива В. С. Алексеева / Публ. А. Л. Дмитренко // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 403–430.
(обратно)160
Получается ненамеренный политический каламбур.
(обратно)161
Знаменательное свидетельство! Действительно ли Гумилев в конце жизни разлюбил стихи Анненского, как пишет Адамович?
(обратно)162
Это уж точно не так. В первоначальном варианте этой строфы колорит XVIII в. выражен еще четче:
Я же с напудренною косою Шел представляться Императрице.Любопытно, что при первой публикации в «Дне Искусств» строфа была опущена. Не по политическим причинам: стихотворение Ахматовой «Чем хуже этот век предшествующих? Разве…», помещенное в том же номере журнала, было в этом смысле несравнимо более рискованным. Видимо, сам принцип коллажного соединения разновременных пластов еще вызывал у Гумилева сомнения.
(обратно)163
«Дева-птица» написана, по свидетельству Одоевцевой, на рифмы из рифмовника. Этот tour de force не принадлежит к большим удачам зрелого Гумилева.
(обратно)164
Об этом И. М. Наппельбаум рассказала в частной беседе с А. Л. Дмитренко в 1992 году.
(обратно)165
В. И. Лампе.
(обратно)166
Вспомним «смертные халатики» дедушки Якова Ивановича.
(обратно)167
Так сам Гумилев определял ее внутренний возраст.
(обратно)168
А. Никитин (см. книгу «Неизвестный Николай Гумилев») считает, что Гумилев специально предпринял путешествие в Крым, чтобы издать «Шатер» (!) — в Петрограде ведь был бумажный голод. Бумажный голод закончился уже весною. Ничто не помешало издать (на хорошей бумаге, большим тиражом и без опечаток) «Дракона», ахматовский «Подорожник» и пр.
(обратно)169
Есть и другая версия, согласно которой встреча с Блюмкиным произошла во время чтения в Москве в 1920 г.
(обратно)170
Сведения любезно предоставлены А. Л. Дмитренко.
(обратно)171
Гумилев готовил том Жуковского для «Всемирной литературы».
(обратно)172
Звезда. 2005. № 8.
(обратно)173
А ведь так был назван поэт одним из репортеров в 1909 г. в связи с дуэлью с Волошиным…
(обратно)174
На самом деле Гумилев занимал должность и распоряжался «общественными» деньгами.
(обратно)175
Цитируется по копии, хранящейся в библиотеке общества «Мемориал» (Санкт-Петербург).
(обратно)176
Борис Николаевич Верин (Башкиров) — стихотворец, в прошлом эгофутурист, друг Сергея Прокофьева и сын богатого купца-мукомола, которого Гумилев, по утверждению Н. Чуковского, терпел в своем окружении из-за его возможностей доставать продукты. Знакомство с Вериным могло произойти в 1918 г. в кружке «Арион», в который Верин входил. Позже, в 1922 г. в Германии, у Верина был бурный роман с Одоевцевой, на короткое время оставившей ради него Георгия Иванова. Последние сведения о нем относятся к 1930-м: бывший стихотворец-мукомол зарабатывал на жизнь обычным для многих эмигрантов способом: за рулем парижского такси.
(обратно)177
Сажин В. Н. Предыстория гибели Гумилева // Даугава. 1990. № 11. С. 90–93.
(обратно)178
По словам Бермана, Гумилев «летом 1921» принес ему две пачки листовок разного содержания и предложил участвовать в их распространении. Вероятно, не «летом», а весной — в Кронштадтские дни (мы знаем, как «плывет» хронология у пожилых людей). Берман отказался, так как одна из листовок начиналась антисемитским лозунгом. Едва ли разумно было использовать Гумилева для пропаганды в рабочих районах и для распространения листовок, написанных явно не им…
(обратно)179
Многие из окружения Гумилева — в том числе, кажется, и его жена — считали, что поездка в Крым, напротив, связана с конспиративной деятельностью, с выполнением каких-то заданий «боевой организации». На данный момент для таких предположений оснований, на наш взгляд, нет.
(обратно)180
Ходасевич Владислав. Из петербургских воспоминаний // Возрождение. № 3012. 31 августа 1933.
(обратно)181
Чуть ли не единственное исключение — «Русская поэзия конца XIX — начала XX века» (М., 1979).
(обратно)


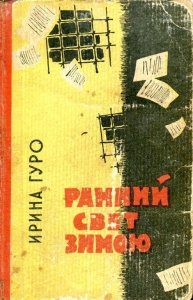
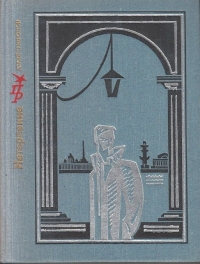
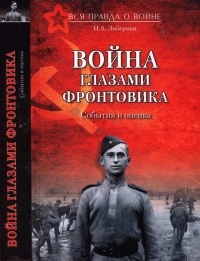

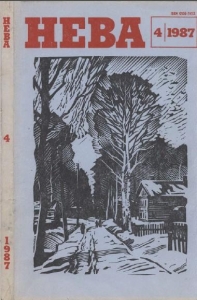

Комментарии к книге «Зодчий. Жизнь Николая Гумилева», Валерий Игоревич Шубинский
Всего 0 комментариев