Алексей Никандрович Новиков Впереди идущие
Часть первая
Глава первая
Почтовый дилижанс следовал из Москвы в Петербург. Как водится, попутчики давно перезнакомились. Отправясь в дальнюю дорогу, люди, известно, о многом переговорят, всякое вспомнят.
Только один пассажир не принимал участия в разговорах. Он кутался в истертую шубейку, натягивал поверх нее плед – и все-таки не мог согреться. Жестокий январский мороз добирался до костей, а дилижанс, ныряя из ухаба в ухаб, двигался так медленно!
Путешественник нахлобучивал теплую шапку, прятал лицо в вязаный шарф и, кажется, дремал. Впрочем, и в дреме он ни на минуту не выпускал из рук объемистый портфель.
Когда в промерзлых окнах кареты проплывали встречные тусклые огни и пассажиры торопились обогреться на почтовой станции, путник в истертой шубейке выходил последним, бережно неся неразлучный портфель.
Он торопливо хлебал жидкие щи, с жадностью пил горячий чай, а потом, глотнув морозного воздуха, заходился в карете от кашля. Кашель был такой глубокий, надрывный и долгий, что на лбу, несмотря на мороз, выступала испарина.
Попутчик, по-видимому из отставных чиновников, долго присматривался к страждущему человеку.
– Изволите, сударь, жительствовать у нас в Москве?
– Нет, в Петербурге, – коротко отвечал хмурый пассажир, не выражая ни малейшего желания продолжать разговор.
– Так-с… А ведомо ли вам, милостивый государь, что под Москвой обитает богоугодный старец и саморучно настаивает чудодейственный травник? Если пить тот травник с молитвою – как рукой снимет всякую грудную болезнь.
– Травник? – с явным недоверием переспросил купеческий сын, ехавший в Петербург по тятенькиной скобяной надобности. – Пито этих травников нашим родителем – беда! Забирает действительно крепко. А последствие одно: еще больше на опохмёл тянет.
– Самое верное дело – парная баня, – вмешался пассажир в медвежьей шубе. – С употреблением горячительного, конечно, но в меру – сколько душа примет.
– А душа, вестимо, меру должна знать, – подтвердил купеческий сын.
Разговор стал общим. Только путешественник, возбудивший сочувствие, по-прежнему молчал да крепко держал в руках портфель.
Этот портфель давно привлекал любопытствующие взоры. По всему видать, не дал бог достатка человеку, если не сумел он нажить даже приличной шубы, – какое же может быть сокровище в портфеле, чтоб держаться за него обеими руками?
А если бы раскрыть тот таинственный портфель, обнаружились бы аккуратно исписанные листы и заглавие, выведенное крупными буквами: «Мертвые души. Поэма Н. Гоголя».
О «Мертвых душах» давно идут нетерпеливые толки. Шутка ли, сколько лет молчал Гоголь после «Ревизора»! Пока что автор прочел поэму только немногим избранным друзьям и требовал от них соблюдения строжайшей тайны. Но кто из счастливцев удержался, чтобы не шепнуть приятелю: читал, мол, вчера Гоголь из нового…
Гоголь читал в Москве, а эхо откликалось в Петербурге. Кажется, только сам Николай Васильевич еще верил, что тайна чтений сохраняется.
Весть о поэме, которую привез Гоголь, возвратясь на родину из прекрасного далёка, летела с быстротой молнии. Как не ждать новой встречи с писателем, который приковал к себе взоры всей России… А «Мертвые души», вместо того чтобы быть в типографии, путешествуют в почтовом дилижансе.
Правда, сам автор вручил рукопись пассажиру, замерзающему в ненадежной шубейке.
– Сделайте одолжение, Виссарион Григорьевич, – сказал ему Гоголь, – отвезите мое многострадальное детище в Петербург.
…Далеко отъехала почтовая карета от Москвы, а Виссариону Белинскому все еще видится автор «Мертвых душ», слышится его голос.
Критик, который первый предрек Гоголю великое поприще, и автор «Мертвых душ» давно не виделись. При встрече в Москве Белинского поразило истомленное лицо Гоголя, даже походка его стала расслабленной и шаркающей.
Николай Васильевич, сразу приступив к делу, начал рассказывать о мытарствах «Мертвых душ» в московской цензуре. И тотчас как живые предстали в этом рассказе московские цензоры.
– «Как это может быть – мертвые души? – Гоголь, войдя в роль председателя цензурного комитета, многозначительно пожевал губами и взглянул на Белинского округлившимися от страха глазами. – Души – и вдруг мертвые? – Николай Васильевич снова пожевал губами. – Почему же, однако, мертвые?»
«А потому и мертвые, ваше превосходительство, что нынешние модники не признают даже бессмертия христианской души…» – Изображая кого-то из членов цензурного комитета, Гоголь наморщил лоб, лицо его вдруг окаменело.
Николай Васильевич поднялся с кресла, представив еще чью-то фигуру, уморительно похожую на восклицательный знак, затесавшийся не к месту посередь строки. Это цензор-докладчик, прерванный председателем на полуслове, теперь сыпал витиевато-почтительной скороговоркой.
– «Долгом считаю пояснить, ваше превосходительство, что в представленном на рассмотрение комитета сочинении подразумевать надо не мертвые души, так сказать, вообще, – Гоголь сделал округлый жест рукой. – Но имеются в виду единственно помещичьи крестьяне, свершившие земной путь, сиречь ревизские мертвые души».
«Ревизские души?! – Гоголь вновь принял обличье председателя, и Белинскому ясно представилось, как взметнулись председательские бакенбарды. – Да ведь если есть в сочинении хотя бы одно подобное слово, так это значит – против крепостного права? Трижды запретить!»
Положительно, Николая Васильевича нельзя было узнать. Вместо человека, удрученного несчастьями, перед Белинским был прежний Гоголь – великий мастер-лицедей. Один за другим оживали в его изображении чиновники цензурного комитета, толстые и тощие, дряхлые и в цвете лет, каждый со своей повадкой; даже вицмундир каждый обдергивал по-своему.
Но тут Николай Васильевич оборвал рассказ, и Белинский снова увидел измученного человека, ушедшего в горькие думы…
… – Вот она – наша злодейская, кнутобойная и тупоголовая цензура!
Хрипловатый голос Виссариона Григорьевича прозвучал в почтовой карете неожиданно громко. Кто-то из пассажиров спросонья бросил на него недоуменный взгляд, прочие согласно кивали головами. Это отнюдь не означало, однако, какого-нибудь мнения о цензуре, но целиком зависело от покачивания кареты и неодолимой дремоты.
Совсем близко заливчато зазвенели бубенцы. По тракту пролетела, обгоняя медлительный дилижанс, чья-то тройка да гикнул на коней лихой ямщик. И снова настала тишина.
Белинский отодвинулся от пассажира в медвежьей шубе, расположившегося в карете, как в собственной спальне, и снова отдался воспоминаниям.
– Скажите же на милость, Виссарион Григорьевич, – спросил в недавнюю встречу Гоголь, и в голосе его отразилось искреннее недоумение, – в чем я согрешил? Ей-богу, ни в чем закона не нарушил. За что же ополчился на меня цензурный комитет? – Он взглянул на собеседника, словно ожидая, что вот сейчас и подтвердит ему Виссарион Белинский: нет, мол, и не было на Руси более благонамеренного писателя, чем Николай Гоголь. А Белинский хорошо помнил свой ответ:
– Нет у нас Пушкина, не стало Лермонтова, вы один теперь у России, Николай Васильевич! Понятия не имею я о содержании «Мертвых душ», но знаю наперед: каждое слово ваше поставят вам в вину, и не только в цензуре.
– Помилуйте, какая же моя вина? – Гоголь так удивился, что даже откинулся в кресле. – Ну, может быть, в каком-нибудь иносказании я и преступил, допускаю… Так ведь для того и поставлены над нами попечительные цензоры…
Автор «Мертвых душ», рассуждавший о попечительной цензуре, вдруг заговорщически улыбнулся.
– А что же делать, – продолжал он, косясь на Белинского, – если не дал мне бог умения окуривать людские очи упоительным куревом? На то и без меня охотников довольно. Только я, грешник, никак не потрафлю своей лирой на высокий лад…
Пока Гоголь жаловался на непокорную лиру, Белинский выжидал удобной минуты, чтобы начать задушевный разговор. А Гоголь опять замолчал. Потом сказал тихо, будто открывая великую тайну:
– Прежде всего надо очиститься Руси от всякой скверны.
– А как же будем очищаться, Николай Васильевич? Какой метлой? Какой скребницей? – горячо спросил Белинский.
Тут бы и начаться важнейшему разговору…
– Валдай! Валдай! – раздался над самым ухом Белинского чей-то нетерпеливый тенорок, вовсе не похожий на голос Гоголя.
Виссарион Григорьевич с трудом открыл глаза.
– Сейчас горячих баранок у валдайских девок накупим! – объявил купеческий сын, ехавший по тятенькиной надобности.
Белинский тяжело вздохнул. Еще только Валдай! А ноги совсем застыли.
У станционного здания торговали баранками разбитные валдайские красавицы. На станции было полно проезжих. Двери то и дело открывались. Мороз врывался в помещение облаком густого, висячего пара. Снаружи были слышны крики ямщиков, ржание лошадей и звон валдайских колокольцев.
Дорожная Русь жила привычной жизнью. Хлопнет рукавицей о рукавицу ямщик, подберет вожжи: «Эй, любезные!..»
И смотришь, станционный самовар встречает песней новых гостей; снова открываются двери, и морозное облако накрывает белой шапкой все – и проезжих, и столы с неубранной посудой, и самого станционного смотрителя, вздумавшего прикорнуть у горячей печки. Да когда же смотрителю спать!
– Запрягать фельдъегерских!
– Лошадей! Живо!
А ведерный самовар, набравшись свежих угольев, как фыркнет на проезжую особу, будь особа хоть в бобрах или енотах. Ему, туляку, что…
…Медвежья шуба снова прижала Белинского в угол почтовой кареты. Карета продолжала путь в Петербург.
Виссарион Григорьевич безотрывно смотрел в промерзлое окно. Теперь-то он наверняка не спит и даже не дремлет. Почему же вдруг видится ему среди узоров, выведенных на стекле морозом, чье-то милое лицо, чей-то приветливый взгляд? Наваждение, истинное наваждение!
Посмотрел Виссарион Григорьевич еще раз на промерзлое окно – искрятся одни алмазные узоры. И в Москве тоже решительно ничего не было. Пора расстаться с несбыточными мечтами, когда пошел человеку четвертый десяток.
Мысли его вернулись к Гоголю. Хитер оказался Николай Васильевич! Ведь и приехал-то он к Белинскому тайком, ускользнув от своих друзей москвитян – профессоров Погодина и Шевырева.
Усердно холопствуют эти господа профессоры на страницах своего журнала «Москвитянин» перед российским самовластием и печатают откровенные доносы на инакомыслящих, в первую очередь на него, Белинского: вот он, возмутитель шатких молодых умов!
Такой донос, писанный опытной рукой профессора Шевырева, и прочитал на страницах «Москвитянина» Виссарион Белинский, будучи в Москве.
Знал ли об этом доносе Гоголь? Не мог не знать. Но ни словом не обмолвился. Правда, Гоголь не дает ни строки в «Москвитянин», – стало быть, не желает иметь с этим журналом ничего общего. Но вот загадка: когда приезжает Николай Васильевич в Москву, всегда останавливается у издателя «Москвитянина» профессора Погодина, в его доме на Девичьем поле. А там зорко стерегут его москвитяне и вся славянофильская нечисть.
О, как бы надо было иметь с Гоголем важнейший разговор! Но уклонился Николай Васильевич. Ничего не ответил насчет метлы или скребницы, потребной для очищения Руси от скверны. Только развел руками и опять перевел разговор на «Мертвые души».
– Буду искать высшего суда в Петербурге, – сказал он. – Пусть ближние мои похлопочут – и граф Виельгорский, и профессор Плетнев, и князь Одоевский. К ним обращаю челобитье: как же можно лишать меня плодов семилетнего труда и последнего куска хлеба! А ходатаи мои пусть не обойдут и любезнейшую Александру Осиповну Смирнову – у нее легкая, но сильная рука во дворце…
И вот Белинский везет в Петербург драгоценную рукопись и скорее пожертвует жизнью, чем допустит ее пропажу. Наконец-то между литературных пустоцветов и ядовитых пузырей раздастся долгожданный голос Гоголя. При одной этой мысли согревалась душа. А цензура? И становилось Виссариону Григорьевичу так зябко, что он дыханием согревал руки. Но руки все равно деревенели.
Дилижанс тянулся от станции к станции, а Белинский уже видел себя дома, за рабочей конторкой. Он знает, как ответит в «Отечественных записках» на донос «Москвитянина». Не умом или талантом опасны эти ученые холопы. Страшны они угодливым оправданием многоликого российского зла.
– Все они в Москве шевыревы!
Вырвалось, конечно, по горячности. В Москве были у Белинского многие встречи, с разными людьми. Но между всех хлопот и переговоров о журнальных делах случилась, между прочим, еще одна встреча с девушкой зрелых лет и трудной судьбы – из тех, кто весь век мыкается в гувернантках, переходя из одного барского дома в другой или из пансиона в пансион.
А если и была такая встреча, что из того? Ведь и раньше, еще в студенческие годы, он видел эту девушку, – правда, очень редко и случайно. И оба они были тогда моложе. Вот и все! Мало ли кого можно снова встретить в Москве…
Однако же впечатления от этой встречи оставались многообразны, противоречивы, беспокойно-радостны, но смутны.
Под Петербургом зимняя дорога была совершенно разбита. Дилижанс плыл, качаясь, как корабль на волне. В тесноте с трудом разъезжались встречные экипажи. Барские откормленные кучера истошно ругались. С унылого петербургского неба сыпался мокрый серый снег.
Добравшись до дома, Белинский вынул из портфеля рукопись Гоголя. Долго не отрываясь на нее смотрел. Взять бы да и прочесть не переводя дыхания! Но Николай Васильевич не сделал такого предложения. И то сказать: дорог каждый час в хлопотах о спасении поэмы.
Едва обогревшись после утомительного путешествия, Белинский повез рукопись «Мертвых душ» к князю Одоевскому. Владимир Федорович, слушая рассказ о запрещении «Мертвых душ» московской цензурой, прочитал коротенькую записку, присланную Гоголем: «…вы должны употребить все силы, чтобы доставить рукопись государю…»
– Так-таки сразу и государю? – Владимир Федорович очень удивился: – Но почему же непременно государю?
Белинский меньше чем кто-нибудь другой мог ответить на этот недоуменный вопрос.
А чем же может помочь в таком экстраординарном деле Владимир Федорович? Он якшается с пишущей братией и еще больше с музыкантами. Дворцовых же связей, да еще таких, чтобы доставить рукопись самому императору, у Одоевского нет. Тут надобна могучая рука. Перво-наперво и оповестит Владимир Федорович ближнего царедворца, графа Михаила Юрьевича Виельгорского. Михаил Юрьевич, если захочет, все может.
С тем и уехал Белинский, свято выполнив поручение Гоголя. А дома занялся поливкой любимых олеандров – вытянулись олеандры чуть не до потолка. Давняя у Виссариона Григорьевича страсть к цветам. Однако сегодня не выходит из головы новая мысль: на диво хороши олеандры, но кто же, кроме него, будет ими любоваться?
Белинский осматривает свое холостяцкое жилище так, будто впервые сюда попал; улыбка смущения не сходит с губ. Он долго стоит перед рабочей конторкой, но думается, к удивлению, вовсе не о журнальных делах. Наваждение, испытанное в Москве, овладевает им с новой силой.
– Молчание, молчание! – шепчет человек, давно расставшийся с мечтами о счастье. Нет на свете ни одного женского существа, которое бы думало о нем.
А наваждение продолжается. Виссарион Белинский снова видит перед собой девушку со следами красоты, увы, уже поблекшей. Так о чем же они говорили в Москве в последний раз?..
Виссарион Григорьевич совсем было уже улегся на покой и вдруг снова поднялся.
– Возможно ли?.. Мари!..
Имя было произнесено и прозвучало непривычно странно в этой суровой обители, где текла одинокая жизнь, без ласки, без любви.
Но заснуть опять не удалось. Едва прикрыл глаза, на смену всем наваждениям явился Гоголь. Все тот же горький у него вопрос:
– Как можно лишить меня плодов семилетнего труда и последнего куска хлеба?
– А лишить Россию ваших созданий, Николай Васильевич, можно?!
Даже забывшись наконец в тревожном сне, Белинский скрежетал зубами и задыхался.
Глава вторая
Профессор Плетнев, дочитав письмо Гоголя, аккуратно сложил листы. Непременно надо Николаю Васильевичу помочь!
Конечно, ректор Петербургского университета Петр Александрович Плетнев многое может. Вхож он и в императорский дворец, где доверено ему обучение царских детей. Как редактор «Современника», Плетнев и в цензуре свой человек. Правда, бывший пушкинский журнал быстро превратился благодаря его стараниям в тихую ученую заводь, в которой не отражаются волнения быстротекущей жизни. Но зато и чтут власти благоразумного профессора. Недаром состоит уважаемый редактор «Современника» еще и членом столичного цензурного комитета.
«Как же помочь автору «Мертвых душ», попавшему в беду? – размышляет Петр Александрович. – Всего лучше начать, пожалуй, с Александры Осиповны Смирновой. Она женщина тонкого ума. Как ценил ее приснопамятный Пушкин!»
Каждый раз, когда Петр Александрович вспоминал Пушкина, ему в самом деле казалось, что идет он прямой пушкинской дорогой и неуклонно разит врагов великого поэта. Но никогда не дерзал тишайший профессор Плетнев восстать против тех, кто лишил Россию Пушкина. Никогда не написал Плетнев ни строки в осуждение порядков, от которых задыхался поэт.
…Благостная тишина царит в кабинете профессора Плетнева. Неугасимая лампада горит перед иконой, отбрасывая мерцающий свет на письменный стол. На столе аккуратно разложены конспекты лекций по русской словесности. Очень поучительные лекции! И поэзия и проза представлены в них как вдохновенное служение идеалу прекрасного. Чувство меры, вернее, благой умеренности, является при этом едва ли не главным мерилом прекрасного в глазах почтенного профессора.
Впрочем, эти мысли Петра Александровича не отражаются на страницах редактируемого им «Современника». Раз и навсегда изгнал он из журнала всякие споры и только издали поглядывает на журнальные битвы. А там первый и отчаянный боец – Виссарион Белинский. Ладно бы воевал Белинский с продажными журналами, но, воюя с ними, он все настойчивее проводит собственные идеи, куда более опасные для истинного благомыслия. Положительно, еще не было подобной дерзости в русских журналах!
Растревоженный мыслями, Плетнев глянул на божественный лик иконы: никак коптит неугасимая лампада? Подошел, поправил фитиль и набожно перекрестился.
А начать хлопоты за Гоголя лучше всего, конечно, со Смирновой. Александра Осиповна Смирнова, в девичестве Россет, была в свое время любимой ученицей профессора Плетнева, потом стала фрейлиной императрицы, а после замужества сохранила положение придворной дамы, близкой к царскому дому. Сам государь Николай Павлович оказывал, бывало, особое внимание обольстительной красавице. Впрочем, тут могли обнаружиться щекотливые обстоятельства, которых Плетнев никогда не касался. Сказано в священном писании: сердце царево в руце божией!
Стоило, однако, подумать о Смирновой, как сейчас же явилась другая мысль: удобно ли миновать в хлопотах за Гоголя могущественного царедворца графа Виельгорского?
Но ни к Виельгорскому, ни к Смирновой Петр Александрович ни в тот, ни в следующие дни не поехал. Своих дел по горло. А Гоголя надо знать: если ему что-нибудь приспичит, так вынь ему и положь! Правда, в письме жаловался Гоголь на припадки, которые приняли у него какие-то странные образы. Да ведь всем известно: охоч Николай Васильевич ссылаться на свои необыкновенные болезни. Конечно, дан ему великий талант. В том нет спора. Но доколе же будет он смехом своим порицать и разрушать?
Думалось о Гоголе, но тут вспомнился Виссарион Белинский. Издавна ратует он за Гоголя, но как? При каждом случае выпячивает темные стороны жизни, схваченные Гоголем, и толкует о них вкривь и вкось. А Николай Васильевич волей или неволей дает пищу смутьянам. Неужто он сам этого не понимает?
Много и долго думал о Гоголе профессор Плетнев, пожертвовав даже необходимыми часами сна.
Хотел было заняться судьбой «Мертвых душ» и граф Виельгорский, но в это время назначили большой бал у великой княгини, и почетному устроителю придворных празднеств было не до Гоголя. По счастью, Михаил Юрьевич встретил где-то университетского профессора словесности и одновременно цензора Александра Васильевича Никитенко.
– На ловца и зверь бежит! – любезно обратился к нему граф Виельгорский. – Имею к вам покорную, хотя, может быть, и обременительную просьбу: прочтите рукопись Гоголя, присланную им из Москвы, и одолжите вашим просвещенным мнением, – разумеется, неофициальным и предварительным… Предварительным, – еще раз повторил, изящно грассируя, Михаил Юрьевич, – а дальнейшие шаги, если удостоите чести, обсудим совместно.
Профессор Никитенко был очень польщен вниманием знатной особы. Граф Виельгорский тоже остался доволен: дал наконец делу ход.
Михаил Юрьевич рад содействовать Гоголю. Как забыть, что его собственный сын умер на руках у Гоголя в Италии? Как забыть, сколько внимания отдал умирающему юноше этот участливый к чужой беде человек? Но граф Виельгорский, будучи убежденным поклонником французской фривольной литературы, не совсем ясно представлял себе помыслы русского писателя Гоголя. Толков же о нем ходит, пожалуй, даже чересчур много. Какой переполох поднялся вокруг его комедии «Ревизор»! Мало ли что мог сызнова написать при бойкости пера многоуважаемый Николай Васильевич… Заручиться мнением опытного цензора было при таких обстоятельствах очень полезно. Во всяком случае, куда благоразумнее, чем везти рукопись императору. Чудак Гоголь, этакий чудак!
«Мертвые души» попали к цензору Никитенко. Вот, собственно, и все, что сделали именитые друзья Гоголя. Впрочем, тот же цензор Никитенко мог бы принять рукопись от автора и без всяких ходатайств, просто по обязанностям службы.
Ничего не зная о намерении Гоголя искать высшего суда в столице, Александр Васильевич Никитенко раскрыл «Мертвые души». Гоголь! Даже имени этого не произносят равнодушно: одни хулят его с пеной у рта, другие хвалят с безудержным восторгом. Профессор Никитенко не разделял этих крайностей. По цензуре уже приходилось ему иметь дело с Гоголем в прежние годы, когда Гоголь представил занимательную повесть о ссоре какого-то чудака Ивана Ивановича с таким же чудаком Иваном Никифоровичем и, помнится, написал к этой повести весьма ядовитое, двусмысленное предисловие.
И вот – новая встреча с писателем, каждое слово которого производит всеобщее смятение. Необходима сугубая осторожность!
Старинные часы отбивали час за часом. Шелестели медленно переворачиваемые страницы. Никитенко читал не отрываясь, совершенно позабыв о том, что рукопись вручена ему как цензору. Кончил и снова начал читать с первой страницы – будто заглянул вместе с Гоголем в бездонный омут. Но тут Александр Васильевич вспомнил об обязанностях цензора, и многое в поэме представилось сомнительным. Взять хотя бы заглавие – «Мертвые души».
Просвещенный профессор столичного университета не повторял тех благоглупостей, которыми с перепугу встретили произведение Гоголя в московской цензуре. Но как не угадать опытному цензору умысел автора? Александр Васильевич перечитал повесть о капитане Копейкине. Такого пассажа никто и никогда не пропустит! Тут даже в высшем правительстве показаны те же мертвые души. Один министр-вельможа чего стоит!
А читатель Никитенко так и противоборствует Никитенко-цензору:
«Спасай эту удивительную, неслыханную поэму, коли попала она в твои руки».
«Да как же ее спасти?» – недоумевает многоопытный цензор.
Глава третья
Над Петербургом опустились ранние февральские сумерки. Густым туманом клубятся улицы. Как бесплотные тени движутся прохожие. Мелькнет молчаливая тень – и снова скроется в белесой мгле. Только и слышно, как отбивают четкую дробь чьи-то тяжелые каблуки или старость выдаст себя натруженными шагами; властным звоном объявят о себе гвардейские шпоры, да бойкой скороговоркой откликнутся им женские сапожки.
Все гуще клубится туман, а столица живет привычной жизнью.
К театрам спешат кареты. Если блеклый луч уличного фонаря успеет заглянуть в зеркальное стекло, за стеклом обозначится кокетливый капор, а под капором – чуть вздернутый носик и свежие, пухлые губы. Но какой дьявол шутит свои шутки на улицах, объятых зловещим маревом? Когда успела красавица превратиться в безобразную старуху? А старуха тоже исчезает, как призрак. Кареты катятся одна за другой; невидимые кучера все чаще покрикивают с невидимых козел: «Эй, берегись!»
В семейных домах, где назначены балы, девицы на выданье обдумывают наряды и ведут доверительные беседы с зеркалом. Кто пригласит сегодня на первый вальс? От сладостного волнения вздымается грудь, а зеркало равнодушно отражает потаенные прелести, которые вот-вот будут в меру прикрыты от любопытных глаз воздушным кружевом и батистом.
Все идет в столице привычной чередой. Ярче вспыхивают парадные огни. А там, где ютится беднота, там лежит на слепых оконцах грязная наледь. Туман оседает на ней мелкими каплями, капли собираются в мутные ручьи. Кажется, что плачут кособокие домишки. О чем? Бог весть. Ни к чему знать, как коротают время люди, для которых нет в Петербурге ни театров, ни балов, ни беспечной юности, ни достатка.
Вот уж и на дальних улицах, на задних дворах, во флигелях и в подвалах перемигиваются ожившие оконца, словно сами дивятся: батюшки-светы, сколько же канцелярского племени расплодилось в столице!
А поутру снова высыпает на улицу служивая мошкара и трусит в должность.
Бывает, что несет от незадачливого чиновника странным составом, в котором перемешались запахи застойной плесени, лука и сивушного перегара. Вызовет его к себе начальственное лицо для очинки перьев и скажет, помахивая рукой: «Встань-ка ты, братец, подальше!..» Если же особо чувствительно начальственное лицо в рассуждении чистоты атмосферы, тогда будет грозно махать обеими руками: «Эк ты пропитался, скотина! Ступай на место!» И шмыгнет виновный в дальний угол канцелярии и будет шуршать бумагами, как запечный таракан.
Конечно, есть в столице и такие присутственные места, где даже последняя сошка может взять благодарность с просителя или протесниться к казенному пирогу. Только не каждому ворожит судьба. У тех, кто сидел когда-то со счастливцем за одним столом и писал таким же обгрызенным гусиным пером, ничего не изменилось. У холостого – все тот же картуз с табаком на колченогом столе. У женатого – не пустует зыбка. А наследники, что подросли, путешествуют под стол собственным ходом или копошатся летом на пыльных задворках. Играют наследники в свайку и не ведают, что жить им, как родителю, у той же чернильной банки да владеть при удаче разве что новым гусиным пером.
Но коротко в Петербурге летнее тепло, долги осени и зимы. Наглухо закрываются тогда убогие оконца; кропят их дожди, слепят снега, точат туманы.
Кто заглядывал в эту жизнь? Кто знает, как унижен может быть человек в пышном городе дворцов и монументов?
– Ан есть такой писатель на Руси, который смело раздвигает все завесы!
Белинский шел медленно; от сырости было трудно дышать. Пошел еще медленнее, а мысли летели со стремительной быстротой.
Вчера встретился ему князь Одоевский: «Могу обрадовать вас, Виссарион Григорьевич, приятной новостью: «Мертвые души» попали к просвещенному цензору Никитенко. Поверьте, теперь все разрешится к полному удовольствию Николая Васильевича». «Если бы так! – размышлял Белинский. – Да ведь надо же знать неистребимое благодушие Владимира Федоровича…»
– Эй, берегись!
Из белесого марева вынеслась на перекресток щегольская карета. Белинский едва успел отпрянуть и чуть было не угодил под встречные сани. По счастью, идти оставалось совсем недалеко.
У Ивана Ивановича Панаева, автора известных повестей и деятельного участника «Отечественных записок», собирались преимущественно сотрудники «Отечественных записок» или люди, близкие к журналу.
Когда Виссарион Григорьевич вошел в гостиную Панаевых, Иван Иванович приветствовал гостя из-за полураскрытых дверей кабинета:
– Виссарион Григорьевич? Сердечно рад! Сейчас освобожусь. Дописываю последние строки. Сделайте милость, поскучайте пока с Авдотьей Яковлевной.
– Вам не остается ничего другого, Виссарион Григорьевич, как покориться совету моего повелителя. – Сдерживая улыбку, Авдотья Яковлевна Панаева усадила гостя в покойное кресло. – Не узнаю Ивана Ивановича, – продолжала она, – начинаю подозревать, что и Панаев может приохотиться к усидчивым занятиям. Не удивлюсь, если станут называть его домоседом!
– Панаев – и домосед? – откликнулся Белинский. – Еще обидится, пожалуй, Иван Иванович, если припишут ему такую мещанскую добродетель. Панаев! Вы слышите?
– Не слышу, ничего не слышу, – отвечал из кабинета Иван Иванович, ушедший с головой в занятия.
Авдотья Яковлевна еще раз улыбнулась. Потом спросила серьезно:
– А чем же вы, Виссарион Григорьевич, порадуете читателей в мартовской книжке «Отечественных записок»?
– Если попустят бог и цензура, хочу, во-первых, сполна расчесться с москвитянами. Побывав в Москве, воочию увидел я, как растет их дурь и мерзопакостная страсть к доносам. Но если буду перечислять все, что готовлю в мартовскую книжку, боюсь, не скоро кончу.
– Я, право, не соскучусь. А Иван Иванович, как видите, не собирается нам мешать.
Белинский не очень свободно чувствует себя в дамском обществе, что не относится, однако, к Авдотье Яковлевне Панаевой. Эта юная дама, едва переступившая за порог своего двадцатилетия, счастливо наделена многими качествами: красотой, еще только расцветающей, недюжинным умом, не по-женски рано созревшим, и острым, наблюдательным взглядом больших черных глаз. Авдотья Яковлевна всему предпочитает задушевные разговоры с Белинским и именно с ним бывает сердечно-проста, доверчиво-откровенна и пытливо-любознательна. Они могут беседовать часами, этот сутулый человек, с лицом, изможденным трудами и болезнью, облаченный в мешковатый сюртук, и признанная красавица, полная юных сил, одетая с той элегантной простотой, которая обходится, впрочем, куда дороже, чем любое произведение броской и преходящей моды.
– А где же наши? – Панаев появился в гостиной со стопкой свежеисписанных листов. – Опять опаздывают?
Авдотья Яковлевна и Белинский ответили ему дружным смехом: сам Иван Иванович никогда и никуда не мог попасть вовремя.
– Они опаздывают, – продолжал в негодовании Панаев, – а я тружусь ради них, профанов, не щадя сил!
– И за то мы, профаны, будем смиренно сопровождать тебя до самого порога храма бессмертных. – В дверях гостиной стоял любимый товарищ Панаева еще по школьной скамье, Михаил Александрович Языков.
Языков тоже причастен к «Отечественным запискам», но литературная судьба школьных товарищей сложилась по-разному. Панаев пользуется широкой известностью, Языков больше всего ударяет «по смесям». Его собственный каламбур имеет в виду не столько комбинации из горячительных напитков, сколько журнальный отдел «Смесь» в «Отечественных записках», где и печатает свои скромные труды этот образованный выходец из помещичьей среды.
Слегка прихрамывая по прирожденному недостатку, Михаил Александрович занял место подле хозяйки дома.
– Имею для тебя преприятнейшее известие, Панаев, – обратился он к Ивану Ивановичу.
– Знаю твои известия, – отмахивается Панаев. – Опять что-нибудь соврешь.
– А вот извольте послушать, господа! – Михаил Александрович обвел слушателей глазами. – Иду я сегодня к тебе, Панаев, и в тумане ничего не вижу. Трезв со вчерашнего дня, но дома от дома отличить не могу. Едва не перевернул на углу полицейскую будку, а на здешней улице, как в лесу, заблудился. И вдруг возник передо мной, как смутное пятно, какой-то человек. «Может быть, вы, сударь, – спрашиваю, – случайно знаете, где живет писатель Панаев?» – «Как не знать, – отвечает призрак застуженным басом, – идите, говорит, прямо, а там свернете в первое парадное». Каково? Первый встречный – и тот тебя знает. Вот она, слава!
– Каков был из себя тот встречный? – все больше заинтересовывался рассказом Иван Иванович. – Надо думать, из образованных чиновников?
– Да разве в этом чертовом тумане что-нибудь рассмотришь! По счастью, незнакомец подошел ко мне близко, и лицо его вдруг осветилось вспыхнувшей цигаркой…
– Ну, ну! – торопил Панаев.
– И тут… – Языков даже привстал с кресла, словно заново переживая памятную встречу, – тут-то я и узнал Илью!
– Какого Илью?! – Иван Иванович совсем опешил.
– Того самого Илью, – деловито заключил рассказчик, – который служит дворником в вашем доме.
Иван Иванович смеялся вместе со всеми. По слабости к литературной славе он опять стал жертвой Языкова, но в простодушном его смехе не было и тени обиды.
В гостиной появились новые гости.
– Господа! – встретил их Панаев, которого все еще душил смех. – Пусть злодей Языков расскажет вам про дворника Илью… Тот самый, говорит, что служит в нашем доме… Ох, не могу! – и он снова зашелся от смеха.
Вновь прибывшие Николай Яковлевич Прокопович и Александр Александрович Комаров, естественно, ничего не могли понять. Они устремились к хозяйке дома, потом к Белинскому.
И Комаров и Прокопович преподают русскую словесность в столичных военных учебных заведениях; оба страдают страстью к стихотворству и тяготеют к «Отечественным запискам».
Когда Александр Александрович, самовольно расширяя программу, говорит на уроках о Пушкине, Лермонтове или Гоголе, ученики его знакомятся со многими мыслями, высказанными Виссарионом Белинским.
Прокопович охотнее всего рассказывает ученикам о Гоголе. Может быть, и не дерзнул бы на это пугливый Николай Яковлевич, если бы не особые обстоятельства. Прокопович учился с Гоголем. Школьная дружба оказалась неразрывно прочной. Рассказывает Прокопович ученикам о Гоголе и, кажется, сам дивится: за что судьба наградила его, человека ничем не примечательного, вниманием столь знаменитого писателя? Задумается медлительный Прокопович и непременно прибавит: «А великую силу Гоголя раньше всех понял критик Белинский».
Белинский и завладел Прокоповичем, едва он появился у Панаевых.
– Что слышно от Гоголя?
– До слез горько читать его письма, Виссарион Григорьевич. Ждет Николай Васильевич решения участи «Мертвых душ» и томится. Боюсь, совсем изнемог. А что ему ответишь?
Разговор о «Мертвых душах» стал общим. Из Москвы шли новые слухи, но все было в них смутно. Прав был Виссарион Белинский, когда говорил Гоголю, что он не имеет понятия о содержании «Мертвых душ». Но не зря же и Гоголь, рассказывая о происшествиях в московской цензуре, вложил в уста председателя комитета главное себе обвинение: «Против крепостного права?! Трижды запретить!» Чего же доброго можно ждать после этого от цензуры петербургской?
– Господа! – сказал Панаев. – Каждый из нас будет стараться разведать при случае, что творится в цензуре; надеюсь, буду и я не последним разведчиком. А сейчас приступим к делу.
– Не согласен! – решительно вмешался Языков. – И предлагаю: ни к чему не приступать до прибытия всеми нами уважаемого редактора-издателя «Отечественных записок» Андрея Александровича Краевского.
Шутка имела успех: Андрей Александрович Краевский никогда не бывал на сборищах, подобных сегодняшнему. Став хозяином первоклассного журнала, он, несмотря на молодость лет, тяготеет к обществу влиятельных особ. Даже при общеизвестном своем либерализме он наверняка испытал бы потрясение умственных и душевных сил, если бы заглянул в рукописные листы, которые разложил на столике перед собой Иван Иванович Панаев.
– К делу, господа! – повторил Панаев, несколько рисуясь по неистребимой привычке. – Сегодня я предложу вашему вниманию перевод одной из важнейших речей Максимилиана Робеспьера – ее точный текст по «Монитёру»…
Дело происходит в столице русского императора Николая I, находящейся под особым надзором высшей полиции. Кажется, взяты под наблюдение шпионов – явных, тайных и добровольных – даже сокровенные мысли жителей Петербурга. А в квартире литератора Панаева готовятся внимать речам Максимилиана Робеспьера! И собрались вовсе не какие-нибудь заговорщики, плетущие нити адского заговора. Даже изящная дама присутствует на сходке.
Такие чтения происходят у Панаевых не первый месяц. Конечно, история Французской революции 1789 года ведома в той или иной мере образованным русским людям. Но Панаев умеет отобрать для перевода такие документы, в которых как нельзя лучше отражаются кипучая атмосфера политических клубов, революционная жизнь площадей и предместий Парижа.
Но, едва вознамерился Иван Иванович увлечь слушателей в далекую Францию, в события давних лет, русская действительность напомнила о себе резким звонком, раздавшимся в передней.
Иван Иванович стал поспешно собирать крамольные листы, как будто это могло помочь, если бы за дверями уже стоял офицер в голубом мундире с обычной свитой из бравых жандармов.
Напряжение разрешилось, когда из передней послышался знакомый голос и в гостиную вошел еще один близкий человек – Иван Ильич Маслов.
– Нелегкая вас возьми, mon cher!{Мой дорогой (франц.).} – приветствовал его хозяин дома. – Сначала вы безбожно опаздываете, а потом пугаете порядочных людей.
– Да еще при вашей должности, Иван Ильич! – пошутил Белинский.
– Имеются ли, Иван Ильич, новые постояльцы?
Маслов состоял секретарем при коменданте Петропавловской крепости, куда испокон веков ввергали наиболее опасных вольнодумцев. При всей незначительности своей секретарской должности он мог рассказать о том, что творится в крепостных казематах.
Никаких новостей у Ивана Ильича Маслова на этот раз не оказалось. Чтение наконец началось.
Панаев читал знаменитую речь Робеспьера. С гневом обрушился Робеспьер на политическое примиренчество, столь присущее жиронде и столь опасное для революции. Всякое примиренчество неминуемо оборачивается предательством, когда нарастающая опасность грозит революции со всех сторон: от аристократов и их многоликой агентуры, от международной реакции, открыто собирающей силы для разгрома революционного Парижа. В этих исторических условиях и обосновал Робеспьер необходимость революционного террора.
На этой части речи Робеспьера и сосредоточился переводчик. Иван Иванович Панаев читал речь вождя якобинцев с той горячностью, с которой никогда не произносил своих речей Робеспьер. Эта горячность была понятна. Ведь и Робеспьер погиб именно потому, что не проявил решительности в те грозные дни, когда созрел заговор против революционной диктатуры Конвента. Еще оставались считанные минуты, отделявшие контрреволюцию от победы, но именно в это время Робеспьер, с железной логикой обосновавший право революции на подавление врагов и предателей, выпустил из рук управление событиями.
Все это знал, конечно, Иван Иванович Панаев и потому читал речь Робеспьера с волнением.
– Каково наше мнение, господа? – вопросом заключил он свое чтение.
Никто не откликнулся.
Тогда заговорил Виссарион Белинский.
Глава четвертая
Часы били медленно, но настойчиво; потом наступила неожиданная тишина, от которой Белинский проснулся. Глянул на часы – одиннадцать! Укорил себя в лености, а сам продолжал лежать и размышлял: что же, собственно, вчера у Панаевых произошло?
Встал, отпил чай, наскоро просмотрел почту и, вместо того чтобы приняться за работу, опять задумался. Конечно, он говорил вчера, пожалуй, откровеннее, чем обычно. Но что же нового он сказал? Что правда утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами прекраснодушной жиронды, а обоюдоострым мечом слова и дела? Пока говорил он все это применительно к речи Робеспьера – спасибо, хоть Панаев к нему присоединился. Остальные так и ринулись на защиту «благородной» жиронды.
Но ведь он-то, Белинский, говорил не столько о Франции, сколько о России, и не столько о прошлом, сколько о будущем.
Но тут, вспомнив вчерашние споры, Виссарион Григорьевич горько улыбнулся и пошел мерить тесный кабинет быстрыми шагами.
На рабочей конторке лежала стопка приготовленной бумаги, но он так к ней и не прикасался. А истекали последние дни подготовки мартовской книжки «Отечественных записок», и от редактора-издателя журнала накопилась целая груда записок. Андрей Александрович Краевский просил, торопил, напоминал и снова торопил.
Но если бы только привычные докуки от Краевского! Новая записка, доставленная из редакции, оповестила о неприятностях куда более важных. Краевский просил почтеннейшего Виссариона Григорьевича незамедлительно наложить приличные швы на те места в его статьях, в которых цензура не оставила ни последовательности изложения, ни даже смысла. Присланные вместе с запиской статьи Белинского свидетельствовали об этом со всей наглядностью.
Еще раз пересмотрел их Виссарион Григорьевич и гневно развел руками. Какие швы могут помочь там, где цензура рубит топором? А сам знал, конечно, что будет изощрять ум, чтобы спасти для читателей все, что можно спасти. Только не сейчас! Не давали покоя вчерашние споры.
Белинский был явно не в духе, когда заехал Панаев.
– Ну и напугали мы нашу братию Робеспьером! – начал гость, присматриваясь к хозяину. – Да ведь Робеспьер что? История! Но когда услышали вашу речь, Виссарион Григорьевич, тут и вовсе струхнули наши храбрецы.
– Как бы не ожили, сохрани бог, грозные тени? – усмехнулся Белинский.
– Э, нет, Виссарион Григорьевич! Будущее пострашнее будет. А вы как раз и стали пророчить революционные потрясения России. Тут, я думал, чудака Прокоповича первого удар хватит, а за ним и Маслова.
– Чего же им опасаться? Прокопович наверняка дождется пенсиона за беспорочную службу. И Маслов, честная душа, может до конца дней ходить на службу в Петропавловскую крепость. Во Франции восставший народ взял приступом ненавистную Бастилию, но кто и когда посягнет у нас на твердыню самовластия? Чего же им опасаться? Не первый раз говорю я о революции и, надеюсь, не в последний. Но как бы ни было далеко это спасительное будущее, каждый раз вижу, что вырастает передо мной глухая стена. Оно лучше, конечно, пребывать в болоте безмятежного созерцания, чем заглянуть вперед без страха.
– Без страха? Когда заговорили вы о неминуемых при революции жертвах, тут, если заметили, и Языков отпрянул. Не говорю о Комарове.
Белинский глянул на гостя, стремительно поднялся и, словно заглядывая в будущее и к этому будущему обращаясь, высказал накопившуюся тревогу:
– Как же разрушить наше проклятое прекраснодушие? Как его истребить?
Было время, когда Виссарион Григорьевич называл прекраснодушием всякую попытку восстать против существующей действительности. Это было еще в Москве, во время увлечения философией Гегеля и его формулой: «все, что разумно, то и действительно; что действительно, то и разумно». Казалось, эта формула бросает ослепительный свет на всю историю человечества. В истории нет, оказывается, ни произвола, ни случайности. Всякий момент жизни велик, истинен и свят. Во имя этой философской формулы оставалось признать необходимо сущей и русскую действительность с ее самовластием и крепостным правом, хотя противились этому и разум и совесть.
Но недолог оказался плен.
Белинский снова вернулся к поиску законов, которые управляют движением человечества. Теперь Белинский видит в истории непрерывное борение противостоящих сил; от разума и воли людей зависит развитие и направление этой борьбы. Следовательно, действие – главное назначение человека. Виссарион Григорьевич называет теперь русскую действительность не иначе, как гнусной, и объявил ей беспощадную войну. Он снова говорит о прекраснодушии, но как! Теперь он называет прекраснодушием всякую попытку врачевать язвы русской действительности при помощи утешительных пластырей. Жечь надо эти язвы каленым железом. Только меч революции их истребит. Нет другой метлы, нет другой скребницы.
И снова повторил Белинский, стоя перед Панаевым:
– Так как же покончить нам с проклятым прекраснодушием? – Всю страсть, все нетерпение, все надежды вложил он в этот вопрос.
– Я приготовляю новые материалы к очередной сходке, – отвечал Панаев. – Перевожу – у самого дух захватывает. Однако же сомневаюсь: найдутся ли охотники слушать мои переводы?
– Послушать-то авось придут, хотя бы любопытства ради.
– Буду надеяться вместе с вами, Виссарион Григорьевич. А что, если не управлюсь к субботе? Многие дела меня отвлекают.
– Какие такие объявились у вас чрезвычайные дела?
– Разные, Виссарион Григорьевич… – Панаев смутился.
– Разные, говорите? – Белинский покосился. – Коли так, выкладывайте начистоту.
– А коли начистоту, тогда извольте, – охотно согласился Иван Иванович. Ему и самому не терпелось кое-чем похвастать. – Назначен, Виссарион Григорьевич, на предстоящую субботу ничем не примечательный маскарад, но я, грешный, имею некоторые виды. Получил, представьте, интригующее письмо. Не подумайте, однако, чего-нибудь дурного… Просто обратила внимание на вашего покорного слугу некая дама, и, видимо, с поэтическим воображением. Но, натурально, ни слова об этом Авдотье Яковлевне!
– Авдотья Яковлевна видит вас лучше меня. Попадетесь как кур во щи, заранее вам предрекаю!
Иван Иванович поспешил уклониться от неприятного разговора:
– Так на какой же день, если не на субботу, назначим, Виссарион Григорьевич, нашу сходку?
– На любой, – серьезно отвечал Белинский, – когда не случится в Петербурге ни одного соблазнительного маскарада, а Иван Иванович Панаев, будучи свободен, сможет читать нам, скажем, о якобинской диктатуре, с тем, однако, чтобы вовремя попасть на следующий маскарад… Этакая пошлость!
Иван Иванович хотел протестовать и, может быть, опять бы сослался на поэтическое воображение прекрасной незнакомки, но Белинский продолжал:
– А может быть, настанет когда-нибудь такой счастливый день, когда к черту полетят все утешительные маскарады, которыми потчует нас наша гнусная действительность?.. Впрочем, я, кажется, действительно зарапортовался, – сам себя перебил Белинский.
– Чуть было не забыл, – сказал, прощаясь, Иван Иванович. – За завтраком вдруг говорит мне Авдотья Яковлевна: «Не все я понимаю из того, о чем говорил вчера Виссарион Григорьевич, но вот странно: когда слушаю его, я особенно ясно чувствую пустоту всех других речей». Не хочу скрыть мнения Авдотьи Яковлевны, столь лестного для вас, Виссарион Григорьевич, и столь же огорчительного для других, начиная, очевидно, с меня. Не так ли?
Панаев уехал. Виссарион Григорьевич, глядя ему вслед, заключил по привычке вслух свои мысли о литературных трудах Ивана Ивановича:
– Мог бы писать и лучше и глубже, если бы не был свистуном, ветрогоном и бонвиваном…
По-видимому, действительно не в духе был сегодня Виссарион Белинский. Все еще не мог освободиться от вчерашних впечатлений.
А что, собственно, на сходке у Панаевых произошло? Но в том-то и дело, что ничего нового не случилось. Стоит ему заговорить о будущем – а это будущее России неотделимо от революции, – и люди начинают слушать его с растерянной улыбкой или вовсе от него шарахаются.
Вокруг Белинского собираются немногие близкие друзья: просвещенные учителя и чиновники, образованные выходцы из помещичьей среды и люди, пробившиеся к просвещению из низших сословий. В миниатюре это тот же круг читателей, который складывается и в столице и в провинции – везде, куда доходят «Отечественные записки».
Нет нужды повторять, что первопричиной российских бед является крепостное право. И как ведь разгорячится для начала человек: не век, мол, будет тяготеть над Россией этот позор! А потом тем охотнее отдастся прекраснодушию: явятся-де просвещенные помещики, которые сами поднимут голос за освобождение крестьян. И народ, просветившись, обретет свободу. Не может, мол, стоять жизнь на месте без движения. Вот она, жизнь, в свое время и распорядится. Чего же лучше?
– Слова, слова, слова! – в бешенстве повторял Белинский, кружа по кабинету. – Утешительные пластыри!
Болеющие недугом прекраснодушия охотнее всего величают себя либералами. И опять звучит слово возвышенно и благородно! Вот и толкуй им о том, что условия жизни надо революционно изменить на благо большинству человечества, которое страждет в бесправии, лишениях и нищете…
Учители социализма – Сен-Симон, Фурье и другие, – выступающие на Западе, непререкаемо доказали, что источником страданий человечества является неразумное и несправедливое распределение жизненных благ. На смену должно прийти новое общество, в котором утвердятся разум и справедливость. Картина будущей счастливой жизни человечества еще неясна и туманна, и все это похоже на те утопии, которые издавна создают передовые умы. Но в беспощадном осуждении существующих порядков – первая заслуга приверженцев социализма.
– Что мне в том, – горячится Виссарион Григорьевич, – если какой-нибудь гений живет в облаках, а толпа валяется в грязи? Что мне в том, если мне открыт мир идей, искусства, истории, а я не могу поделиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству?
Но провозвестники социализма думают, что перестройка общества совершится добровольно, без потрясений, без принуждений, без жертв.
Русский литератор Белинский понимает всю беспочвенность таких мечтаний. Обращаясь к истории, он видит, что ее героями были разрушители старого. История учит, что единственное средство такого разрушения – революция. Стало быть, только через революцию может приблизиться человечество к социализму. А в России, где еще нужно покончить с рабством, с азиатчиной, будущее тем паче неотделимо от революции. Надо так писать, чтобы каждое слово, даже искалеченное цензурой, зажигало ненависть к настоящему во имя будущего. Надо так писать, чтобы ненависть полыхала неугасимым пламенем. Спасайтесь от смертельного яда прекраснодушия, братья по человечеству!
Виссарион Григорьевич встал за конторку и ушел в работу.
Вот и не осталось следа от недавнего наваждения, испытанного в Москве. Ни он не пишет Мари, ни от нее нет известий. Все забыла Мари.
А что ей помнить? Что встретила человека, одолеваемого годами и болезнями? Что по щедрости сердца оказала ему участливое внимание? Да что поспорили они невзначай о пушкинской Татьяне?
Нет, лучше вовсе не отрываться от работы, иначе опять полезут в голову несуразные мысли. Неисправимый человек! Ведь было же далекое время, когда он поверил в чудо любви, а чуда не произошло. Тогда, по молодости лет, он безумствовал и рыдал. Впрочем, давно это было…
Глава пятая
Почетному гостю профессора Погодина Николаю Васильевичу Гоголю отведены особые покои в мезонине дома на Девичьем поле.
Вот и кружит по мезонину почетный гость. Подошел к окну: намело в саду такие сугробы, что краюхи неба и той не увидишь. Зловеще каркает слетевшееся черной тучей воронье.
Именитые петербургские друзья не баловали Гоголя письмами. Прошел январь и половина февраля. Пытка молчанием продолжалась.
Походил-походил Николай Васильевич и опять остановился у окна. Понимают ли медлительные друзья, что он отдал «Мертвым душам» долгие годы самоотверженного труда и полного отречения от мира? Кому скажешь, что он начал писать «Мертвые души» с одобрения Пушкина и ему же были читаны наброски первых глав? Пушкин, Пушкин! Какой чудесный сон приснился ему, Гоголю, в жизни!
За окном быстро темнело. Николай Васильевич зажег свечу и долго смотрел на колеблющееся пламя. Пламя разгорелось ярким светом. Неужто сулит надежду? Наверное, сел наконец в карету добрый граф Виельгорский, положил рядом с собой рукопись «Мертвых душ» и скачет прямехонько в Зимний дворец: «Ваше императорское величество, нельзя лишить писателя справедливости! Не медлите, государь!»
Император обращает к вельможе благосклонный взор. Сейчас раздастся царственное всемогущее слово.
Будто и в самом деле ожидая этого всемогущего слова, Гоголь нетерпеливо прислушался. Но услышал только шаги на лестнице и болезненно поморщился: никак ввалится сейчас Михаил Петрович?
Вошел, однако, не Погодин, а погодинский слуга с запиской. Теперь часто только письменно сносится радушный хозяин дома с почетным гостем. Отношения их портятся изо дня в день. Как возмутились москвитяне, когда проведали, что Гоголь отвез «Мертвые души» Белинскому! Нет-де страшнее греха, чем общение с этим прислужником сатаны. Вот кому заложил душу Николай Васильевич!
Прижимистый профессор Погодин без обиняков напомнил при этом и о денежном долге. А у должника все достояние – в «Мертвых душах», безвестно странствующих в Петербурге.
Гоголь взял от слуги записку. Записка оказалась пустяковой. Всяким вздором досаждает суетный человек Погодин. Коротко ответил на том же лоскутке: «Ради бога, не мешай! Занят».
И опять пошел кружить по мезонину. А по стене ходит за ним чья-то колеблющаяся тень: опущены у тени плечи, никнет голова, еще больше заострился нос.
Доколе же будут медлить петербургские ходатаи?
Нельзя сказать, чтобы Гоголь никуда не выезжал. Его видели во многих московских домах – и у Хомяковых, и у Аксаковых, и у Елагиных. Все это были люди, примыкавшие или к «чисто русскому», или к славянофильскому направлению.
В курительной комнате у Хомяковых помещалась главная славянофильская говорильня. Алексей Степанович Хомяков, человек ученый и стихотворец, богослов и философ, имел любимого конька – православную веру. Запад развращен католицизмом. Россия, приняв учение Христово из Византии, православием и спасется. На Западе, где нет истинной веры, неминуемы распри и смуты. Там на смену католицизму, утопающему в разврате, пришла безбожная наука, прельщающая умы. Россия же сильна истиной, которую черпает из единственного животворящего источника – божественного откровения. И тут, начав диспут с вечера, Хомяков мог разить противников до утра.
Гоголь посидит, насупившись, в хомяковской говорильне и уйдет к дамам. А если и скажет слово, то такое не относящееся к разговору, что сразу видать – ничего не слышал Николай Васильевич.
На смену Хомякову выступал в славянофильских гостиных молодой боец – Константин Сергеевич Аксаков. Его любимым коньком была Москва. Не та Москва, которая хлопотала с раннего утра до поздней ночи. Не замечал Константин Сергеевич и тех людишек, которые простаивали целые дни на торговых площадях в ожидании найма на работу. С неудовольствием смотрел он на открывающиеся в Москве банкирские и торговые конторы. На окраинах же города было и того хуже: одна за другой вздымались к небу закоптелые фабричные трубы. То дьявол, шествующий с нечестивого Запада, зажигал адские огни в Белокаменной.
Константин Аксаков видел перед собой другую Москву – хранилище веры, ковчег преданий. Свято верил юный пророк, что древняя Русь жила во всеобщем согласии, от первого боярина до последнего смерда. Вот за эту воображаемую Москву, стольный град древней Руси, за возрождение ее, наперекор всем бедам, пришедшим на Русь с богомерзкого Запада, и произносил пылкие здравицы Константин Аксаков.
Гоголь терпеливо слушает. А то вдруг коротко отзовется:
– Накинуть на плечи кафтан, хотя бы и древнего стрелецкого покроя, еще не значит постигнуть русский дух.
Вот и зааркань после этого Николая Васильевича в славянофильскую веру!
И все-таки часто ездил Гоголь к Аксаковым. У Аксаковых его окружали откровенным и наивным благоговением. К его прибору ставилось лучшее вино. При первом его слове все умолкало. Увидит этакое благоговение Николай Васильевич и уже ничего не скажет или, сославшись на недомогание, уйдет в хозяйский кабинет. А в другой раз надолго опоздает к званому обеду.
И гадают Аксаковы всем семейством: чудит или возгордился великий человек?
Да, Гоголь выезжал. Собственноручно варил макароны по-итальянски в дружеской компании, принимал приглашения на вареники, а еще охотнее ехал, если обещали попотчевать любимыми украинскими песнями. Разойдясь, он и сам подтягивал певцам. Будучи в ударе, рассказывал причудливые истории. Когда же изнемогут слушатели от смеха, глянет на них Николай Васильевич со всей серьезностью: что-де такого смешного он сказал? А тут уже вовсе начинают хвататься люди за животы.
Все было, казалось, так, как в прежние годы. Но случается, что вдруг оборвет Гоголь речь на полуслове и, уйдя в себя, не обращает ни на кого никакого внимания; иногда же порывисто встанет и, едва распрощавшись, полный тревоги, поспешно уедет на Девичье поле и там надолго укроется в мезонине.
Прислушается, занимаясь в своем кабинете, Михаил Петрович Погодин: что там, наверху? А из мезонина, бывает, часами ничего не слышно. Даже слугу не позовет к себе почетный гость. Невдомек было заботливому хозяину, что с Гоголем случались глубокие обмороки и, лишившись сознания, он подолгу лежал один, без всякой помощи.
Потом очнется Николай Васильевич, смятенный, бледный. К сердцу подкатывается необъяснимая тоска. В ужасе содрогается он и подолгу глядит в пустоту невидящими глазами.
Ведь писал он недавно Плетневу, жалуясь на припадки, которые принимают странные образы. Но где же знать тишайшему Петру Александровичу, что значат эти странные образы, являющиеся неведомо откуда и преследующие, как разъяренные демоны?
Февральские вьюги, вволю покуражившись над Москвой, пели ей последние свои песни. Все громче шумело на Девичьем поле воронье. Кажется, что каркают, проклятые, короткую, но зловещую песню:
«Зарежут твои «Мертвые души» в петербургской цензуре! – И засматривают в окна мезонина сверлящими глазами. – За-р-режут!..»
Взметнется крылатая чернота до самого неба, так что померкнет свет. Воронье или ведьмы, принявшие черное птичье обличье?
И вдруг – короткое, глухое известие от Плетнева: «Рукопись пропускается!»
Гоголь перечитал письмо несколько раз. Неужто поедет Чичиков по помещичьим усадьбам? Поедет! Вот уж и колокольчик заливается под дугой.
Долго прислушивался к этим бойким, любезным сердцу звукам автор «Мертвых душ», словно и сам снарядился в дорогу. Потом, в тот же день, ответил Плетневу: «Добрый граф Виельгорский! Как я знаю и понимаю его душу».
Но жестоко ошибся на этот раз великий сердцевед. Добрый граф Виельгорский давно забыл о «Мертвых душах». Все дело взял в свои руки цензор Никитенко. Он и сам правомочен решить судьбу рукописи. Профессор Никитенко отнюдь не собирался нарушить служебный долг. Ему уже приходилось сиживать на гауптвахте за недосмотры при пропуске рукописей в печать. А сейчас то и дело сажают цензоров под военный караул или вовсе выгоняют со службы за малейшее послабление. Министр просвещения Уваров отдал строжайший приказ: «Употреблять особую осмотрительность при цензуровании сочинений, авторы которых как бы исключительным предметом своих изображений избирают нравственные безобразия и слабости, и о всех описаниях такого рода, заимствованных из нашего отечественного быта, представлять предварительно начальству».
– Что же в таком случае и запрещать, как не «Мертвые души»? – задает себе резонный вопрос цензор Никитенко.
Он уже намекнул по дружбе профессору Плетневу, что ломает себе голову над тем, как очистить рукопись Гоголя для печати. Намекнул и раскаялся в преждевременном сообщении. С того дня хранит цензор Никитенко таинственное молчание. Если и удастся очистить «Мертвые души», то останутся в рукописи глубокие раны.
Впрочем, Александр Васильевич, чуждый крайностей не только в мыслях, но и в выражениях, предпочитает называть эти раны царапинами на нежной и роскошной коже «Мертвых душ».
Читатель Никитенко не мешает больше Никитенко-цензору. Все сообразив и обдумав, Александр Васильевич обмакнул перо в красные чернила.
На «Мертвых душах» появились первые царапины.
Глава шестая
«Мертвые души» пропускаются! Вот и поехать бы Николаю Васильевичу со двора.
А он сидит в мезонине и перечитывает старое письмо, полученное чуть ли не три месяца тому назад. Письмо писано изящным женским почерком, но с теми ошибками против русской грамматики и слога, которые непременно сделает светская женщина, привыкшая излагать свои мысли по-французски. Если же всмотреться в неустановившийся почерк, то можно безошибочно заключить, что вышло письмо из рук очень молодой, может быть, даже совсем юной особы.
Что же может писать светская барышня писателю, вовсе неискусному в изображении героев и героинь большого света?
А Гоголь помнит наизусть каждое слово. Перед ним оживают те далекие годы, когда вошел он, безвестный домашний учитель, в петербургский дом генерала Балабина. Его ученица Машенька Балабина, прежде чем взяться за грифельную доску, приседала в глубоком реверансе.
Как полон был тогда домашний учитель смутных замыслов и тайных надежд! Однако северная столица сурово встретила пришельца. Как страшно было одиночество! Зато радушный дом Балабиных Гоголь всегда будет называть единственным в мире по доброте.
Встречи с Балабиными возобновились за границей. В то время Машеньку уже величали Марьей Петровной. В жизни ее бывшего домашнего учителя тоже кое-что произошло.
Однажды в Риме Гоголь сам вызвался прочитать у Балабиных «Ревизора». С каким неподдельным восторгом слушала Марья Петровна! Как тщетны были ее попытки удержаться от смеха. Счастливое, беспечное создание!
Но что-то недоброе случилось с Марьей Петровной после того, как Балабины вернулись из Италии в Петербург. Пусть бы просто тосковала она по роскошному югу, пусть бы родное небо показалось ей старой подкладкой от серой военной шинели. Не это поразило Гоголя. Марья Петровна писала бывшему учителю:
«Нервы так расстроились у меня, что я перехожу от самой сильной печали до бешеной радости. Это, я думаю, еще больше ослабляет те же самые нервы. Итак, нервы делают зло моей душе, а потом душа делает зло моим нервам, – и я почти сумасшедшая».
Может быть, давно забыла о посланном в Москву письме Марья Петровна, развеяв девичьи горести на балах. Гоголь ничего не забыл. Неужто эта бесхитростная душа открыла ему, даже не подозревая, тайну его собственных душевных страданий?
Очень долго не отвечал Гоголь Машеньке Балабиной, боясь коснуться сокровенного.
Николай Васильевич еще раз глянул в сад. Там стояла белоснежная тишина. Между сугробами лег робкий солнечный луч. И какая-то дальновидная пичуга вдруг подала голос, возвещая близкую победу вешних сил.
Какие же демоны терзают душу человека, сидящего за столом?
Гоголь очинил перо, встал и закрыл дверь на ключ. Сумрачный, сосредоточенный, вернулся к столу.
Наконец начал писать о главном:
«Я был болен, очень болен и еще болен доныне внутренне: болезнь моя выражается такими странными припадками, каких никогда со мной еще не было…»
Писал быстро, будто заранее обдумав каждое слово, как медик, который выносит приговор после тщательного изучения болезни:
«Но страшнее всего мне показалось то состояние, которое напомнило мне ужасную болезнь мою в Вене, а особливо когда я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, которую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль…»
Перечитал написанное. Все так! Один бог знает, сколько раз в этом мезонине чужого дома он впадал в небытие, подобное смерти. При одном воспоминании до крови закусил губы.
Теперь каждая строка письма имела прямое отношение к «Мертвым душам», хотя и не было сказано о них ни слова:
«И нужно же в довершение всего этого, когда и без того болезнь моя была невыносима, получить еще неприятности, которые и в здоровом состоянии человека бывают потрясающи. Сколько присутствия духа мне нужно было собрать в себе, чтобы устоять. И я устоял…»
В это хотелось верить, но не очень сильна была, должно быть, вера, если из-под пера вылились новые строки, полные отчаяния:
«Я креплюсь, сколько могу, выезжаю даже из дому, не жалуюсь и никому не показываю, что я болен, хотя часто, часто бывает не под силу».
Так вот почему бывает, что на людях вдруг умолкнет на полуслове Николай Васильевич или вперит в окружающих тревожный, подозрительный взгляд: то покажется ему, что кто-то неспроста спросил его о здоровье, то, обуреваемый нарастающим страхом, он пускается в поспешное бегство от людей.
Когда с Гоголем приключилась страшная болезнь в Вене, о которой вспомнил он в письме к Марье Петровне Балабиной, ведь писал он в то время и Плетневу и Погодину. И что же? Все забыли, рассеянные люди!
Гоголь заехал в Вену на перепутье осенью 1840 года. Свежесть духа была такая, какой он давно не знал. В голове, как разбуженные пчелы, зашевелились мысли. Воображение стало чутко необыкновенно. Он переселился в мир героев «Мертвых душ», в котором давно не бывал. И тотчас натянул вожжи кучер Селифан, и неутомимый Павел Иванович Чичиков, завершив деда у Плюшкина, покатил в губернский город NN.
Но в это самое время невыносимо стеснило грудь. К сердцу подкатилось необъяснимое волнение, над которым он никогда не был властен. Потом пришла черная тоска, объявшая ум и сердце и поглотившая остаток сил. Гоголь бросил работу, но нервическое раздражение возрастало. Тоска стала подобна ощущению приближающейся смерти. Сил хватило только на то, чтобы холодеющей рукой нацарапать завещание – кому и сколько надо уплатить в покрытие его долгов.
Ни случайный доктор, ни добросердечный соотечественник, принимавшие горячее участие в больном, ничем не могли ему помочь. Тогда, с величайшим напряжением выговаривая каждое слово, Николай Васильевич велел посадить себя в дилижанс.
Дорога! Какими целебными тайнами владеешь ты? Уж не рожок ли кондуктора отгоняет черную тоску? Не от стука ли колес бежит прочь призрак смерти?
Едва оправившись от ужаса, объявшего его в Вене, Гоголь через силу бродил по улицам любимого Рима. Даже римское небо не чаровало. Остановится и прислушается к себе измученный страхом человек: ужели неодолимая тоска снова вернется? Разве этого не бывало с ним и раньше?
Еще летом давнего 1829 года он вдруг бежал из Петербурга за границу на первом отходящем пароходе. Как смутное видение промелькнули перед ним тогда Любек, Травемунде, Гамбург. Нигде не задержавшись, он снова вернулся в Петербург, будто очнулся от тяжелого сна.
А на путешествие, предпринятое неведомо зачем, он истратил деньги, присланные матерью для платежа процентов в опекунский совет. Имение могло пойти в продажу с торгов. Так легкомысленно поступил примерный сын.
В то время в Петербурге вышла небольшая книжка: «Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах. Сочинение В. Алова». Идиллия открывалась предисловием издателей, которые видели свою скромную заслугу в том, что «по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта».
Издателем, автором предисловия и сочинителем идиллии был двадцатилетний Николай Гоголь.
Гоголь-Алов одиноко бродил по петербургским улицам. Автор «Ганца Кюхельгартена» заходил в книжные лавки. Идиллии никто не покупал. Должно быть, неторопливые читатели ожидали появления рецензий.
Рецензии и не заставили себя ждать. Незадачливый «Ганц» был жестоко осмеян и в Петербурге и в Москве.
Тогда автор снова отправился по книжным лавкам, собрал все непроданные экземпляры и снял номер в гостинице. Здесь постоялец повел себя престранно: несмотря на июльскую жару, он прежде всего разжег огонь в печке.
О, равнодушные люди! Неужели не могут тронуть вас страдания оскорбленного сердца?
Поэт, сидя у печки, бегло перечитывал свою идиллию.
– В огонь! – решительно сказал автор и раскрыл наугад следующий экземпляр. – В огонь!
Взяв еще одну книжку, заглянул в эпилог.
Утро застало Гоголя сидящим в кресле подле печки, полной пепла. Мучительная ночь, безрадостное утро!
А ведь уже задумывал он выдать в свет повести, взятые из истории и преданий Украины. Уже давно была отправлена матери просьба: слать сыну все, что она знает и помнит об обычаях, сказаниях и нравах украинцев. Трагическая смерть «Ганца Кюхельгартена» все остановила. Очертя голову Гоголь бросился в путешествие.
Дорога, должно быть, и тогда помогла. В письмах к матери из Любека и Травемунде наряду с высокопарными мольбами о прощении мелькают зоркие наблюдения будущего писателя, освободившегося от сентиментальных мечтаний. Нет, не зря умер незадачливый «Ганц Кюхельгартен»! Не зря обрек его автор очистительному пламени…
Через два года «Вечера на хуторе близ Диканьки» возвестили России о явлении таланта, поразительного по свежести и самобытности. Прикинувшись пасичником Рудым Паньком, Гоголь снова явился перед читателями, и Пушкин первый его приветил.
А со страниц книги, исполненной заразительной веселости, звонких песен и поэтических сказаний, вдруг выглянул Иван Федорович Шпонька – лицо, можно сказать, вовсе не поэтическое. Что любопытного можно рассказать об Иване Федоровиче, который даже для белокурой барышни, той самой, у которой брови были совершенно такие, как в молодости у тетушки Василисы Кашпоровны, придумал один только разговор: «Летом очень много мух, сударыня!» А больше ничего придумать не мог. Но, как ни робок Иван Федорович, именно ему было суждено привести за собой будущих героев Гоголя.
Никогда не говорил автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» о том, что было с ним после сожжения «Ганца Кюхельгартена», почему так спешно выехал он за границу. Только раз в письме к матери признался, что бежал сам от себя.
Может быть, еще тогда, бездумно бросившись в дальнюю дорогу, он неожиданно открыл спасительное средство против приступов неодолимой тоски.
Когда через несколько лет в петербургском театре состоялась премьера «Ревизора», Гоголь покинул театр удрученный, растерянный, почти больной. Чуть ли не всю ночь бродил по сонным улицам. Вспоминая спектакль, содрогался от ужаса. Многие актеры, ничего не поняв в комедии, играли ее как пошлый фарс. И самое удивительное: представив зрителям столь откровенные картины российской действительности, автор «Ревизора» никак, оказывается, не ожидал, что поднимутся против него такие злобные вопли. Словно бы думал Николай Васильевич, что попотчевал сановных зрителей премьеры освежительной конфетой.
Гоголь снова пустился в дальнюю дорогу. Весть о том, что пуля проходимца Дантеса сразила Пушкина, застала его в Париже.
«Никакой вести хуже нельзя было получить из России, – писал он на родину. – Невыразимая тоска!»
Тоска гонит его из Парижа в Рим; мелькают Карлсруэ, Франкфурт, Женева и, наконец, снова Рим.
Гоголь затаился надолго. Тоска обрекает его на бездействие и налетает, как смерч. Улетит смерч, расправит смятые крылья душа, а человек тревожно озирается: нет ли на горизонте нового, едва видимого облачка?
Неизвестно, когда вернется, закружит и пригнет к земле черный недуг. Болезнь возвращается через неопределенные сроки, но возвратится непременно!
Как же не возвратиться ей, когда обрушились на автора «Мертвых душ» неприятности, которые и в здоровом состоянии человека бывают потрясающи…
Но еще не знал Гоголь, когда писал Машеньке Балабиной, какие новые неприятности его ждут.
Глава седьмая
Александр Васильевич Никитенко процеживал каждое слово «Мертвых душ», вникал в каждое авторское многоточие. Наконец, завершив труд, цензор сделал на рукописи разрешительную надпись, скрепил разрешение гербовой печатью.
Ныне будет называться поэма: «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Очень хорошо! Новое заглавие соответствует сюжету и устраняет возможность кривотолков.
Профессор Никитенко перелистал рукопись в последний раз; дошел до повести о капитане Копейкине.
«Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин? – Все отвечали, что никак не знают, кто таков капитан Копейкин».
Тут бы почтмейстеру губернского города NN и начать рассказ. Но петербургский цензор давно перекрестил красным крестом всю повесть, от первого слова до последнего.
Капитан Копейкин, который вернулся из похода 1812 года хоть и с пустым рукавом, хоть и на деревяшке, но все-таки живой, теперь погиб в баталии с цензурой. Упокой, господи, его дерзкую душу!
На том и расстался цензор с писателем, возомнившим, что ему сам черт не брат. А окровавленная рукопись «Мертвых душ» обзавелась номером по реестру и датой разрешения: «3 марта 1842 года».
Но именно после этого и случилось с «Мертвыми душами» удивительное происшествие: бесследно сгинула вся рукопись, даром что стояла на ней гербовая печать. День шел за днем, «Мертвые души» так и оставались пропавшей грамотой.
Когда-то сам Гоголь, прикинувшись пасичником Рудым Паньком, выдал в свет подобную историю, случившуюся с дедом дьячка …ской церкви. Все помнил словоохотливый дьячок Фома Григорьевич: как пропала у деда грамота, зашитая в казацкую шапку; как добыл ее обратно лихой казак у нечистого племени, после того как обыграл старшую ведьму в «дурня».
Но что мог сделать автор «Мертвых душ», когда пропала рукопись в цензурном комитете? Тщетно взывал он к Плетневу. Послал ему переработанную повесть «Портрет». Печатайте в «Современнике», только сообщите, Христа ради, куда девались «Мертвые души»! Будучи совершенно в отчаянии, взял Николай Васильевич и грех на душу, написал Плетневу о «Современнике»: «Это благоуханье цветов, растущих уединенно на могиле Пушкина».
Но и благоуханная лесть не помогла. Плетнев молчал.
«Боже, какая странная участь! – в отчаянии взывал к нему Гоголь. – Думал ли я, что буду таким образом оставлен без всего… Я без копейки, без состоянья выплатить самые необходимые долги… Непостижимое стечение бед!»
В те дни и явилось Гоголю черное, едва видимое облако.
А Михаил Петрович Погодин слал в мезонин одну записку за другой. С настоянием просил дать наконец хоть что-нибудь для «Москвитянина». К случаю опять напомнил о денежном долге. И вырвал незаконченную повесть «Рим». Вырвал, немилосердный человек!
Когда самая жизнь Гоголя была неотделима от участи «Мертвых душ», он должен был обрабатывать «Рим», потом держать журнальную корректуру. Но почему бы церемониться профессору Погодину со своим гостем, пленником и кабальным должником?
А может быть, и там, в Петербурге, тайно отдана рукопись «Мертвых душ» на посмеяние и расправу врагам? Может быть, истребляют они «Мертвые души» по листочку и, правя сатанинский шабаш, гогочут и лают, ржут, и хрюкают, и верещат – и некуда от этого гомона укрыться…
Непостижимое стечение бед! Болезнь властно стучалась в двери мезонина, в котором изнемогал автор пропавших «Мертвых душ».
Глава восьмая
В погожий мартовский день московский профессор Степан Петрович Шевырев взошел на университетскую кафедру, чтобы прочесть лекцию студентам. Но, прежде чем успел произнести хоть слово профессор, в аудитории явственно прошелестело:
– Педант!
Профессор постучал стаканом о графин с водой. Может быть, он ослышался?
– Вон педанта из аудитории! – отчетливо прогудел, выделяясь из общего шума, чей-то молодой, но внушительный басок.
Это было похоже на бунт. А Степан Петрович Шевырев хорошо знал имя подстрекателя. В Москву только что пришла свежая книжка «Отечественных записок». В ней и напечатан памфлет «Педант». Речь идет в памфлете о некоем Лиодоре Ипполитовиче Картофелине, но писан тот портрет точной и дерзкой кистью именно с профессора Шевырева. Под «Педантом» стоит подпись автора: «Петр Бульдогов». Но каждый узнает руку Виссариона Белинского.
Памфлет вызвал бурю. В университетских аудиториях и коридорах, в студенческих номерах «Педанта» читали и перечитывали.
«…Любовь его к букве, – писал о Картофелине-Шевыреве Белинский, – должна все больше и больше увеличиваться; ненависть и отвращение ко всему живому и разумному – также. Слово «идея» он не должен слышать без ужаса…
…Он не что иное, как раздутое самолюбие, – продолжал Белинский, – хвалите его маранье, дорожите его критическими отзывами, – он добр, весел, любезен по-своему… Но беда ваша, если вы не сумеете или не захотите скрыть от него, что у него самолюбие съело небольшую долю ума, вкуса и способности, данных ему природою… О, тогда он готов на все злое и глупое – берегитесь его!.. Рецензия его тогда превращается в площадную брань, критика становится похожа на позыв к ответу за деланье фальшивой монеты…»
Теперь профессору-эстетику пришлось покинуть аудиторию под крики возмущения:
– Вышвырнуть Шевырку из университета!
А когда дойдут эти молодые гневные голоса до Виссариона Белинского, он еще раз повторит со страстью:
– Спасайтесь, люди, от смертельного яда прекраснодушия!
Конечно, «Педанта» читали не только в университете. Шевырева почитали в Москве столпом «чисто русской» мысли и ее златоустом, одинаково красноречивым и в науке, и в поэзии, и в критике.
Никто еще не осмеливался открыто назвать Степана Петровича самовлюбленным ничтожеством и политическим доносчиком. Никто не дерзал сказать печатно: «Берегитесь его!»
Шевырев отсиживался дома. Кстати, надо было хорошенько обдумать, как привлечь к происшествию внимание высшего правительства. В этом усердно помогал ему профессор Погодин.
Михаил Петрович не раз перечитал те строки «Педанта», в которых Белинский обещал дать еще один портрет литературного циника, человека, который, будучи век свой спекулянтом, успел уверить всех, что он ученый и литератор, идеал честности, бескорыстия и добросовестности.
– Никак и в меня метит, разбойник? – спрашивал, свирепея, Погодин.
Степан Петрович Шевырев, уязвленный «Педантом» до разлития желчи, мог только подтвердить истину, прозорливо угаданную ученым издателем «Москвитянина».
– А коли так, – Погодин сжимал кулаки, – будем немедля просить генерал-губернатора: пусть самолично поддержит нашу жалобу в Петербурге. Пусть закуют каторжника в кандалы навечно!
Степан Петрович глянул на воинственно сжатые кулаки Погодина. Могучие, конечно, кулаки, а что в них проку? Ныне нужен гибкий, дальновидный ум.
– Надеетесь на генерал-губернатора, Михаил Петрович? – спросил Шевырев и задумался, озирая, как полководец, предстоящие битвы.
В то время, когда профессор Шевырев совещался с профессором Погодиным, еще один почтенный москвич сочинял жалобу шефу жандармов графу Бенкендорфу.
Михаил Николаевич Загоскин, принадлежа к «чисто русскому» направлению, как Шевырев и Погодин, избрал для себя поприще исторического романиста и действовал попросту. Он пел аллилуйю древней Руси, которую изображал медовым узорчатым пряником; когда же касался вольного духа современности, тотчас затягивал грозную анафему. Сколько исторических романов ни написал Загоскин, ни разу с тона не сбился. Приятели давно величали его и русским и московским Вальтер Скоттом. Ныне же Михаил Николаевич Загоскин, пресытившись лаврами исторического писателя, выпустил в свет нравственно-описательный роман «Кузьма Петрович Мирошев». И вот она, проклятая книжка «Отечественных записок»! Вот он, отпетый разбойник Белинский!
Белинский доказал, что так же, как и в псевдоисторических романах Загоскина, герои «Мирошева» похожи на фигуры, грубо вырезанные из картона, и на лбу у каждой такой фигуры приклеен ярлык: «Добродетельный номер 1», «Злодей номер 2» и т. д. Чувства добродетельных героев подменены убогими чувствованьицами, нравственность – картофельной, как выразился Белинский, сентиментальностью.
Но для чего написан «Мирошев»? Цель все та же: доказать превосходство нравов старины перед современными. Все та же аллилуйя невежеству, темным предрассудкам и рабской покорности, все та же анафема просвещению.
«Но довольно, читатели! – закончил Белинский рецензию на «Мирошева». – Скоро о подобных явлениях уже не будут ни говорить, ни писать… И цель нашей статьи – ускорить, по возможности, это вожделенное время».
Так теперь и повелось. Выйдет статья Белинского – и, глядь, уже нет нескольких верований, еще вчера непоколебимых.
Не зря писал жалобу шефу жандармов московский Вальтер Скотт – Загоскин. К нему мог бы присоединиться и петербургский Шекспир – писатель Нестор Кукольник.
В той же книжке «Отечественных записок» Белинский разобрал исторический роман Кукольника «Эвелина де Вальероль». Обратившись к истории Франции, автор занялся поисками предшественников революции 1789 года.
Белинский доказал, что Кукольник истории не знает, действительных сил, приведших к падению монархии во Франции, не видит и вообще путает историю со сказками «Тысяча и одна ночь». Тут петербургский Шекспир – Кукольник ни в чем не уступит московскому Вальтеру Скотту – Загоскину. Цель у писателей охранительного направления всегда и везде одна. Да и в средствах они не очень отличаются друг от друга.
…Сейте гром Решетом!.. Поспешите, поспешите, Духи тьмы!..Белинский не удержался, чтобы не привести эту галиматью в театральном обзоре все в той же мартовской книжке «Отечественных записок».
И вот вам, читатели, «Русский театр в Петербурге». На столичной сцене идут переделки рыночных французских романов, сюда тащат пьесы, взятые с задворок итальянской литературы, здесь шьют и перекраивают на потребу дня всякую ветошь отечественные драмоделы. В храме российской Мельпомены по-прежнему потчуют жизнью, вывороченною наизнанку.
Почему же это так? – задумается читатель. В самом деле: почему проповедует с университетской кафедры педант и доносчик Шевырев? Почему бесстыдно лгут в словесности загоскины и кукольники?
А Виссарион Белинский уже приглашает читателей журнала познакомиться с молодым поэтом Аполлоном Майковым. Особенно отметил критик стихотворения Майкова, овеянные думами о современной жизни.
«Время рифмованных побрякушек прошло невозвратно, – пишет критик: – требуются глубокие чувства и идеи, выраженные в художественной форме…»
Именно для того, чтобы отвлечь внимание читателей от глубоких идей, рожденных временем, благонамеренные писатели будут поставлять свои побрякушки и в прозе и в стихах. Но отсюда и вытекает святой долг истинного поэта: он должен быть врачом, открывающим общие боли и скорби и поэтическим воспроизведением исцеляющим их.
Общие боли и скорби! Это язвы рабства и самовластия. Нет возможности сказать яснее в подцензурной статье…
Свежую книжку «Отечественных записок» нарасхват берут в столичных кофейнях. «Отечественные записки» идут теперь и в такие города, где еще только учатся читать журналы. Теперь и захолустный почтмейстер знает: молодые учителя и чиновники из образованных начинают наведываться на почту задолго до получения очередного номера «Отечественных записок», а получив, тотчас открывают отдел критики: о чем пишет ныне господин Белинский? И подписи его нет под статьей, а имя автора угадывают безошибочно.
Долго смотрит вслед нетерпеливому подписчику старик почтмейстер. Дался им этот Белинский! Какая должность назначена ему в Санкт-Петербурге?
А журнальная книжка уже пошла по рукам. Статьи Белинского обладают удивительным свойством: каждому читателю кажется, что автор говорит именно с ним.
Давно оплыла свеча, давно остыл чай, а человек, который никогда не видел Виссариона Белинского, слышит его голос. То полнится эта речь ненавистью и сарказмом, то дышит его горячее слово непоколебимой верой в то, что непременно исцелятся на Руси общие боли и скорби. Когда же придет это время? Догадаться нетрудно: именно тогда и только тогда, когда всеобщая ненависть истребит «духов тьмы».
И сменит читатель оплывшую свечу на новую. О чем еще пишет ныне господин Белинский? Вернее, о чем только не пишет этот неутомимый журналист, умеющий откликнуться на все животрепещущие вопросы жизни…
Мартовская книжка «Отечественных записок» была, как всегда, наглядным тому доказательством.
Еще раз перечитает статью за статьей любознательный читатель и вдруг спохватится: да когда успел написать все это для очередного номера журнала один сотрудник, пусть даже самый важный?
Глава девятая
Усталый до полного изнеможения сил, Белинский лежал на диване, растирая онемевшую руку, и яростно ругал цензуру. Цензура, как всегда, изуродовала его статьи. Нет сил терпеть! А в груди поднимается тупая боль. Мучит и мучит проклятый кашель.
Идти из дома не хотелось, а дома, в одиночестве, было страшно, как в гробу. Именно в этот час горьких раздумий Белинский получил небольшой пакет, пришедший из Москвы через чьи-то случайные руки. В пакете оказался бумажник, вышитый заботливой женской рукой. И ни единого слова, которое могло бы что-нибудь объяснить.
Но не так уж часто получает Виссарион Григорьевич изящные сувениры. Строжайшее инкогнито, под которым прибыл бумажник, раскрылось само собой: Мари!
В жилище одинокого человека брызнул такой ослепительный свет, что Белинский зажмурился, потом медленно, с опаской открыл глаза – чудесное видение, представшее перед ним в виде бумажника, расшитого бисером, так и оставалось явью: Мари, милая Мари, ничего не забыла!
В эту минуту ему, может быть, и в самом деле казалось, что при недавних встречах в Москве произошли события чрезвычайные. Иначе что же могла помнить Мари?
Но трезвая истина немедленно сменила приятный самообман. Олух! Ничего сколько-нибудь важного он ей так и не сказал.
– В Москву! – Белинский бросился к дверям и, остановясь, неудержимо рассмеялся.
Счастливый человек не выпускал бумажника из рук, пока не услышал за стеной чьи-то шаги. Бумажник был поспешно спрятан в стол, но лицо Виссариона Григорьевича продолжало светиться. Гость глянул на него:
– Что случилось, Виссарион Григорьевич?
– Ничего не случилось, – с заметным усилием ответил Белинский, хотя ему очень хотелось объявить: «Случилось, конечно, случилось!» – Садитесь, рассказывайте, – продолжал он. – Всегда рад вас видеть… Нуте?
– Перечитал я, Виссарион Григорьевич, всю книжку «Отечественных записок», – начал гость, все еще присматриваясь. – Мамаево побоище учинили вы супостатам. Но и я, грешный, не сговариваясь с вами, изложил печатно примерно те же мысли о Загоскине. Как же мне не гордиться!
– Читал вашу рецензию в «Литературной газете», – отвечал Белинский, весело поглядывая на гостя, – не занимать вам святой злобы против пустомелей.
– Я той злобой, Виссарион Григорьевич, в Питере обзавелся. Когда ходишь голодным изо дня в день – и так год, и два, и три, – тогда поневоле возненавидишь всех медоточивых брехунов.
– Неплохо, совсем неплохо написали вы о Загоскине. И зло и дельно, – еще раз похвалил Белинский. А сам не мог отвести взгляда от стола: может быть, все только пригрезилось ему?
| – Сколько вам лет, Некрасов? – неожиданно спросил Виссарион Григорьевич. – Двадцать есть? Я уж и не помню, пожалуй, такой счастливой поры.
– Мне идет двадцать первый год, – отвечал Николай Алексеевич Некрасов. – Вскоре буду праздновать гражданское совершеннолетие… Господи, сколько же бумаги успел я перевести! Если когда-нибудь напомнят мне о моих прежних писаниях, решительно отрекусь. По счастью, впрочем, я и сам не упомню все, что печатал из-за куска хлеба. Вот выйду, по древнему обычаю, на площадь и буду каяться: «Вирши для гостинодворских молодцов печатал? Печатал. «Дагерротипы» всякие и прозой и стихами заполнял? Заполнял. Отзывы о пьесах, понятия не имея о законах театра, писал? Писал!»
– Ну, батенька, – Белинский рассмеялся, – коли ударитесь вы в покаяние, тогда и мне надо будет бухнуть на колени рядом с вами на той же площади. Творец небесный, сколько глупостей напорол я, когда проповедовал примирение с нашей действительностью! Страшно вспомнить, – ревел, как упрямый осел: нет, дескать, нужды художникам вмешиваться в дела политические или правительственные! А надо бы давно мне понять: чем выше поэт, тем теснее связано развитие его таланта с развитием общества. Вот мерило!.. Да, – повторил Белинский, остановясь перед гостем, – только тогда и прозрел, когда спустился на грешную землю.
– И я, Виссарион Григорьевич, читая ваши статьи, повернулся к правде.
– Так полагаете? – Белинский покосился. – В таком случае позвольте задать вопрос: почему, сказав суровую правду в рецензии о Загоскине, вы в то же время похвалили какую-то дрянь?
Некрасов смутился.
Белинский взглянул на гостя, не скрывая сердечной к нему приязни. А гость сидел перед ним, сутулясь. В чертах подвижного бледного лица проглядывала усталость.
– Сколько бесстыдной лжи надо развеять, – продолжал Белинский, – а она сызнова рождается каждый день и в газетах, и в журналах, и в книгах. В последних статьях отдал я дань преимущественно москвитянам. А разве в Петербурге меньше мерзости? Один Булгарин чего стоит! Когда я о нем пишу, каждый раз думаю: как обойти цензуру? Пушкина, видите ли, ругать у нас можно, Гоголя – сделайте одолжение. А наступишь на Булгарина – тут каждый цензор бледнеет от страха… Куда вы? – удивился Белинский, видя, что гость вдруг поднялся.
– Проклятая привычка, Виссарион Григорьевич! – Некрасов рассмеялся. – Мне все кажется, что нужно куда-то бежать, рыскать по редакциям да рассовывать свои статейки, как в прежние годы, когда был я, прямо сказать, литературным бродягой. Не обращайте внимания. Пока сами не прогоните, никуда не уйду.
Прошло около четырех лет с тех пор, как дворянский сын Николай Некрасов приехал из Ярославля в Петербург. Молодой человек вез с собой феску, вышитую золотом, какой-то необыкновенный архалук с бархатными полосками и заветную тетрадь собственных стихов. С этой тетрадкой были связаны, как и полагается в шестнадцать лет, тайные, но горделивые мечты.
Прозаическая часть багажа юного путешественника заключалась в свидетельстве о выбытии из пятого класса ярославской гимназии с весьма скромными успехами. Сюда же, к прозаической части багажа, следовало отнести капитал, состоящий из ста пятидесяти рублей ассигнациями, и рекомендательные письма, которыми был снабжен молодой человек для поступления в Петербурге в дворянский полк. Собственно, только для этого и отпустил сына суровый родитель, вовсе не подозревавший о существовании поэтической тетради. В дворянском полку Николай Алексеевич Некрасов должен был приготовиться к офицерскому экзамену и начать, по примеру отца, военное поприще. Но тут молодой человек объявил свое истинное намерение: он поступит в университет – и больше никуда!
И все сразу пошло прахом. Разгневанный родитель отказал в поддержке сыну-ослушнику. Строптивый сын отвечал: если батюшка будет слать ему ругательные письма, он будет возвращать их не читая.
Заветная тетрадка стихов все еще лежала без движения. А какие там были стихи! Сколько красивых слов, сколько томных чувств! Цветистая фраза, превыспренние мысли казались ярославскому гимназисту пределом поэтического совершенства.
Но привезенные в столицу сто пятьдесят рублей быстро растаяли. Пора было нести стихи в журнал или избрать солидного издателя. Но неопытный провинциал понятия не имел, куда идти.
Будущий студент был очень молод, очень беден и малообразован. Как сдать для поступления в университет латынь? Николай Некрасов был куда более сведущ в правилах бильярдной игры, чем в грамматике и синтаксисе чеканного языка величавой древности.
Тут началась повесть его жизни, столь удивительная, что не мог бы измыслить ее самый изобретательный писатель.
В каком-то трактире бездомный юноша встретил подвыпившего, небрежно одетого господина.
– Тебе нужна латынь? Ты будешь ее знать. Едем ко мне на Охту.
На далекой петербургской окраине Некрасов поселился у неожиданного благодетеля в темном чулане. Благодетель оказался преподавателем столичной духовной семинарии. Он пил запоем, затягивавшимся иной раз на неделю. В такие недели ученик усердно повторял пройденное и терпеливо ждал, когда вспомнит о нем учитель.
Потом будущий студент снял комнату у какого-то отставного унтер-офицера. Долг за квартиру достиг потрясающей суммы в тридцать пять рублей, а жилец, истощенный голодом, тяжело заболел. Когда же постоялец, начав поправляться, куда-то неосторожно отлучился, хозяин попросту не пустил его обратно на квартиру.
Холодной осенней ночью молодой человек в плохонькой шинелишке и летних брюках опустился на приступку у входа в какой-то магазин.
Подошел нищий, хотел было просить милостыню, но, приглядевшись, осекся. Нищий и увел молодого человека в свое логово где-то на Васильевском острове. Николай Некрасов вступил в большую унылую комнату, в которой ютились нищие, бродяги и женщины, потерявшие человеческое обличье. Все было похоже на преисподнюю, в которой осуждены томиться грешники. Это были петербургские углы.
Наутро, написав какой-то старухе какое-то прошение, Некрасов получил от нее пятнадцать копеек.
Это не был его первый литературный гонорар. Как вол, которого кормят ноги, юноша рыскал по Петербургу в поисках любой работы. Он составил занимательную азбуку, заказанную ему мелким литературным промышленником, написал по заказу сказку о бабе-яге. В дышащем на ладан журнале «Сын отечества» милостиво напечатали его стихотворение «Мысль».
Жизнь сталкивала его с удивительными личностями. Одно время он жил у художника, склонного более к философским размышлениям, чем к деятельности. В храме искусства, в котором жил этот живописец и где поселился молодой поэт, недавно явившийся миру на страницах «Сына отечества», не было часов. Время узнавали по зарубкам, сделанным на двери. По зарубкам скользил солнечный луч, на каждой зарубке был обозначен определенный час. Когда на хмуром петербургском небе не было солнца, время останавливалось.
Время то останавливалось, то летело для Некрасова с непостижимой быстротой. Многое было похоже на тяжелые перемежающиеся сны. Во сне или наяву он жил какое-то время в углу, в котором не было ни стола, ни стула, никаких вещей. Молодой человек писал, лежа на полу. Когда в низкое окно заглядывали любопытные, жилец прикрывал внутренние ставни и опять писал, писал, писал… Увы, это были не только стихи, но и презренная проза: заметки, хроники, переводы с французского, который он плохо знал, рецензии на спектакли и книги, – словом, все, что можно было сбыть хотя бы в самый захудалый листок.
Он ходил в знаменитую смирдинскую библиотеку и там, читая, учился писать. Он дал себе слово не погибнуть и умел держать слово.
А университет? Через год после приезда в Петербург Некрасов явился держать вступительные экзамены на факультет восточных языков. Неожиданно для себя он получил пятерку по латинскому языку, но далее последовала единица по всеобщей истории. Впереди предстоял грозный экзамен по физике. Встреча с этой таинственной незнакомкой не сулила ничего доброго. Некрасов не явился на экзамен. Его вычеркнули из списков экзаменующихся. Развеялась еще одна надежда: молодой человек так рассчитывал в случае удачи на примирение с отцом!
В двадцати верстах от Ярославля, на почтовом тракте неподалеку от Волги, стоит столб с надписью: «Сельцо Грешнево господ Некрасовых». Когда-то Некрасовым принадлежали огромные имения в разных губерниях. Все спустили прадеды и деды. У нынешнего помещика Алексея Сергеевича Некрасова всего сто сорок семь крепостных душ. Но в барском доме царят прежние порядки. Свистят арапники, егеря готовят собак – барин едет полевать. После охоты у Алексея Сергеевича собираются картежники, разгульные крики оглашают дом. Барин выбирает наложниц среди крепостных красавиц, а с конюшни слышатся вопли истязуемых рабов.
Когда Некрасов вспоминал о родном гнезде, ужас и отвращение потрясали его душу. Все мысли обращались к матери, которая томится в этом аду. Ей, матери, отдана страстная сыновняя любовь. В разлуке с ней горюет неудачник сын, не выдержавший экзаменов в университет. Но он подает новое прошение о приеме его в вольнослушатели, теперь на словесное отделение, а еще через год опять держит экзамен, но уже по юридическому факультету.
Новая неудача еще раз закрывает перед ним университетские двери. Профессора отнеслись с полным равнодушием к автору поэтического сборника «Мечты и звуки». Да ведь и автор укрылся под скромными инициалами НН.
Увы! Стихов НН никто не покупал. Появилась суровая рецензия Белинского. «Посредственность в стихах нестерпима», – писал критик. Поэт отправился по книжным лавкам и собрал все непроданные «Мечты и звуки». Может быть, легче было бы ему, если бы знал он, что много лет тому назад по петербургским книжным лавкам так же точно ходил автор идиллии «Ганц Кюхельгартен».
Провалившись вторично на экзаменах в университет, Некрасов взял из канцелярии бумаги. Не суждено ему стать ни знатоком восточных языков, ни словесником, ни юристом.
Однако именно в это время молодой человек, потерпевший крушение, оказался на пороге другого университета, в который доступ был открыт немногим счастливцам. Пусть помещается этот университет не в старинном здании Петровских коллегий, а всего только в скромной квартире Виссариона Белинского.
Белинский обратил внимание на рецензии в некоторых изданиях. Неведомый рецензент нередко высказывал мысли, близкие самому Белинскому, писал горячо, живо, зло и остроумно. Знакомство вскоре состоялось. Псевдоним автора поэтического сборника «Мечты и звуки» раскрылся. Впрочем, Некрасов и сам уже посмеивался над чувствительными стишками.
Теперь рецензии Некрасова печатаются в «Литературной газете» и в «Отечественных записках». В печати появляются его рассказы. В петербургском театре с успехом идут водевили Перепельского – это все он же, Николай Некрасов. Молодой литератор присматривается и к тайнам издательского дела. Куда еще направить неуемную энергию?
В тот вечер, когда Николай Алексеевич забежал к Белинскому, их беседа затянулась допоздна. Некрасов вспоминал родное Грешнево. Яростно ненавидит он грешневские порядки, а поскольку такие же порядки существуют в каждой помещичьей усадьбе, стало быть… Николай Алексеевич не боится заглянуть в будущее. Он насквозь видит духовную немощь тех, кто изобретает утешительные пластыри. Молодой человек, прошедший суровую школу жизни, чурается прекраснодушия, какую бы маску оно ни надевало.
Большие, еще для самого себя неясные надежды возлагает на этого молодого человека Виссарион Белинский. Но и молодой человек не смеет даже себе признаться в сокровенной мечте: мыслями его раз и навсегда овладел Гоголь; если бы когда-нибудь суждено было ему явиться перед читателями так, чтобы продолжить дело Гоголя!
Гость собрался уходить, когда в раздумье спросил Виссарион Григорьевич:
– Где бы достать денег, Некрасов?
– А Краевский? – удивился Некрасов. – Неужто, богатея на «Отечественных записках», он так и будет держать вас на голодном пайке?
– Краевский аккуратно выполняет обязательства, тем более что условие, заключенное со мной, весьма ему выгодно. Я же, грешный, вынужден постоянно забирать вперед. Издатель «Отечественных записок» кряхтит, но не отказывает. Сейчас я у него в большом долгу и больше просить не буду. А деньги мне вот как надобны, прямо сказать – до зарезу!
– На что же так нужны вам деньги, Виссарион Григорьевич, если, конечно, не секрет?
– У всякого бывают свои причуды. Ну, предположим, тянет меня катнуть в Москву.
– Да ведь вы только недавно там были?!
– Был, – подтвердил Белинский, – и, может быть, именно потому мне надо опять и непременно там быть. – Он снова покосился на письменный стол, где покоился бисерный бумажник. – Всякие бывают причуды у людей, – повторил Виссарион Григорьевич и деловито продолжал: – Нуте, какой же коммерцией раздобыть денег? Вы, Некрасов, великий изобретатель, придумайте!
– Есть у меня одна мыслишка, коли так. Что, если издать мифологию для детей, и, конечно, с хорошими картинками? Очень нужная книга. Издателя авось я найду. А вы напишете текст, Виссарион Григорьевич. Вот и будут деньги.
– У вас не голова, а фабрика гениальных идей! Доброе дело – дать ребятам мифологию. Пусть приобщаются к истинной поэзии. Довольно потчуют их моралисты постным сахаром, а виршеплеты – касторкой. Действуйте, Некрасов! – Виссарион Григорьевич совсем было загорелся и вдруг спохватился: – Только время-то опять уйдет! Ох, время!..
Глава десятая
В безвестных Маковищах, в краю, присоединенном к России после раздела Польши, проживала столь же безвестная панская семья. В семье маковищенских панов крепко держались старинных обычаев. При посещении богатой и знатной родственницы пани Конюховской они склоняли колена и, прежде чем быть допущенными к целованию руки высокородной пани, смиренно лобызали ее туфлю. При прощании повторялся тот же церемониал. Именно при таких обстоятельствах проворный панич из Маковищ и получил в награду за усердие первый в своей жизни червонец.
Панич из Маковищ умел с детства привлечь к себе внимание благодетелей, для чего не брезговал дружбой ни с учеными попугаями, ни с жирными моськами, если числились они в барских любимцах. Это были робкие, но вполне самостоятельные шаги будущего великого человека.
Ходили слухи, что во время восстания под водительством Костюшко сам маковищенский пан сыграл какую-то неблаговидную роль. Супруга его действовала с большей решительностью: обуреваемая алчностью, она объявила русским властям, будто при поспешном удалении из Маковищ в смутные дни она оставила там гарнец рассыпного отборного жемчуга, и подтвердила свое показание под присягой. Но миф о целом гарнце жемчуга показался настолько невероятным, что вместо вознаграждения потерпевшей пани возникло конфузное дело о кривоприсяжничестве. Впрочем, пани кривоприсяжница нашла высоких покровителей в Петербурге и отважно двинулась в дальний путь. Вся эта история вряд ли стала бы любопытной для потомков, если бы заботливая пани не взяла с собой любимого сына – того самого, что умел еще в детские годы заработать червонец при целовании туфли высокородной пани Конюховской.
В Петербурге открылась новая страница в жизни маленького панича. Одетый для шутки в польский кунтуш, он забавляет теперь русских вельмож и по прежнему опыту не брезгует дружбой ни с попугаем, ни с моськой. В знатных петербургских домах этот испытанный путь оказался столь же надежным.
Картина резко изменилась, когда панича поместили в кадетский корпус. Жестокий воспитатель щедро потчевал новичка розгами. Новичок, не вытерпев истязаний, пробовал жаловаться. Новые удары розог обрушились на его спину. Тут воспитуемый постиг важный урок житейской мудрости: уважай власть!
Юный кадет, принадлежавший к семейству ревностных католиков, начал ходить в православную церковь и вскоре усердно пел на клиросе. Юнец сообразил: ему приличнее быть русской веры, ему выгоднее быть русским.
Выпущенный из корпуса в офицеры, он провел следующие годы, по собственным его словам, на ратном поле, в бивуачном дыму. Впрочем, не столько бивуачный дым, сколько сплошной туман окутывает ратные подвиги панича из Маковищ. Это он, перебежчик, служил под знаменами Наполеона. Кто виноват, что ставка панича была бита? Кончились военные бури, рассеялся спасительный туман, скрывший щекотливые подробности жизни молодого человека. Ему снова выгоднее быть русским.
На улицах Петербурга появился молодой коренастый мужчина с вкрадчивыми манерами и опасливо бегающими глазами.
Он начал с литературного воровства, мягко именуемого плагиатом, потом до колик насмешил читателей невежеством своих исторических открытий и наконец обрел истинное призвание в тот счастливый час, когда объявился в «Северной пчеле».
Отныне имя Фаддея Венедиктовича Булгарина приобретает громкую известность. Лобызание царственного ботфорта и прочих ботфортов, управляющих Россией, происходило на страницах «Северной пчелы» с таким воодушевлением и простосердечием, что только диву дались собратья молодого журналиста, промышлявшие тем же ремеслом.
Оперившись, Булгарин еще раз печатно объявил себя русским и, как русский, правдолюбцем. Правдолюбец неутомимо преследовал Пушкина, то обвиняя его в отсутствии патриотических чувств (а кто, как не Булгарин, мог быть нелицеприятным судьей в этом деле?), то объявляя всенародно о полном падении таланта поэта. Гоголя «Пчела» встретила грозным рокотом… Но кто перечислит все патриотические подвиги Фаддея Булгарина, которые совершал он из года в год, изо дня в день?
Фаддей Венедиктович приобрел солидную полноту, надежное благосостояние и милости верховной власти. Разумеется, в Петербурге ему платили щедрее, чем это делала в свое время высокородная пани Конюховская.
Первые сановники политического сыска охотно принимают его с заднего крыльца. Фаддей Венедиктович может представить любую справку о подозрительных занятиях писателя и журналиста. В сочинении этих так называемых «юридических» статей, не предназначенных для печати, Фаддей Венедиктович не имеет себе равных. Он подтверждает свои доносы клятвенным ручательством, но ему никогда не грозит, конечно, обвинение в кривоприсяжничестве, как случилось когда-то с незадачливой пани Булгариной.
Фаддей Венедиктович давно не ищет дружбы ученых попугаев или мосек, заслуживших милость высоких покровителей. Но если случится ему надобность в дружбе приближенного лакея особо влиятельной персоны, знаменитый писатель Булгарин не будет кичиться своим званием, а спина его никогда не устанет от поклонов.
Во время прогулок Фаддей Венедиктович направляет стопы преимущественно в лавки Гостиного двора.
– Как торгуешь, борода? – милостиво осведомляется у купца высокий гость.
– По малости, ваша милость, а желательно бы, конечно, расширить коммерцию.
Если купец был догадлив, далее разговор с высоким гостем происходил один на один; разговор сопровождался шелестом ассигнаций, и продолжался этот приятный для слуха шелест до тех пор, пока Фаддей Венедиктович не изъявлял удовлетворения великодушным кивком головы.
Иногда, прогуливаясь для пользы здоровья, издатель «Северной пчелы» навещал не только купцов, но и фабрикантов. Дальнейшее совершалось в том же порядке и при том же приятном для слуха шелесте.
А на страницах «Северной пчелы» появлялся очередной фельетон Булгарина, посвященный отечественной торговле и промышленности, в котором автор примера ради приводил фамилии купцов и фабрикантов, достойных особого внимания покупателей.
Но не эти заслуги Булгарина перед отечественной торговлей и промышленностью имелись в виду, когда Фаддей Венедиктович получал бриллиантовый перстень из кабинета его величества. В таких случаях награждалось перо Булгарина, «всегда верное престолу». Императорский двуглавый орел не чурался открытого союза с ничтожной «Пчелой».
На «Пчелу» подписывается купечество (а не подпишешься – как пить дать, разорит лиходей!). Подписываются чиновники – кто из любознательности (что пишет «Пчелка»?), кто страха ради. Читают «Пчелку» гостинодворские молодцы и даже образованные девицы. В канцеляриях частных приставов и у квартальных надзирателей никогда не назовут ее «Пчелкой», но всегда уважительно – «Пчелой».
Фаддей Венедиктович Булгарин стал, можно сказать, символической фигурой в столице императора Николая I. Впрочем, он не был единственным.
Если бы любопытный провинциал, остановясь у особняка, сквозь парадные двери которого виднеется лестница, устланная коврами и уставленная тропическими растениями, спросил у прохожего: «Интересуюсь знать, сударь, кто здесь обитает?» – а прохожий буркнул бы на ходу: «Профессор Сенковский», – то усомнился бы, конечно, заезжий человек: когда селились ученые крысы в таких хоромах?! Но если бы объяснить приезжему толком, что проживает здесь профессор Сенковский, он же барон Брамбеус, тогда все бы стало ясно.
– А, барон Брамбеус! – почтительно повторил бы простодушный житель провинции. – Так его же вся грамотная Россия знает!
И в самом деле, редактор журнала «Библиотека для чтения» профессор Осип Иванович Сенковский, пишущий под многочисленными псевдонимами, не зря сменил ученые занятия на перо журналиста. Его называют одним из триумвиров, которые еще недавно безраздельно властвовали на тучном поле столичной журналистики.
К этому же триумвирату принадлежат издатели газеты «Северная пчела» – Фаддей Венедиктович Булгарин и Николай Иванович Греч.
Случалось, что Николай Иванович ссорился с Фаддеем Венедиктовичем или оба они вдруг нападали на «Библиотеку для чтения». Но домашние ссоры триумвиров никогда не касались главного. Главное же заключалось в том, чтобы ни с кем не делить обильную жатву, собираемую с подписчиков. В том триумвиры были одинаково тверды, хотя и шли к цели разными путями.
Осип Иванович Сенковский стремился отвлечь внимание читателей от опасных мыслей вполне безопасными анекдотами, каламбурами и шутками. Он умел эти шутки крупно присолить и крепко приперчить, меньше всего заботясь о том, чтобы потрафить изысканному вкусу. Не скоро разглядели наивные читатели за этими каламбурами и парадоксами мертвый оскал отпетого циника. Сенковский создавал литературные репутации единым манием руки и с той же легкостью их разрушал, чтобы завтра провозгласить на страницах «Библиотеки для чтения» явление нового гения. С тем же цинизмом отзывался барон Брамбеус о бесплодных мудрствованиях науки, чем доставлял истинное утешение невеждам.
Являясь перед читателями, барон Брамбеус ставил себе в заслугу отсутствие всяких убеждений. Но как-то всегда случалось так, что ядовитые его стрелы безошибочно летели только в одном направлении – туда, где объявится смелая, честная мысль и неподкупный талант.
Если же у кого-нибудь из сотрудников «Библиотеки для чтения» не хватало умения заинтриговать читателей или досыта их посмешить, тогда редактор вписывал незадачливому автору целые страницы собственной рукой. Никто из пишущих в «Библиотеке для чтения» никогда не знал, в каком виде предстанет в журнале.
Но он умел работать, этот ученый циник, напяливший на себя шутовской колпак! Журнал, редактируемый Сенковским, выходил без опозданий, невиданно толстыми книжками, со множеством занимательных материалов. По новизне долго нравилась публике и замысловатая клоунада барона Брамбеуса. Подписка на «Библиотеку для чтения» шла вверх.
«Северная пчела» появилась на петербургском горизонте задолго до рождения «Библиотеки для чтения», а потому издателям ее не было нужды мудрить и изворачиваться, как барону Брамбеусу. «Северная пчела» пребывала в состоянии постоянного восторга от каждого распоряжения правительства, будь то хотя бы действия будочника, маячащего на перекрестке улиц. При этом Фаддей Венедиктович Булгарин имел похвальную привычку говорить в газете не от себя и даже не от совместного имени издателей «Северной пчелы», но не иначе как от лица всего русского народа. Русский же народ, по свидетельству «Северной пчелы», неизменно выражал власти преданность и благодарность по всякому поводу и без повода, от полноты чувств. Если верить «Пчеле», народ имел единственное желание: сохрани бог, чтобы не было на Руси перемен! Всякая перемена может только помешать процветанию, достигнутому раз и навсегда в Российской империи.
Высшие сановники столицы более всего одобряли эти мысли «Северной пчелы»: «В «Пчеле» выходит как-то чувствительно и наглядно…»
Впрочем, благоденствовали все триумвиры. Был у них, правда, изрядный переполох, когда Пушкин стал издавать журнал. Но Пушкин погиб, не осуществив многих своих замыслов, а «Современник» под водительством смиренного профессора Плетнева кое-как ковыляет теперь вдали от больших журнальных дорог.
Потом объявился в Москве какой-то критикан Виссарион Белинский. Но столичные триумвиры вначале даже внимания на него не обратили. Удары становились сильнее, однако, по дальности расстояния, все-таки не очень беспокоили. А потом Белинский и вовсе замолк: негде стало ему печататься в Москве. Петербургская журнальная вотчина оставалась целиком за «Северной пчелой» и «Библиотекой для чтения».
Профессор Сенковский работал ночи напролет. Он пил крепкий кофе, обдумывая, чем бы подстегнуть утомленное внимание подписчиков. Он доверительно рассказывал читателям «о постели двух юных любовников, только что оставленной ими поутру». Кто, кроме барона Брамбеуса, мог быть вдохновенным гидом в этом увлекательном путешествии? Чутко потрафляя вкусам любознательных подписчиков, барон Брамбеус знакомил их и с некиим пустынником, охочим забираться «за прозрачные платочки слушательниц, чтобы играть их беленькой грудью и щекотать под сердцем».
Да что пустынник! Барону Брамбеусу ведомы даже ощущения влюбленной блохи, которая утопает в небесном блаженстве на ножке красавицы. Потом с той же занимательностью барон рассказывал, как красавица ловит предприимчивую блоху. Профессор Сенковский не раз возвышался в игривом жанре до философских обобщений. Это он воскликнул, обращаясь к читателям и читательницам: «Если есть счастье на свете, то не инде, как в шароварах!»
Сановные особы, склонные к полезному чтению, откликнулись с оживлением:
– Тут оно и в «Библиотеке» вышло чувствительно и наглядно!
Соиздатели «Северной пчелы», уважая многогранные таланты профессора Сенковского, шли своим испытанным путем. Кроме того, они писали романы. Булгарин увековечил целую династию продувных героев – Выжигиных. Даже Николай Иванович Греч, несмотря на почтенные лета, согрешил «Черной женщиной». И все еще остается у них порох в пороховницах!
Николай Иванович Греч, например, усердно занимался изучением русской грамматики, в грехах против которой уличал даже Осипа Ивановича Сенковского. Гоголь же был для него не столько писатель, сколько злостный нарушитель грамматических приличий, установленных Николаем Ивановичем Гречем. Может быть, Гоголь и явился на свет только для того, чтобы отравлять жизнь великому блюстителю чистоты русского языка.
Само собой разумеется, Гоголем занялись все триумвиры. Высоконравственный барон Брамбеус, например, никак не мог понять: почему называют этого сального пачкуна писателем, да еще великим?
Фаддей же Венедиктович, удостоившись, по собственным словам, всеобщего доверия, воевал в «Северной пчеле» с врагами народа. Эти коварные злоумышленники нападали прежде всего на Фаддея Венедиктовича. Они рождались десятками и сотнями, и, разумеется, чем больше видел их перед собой Фаддей Булгарин, тем величественнее был его подвиг.
Правда, находились в Петербурге люди, которые не хотели читать «Северную пчелу» и так же брезгливо сторонились от «Библиотеки для чтения». А были и такие смельчаки, которые нетерпеливо задавались вопросом: когда же появится в Петербурге журнал, независимый от растленного триумвирата?
Глава одиннадцатая
В это время и выступил на журнальное поприще молодой человек из университетских кандидатов – Андрей Александрович Краевский. Приобретя захудалый журнал, он разослал широковещательные объявления по всей России. Россияне узнали, что в Петербурге будет выходить первоклассный журнал, объединивший лучшие литературные силы.
Первый же номер обновленных «Отечественных записок», вышедший под редакцией Краевского в 1839 году, превзошел многие его надежды и дальновидные расчеты. Журнальную книжку украшала «Дума» Лермонтова.
Еще больше был горд Краевский той благосклонностью, которой дарили его маститый поэт Жуковский, уважаемый профессор словесности Плетнев, поэт и язвительный критик князь Вяземский.
Как же было не радоваться молодому издателю Краевскому, если он привлек к своему журналу сочувственное внимание старой литературной гвардии? Из Москвы пришли известия не менее утешительные: деятельное участие в «Отечественных записках» обещали профессоры Шевырев и Погодин и даже философ славянофилов Алексей Степанович Хомяков.
И, кажется, всех объединила благородная мысль Андрея Александровича – противоборствовать торговому журнальному триумвирату. Краевский встал у руля и твердой рукой направил «Отечественные записки» в большое плавание.
Триумвират встревоженно приглядывался.
Но журнал с боевым направлением как-то не получался. Трудно было сочетать поэзию Лермонтова с рассуждениями, скажем, профессора Шевырева.
Особенно безликой оказалась в новом журнале критика. Краевский обладал выдающимся трудолюбием, но положительно не знал, что ему делать с критикой, столь необходимой в солидном журнале.
Триумвиры снова приободрились. Они знали, что у Краевского не было денег. Все расчеты он возлагал на подписчиков. Подписчики и откликнулись с большой охотой, потом подписка стала топтаться на месте. А расходы по журналу росли с ужасающей быстротой.
– Я гибну и погибну! – мрачно объявлял жене Андрей Александрович. – Вот что значит быть честным журналистом на Руси! Но я приму мученический венец, если он уготован мне всевышним! – Андрей Александрович опускался в кресло. – Не утешай меня, Аннет!
Анна Яковлевна Краевская, родная сестра Авдотьи Яковлевны Панаевой, по опыту знала, что в такие минуты нельзя перебивать мужа-страдальца. К тому же она плохо разбиралась в журнальных делах.
В девичьи годы ей мечталось совсем о другой жизни. Ведь и росли-то сестры в шумной семье известного актера Брянского. Когда молодой щеголеватый литератор Иван Иванович Панаев привез Брянскому свой перевод «Отелло», он обратил благосклонное внимание на совсем еще юную Авдотью Брянскую. Участь ее вскоре была решена. По общему мнению, она делала блестящую партию. Невеста же руководствовалась чувствами романтическими, столь свойственными легкомысленной юности.
Анна Брянская дебютировала в роли Дездемоны. Встреча с Андреем Александровичем Краевским все изменила. Он умел так увлекательно говорить о театре и о Шекспире! Последовало предложение руки и сердца. Жених по-прежнему говорил о Шекспире, но еще больше о назначении женщины быть ангелом-хранителем домашнего очага.
Эта единственная роль и досталась на долю недавней Дездемоны.
Выходил очередной номер «Отечественных записок». Краевский подписывал новые векселя и думал: завтра уже никто не примет этих ничего не стоящих бумажек.
– Аннет, – трагическим шепотом объявлял он, вернувшись домой, – исчезают, как дым, последние надежды! – И всецело отдавался заботам ангела-хранителя.
Ангел-хранитель подавал любимый халат, подносил успокоительные капли, поил горячим чаем и, крепко обняв усталую голову, отгонял невзгоды.
– Ты единственное мое утешение! – шептал, разнежившись, Андрей Александрович.
Ни Авдотья Яковлевна, ни Иван Иванович Панаев, принимавший деятельное участие в «Отечественных записках», не жаловали свояка. Но сестры виделись часто. Анна Яковлевна Краевская никогда не сетовала на судьбу: ведь любовь требует жертв. Авдотья Яковлевна, слушая сестру, думала про себя: уж больно охоч оказался принимать эти жертвы Андрей Александрович!
Анна Яковлевна в свою очередь тревожилась за сестру: как живется ей? Авдотья Яковлевна отвечала беспечной улыбкой, потом вдруг задумывалась.
– Милая моя Аннушка! – говорила она. – Нам с тобой некогда размышлять о счастье. Иван Иванович каждый день твердит: «Надо спасать «Отечественные записки»…»
Дело действительно шло к катастрофе. Панаев не уставал повторять:
– Надо пригласить из Москвы Виссариона Белинского!
– Этого мальчишку-крикуна? – возражал Андрей Александрович.
– Другого пути для спасения журнала не вижу.
– Благодарю покорно за совет, – отвечал, иронически раскланиваясь, Краевский, – авось обойдемся без Белинского!
Андрей Александрович и раньше вел переписку с Белинским, но московский «крикун» каждый раз выдвигал одно и то же требование: ему нужна полная свобода мнений, с которыми он предстанет перед читателями. Сумасброд вел себя так, будто он, а не Краевский, был хозяином журнала.
Дела в журнале шли хуже и хуже. Критика была похожа на склад разношерстной ветоши. Подписка и вовсе остановилась. Дьявол разберет, что нужно подписчикам? Разве «Отечественные записки» не выходят точно в срок, не уступая «Библиотеке для чтения», прославившейся своей аккуратностью?
Случилось, однако, что владелец типографии задержал за долги готовый номер «Отечественных записок». Бледный, но полный достоинства, Краевский бросился в типографию. Он расплатился с типографщиком тысячью журнальных книжек, но «Отечественные записки» вышли в срок!
В тот день надо бы Анне Яковлевне Краевской быть особенно внимательной к мужу. Но, едва начав переодеваться, Андрей Александрович застыл в неподвижности.
– Что это такое?! – спрашивает он, и в голосе его слышатся истерические нотки. Он только что чуть не умер от унижения, ведя постыдный торг с бесчувственным типографщиком, а Аннет, любимая Аннет перепутала его домашние туфли! Сколько же раз нужно повторять, что он любит туфли, отделанные мехом!
Покорная Аннет бросилась разыскивать любимые туфли…
А Иван Иванович Панаев твердил и твердил о Белинском. И Краевский наконец сдался.
Появление Белинского в Петербурге насторожило столичных триумвиров.
– Это вы привезли из Москвы бульдога Белинского, чтобы травить нас? – спросил при встрече с Панаевым Фаддей Венедиктович Булгарин.
Каждый раз, когда Виссарион Григорьевич вспоминает этот рассказ Панаева, он удовлетворенно улыбается:
– То ли еще получат, подлецы!
…Идет третий год работы Белинского в «Отечественных записках». Принимая своего главного сотрудника, Андрей Александрович неизменно приветствует его словами:
– Сердечно рад видеть вас, почтеннейший Виссарион Григорьевич!
Потом, рассматривая статьи и рецензии заведующего критическим отделом, редактор-издатель «Отечественных записок» одобрительно кивает головой.
– Каждую строку вашу, Виссарион Григорьевич, читатели прочтут с истинным удовольствием. Кто в этом усомнится? Имею, однако, к вам доверительный разговор. Я начертал на знамени «Отечественных записок» неустанную борьбу с торгашеским триумвиратом и никогда не положу оружия. Но зачем писать о них так часто? Сегодня – Булгарин с Гречем, завтра – Сенковский, а там – опять Булгарин. Есть по этому поводу мудрая поговорка, излюбленная французами: «Ничего слишком!»
– Не знаю, каких поговорок придерживаются французы, – отвечает Белинский, – но хорошо помню, как во время оно они рубили негодяям головы на гильотине.
Андрей Александрович опасливо оглянулся, как будто хотел еще раз убедиться, что в кабинете нет никого из посторонних.
– Шутник же вы, Виссарион Григорьевич, хотя признаюсь, что у нас в России могут приключиться с шутником непоправимые беды.
– Да я вовсе не шучу, – серьезно подтвердил Белинский, – а коли говорить о России, то, может быть, было бы полезнее действовать не пером, но топором.
– По примеру, стало быть, Емельяна Пугачева?
– История знает много поучительных примеров. Народ тоже учится, Андрей Александрович!
– Народ, Виссарион Григорьевич, предан монархизму, – Андрей Александрович еще сохранял видимое спокойствие. – Я говорил и буду повторять, что просвещение прежде всего необходимо нашему народу, в нем залог будущих перемен и разумной свободы.
– Свободу тоже разно понимают разные люди… Других дел у вас ко мне нет?
– Нет… Но есть за вами, Виссарион Григорьевич, немалые долги по журналу. Не смею торопить, однако буду усердно вас просить.
После ухода Белинского Андрей Александрович отдавался тревожным размышлениям. Странные дела творятся в «Отечественных записках» с тех пор, как появился здесь Белинский. Почему отходит в сторону князь Вяземский и все замкнутее становится при встречах осторожный Плетнев? Почему милейший Владимир Федорович Одоевский все реже заезжает для душевной беседы? Кто в этом виноват? Давным-давно нет и помину об участии в «Отечественных записках» почтенных москвичей, а профессор Погодин прямо указывает в дружеских письмах на пагубную для «Отечественных записок» деятельность Белинского.
Впрочем, о том же говорят уважаемые люди в Петербурге. Цензура умеряет, конечно, разрушительный пыл критических статей, появляющихся в «Отечественных записках», но и в цензуре начинают посматривать на Андрея Александровича без прежней благосклонности. Андрей Александрович чувствует, как нарастают вокруг него настороженность и опасливое отчуждение. И все из-за него, Белинского!
«Да кто же хозяин в журнале? – задает себе вопрос редактор-издатель. – Я или он?»
Появились в журнале и москвичи, но какие! Некий Николай Огарев, отбывавший ссылку по политическому делу, или Искандер, он же Александр Герцен, угодивший из одной ссылки в другую. Нечего и спрашивать о направлении мыслей этих молодых людей. А Виссарион Григорьевич отыскивает новых автором и для «Смеси» и для отдела наук, и, конечно, тоже с «направлением». Весь журнал, оказывается, начиняют «направлением».
– Ничего слишком! – решительно повторяет Краевский. – Пока распоряжается в «Отечественных записках» Виссарион Белинский, не будет мира ни с кем.
Редактор-издатель углубляется в приходо-расходные книги, которые ведутся в конторе «Отечественных записок» с примерной аккуратностью, и долго не верит собственным глазам. Подписка заметно двинулась вверх. Выплачены неотложные долги. Андрей Александрович не подписывает больше векселей. Он не унижается ни перед типографщиком, ни перед бумажными фабрикантами.
Когда Андрей Александрович Краевский возвращается домой, жена не слышит от него прежних душераздирающих жалоб. Теперь он сетует только на всеобщее возмущение журналов против «Отечественных записок». Но кто же в этом виноват? Ведь дело уже дошло и до грозного окрика в «Северной пчеле». Мысли критика «Отечественных записок», заявляет Булгарин, весьма сходны с теми, которые мог бы высказать только враг и ненавистник России, играющий на руку иностранным державам!.. Многоточия и восклицательные знаки, которыми уснащал свои писания Фаддей Венедиктович, оставляли полный простор для вывода о том, какими коварными средствами пользуются иноземные завистники России.
Лишился покоя и барон Брамбеус, он же профессор Сенковский. Правда, Осип Иванович по-прежнему живет в своем особняке и подписка на «Библиотеку для чтения» стоит как будто твердо. Но нет у него уверенности в будущем, даже близком. Осип Иванович изощряет все свои таланты, чтобы стереть с лица земли Виссариона Белинского.
Даже почтеннейший Николай Иванович Греч, читая публичные лекции о грамматике русского языка, обратил кроткую науку грамматику в смертоносное оружие, направленное прямехонько в грудь Виссариону Белинскому.
Издалека ему уже шлют проклятия москвитяне, обильно уснащающие его именем каждый номер своего журнала.
О Виссарионе Белинском пишут, пожалуй, больше, чем о ком-нибудь. О нем распевают театральные куплеты; есть и целый роман-пасквиль, писанный бездарной, но злобной рукой.
Размышляя об этом походе против Виссариона Белинского, все больше тревожился редактор-издатель «Отечественных записок»: этак можно и вовсе погубить журнал…
Но тут опять оживают перед ним аккуратно исписанные страницы приходо-расходных книг. А цифры имеют волшебную силу. Подписка на «Отечественные записки» растет. Чуть ли не каждая статья Белинского дает новых подписчиков. Тогда Андрей Александрович, думая о Виссарионе Белинском, говорит жене голосом, исполненным смирения перед судьбой:
– Я буду терпеть, Аннет, если к этому вынуждают обстоятельства… Приготовь, пожалуйста, чай. Только ты умеешь мне угодить.
Анна Яковлевна хлопочет. Андрей Александрович оглядывает располневший стан жены и наставительно замечает:
– Тебе надо беречься быстрых движений, Аннет!
– Я стараюсь, мой друг, – отвечает Анна Яковлевна, продолжая хлопотать.
Андрей Александрович допивает крепкий, душистый чай и решительно встает.
– Как бы мне хотелось побыть с тобой, но неотступно зовут меня рукописи и корректуры. Надеюсь, в кабинете все в порядке?
Никому, кроме Анны Яковлевны, не разрешается приближаться к письменному столу Андрея Александровича.
Андрей Александрович целует жену в лоб и, покидая столовую, счастливо улыбается.
– Так, стало быть, в апреле, Аннет?
– В апреле, – подтверждает Анна Яковлевна, розовея от смущения.
Но, едва апрельское солнце успело заглянуть в Петербург, в доме Краевского случилось непоправимое: в родильной горячке сгорела жизнь кроткой и любящей Аннет. Андрей Александрович, убитый горем, растерялся совершенно. Он не мог оставаться в квартире, в которой слышались ему тихие, привычные шаги. Он не мог без слез видеть свои домашние туфли: только одна Аннет умела их вовремя подать. Андрей Александрович брался за неотложные корректуры – ему казалось, что за стеной хлопочет, готовя чай, Аннет. Даже приходо-расходные книги «Отечественных записок» теперь вызывали новый приступ безутешных рыданий: почему ангел-хранитель его жизни покинул юдоль земную в то время, когда он мог обещать ей все блага? Андрей Александрович опускал печальные глаза на письменный стол и с ужасом видел: ровным серым слоем лежит на рукописях и корректурах накопившаяся пыль…
«Аннет! Аннет!» – готов был позвать Андрей Александрович. Аннет не приходила.
Редактор-издатель «Отечественных записок» отстранился от дел. Но журнал уверенно набирал силу.
Глава двенадцатая
Цензура запретила печатать в «Отечественных записках» поэму Лермонтова «Демон». Не скоро увидят свет мятежные стихи.
Поэта, убитого на предательской дуэли, будут и за гробом преследовать «духи тьмы». Верят они, что наложили печать молчания на его уста. А «Демон» расходится по всей России во многих рукописных списках.
И на столе Белинского лежит список поэмы, старательно переписанный им на изящной бумаге. Виссарион Григорьевич твердит «Демона» наизусть и охотно читает вслух; читает, чуть-чуть задыхаясь, словно не может совладать с волнением: целые миры истин, чувств, красоты открыл для себя в «Демоне» Белинский. В памяти встают совсем недавние встречи с Михаилом Лермонтовым. Какой глубокий и могучий дух! И какая нежная душа! Нет года, как погиб поэт, но горечь этой невозвратной потери никогда не уйдет.
А список «Демона» так и лежит на столе.
– Вот возьму и пошлю, – говорит Виссарион Григорьевич. Но в словах чувствуется неуверенность, и он подбадривает себя: – Закажу красивый переплет и пошлю!
Решение принято. «Демон» снаряжается с ответным визитом к Мари. Это будет как раз кстати. Ведь и о «Демоне» они тоже беседовали в Москве. Мятежному духу предстоит, правда, нелегкий путь. Ему следует проникнуть в Александровский женский институт, где начальствует бдительная мадам Шарпио, а там незаметно проскользнуть в длинный коридор, в который выходит заветная дверь. Дверь откроет классная дама института Марья Васильевна Орлова.
Белинскому больше всего хотелось самому постучать в ту дверь и нетерпеливо позвать: «Мари!» Но Москва может быть бесконечно далека для человека, у которого так много неотложных дел в Петербурге и так мало денег для путешествия.
«Счастливец Боткин! – горестно вздыхает Виссарион Григорьевич. – Он увидит Мари!»
Сын почтенного московского купца, Василий Петрович Боткин и будет проводником «Демона» в его тайном путешествии во владения мадам Шарпио. Все предусмотрел хитроумный заговорщик Белинский!
– Привалило же тебе, Боткин, счастье! – задумчиво повторяет он.
Василий Петрович Боткин днем сидит в конторе чаеторговой фирмы. «Боткин и сыновья». Глава фирмы Петр Кононович называет свою контору по-старинному «анбаром» и все дела ведет по заветам доброй старины. Посылая сына Василия по ярмаркам, требует Петр Кононович отчета в расходе каждой медной копейки, даром что сын ворочает на этих ярмарках большими тысячами. Когда же сидит Василий в московском «анбаре», суровый родитель опять не дает спуска сыну-приказчику.
Зато по вечерам Василий Петрович может беседовать с приятелями о поэтах раннего средневековья или о живописцах Возрождения. Он печатает в «Отечественных записках» обстоятельные статьи об итальянской музыке и туда же шлет обозрения немецкой литературы. Василий Петрович издавна свел дружбу с Виссарионом Белинским. И Белинский каждый раз, когда попадает в Москву, в холостое жилище Василия Петровича Боткина, убранное по требованиям высокого вкуса, будто возвращается в свои прежние годы.
Когда-то они вместе с Боткиным участвовали в философских спорах, затягивавшихся до утра. Пророком гегельянства в Москве был в то время Михаил Бакунин. Не задумываясь отказался он от офицерского мундира, чтобы заниматься философией. Это он, Бакунин, толкуя друзьям учение Гегеля, звал к примирению с русской действительностью. В сущности же молодой философ отмахивался от этой докучливой действительности, от всех ее противоречий.
Казалось, в тверском имении родителей Михаил Бакунин мог бы увидеть тягостную жизнь крепостных. Но молодой философ штудировал Гегеля и жил «в духе». Это значило – наслаждаться гимнастикой ума, блуждая по необъятным полям абстрактной философии.
Белинский не был новичком в философии, когда встретился с Бакуниным. Но он не мог, подобно Бакунину, спокойно наслаждаться отвлеченной жизнью «в духе». Их дружба перемежалась ожесточенными битвами. Сколько раз Белинский упрекал Бакунина в безудержном влечении к абстракциям, в любви к фразе и позерству, в деспотизме и душевной холодности. Сколько раз расходились они, казалось – навсегда, чтобы на следующий же день начать новый ожесточенный спор.
Белинский сгорал в этих спорах. Василий Петрович Боткин охлаждал его пыл короткими, рассудительными репликами. Только у Боткина на Маросейке и отдыхал неистовый Виссарион от философских бурь. А на смену этим бурям приходили другие, в которых и сладостно и тревожно билось сердце.
Белинский жил в предчувствии любви – наивысшего, по его словам, чуда в жизни человека. И чудо, казалось, свершилось. Оно свершилось в тот осенний день, когда, приехав погостить в имение Бакуниных, он впервые увидел Александру Бакунину. Прошли годы – и былое давно стало воспоминанием. Но и при воспоминании все еще неровно бьется сердце. Что же было с ним тогда, когда, вернувшись из бакунинского имения, он ворвался к Боткину!
Вскоре в Москве произошли новые встречи с Александрой Бакуниной. Белинский сам себе не смел поверить: неужто его чувство понято, принято и разделено? Смущаясь до слез, путаясь в бессвязных словах, он решился задать Михаилу Бакунину робкий вопрос, от которого зависит вся его жизнь: может ли он на что-нибудь надеяться?
– Может быть, может быть, – отвечал, не вдумываясь, молодой философ, весьма далекий от сердечных тайн сестры.
Пребывая на небесах, Виссарион Белинский еще не знал, что иное, сердечное внимание девушки было отдано другому и этим избранником оказался Василий Петрович Боткин!..
Сошествие Виссариона Белинского с небес было и стремительно и горестно. Он похоронил свою любовь с судорожным рыданием, которого никто не слышал. Но дружба с Боткиным не пострадала. Только роли переменились. Теперь Белинский стал поверенным тайн счастливого соперника. Но и счастье Боткина было краткотечно. У Василия Петровича остались воспоминания о мучительных днях, о колебаниях и сомнениях и, наконец, о разрыве.
О том времени свидетельствуют огромные письма, которыми обменивались друзья-соперники, тщетно пытавшиеся выяснить заповедные тайны чувства, которое люди называют любовью.
Белинский не стыдился слез, которые пролил, когда понял, что чувство его к Александре Бакуниной не было ни понято, ни принято, ни разделено. Только сердце охладилось, казалось, навсегда…
Так зачем же «Демон» снаряжается в Москву?
«Ох, Боткин, Боткин!» – взывает к старому другу Виссарион Григорьевич.
От Александры Бакуниной по-прежнему приходили письма. Не часто, но приходили. Вернее, она вписывала несколько строк в общие письма, которые слали Белинскому ее братья и сестры. В том не было ничего удивительного – вся бакунинская молодежь дружила с Виссарионом Григорьевичем.
Вот и все, что послала судьба человеку, который начинал жизнь с предчувствием любви – этого наивысшего чуда в жизни.
Список «Демона» все еще лежал на столе. Правда, «Демон» уже облекся в нарядный переплет. А Виссарион Григорьевич неожиданно остановится посреди комнаты в полной растерянности.
«Боткин, Боткин! Что со мной творится?»
Творилось действительно необыкновенное. Ноет грудь, но так непривычно сладко. Волна пламени то нахлынет на сердце, то снова отхлынет. Волнение это знакомо ему по прошлому, но никогда не было так глубоко. Неужели свершилось чудо, когда пошел человеку четвертый десяток?
«Скорее, скорее, Боткин! Каково будет твое впечатление от знакомства с Мари?»
А сам вел себя престранно. Когда играл Белинский в преферанс, то по горячности характера всегда записывал ремизы. Теперь эти ремизы возросли до астрономических цифр, но Виссарион Григорьевич требовал новой пульки и с нетерпением схватывал сданные карты, как будто ждал, что судьба пошлет ему волшебную беспроигрышную карту.
Как может быть иначе, если «Демон» отправился наконец в Москву? Не может же быть бита последняя, наверняка последняя карта в жизни!
Письма к Боткину шли одно за другим. Иногда вместо письма получалась целая тетрадь. Если тетрадь шла не по почте, а по рукам, с оказией, то опасаться перлюстрации не приходилось. Василий Петрович Боткин получил, конечно, и подробный отчет о чтениях у Панаевых. Не хотят понять Виссариона петербургские друзья – авось найдутся единомышленники в Москве.
Глава тринадцатая
По московским улицам шла последним дозором весна. Где прикажет, озорница, стрекотать ручьям да водопадам, где собьет с крыши запоздалую сосульку, где вспугнет драчливых воробьев, а где пустит вскачь по бездонным лужам щегольские барские дрожки. Берегись тогда пеший человек!
Весна добралась и до дальнего Девичьего поля, заглянула в погодинский сад. Вот тут и подала голос дальновидная синица: она хоть и в святцы не глядела, а все наперед знала.
Мокрые вороны вокруг синицы ходят, носы задирают: мы, мол, тоже все знали, тоже с места не снимались. И гомонит воронье на все Девичье поле, славя свою воронью мудрость.
В погодинском доме выставляли зимние рамы, ядреные бабы мыли окна. Только в мезонине все еще боялся холодов почетный гость. А какие же холода? Весна готовила столбовую дорогу лету. Дольше не гасила вечерние зори: как бы не заплуталось в потемках лето. Раньше выгоняла солнце на небо: по солнцу, известно, дорогу каждый найдет. Если же неслись навстречу солнцу черные мохнатые тучи, весна отгоняла их легкоструйным ветерком…
Только одна никому не видимая туча никуда не уходила: она застилала окна погодинского мезонина и зловещим предчувствием легла на душу почетному гостю. Гоголь просил топить печи пожарче и все-таки мучился от внутреннего холода – знакомый вестник надвигающейся беды.
В часы ночной бессонницы он со страхом всматривался в темноту, поспешно зажигал свечу. Новой волной поднимался к сердцу холод.
Прошло больше трех месяцев с тех пор, как Гоголь вручил рукопись «Мертвых душ» Белинскому. Только Белинский и объяснил Николаю Васильевичу, как равнодушны оказались его петербургские ходатаи.
И вдруг в пригожий апрельский день – шасть на стол к Гоголю «Мертвые души», будто та пропавшая грамота, что слетела вместе с шапкой на голову к лихому казаку. Где прятала казацкую шапку нечистая сила, про то дед дьячка Фомы Григорьевича ни у ведьм, ни у чертей с собачьими мордами, как известно, не спрашивал. Где скитались «Мертвые души» после цензурного разрешения – тоже осталось загадкой.
Возвращение «Мертвых душ» сопровождалось новым ударом. Как выдать поэму в свет без повести о капитане Копейкине?
А капитан Копейкин, откуда ни возьмись, тут как тут. Деревяшкой по полу постукивает – трюх-трюх!
«Не будет ли снисхождения по одержимым болезням и за ранами?»
Хотел было объяснить ему автор, что считает запрещенную повесть важнейшей частью поэмы – и прежде всего для полноты охвата российской действительности; одно дело – губернские чиновники, какой-нибудь Иван Антонович Кувшинное Рыло или даже прокурор, другое дело – капитан Копейкин, коли он до самого министра добрался. Чиновники губернского города NN, поди, даже во сне не видывали никакого министра. Как же обойтись в поэме без капитана Копейкина?
Все это и хотел сказать в утешение Копейкину автор «Мертвых душ». Но не дождался ответа нетерпеливый капитан. Только откуда-то снизу доносилось едва слышное трюх-трюх!
Гоголь прислушался: никак ходит по кабинету Михаил Петрович Погодин?
Николай Васильевич сидел не шелохнувшись дотемна, все смотрел на свое многострадальное детище, потом зажег свечу и, перечитывая запрещенную повесть, тяжело задумался.
Колокола Новодевичьего монастыря звонили ко всенощной. Кое-как пробирались туда по вешнему бездорожью усердные богомольцы. Пошел к церковной службе и Михаил Петрович Погодин. Шел со смирением и чистым сердцем, а лукавый забежит то с одной стороны, то с другой. Сучит лукавый козлиными копытами, нашептывает в ухо: «Теперь-то и взять тебе, Михаил Петрович, главы из «Похождений Чичикова» для многоуважаемого «Москвитянина»! Не зевай, Михаил Петрович!»
Нечистый дух провожал богомольного профессора до самых святых ворот, а дальше, за монастырскую ограду, нет, конечно, ему ходу. Спасся от лукавого Михаил Петрович.
А вот в Гоголя, точно, вселился бес. Когда заикнулся Михаил Петрович насчет отрывка из «Мертвых душ» для «Москвитянина», встал из-за стола Николай Васильевич, в глазах его полыхнуло пламя. Вроде бы указал, безумец, на дверь самому хозяину дома. А вдогонку послал еще Погодину записку: «Насчет «Мертвых душ»: ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоразумен…»
Совсем не вовремя приступился Михаил Петрович – Гоголь переделывал повесть о капитане Копейкине.
Вскоре в Петербург пошли письма. Цензору Никитенко Гоголь сообщил: «Я переделал Копейкина, я выбросил все, даже министра, даже слово: «превосходительство».
Плетневу рассказал еще подробнее: «Я выбросил весь генералитет, характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо!»
В повести произведены коренные перемены. Вместо величественного министра действует безликий, но добросердечный начальник.
Раньше Копейкин заявлял министру-вельможе:
«Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба».
Теперь добросердечный начальник, выслушав Копейкина, ссужает ему из личных средств, чтобы капитан мог спокойно ожидать решения дела о пенсионе. Нетерпеливый Копейкин сам становится, стало быть, виновником своих бедствий.
Нет, не оказал автор Копейкину никакого снисхождения. Сказано теперь в повести, что капитан Копейкин привередлив, как черт, что побывал он и на гауптвахте, и под арестом, всего повидал. Сказано, что, придя к милосердному начальнику, тому самому, который снабдил его средствами, Копейкин всех распушил, бунт поднял… Что прикажете делать с таким чертом? По-прежнему возникает в повести фельдъегерь, трехаршинный мужчина, ручища у него самой натурой устроена для ямщиков, – словом, дантист этакой. Но если теперь высылают из Петербурга с этим фельдъегерем назойливого Копейкина, кто не согласится, что «с ним поступили хорошо»?
Только неузнаваемо поблекла главная мысль повести. И капитан Копейкин не являлся больше духовному взору автора «Мертвых душ». Снова отправился он в Петербург, к цензору Никитенко.
В типографии уже набирались разрешенные главы «Мертвых душ». Снова видели повсюду Николая Васильевича и, глядя на него, дивились: вон как возродился человек, этакий у него подъем душевных сил!
Подъем этот доходил порою до странного экстаза. Гоголь приехал к Аксаковым и объявил, что намерен совершить путешествие в Иерусалим, к гробу господню. И, видя всеобщее изумление, продолжал: прежде путешествия в Иерусалим он уедет в Италию, чтобы закончить «Мертвые души». Он выполнит обещание, данное читателям: две части поэмы впереди – не безделица!
Однако мысли Николая Васильевича были, по-видимому, больше заняты путешествием в святую землю. Он опять к нему вернулся, говорил возбужденно и присматривался подозрительно: как примут его решение?
Но путешествию в Иерусалим, как делу дальнему и сомнительному, не придали у Аксаковых значения. Всех огорчил скорый отъезд Гоголя на Запад. Зачем покидать отечество? Разве Николаю Васильевичу плохо живется и работается в Москве?
Гоголь слушал, едва сдерживая нетерпение. Резким движением откинул прядь волос, упавшую на лоб. Тень недовольства пробежала но лицу. Не дослушав уговоров, он встал и уехал.
Но через несколько дней Гоголь снова вошел в гостиную Аксаковых. В руках он благоговейно нес икону. На лице его лежал отпечаток внутреннего просветления. Сам хозяин дома, почтенный Сергей Тимофеевич Аксаков, смутился духом: вид Гоголя, шествующего по гостиной с иконой в руках, с сияющим взором, был необычно странен.
Никто не знал, что Гоголю приходится спасаться от дьявола! О, это было вовсе не то адово племя, которое суетилось в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», которое строит козни и хорохорится, пока не открестится от него добрый человек! Гоголю смутно виделся владыка зла. Дьявол медлил приблизиться, но уже насылал в душу и смущение, и трепет, и страх, от которого мешались мысли. Но стоило задумать путешествие в святую землю, – и вот в руках очутилась святая икона, верный символ спасения. Это ли не знамение, благовествующее путнику?
А всего-то и было, что знакомый Гоголю архиерей благословил будущего паломника иконой. Князья церкви часто одаривали мирян иконами. В поступке архиерея не было ничего необыкновенного. Но Гоголь так и оставался в мистическом экстазе. А уходя – забыл у Аксаковых икону. Уходил Гоголь сумрачный, подавленный, будто испытывая невыносимую тяжкую печаль.
История с иконой показалась бы Сергею Тимофеевичу Аксакову еще более удивительной, если бы знал он, как ответил архиерею Николай Васильевич. «Силой вашего же благословения благословляю вас!» – написал князю церкви мирянин Николай Гоголь. Благословение, полученное архипастырем от пасомого, было, вероятно, единственным в летописях церковной жизни.
Вскоре и Марья Ивановна Гоголь получила в своей Васильевке письмо с торжественным благословением от любящего сына. Это было и вовсе неслыханно на святой Руси. Должно быть, мысли почтительного сына, вырвавшись из его воли, стали приобретать часом какое-то исполинское значение.
На столе у него лежали корректурные листы «Мертвых душ». Капитан Копейкин вернулся из Петербурга, не получив ни одной царапины при новой встрече с цензором Никитенко. Можно благополучно закончить печатание поэмы.
Автор, проявляя крайнее нетерпение, непрестанно подгонял типографщиков. Глядя на эту спешку, дивились даже близкие приятели Гоголя: куда торопится беспокойный человек?
В теплый майский день Гоголь отпраздновал именины в погодинском саду. За именинным столом собрался привычный круг. Тот же Михаил Петрович Погодин, хотя и вовсе не смотрит он на почетного гостя; тот же медоточивый Шевырев; те же Аксаковы и неутомимый ритор Хомяков; тот же московский Вальтер Скотт – Загоскин; рядом с ним важный жандармский чин, объявивший себя почитателем Гоголя.
Просторен погодинский сад, но тесен, ох как тесен круг гостей!
За именинным столом лились речи о смиренномудром русском народе. В эти дни народ валом валил по просохшим дорогам к Троице-Сергию. Он, угодник, всякое горе-горюшко хрестьянское к божьему престолу вознесет. Вознесет или нет – кто знает, а сиротская благостыня уже течет рекой к лаврским монахам. Нет такой старухи, от которой не достался бы хоть грош на помин души. Конечно, за грош и благодати получит старуха на полушку, а ей утешение: смилостивился угодник божий, принял, святитель, доброхотное приношение.
Валом валил народ к Троице-Сергию, а идучи пели люди духовные стихи. В славянофильских гостиных по этому случаю уже не речи произносили, а, прямо сказать, акафисты слагали:
– Вот она, вера православная, горами движет!
Звон колоколов Новодевичьего монастыря сливался со звоном заздравных бокалов в честь именинника в погодинском саду.
Гоголь, не вслушиваясь, ушел в думы: скорей в дорогу!
Дорога! Какой благостный, целительный мир навеваешь ты! Какие чудные замыслы рождаются в душе! Чу! Вот прозвучит рожок кондуктора – и от одной этой мысли нисходит в душу необъятная радость. Пусть приобщатся к этой радости и все страждущие.
«Я еду к тебе с огромной свитой, – написал Гоголь поэту Языкову. – Несу тебе и свежесть, и силу, и веселье…» А Николай Михайлович Языков, лечившийся за границей, был поражен параличом и приговорен к неподвижности до конца жизни, Гоголь хорошо это знал.
Где же ты, свита всемогущих надежд, с которой только что собирался отправиться в путь пророк-исцелитель? Увы, она покидает его, как только наступает смутный час тщетной борьбы с самим собой.
Прокоповичу Гоголь писал: «Ты узнаешь и молодость, и крепкое разумное мужество, и мудрую старость. Узнаешь их прекрасно, постепенно, торжественно-спокойно, как непостижимой божьей властью я чувствую отныне всех их разом в моем сердце».
Надо бы еще раз перечитать Николаю Васильевичу эти строки, пока не высохли чернила, и, пожалуй, никуда их не посылать. Николай Яковлевич Прокопович, знавший, как боится Гоголь каждого превыспреннего слова, наверняка удивится, прочтя это неожиданное пророчество. Какая такая молодость может вернуться к человеку, давно забывшему о ней в тяготах жизни? Какая мудрая старость может ждать его, немудрящего? Иное дело – бывший школьный товарищ Гоголь! Ему, гениальному писателю, дано, должно быть, право пророчествовать людям. И погрузится Николай Яковлевич в размышление, смущенный торжественными прорицаниями письма. Где же ему знать, что Гоголь сам от себя отгоняет прорицаниями привязчивые страхи! А страхи никуда не уходят.
Гоголь вспомнил и другого школьного товарища – Данилевского. С ним делил Гоголь и нужду, и горести, и разочарования, когда оба юношами явились в Петербург. Потом Гоголь жил вместе с Данилевским в Париже. А ныне, ничего в жизни не свершив, томится Александр Семенович Данилевский в своей захудалой усадьбе на Украине. Как и ему не помочь?
«Если же что в жизни смутит тебя, наведет беспокойство, сумрак на мысли, – писал Данилевскому Гоголь, – вспомни обо мне, и при одном уже твоем напоминании отделится сила в твою душу!»
Долго будет перечитывать это письмо Александр Семенович Данилевский, но, чуждый мистицизма, ничего не поймет. Пожалуй, даже прогневается на старого товарища: вскружила, мол, ему голову слава! А ты, коль одолевают тебя долги и разорение, – открещивайся от них именем Гоголя! Это ли не смехотворный рецепт?
А чего бы удивляться маловеру Данилевскому, если бы знал он, что написал Гоголь о самом себе: «И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновения подымется из облеченной в святый ужас и блистанье главы…»
Это и совсем похоже на величественно-темные пророчества из священной книги «Апокалипсис», над разгадкой которых тщетно бьются богословы. А вписано в текст «Мертвых душ»!
Гоголь читал корректуру и, как всегда, внес много поправок и изменений, но сохранил все таинственные прорицания. Он обещал читателям, что в поэме, где суматошится Чичиков, явится на смену маниловым, ноздревым и собакевичам муж, одаренный божескими доблестями. Обещал еще автор, что в той самой книге, где даже дубиноголовая Настасья Петровна Коробочка поторговывает помаленьку крепостными девками, где беседует дама приятная во всех отношениях с дамой просто приятной, а прочие губернские дамы проносятся в галопаде, – что в этой же книге явится чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения…
Стоял май, когда вышли первые экземпляры долгожданной поэмы. Гоголь раскрыл книгу, пахнущую типографской краской, и сказал, отвечая на свои мысли:
– Вот немного бледное предвестие той великой поэмы, которая строится во мне и разрешит наконец загадку моего существования!
Какая тайна тревожит автора «Мертвых душ»?.. Но прочь набежавшие на чело морщины и строгий сумрак лица! В дорогу!
Николай Васильевич занял место в почтовом дилижансе, идущем в Петербург. Закутался, по обыкновению, в дорожную шинель и, казалось, не бросил ни одного взгляда на летние виды, плывущие за окном кареты.
Глава четырнадцатая
Гоголь заехал в Петербург накоротке, держа путь за границу. Остановился у профессора Плетнева и ввечеру отправился на Невский. Шел не торопясь, привычно присматриваясь к людскому потоку.
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге!» – Николай Васильевич мог бы еще раз повторить эти строки из собственной повести.
Прозрачной, едва видимой дымкой опускаются сумерки, суля трепетное мерцание белой летней ночи. Как любил эту пору Пушкин! Гоголю видится другое. Ему особенно дорог в Петербурге тот поздний час, когда будочник, накрывшись рогожей, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь; настает тогда таинственное время, лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет.
В такое время молодой живописец Пискарев и встретил на Невском незнакомку, которая показалась ему совершенно Перуджиновой Бианкой. Художник был готов отдать жизнь за один ее взгляд; ее голос звучал, как арфа!
А вскоре Пискарев услышал тот же голос, но боже, какие слова были произнесены!
– Меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна. – При этом она улыбалась. А было ей всего семнадцать лет.
Мечта художника столкнулась с жестокой обыденностью. И погиб несчастный Пискарев.
Прошло несколько лет с тех пор, как привиделась Гоголю эта печальная история при обманчивом свете фонарей Невского проспекта. А Невский все тот же. Все так же быстро совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня. Какой-нибудь чудак, ничего не ведая об участи Пискарева, снова устремляется вслед за незнакомкой, которая покажется ему Рафаэлевой Мадонной или Джокондой Леонардо да Винчи. Можно бы и белую ночь принять за фантасмагорию, если бы не противостояла этой фантасмагории незыблемая жизнь.
Навстречу Гоголю шел бравый офицер, заглядывая мимоходом под каждую женскую шляпку. Гоголь прищурился: никак старый знакомый – поручик Пирогов!
В тот вечер, когда художник Пискарев устремился за своей Бианкой, поручик Пирогов пошел следом за приятной блондинкой. Он претерпел, как известно, жестокую секуцию за волокитство, которой подверг поручика Пирогова муж приятной блондинки, честный немец, жестяных дел мастер Шиллер. А вечером того же дня поручик Пирогов отправился, успокоившись, к знакомым и так отличился в мазурке, что привел в восторг и дам и кавалеров.
– Дивно устроен свет, – повторяет, улыбаясь, Гоголь. – Должно быть, и сегодня танцует где-нибудь поручик Пирогов. Все поручики отлично танцуют мазурку.
За что же погиб, однако, мечтатель Пискарев? Спросить бы у автора повести «Невский проспект», да ведь еще раз повторит, пожалуй, Николай Васильевич: «О, не верьте Невскому проспекту!.. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! Он лжет во всякое время, Этот Невский проспект!..»
Может быть, и другие улицы Петербурга полны видений. Мало ли историй, подчас вовсе необычных, привиделось здесь Николаю Гоголю. Может быть, и сейчас еще держит свое заведение на Вознесенском проспекте цирюльник Иван Яковлевич. С ним произошло происшествие настолько фантастическое, что Гоголь должен был даже предупредить читателя: хоть подобные происшествия и бывают на свете, однако редко.
Цирюльник Иван Яковлевич обнаружил в хлебе, испеченном супругой, нос коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье. И хоть обозначено в повести точное число и месяц происшествия, кто этому поверит?
Гоголь тотчас согласится: «Как авторы могут брать подобные сюжеты, это, признаюсь, уж совсем непостижимо…» И в самом деле: коллежский асессор Ковалев, любивший именовать себя, на военный манер, майором, после напрасных поисков своего носа будто бы встретил его в Казанском соборе. Только нос уже был в ранге статского советника, при шляпе с плюмажем и молился с выражением величайшей набожности. «Точно, странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника», – немедля признает автор, а сам знай пишет повесть дальше.
Но как ни сверхъестественны похождения носа майора Ковалева, все больше и больше проглядывает в повести привычная обыденность. Когда, например, майор Ковалев, разыскивая свой нос, заявился к частному приставу, то передняя у пристава оказалась завалена сахарными головами, которые нанесли сюда из дружбы купцы. Тут нет и намека на сверхъестественное – один незыблемый порядок. И квартальный надзиратель, участвовавший в поисках носа, принял от майора Ковалева, тоже из дружбы, конечно, государственную ассигнацию соответствующего цвета и достоинства. Выйдя же от майора Ковалева, квартальный стал немедля увещевать по зубам какого-то мужика. Какая тут фантастика?
На первый взгляд могло бы показаться, что все из-за того же пропавшего носа майор Ковалев завел каверзную переписку с штаб-офицершей Подточиной. Объяснилось же дело совсем просто, согласно законам человеческого естества. Штаб-офицерша питала надежду, что майор Ковалев, волочившийся за ее дочерью, сочетается с ней законным браком. А майор жениться не хотел, имел намерение просто так – пар амур. Он был чужд, слава богу, эфемерных сентиментов и твердо держался существенности.
Что же неприятного могло с ним случиться? Как ни хитрил Гоголь, а должен был закончить повесть по непреложным законам жизни: каждому носу свое место. В один прекрасный день и нос майора Ковалева снова оказался там, где ему следовало быть.
Всегда будут взласканы судьбой майоры и коллежские асессоры, приверженные к порядку. О частных же приставах или квартальных и говорить нечего. Никто из них и не слыхивал, к счастью, про какую-то Перуджинову Бианку. Не всегда и не всем лжет Невский проспект!
Но не зря же видятся автору петербургских повестей его прежние знакомцы. Гоголь задумал важное дело.
Он пришел к Прокоповичу и, не тратя лишних слов, объявил, что решил печатать в Петербурге собрание своих сочинений; по соображению выйдет, без «Мертвых душ», четыре тома.
Прокопович очень обрадовался. Давно разошлись и стали редкостью сборники гоголевских повестей.
– А все это дело, Николаша, – заключил Гоголь, – я поручаю тебе.
– Помилуй! – в полном смятении воскликнул Прокопович. – В таком деле я вовсе не сведущ. Где мне возиться с типографщиками да вести счеты с книгопродавцами? Даже и говорить об этом не стоит!
– Не стоит, – согласился Гоголь. – Все мною обдумано и решено.
Николай Васильевич говорил решительно и смотрел на школьного товарища так непреклонно, что Прокопович развел руками. Он-то, хоть и скромный учитель словесности, хорошо знает, что значит для русской литературы Гоголь. Как ему откажешь?
Этим важным делом и был занят в Петербурге Гоголь.
Возвратясь из города к Плетневу, он брал из книжных шкафов Петра Александровича вышедшие в прежние годы свои сборники – «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Арабески». С благоговением раскрывал старые книжки «Современника», где печатался при Пушкине. Может быть, больше всего хотелось Гоголю встретиться со старым знакомым Аксентием Ивановичем Поприщиным, но именно эту встречу он долго откладывал. Наконец открыл нужную страницу в «Арабесках».
Ходить бы титулярному советнику Поприщину в департамент да чинить перья для его превосходительства директора департамента. Ан нет! Все и началось, если верить запискам самого Поприщина, в тот день, когда, стоя под дождем у какого-то магазина, титулярный советник увидел дочку директора департамента, выпорхнувшую из кареты, как птичка. А собачка ее превосходительства, по имени Меджи, не успев проскользнуть за хозяйкой в магазин, встретилась с другой собачонкой, по кличке Фидель.
Встретились Меджи с Фиделью и заговорили совершенно по-человечески. Вначале Поприщин очень удивился, но потом, сообразив все, перестал удивляться. Ведь писали же в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили фунт чаю. С недавнего времени и Аксентий Иванович начал слышать и видеть такое, чего еще никто не видывал и не слыхивал. Во всяком случае, всю собачью болтовню, услышанную подле магазина, титулярный советник обстоятельно внес в свои записки.
Гоголь перечитывал эти записки строку за строкой, словно проверяя, все ли записал Поприщин. Иногда кивал головой, по-видимому выражая Аксентию Ивановичу одобрение за точность и обстоятельность.
А с Аксентием Ивановичем продолжалось неладное. Ведь и прежде знал он, что суждено ему оставаться в титулярных советниках навечно; ведь и прежде чинил он перья для его превосходительства; будто и был создан господом богом именно для этой надобности; ведь и прежде директорский лакей потчевал его табачком, даже не вставая с места, и никто не подавал ему в департаменте ни шинели, ни шляпы. Но столкнулась привычная действительность с неведомо откуда залетевшей мечтой – и увидел титулярный советник всю неприглядность своего существования.
Мечта предстала перед Поприщиным в обличье дочери директора департамента. Но недоступна, несбыточна или гибельна мечта. Пора бы знать это всем титулярным советникам.
В комнату, отведенную Гоголю, вошел Плетнев.
– Не помешал? – спросил он с обычной своей деликатностью. Гоголь не ответил. Должно быть, и не слыхал. Не отрывал глаз от книги.
Петр Александрович присмотрелся:
– Никак «Записки сумасшедшего»? Этакая старина! Впрочем, любопытная картина: Гоголь читает Гоголя. А в книжных лавках раскупают «Мертвые души». Предвижу, Николай Васильевич, много будет шуму. Я же наслаждаюсь мыслью: сдам номер «Современника» и приступлю к чтению твоей поэмы. Тогда, надеюсь, все обсудим.
Петр Александрович вскоре ушел к себе. Гоголь вернулся к повести. Титулярный советник Поприщин уже объявил себя испанским королем Фердинандом Восьмым. Явясь в департамент, Фердинанд Восьмой обозвал директора пробкой, самой обыкновенной пробкой, которой закупоривают бутылки, а пробравшись в директорскую квартиру, увидел ее, Софи! Он даже не сказал ей, что он испанский король; он сказал только, что счастье ее ожидает такое, какого она и вообразить не может.
А за Фердинандом Восьмым уже приехали депутаты и увезли его в Испанию. Может быть, и до сих пор сидит он за решеткой в больнице для умалишенных, а государственный канцлер и великий инквизитор бьют его палками и льют холодную воду на его обритую голову.
Гоголю слышится нечеловеческий крик:
«Спасите меня! Возьмите меня!.. Матушка, спаси твоего бедного сына!»
Долго сидел Гоголь в полной неподвижности. Наконец зажег новые свечи и взялся за рукописную тетрадь. Медлит явиться к читателям еще один петербургский чиновник – Акакий Акакиевич Башмачкин. Медлит то ли по врожденной робости характера, то ли из-за страха, благоприобретенного на службе.
Акакий Акакиевич принадлежит к той жестокой обыденности жизни, в которой вовсе не рождаются никакие желания, никакие надежды и человек до смертного часа не знает, что значит загадочное слово «мечта».
Никогда бы не вздумал Акакий Акакиевич шить себе новую шинель, если бы портной Петрович решительно не отказался, несмотря на уговоры, латать его старый капот.
А может ли стать мечтой новая шинель? Ну пусть бы была шинель с седым бобром, шитая с этаким неповторимым гвардейским шиком. Но хороша же будет мечта, если Петрович пустил на воротник, по соображениям экономии, какую-то кошку, хотя будто бы издали похожа та кошка даже на куницу! Впрочем, дело не в бобрах и не в куницах. Если отнять у человека мечту, человек может умереть. Отняли новую шинель у Акакия Акакиевича Башмачкина, и угасла даже его никчемная жизнь.
В бессонную ночь Гоголь строго спрашивал себя: какие картины петербургской жизни он развернул? Ладно бы показал он столицу с дворцами и монументами, со швейцарами, похожими на генералиссимусов, да с ресторанами, где повар француз готовит рассупе-деликатес. А он взял и перевернул эти роскошные декорации, и обозначилось на изнанке убогое рядно, жалкие заплаты, пыль, грязь, мусор, всякое ничтожество и бедность.
Но неужто и существует Петербург только для того, чтобы благоденствовали здесь значительные особы, имеющие право на шляпу с плюмажем, да поручик Пирогов или майор Ковалев? А всем прочим одна дорога – либо с титулярным советником Поприщиным в сумасшедший дом, либо с художником Пискаревым и смиренным Акакием Акакиевичем в могилу?
Многие тайны Петербурга, скрытые от равнодушных глаз, обнажил Гоголь, но и ему, сердцеведу, не все открылось. В столице завелись люди, не похожие ни на художника Пискарева, ни на чиновников Поприщина или Башмачкина. Взять хотя бы повесть жизни дворянского сына Николая Некрасова. На что сурова оказалась к нему, пришельцу, столица, а он держит слово – не погибнуть!
Или суждено Николаю Некрасову совсем особое поприще? Или будет он исключением среди тех, кого рано или поздно пригнет долу жизнь? А кто же тогда те безвестные молодые люди, что тянутся издалека в университет и, живя впроголодь, отчаянно сражаются даже со злой чахоткой? Не всем ведь готовят рассупе-деликатес повара французы.
Конечно, никому нет запрета мечтать о Перуджиновой Бианке, но бродят ныне по Петербургу чудаки, что мечтают о переустройстве самой жизни.
Живет в Петербурге еще один человек, давно знакомый Гоголю. Только ничего не знают о Виссарионе Белинском герои петербургских повестей Гоголя. Ни те, кто дерзает на жалкий бунт, ни те, кто гибнет безмолвно.
А может быть, не так незыблема жестокая существенность, даром что украшают столицу всякие шпицы и монументы? Может быть, только тогда кажется незыблемой эта жизнь, когда сам демон зажигает лампы, чтобы показать все в ненастоящем виде?
Белую ночь незаметно сменило утро. Гоголь все еще бодрствовал. Мечты и обыденность! Как вас примирить?
Глава пятнадцатая
– Гоголь будет читать из «Мертвых душ» у Александры Осиповны!
По такому известию у Смирновой собрались избранные друзья: профессор Плетнев, поэт и критик князь Вяземский… Всех приглашенных, впрочем, можно было перечесть на пальцах. Гоголь, как всегда, был скуп на такие приглашения, а для хозяйки дома его слово – закон.
Разговор в гостиной шел о всякой всячине. Сохрани бог намекнуть Николаю Васильевичу на всеобщее ожидание!
Он сидел в кресле в дальнем углу, в разговорах участия не принимал, но украдкой бросал взгляды на хозяйку дома.
Знакомство Гоголя с Александрой Осиповной было давнее. Смирнова, ловко управлявшая своими многочисленными придворными связями, была не менее охоча на дружбу с поэтами и писателями. Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Вяземский отдали дань этой умной, образованной женщине, отличавшейся не только красотой, но и живостью души. Гоголь пополнил почетный круг ее литературных знакомств.
Отношения Александры Осиповны с Гоголем складывались всего труднее. Николай Васильевич то усердно искал ее общества, то замыкался и исчезал, чтобы потом прийти как ни в чем не бывало.
Прославленная красавица часто с удивлением спрашивала себя: неужто это тот самый Гоголь, который вчера смотрел осенним днем, а сегодня неистощимо весел?
Однажды был и такой случай. Посреди разговора Александра Осиповна прищурила прекрасные глаза, воспетые поэтами, и спросила с той милой непосредственностью, которая так удается дамам высшего света:
– Признайтесь, Гоголёк! Вы, кажется, в меня влюблены?
«Гогольком» дружески звал Гоголя Василий Андреевич Жуковский. В устах красавицы ласковое прозвище прозвучало совершенной музыкой. Придворная дама, избалованная успехом, ждала пылкого признания не первый раз в своей бурной жизни. В жизни Гоголя это случилось, по-видимому, впервые. Застигнутый врасплох, он сначала удивился, потом рассердился и сбежал. Александра Осиповна, оставшись одна, долго смеялась. Ни она, ни Гоголь понятия не имели, какой мистический характер примет их дружба в недалекие годы.
В день, назначенный для чтения «Мертвых душ», Николай Васильевич расположился в гостиной Александры Осиповны с таким видом, будто случайно, скуки ради, сюда забрел.
Нетерпение собравшихся заметно нарастало, – Гоголь, кажется, и вовсе забыл о данном обещании.
– Что бы такое прочесть вам, господа? – вдруг осведомился он, как будто только сейчас пришло ему в голову подобное намерение.
Николай Васильевич раскрыл портфель. Теперь каждый мог убедиться – закладки между страницами «Мертвых душ» были положены заранее.
Чичиков и Манилов, пустившись в дальний путь, сочли долгом посетить петербургскую гостиную ее превосходительства Александры Осиповны Смирновой. Казалось, сам Павел Иванович Чичиков, изящно изогнув стан, расшаркивается перед хозяйкой дома. Изображая Манилова, Гоголь легонько помахивал рукой, и всем отчетливо привиделось, как расползались клубы табачного дыма. Но еще большего совершенства достиг автор, передавая разговор двух губернских дам – дамы просто приятной и дамы приятной во всех отношениях.
Читая, Николай Васильевич покосился на Смирнову. Но что могла ответить Александра Осиповна, если ее душил смех? Впервые за свою жизнь она побывала запросто в обществе губернских дам и присутствовала при обсуждении фестончиков и прочих секретов моды.
Но едва только дамы из губернского города NN успели обменяться важнейшими мыслями, Николай Васильевич закрыл книгу. Посидел короткое время с привычно строгим, пожалуй, даже равнодушным лицом и, не дослушав восторженных похвал, собрался на уход.
На чтении «Мертвых душ» в гостиной ее превосходительства Александры Осиповны Смирновой не присутствовал, конечно, Виссарион Белинский. Не вхож сюда литератор-разночинец.
А встретиться с ним Гоголю непременно надо. Еще из Москвы писал об этом Николай Васильевич. Правда, писал не самому Белинскому, а передал через Прокоповича. Прокопович и Белинский близки, – стало быть, не все ли равно, кому написать?
Странно складывались отношения Гоголя с критиком, который раскрыл неразрывную связь его созданий с болями и скорбями России. Кто не согласится, что их нужно врачевать? Но как? Тут Гоголь не раз в смущении откладывал статьи Белинского, хотя критик никак не мог сказать в подцензурной печати о той единственной скребнице, которая может очистить Русь от скверны.
У Белинского не было, пожалуй, более внимательного читателя, чем Гоголь; у Гоголя не было более прозорливого союзника, чем Виссарион Белинский. Но очень редки их встречи.
Глава шестнадцатая
На следующий день Гоголь пришел к Прокоповичу. Много говорил о будущем издании своих сочинений, заботливо касаясь каждой мелочи. Потом, передавая тетрадь с повестью об Акакии Акакиевиче Башмачкине, еще раз ее перелистал.
– Где надо будет, выправь в «Шинели» промашки в слоге. У меня теперь другое на уме. Пока не кончу «Мертвые души», буду мертв для всякого иного дела. «Хвосты» же к собранию сочинений пришлю тебе из-за границы. Здесь никак не успею, а ты, знаю, во всем разберешься. Это я тебе говорю, ты же слову моему верь, и все тебе дастся. – Помолчал и спросил с нетерпением: – Белинский обещал быть?
– Будет, конечно, если ты назначил.
– Добре!
Белинский вскоре пришел. Он только что прочел, не отрываясь, «Мертвые души». С этого, конечно, и начал.
– Не торопитесь с суждением, – перебил его Гоголь. – Никто не может обнять поэму с первого чтения.
– Кто будет с этим спорить, Николай Васильевич? Воистину необъятное творение – «Мертвые души». Читаешь и ловишь себя на мысли: все вами же ранее написанное кажется теперь бледным.
Гоголь слушал не перебивая, будто забыл о только что сделанном предупреждении.
– Надобно кровно породниться с поэмой, прежде чем решиться о ней говорить. Не боюсь признаться, однако: вихрем поднимаются мысли. – Белинский с трудом сдерживал свой порыв. – Не буду скрывать, Николай Васильевич, я шел к вам еще и для того, чтобы разрешить неотступное мое сомнение…
Гоголь пристально на него посмотрел, сказал с беспокойством:
– Слушаю вас…
– Неужели же, – начал Белинский, – в сем самом Чичикове, как сказано в «Мертвых душах», в холодном его существовании, заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека перед мудростью небес? Да какие небеса, Николай Васильевич, могут возродить в Чичикове человека?
– Две большие части поэмы впереди, – уклончиво отвечал Гоголь. Вопрос Белинского предвосхитил его мысли. – Почему ж не спросите вы и о Плюшкине, например, или о многих других? Открою вам за тайну: прежде всего самому автору нужно заняться воспитанием душевным. Только тогда возродятся его герои. Но все это – далеко впереди, так далеко, что сам не вижу всего пути.
Гоголь говорил тихим голосом, прерывая речь кратким молчанием. Казалось, он слышит то, чего не дано слышать собеседнику. Участвуя в разговоре, уходил в себя: словно бы ничтожны стали все речи перед величием истины, ему открывшейся.
– Поверьте мне, – снова начал Гоголь, – тайна существования не только Чичикова, но даже Плюшкина сама собой разрешится, когда придет время. Полное значение лирических намеков в поэме не раньше раскроется всем, как выйдет последняя часть. До тех пор опрометчиво будет всякое слово, как тщетны и попытки наши примирить мечтания с существующими настроениями. Все мы должны для этого нравственно возродиться.
– Не вернее ли было бы для начала, Николай Васильевич, истребить те проклятые неустройства? Иначе каждый Чичиков всегда останется Чичиковым, разве только станет больше и удачнее приобретать. Жизнь свидетельствует о том с неумолимой очевидностью.
Гоголь молчал, прикрыв глаза. В молчании чувствовалась и холодность, и отчуждение.
Со смутным чувством Белинский перевел разговор:
– Странная судьба у нашей словесности, Николай Васильевич! Она украшает вашими произведениями страницы «Современника» и «Москвитянина» и лишает их «Отечественные записки».
– Помнится, вы уже писали мне о том в Москву. – Гоголь нахмурился. Не станет же он объяснять, как вырвал у него «Рим» немилосердный Погодин, как послал он «Портрет» Плетневу, отчаявшись получить от него хотя бы одно слово о судьбе «Мертвых душ». Как же можно упрекать человека, не зная всех обстоятельств?
– Не ставлю слишком высоко «Отечественные записки», – продолжал Белинский, – но не буду и умалять их. Скажу напрямки, Николаи Васильевич, это единственный журнал, на страницах которого звучит смелое слово.
– Только крайность могла заставить меня участвовать в журналах, – с неохотой отвечал Гоголь. – Ныне же скорее отрублю себе руку, чем поддамся даже крайности… Любопытно знать, однако, как судите вы о «Риме»? Я дорожу каждым мнением, тем более вашим. – Гоголь снова заметно оживился.
– Тогда не поставьте мне в упрек мои сомнения. Не могу я принять многое из того, что сказано в повести о Франции и Париже. А вам ли, зоркому путешественнику, не знать тамошней жизни!
Гоголь поднял глаза, но ничего не сказал.
– Так неужели же, – продолжал Белинский, – во Франции можно увидеть только намеки на мысль и отсутствие самих мыслей, полустрасти – вместо страстей, страшную пустоту в сердцах и, наконец, отсутствие, как сказано у вас, величественно-степенной идеи? Я помню каждую строку и знаю, что ничего не исказил. Неужто же Францию со всем величием идей, рожденных в бурях революции, должно упрекать в том, что идеи эти отличаются стремительным развитием на благо человечеству? Можно ли, – воскликнул Белинский с горечью, – великую страну с великим прошлым уподобить, как написано в «Риме», легкому водевилю или блестящей виньетке?!
– Напомню вам, – Гоголь, вопреки обыкновению, не уклонился от спора, – что к этому выводу приходит в «Риме» итальянский князь после знакомства с Парижем. Автор повести за него не отвечает.
– Полноте, Николай Васильевич! Ваше сочувствие этим мыслям не ускользнет от читателя. Иначе автор нашел бы способ опровергнуть своего героя. Не вы ли, знакомя нас с героями «Мертвых душ», не боитесь произнести над ними приговор?
– Стало быть, был я прельщен гордыней, – отвечал Гоголь с неожиданным воодушевлением. – Есть только один судья небесный для всех и каждого из нас, – Гоголь поднял руку, словно призывая в свидетели небесного судью.
И снова взглянул на него Белинский со смутной тревогой. Давно ли, в Москве, Гоголь говорил ему о своей непокорной лире? Хотел было спросить Виссарион Григорьевич: неужто только и остается русским людям, что ждать сложа руки, пока судья небесный поразит всех Чичиковых? Гоголь словно угадал его мысли.
– Давеча, – сказал он, – вы, Виссарион Григорьевич, спрашивали меня о Чичикове, и я ответил вам, что прежде всего мне самому нужно заняться моим душевным воспитанием. До тех пор, пока не подвигнусь сам, многое будет несовершенно, односторонне и даже ложно в моих созданиях.
С душевной мукой вырвалось у Гоголя неожиданное признание. Глубокое страдание отразилось на его лице. Будто изнемог человек, проживший долгие годы в том омуте, где копошатся и Чичиковы, и ноздревы, и маниловы, и собакевичи. Потом, к удивлению Белинского, вдруг сказал спокойно и деловито:
– Что еще скажете о «Риме»?
– Многое, Николай Васильевич! Возвращается князь из Парижа в родную Италию. Читаешь эти страницы, и кажется – сам ходишь по Риму. Все дышит полнотой действительности: и старые, запущенные дворцы, и рыжий капуцин, и все эти синьоры, переговаривающиеся утром через улицу из своих окон. Все кипит жизнью!
– О, эти итальянские синьоры и синьориты! – откликнулся, улыбаясь, Гоголь. – Когда я писал «Рим», они без умолку и без стеснения тараторили мне в уши. Но не в том суть повести, пусть и незаконченной.
– А в чем же? – Белинский опять насторожился. – Не в том ли, Николай Васильевич, что, по вашим же словам, европейское просвещение еще не коснулось итальянского народа и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования? Само духовное правительство в Риме вы справедливо называете странным призраком минувших времен и тут же говорите, что это духовное правление осталось для того, чтобы до времени в тишине таилась гордая народность итальянцев. Да как же сочетать одно с другим? Стало быть, монах, сидящий на папском престоле, и вся армия священнослужителей призваны сохранить народность? Ведь после этого надобно признать, что и наше русское самовластье – тоже ведь наследие времен минувших – и все его прислужники в чиновничьих вицмундирах или помещичьих архалуках также надобны для сохранения нашей народности? Но сами же вы показали, Николай Васильевич, губительную силу мертвых душ для судеб народных!
– Прошу вас, – настоятельно перебил Гоголь, – не будем спешить с суждением о «Мертвых душах». Уверяю вас, очень многое и важное еще скрыто в будущем развитии поэмы. Никто этого будущего развития не в силах угадать. Я первый об этом говорю. И касательно «Рима» могу повторить: вы впадаете в ошибку, нередко присущую критике. Не смешивайте с мнением автора повести те мысли, которых держится в ней итальянский князь как представитель отсталой нации.
– Отсталой?! – переспросил Белинский. – Но если это так, пусть же скорее осенит эту отсталую нацию просвещение! Я бы не взял на душу грех называть просвещение только холодным усовершенствованием.
Гоголь снова прикрыл глаза. Может быть, даже не слышал горячей речи собеседника. Долго ждал ответа Виссарион Белинский.
– Вы ничего еще не сказали о «Портрете», – прервал молчание Гоголь. – Прежде вы отнеслись к этой повести с неодобрением. Каково ваше мнение теперь, когда я переработал «Портрет» заново?
– И когда, увы, явился «Портрет» на страницах «Современника», давно потерявшего право на имя, данное Пушкиным? Что я могу и теперь сказать о «Портрете»? Неминуема гибель таланта, прельстившегося золотом. Но к чему вся эта чертовщина? И таинственный ростовщик, и старый портрет, и загадочное его исчезновение на аукционе… Гибель художника, погнавшегося за деньгами, происходит в жизни куда проще. Золотой телец не нуждается в фантастике, но оттого только страшнее становится гибель его жертв. Но дивно хороша, Николай Васильевич, к примеру, та сцена в «Портрете», – Белинский вдруг рассмеялся, – где квартальный надзиратель рассуждает о картинах. Воистину гениальный эскиз!
– Да, – подтвердил Гоголь. – Квартальные надзиратели как-то издавна пришлись мне с руки.
– Только ли квартальные, Николай Васильевич? И «Портрет», и «Рим» – все сейчас отступит перед «Мертвыми душами». Решительно все! Не знаю я, что будет далее в поэме. Но все, что до сих пор написано в ней, никто, даже вы сами, не в силах изменить, как судья, который произнес приговор во всеуслышание.
И тут, глядя на Гоголя, забыв все смутные впечатления от разговора, Белинский сказал, сам смущаясь своего порыва:
– Вся любовь моя к творчеству связана с вашей судьбой, Николай Васильевич! Не будет вас – и прощай тогда для меня и настоящее и будущее в нашей художественной жизни. Нельзя жить без ваших созданий.
В глазах Гоголя зажглись теплые огоньки. Но тотчас и погасли от какой-то тяжелой думы.
– Да поможет и вам и мне милосердный бог! – тихо, едва слышно сказал он.
– Бог?! – Белинский ответил строками из любимого «Демона»:
Он занят небом, не землей…– Не кощунствуйте! – в ужасе перебил Гоголь. – О, вы еще не знаете, какую дань платите дьяволу! Вы не знаете, какие страшные сети готовит он для тех, кто возводит хулу на духа! – Гоголь весь трепетал, объятый ужасом.
И снова с тяжелым недоумением и тревогой взглянул на него Белинский: что творится с автором «Мертвых душ»?
В комнату вошел Прокопович и стал зажигать свечи.
– Вот и кстати, Николаша! – Гоголь на глазах Белинского опять переменился. – Беседовали мы тут с Виссарионом Григорьевичем о разном, – сказал он бодрым голосом. – А теперь хочу при тебе его просить. Я очень тороплюсь с отъездом, – обратился он к Белинскому, – а Прокоповичу оставляю хлопотливое дело. Знаю ваше доброе к нему отношение, но и со своей стороны прошу: при надобности помогите человеку, вступающему на стезю книгоиздателя.
Только тогда, когда Гоголь пожал на прощание руку Белинскому, он сказал таинственно, словно вернулся к недавнему разговору о «Мертвых душах»:
– Верьте мне, все объяснится во времени.
Глава семнадцатая
А может быть, и прав был Гоголь, когда советовал не спешить с суждением о «Мертвых душах»?
Но как можно ждать! На «Мертвых душах» неминуемо произойдет жестокая битва. Виссарион Белинский готов первый эту битву начать.
Автор «Мертвых душ» не повинен в грехе прекраснодушия. Тот, кто обличает гнусную русскую действительность с такой беспощадностью, не может поверить в утешительные пластыри.
А потом вспомнился разговор с Гоголем, загадочные его пророчества о будущих частях поэмы, то настороженные, то блуждающие взоры, уклончивые ответы. Все это еще больше подчеркивало туманный характер обещаний, проскользнувших в «Мертвых душах». Какое же смятение объяло душу писателя? Куда он смотрит, о каком нравственном самовоспитании говорит? Неужто Гоголь не хочет видеть плодоносных идей, рожденных временем? Идеи эти тем сильны, что живут в непрерывном развитии на благо людям, а Николай Васильевич – прошу покорно! – толкует о какой-то величественно-степенной идее. И словечко же придумал!
Потом опять развертывал Белинский «Мертвые души» и не мог оторваться, смеялся неудержимо и гневно, приговаривая:
– А вот и досталось же всем величественно-степенным идеям, ох досталось!
Статья писалась легко, вдохновенно.
А тут нежданно и негаданно приехал из Москвы Василий Петрович Боткин. Обнялись, расцеловались.
– Ну как, Боткин? – спросил Белинский и побледнел. – Каково твое впечатление от знакомства с Мари?
Василию Петровичу незачем торопиться. Рассказал, как получил приглашение не к мадам Шарпио, конечно, а к известной Виссариону Григорьевичу особе…
– Не мучай меня, Боткин, – перебил Белинский, – мне, брат, право, не до шуток!
– Какие же шутки? – невинно отвечал Боткин. – Я не замедлил с визитом, и знакомство состоялось…
– Да замолвил ли ты какое-нибудь доброе словечко за меня?
Василий Петрович, занятый раскладкой вещей, обернулся:
– Бывают обстоятельства, когда слова не имеют никакой цены. Не боюсь быть пророком – ты победил, Виссарион!
Но Белинский, казалось, все еще боялся поверить.
– Экой ты, брат! – повторял он. – Изволь все толком доложить, по порядку.
Но нескоро дождался такого разговора Виссарион Григорьевич.
Гость рассказывал о многих московских новостях, и о друзьях, и о недругах. Вспомнил, что Шевырев и Погодин до сих пор беснуются из-за «Педанта», а Загоскин, кажется, серьезно ждет, когда же поразит Белинского господь бог, и о том творит ежедневную молитву и ставит свечи в церквах.
– Да она-то, она-то что говорила обо мне? – Белинский задыхался от волнения.
Много рассказывал Боткин. И даже тогда, когда он возвращался к встрече с Мари, постоянно отвлекался. Видимо, он не придавал этой встрече никакого значения. Белинский слушает рассказы Боткина и вдруг спросит:
– Не говорила ли Мари еще чего-нибудь? Не упустил ли ты, Боткин, какую-нибудь подробность?
– Что же тебе еще сказать? С Марьей Васильевной охотно говорится, и натура ее, думаю, доступна многому. – Обобщая свои впечатления, Василий Петрович не мог не прибавить: – Но, вероятно, ей уже за тридцать, а такие годы страшны для девушки: она, увы, уже не обладает пленительной свежестью. – Доведись бы ему, Боткину, не мог бы ощутить к ней Василий Петрович всю полноту чувств.
– Чудак ты, – снисходительно улыбался Белинский. – Когда захочешь заняться словоблудием насчет полноты чувств, воззри прежде на свою лысину. Души, Боткин, тоже лысеют. Однако помни: не у всех. Говорила ли тебе Мари, что о «Демоне» у нас с ней был разговор? Это, брат, тоже насчет чувств, только такой полноты вам, лысым, не понять. – И снова улыбался счастливой и треножной улыбкой.
Несмотря на приезд дорогого гостя, Виссарион Григорьевич редко отходил от рабочей конторки. Боткину и прочитал он свою статью о «Мертвых душах».
– Вот тут-то, – еще раз повторил Белинский, кончив чтение, – и начнется борьба старых мнений с новыми, борьба предрассудков, страстей и пристрастий – с истиною… Ох, не надо бы Гоголю покидать отечества!
…Автор «Мертвых душ» добрался тем временем до Берлина.
Из Берлина во Франкфурт-на-Майне, где жил давний друг Василий Андреевич Жуковский, пошло письмо, отправленное вместе с поэмой.
«…Не могу не видеть ее малозначительности, – писал Гоголь, – в сравнении с другими, имеющими последовать ей частями. Она в отношении к ним все мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах…»
Но дворца еще нет, и какой он будет – неизвестно. Где найдет строитель драгоценные мраморы? Ответа нет.
Николай Васильевич Гоголь занят тем, что ищет пособия у светил немецкой медицины. Он внимательно выслушивает их противоречивые советы, но лучше всех медиков знает, что есть единственное средство, которое исцеляет его душевные силы.
Все равно, куда ехать, только бы ехать, пока не отстанет в пути необъяснимая тоска, от которой цепенеет ум и перо выпадает из обессилевшей руки. Спасаясь от этой тоски, покидает Гоголь временное пристанище и снова занимает место в почтовой карете, плывет на пароходе или пользуется железными дорогами, которые все теснее связывают между собой города Европы.
При путешественнике – небольшой чемодан, в котором умещается все достояние странника, а в портфеле – будущий колоссальный дворец. Там – разгадка его существования.
Кто, однако, эту загадку разгадает? Для чего, подумают, выставил автор всю страшную тину мелочей, опутывающих нашу жизнь, для чего дерзнул выставить их выпукло и ярко на всенародные очи? Но разве только теперь, только в «Мертвых душах», автор заглянул, содрогаясь, в бездонный омут жизни? В поэме о мертвых душах все только полнее, резче осветилось и появилось новое лицо – приобретатель. «Приобретение – вина всего», – сказал автор «Мертвых душ». Приобретение калечит и тех, кто приобретает, и тех, кто угодливо служит счастливо приобретшему.
Миллионщик, например, имеет ту выгоду, что может видеть подлость, даже совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах. Многие хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют права получить, но непременно забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на обед, когда узнают, что приглашен миллионщик.
В «Мертвых душах» суетится неоперившийся приобретатель Чичиков. Но две большие части – впереди. Что скажет далее писатель, начавший речь о миллионщиках? Далеко удалился Гоголь от Петербурга, когда въехал вместе с Чичиковым в губернский город NN. Но все тот же перед Гоголем мир обыденности, все тот же омут, подернутый тиной повседневности. Вырвется из него автор «Мертвых душ»; раздастся вдохновенное слово: «Вперед!» Птицей-тройкой обернется Русь. Русь, куда несешься ты? Дай ответ!
Автор поэмы всматривается в будущее. Как освободиться людям от тины, опутавшей жизнь? Как превратить омут жизни в колоссальный дворец, где всем будет светло и привольно? Кто, как не автор, должен сказать святую правду? Ответа нет.
Только еще раз может повторить Гоголь то, что уже сказал:
«И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громаднонесущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!»
Часть вторая
Глава первая
Летом плохо раскупаются книги, а в журнальных редакциях едва теплится жизнь. Не то было летом 1842 года, когда вышли в свет долгожданные «Мертвые души».
Вот оно, прогремело!
«Вдруг, – писал Белинский в «Отечественных записках», – словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности, и дышащее страстною, нервистою, кровною любовью к плодовитому зерну русской жизни…» .
– Грязь! Карикатура! Клевета!.. – вопили, равняясь по единому камертону, благонамеренные критики благонамеренных петербургских журналов.
Эти яростные нападки только еще больше подтверждали оценку Белинского:
«Творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, – и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое».
Социальную направленность поэмы Гоголя хорошо понимали и те, кто стоял на страже прав и привилегий мертвых душ.
«Северная пчела» и «Библиотека для чтения» поносили Гоголя без всякого приличия и с безудержной злобой.
«Москвитяне» выжидали и прислушивались.
Поклонники изящного с недоумением спрашивали: кто же составляет поэму из грязи, подобранной в закоулках?
– Чего теперь ждать? Единственно светопреставления! – восклицали возмущенные владельцы ревизских душ.
Почитатели «чисто русского» направления приводили в пример Загоскина: написал прославленный автор «Мирошева» – тут тебе и мораль, и обличение вольнодумства, поучительные мысли и поэзия, – что же может против Михаила Николаевича Загоскина какой-то Гоголь?
– Гоголь, – объяснял негодующим Степан Петрович Шевырев, – показал Русь только вполохвата и преимущественно с темной стороны, но непременно покажет отечество во весь охват. Не зря же внес автор в поэму строки о том, что почуются иные, небранные струны, что предстанет несметное богатство русского духа.
Профессора Шевырева тревожило другое. Придется сказать Николаю Васильевичу, хоть и позолотив пилюлю: пока что изобразил он город фантастический, не имеющий ничего общего со здоровой существенностью русской жизни. Но, прежде чем говорить о Гоголе, надо было расправиться с Белинским. Он опять ударил во все колокола. Понимает, что на его мельницу работает Гоголь, увязший в обличениях.
Стоило вспомнить о Белинском, как статья профессора Шевырева для «Москвитянина» излилась сама собой.
«Из тесных рядов толкучего рынка, – писал Степан Петрович, – выскочило наглое самохвальство в виде крикливого пигмея с медным лбом и размашистой рукой…»
Надо было еще раз отдышаться, прежде чем продолжать. Рассуждения же собственно о «Мертвых душах» профессор-эстетик заключил советом Гоголю:
«Одно из первых условий всякого изящного произведения искусства есть водворение полной блаженной гармонии во всем внутреннем существе нашем, которая несвойственна обыкновенному состоянию жизни».
Конечно, автору «Мертвых душ» было очень далеко до такой гармонии. А рассуждения Шевырева можно было принять за парение мысли одного из героев «Мертвых душ», если бы только Манилов был хоть сколько-нибудь сведущ в тайнах эстетики.
Профессор Погодин в свою очередь выражал мнение о «Мертвых душах» с завидной определенностью:
– Выстроил Гоголь длинный коридор и ведет по нему читателя. Открывает двери направо и налево и показывает сидящего в каждой комнате урода… Все уроды! Все подлецы!
Словно бы и этот профессор Московского университета тоже заимствовал манеру выражения у Собакевича. Некоторое же раздражение издателя «Москвитянина» можно было вполне объяснить тем обстоятельством, что так и не удалось ему урвать для своего журнала ни единой строки из гоголевской поэмы. Надо полагать, хозяйственный Собакевич не дал бы такой промашки.
Давно ли покинул Гоголь отечество, а его герои уже жили своей жизнью не только на книжных страницах. Они ездили по московским улицам и беседовали в московских гостиных.
Как можно было обойтись без Манилова, когда в славянофильской говорильне начинался разговор о будущих видах России? Тут бы и вступил в ученый разговор господин Манилов:
– Я, конечно, не имею высокого искусства выражаться, но, чувствуя сердечное влечение и, так сказать, магнетизм души… – После чего, зажмурившись от восторга, предложил бы воздвигнуть монумент любви и единомыслия в каждой усадьбе.
Посмотрел бы Манилов еще раз вокруг себя со всей значительностью и, пустив из чубука новую струю дыма, закончил бы речь:
– Чтобы можно было подле того монумента, так сказать, воспарить и углубиться…
Впрочем, московские философы чаще рассуждали не о туманном будущем, а о язвах действительности.
Приверженцы Запада действовали открыто в самой Москве. Взять хотя бы молодого ученого Грановского. До сих пор лекции в университете читает, отщепенец! И науку такую себе выбрал – историю народов Запада. Не зря, конечно, выбрал, – в укор отечеству. А Василий Петрович Боткин! Сын почтеннейшего купца, но стыдно сказать – строчит статейки в «Отечественные записки» и водит дружбу с Белинским. А тут еще вернулся в Москву сын достоуважаемого Ивана Алексеевича Яковлева, правда, незаконный сын, так сказать, с левой стороны, и дважды ссылавшийся правительством за вольнодумство. С чего же начал этот незаконнорожденный Ивана Алексеевича сынок, получивший вместо отцовской фамилии какую-то чужеземную кличку – Герцен? Допущенный по милости безрассудного правительства в Москву, Герцен явился по старой памяти к Хомяковым и дерзнул сразу же вступить в спор.
Да разве всех западников перечтешь? Но когда говорили о них господа славянофилы, тут не оставалось места для засахаренных речей Манилова. Тут раздавались короткие, но решительные суждения Ноздрева или Собакевича. Конечно, рассуждали москвитяне с большей ученостью, но примерно с теми же словесными фигурациями:
– Все они, западники, – фетюки, гоги и магоги, а попросту сказать – христопродавцы. Такова у них и нравственность и наука – просто фук! Задать им, собакам, на орехи!
Автор «Мертвых душ» уже не ездил в говорильню к Хомяковым. Но и будучи в чужих землях, еще раз мог бы воскликнуть:
– Русь, вижу тебя из моего далека!
Гоголь давно покинул Берлин и приехал в Гастейн, к поэту Языкову. Только свиты, с которой обещал он явиться к больному, не оказалось. А может быть, забыл о ней Николай Васильевич. Очень был занят в Гастейне. Усердно посылал в Петербург Прокоповичу «хвосты» – поправки и дополнения к собранию своих сочинений. Работа спорилась. Спасительная дорога опять помогла.
В России книжные лавки бойко торговали «Мертвыми душами». А ноздревы, маниловы, собакевичи появлялись повсеместно и в самых различных обличьях, порой сменив затрапезную венгерку или архалук на сюртук модного столичного покроя.
Только Плюшкин, пожалуй, никуда не выезжал. Но, может быть, из другой дальней деревни опять двинулся в дорогу экипаж, похожий на арбуз, поставленный на колеса. Мало ли какие новые хлопоты и беспокойства могли случиться у губернской секретарши Настасьи Петровны Коробочки. Ох, неопытное вдовье дело!
А дорожный арбуз Настасьи Петровны наверняка повстречал бы в пути диковинного товарища, похожего на выдолбленную тыкву, тоже оказавшуюся по странности на колесах.
Давно уехал от Ноздрева зять Мижуев, а все еще не успел, поди, рассказать жене о том, что видел на ярмарке, недаром и обозвал его Ноздрев фетюком. Семен же Иванович непременно привернул к соседям… Как, вы не знаете Семена Ивановича? Да ведь это тот самый Семен Иванович, который носит перстень на указательном пальце и всегда дает его рассматривать дамам. Зато и дарят Семена Ивановича вниманием все дамы губернского города NN.
Если же хотите видеть Кифу Мокиевича, поезжайте к нему домой. По умозрительности занятий Кифа Мокиевич все еще не решил философского вопроса: «Если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать…» И хоть неожиданно, как из окошка, выглянул Кифа Мокиевич в конце поэмы, кто ж его забудет?
Удивительное дело! Попались люди под перо какому-то сочинителю, а имена их будут жить куда дольше, чем если бы записаны были они даже в Бархатную родословную книгу.
Но, ничего не ведая о будущем бессмертии, суетятся или разъезжают по надобности странные герои «Мертвых душ».
Глава вторая
А куда же скрылся Павел Иванович Чичиков после того, как в спешке покинул губернский город NN?
Если по-прежнему интересуется Павел Иванович деликатными негоциями, тогда почему бы не заехать ему в имение отставного генерала Негрова? Правда, никогда не высказывал Чичиков такого намерения, однако сколько раз сбивался с дороги и попадал по прихоти кучера Селифана совсем не туда, куда держал путь. Заехать же к Негровым, право, стоит.
И угодил бы Павел Иванович к Негровым как раз вовремя. Алексей Абрамович поспал после обеда в охоту, а до ужина еще далеко. И супруга его, Глафира Львовна, тоже особенно томится под вечер от деревенской скуки: хоть бы кто-нибудь приехал!
И – чу! Колокольчик! Колокольчик все ближе – и к дому подкатывает чья-то бричка.
– Питая уважение к доблести воина, счел долгом лично представиться вашему превосходительству, – говорит генералу Негрову Павел Иванович Чичиков и, отрекомендовавшись, ловко подходит к ручке Глафиры Львовны.
– Ах, Павел Иванович, добрейший Павел Иванович! – восклицает Глафира Львовна с ужимкой, которая очень удавалась ей в незапамятные времена. – Мы так рады счастливому знакомству! Такое incommodité{Неудобство (франц.)} жить при образованности в деревне!
А потом, когда в разговоре с хозяином с глазу на глаз коснулся бы Чичиков известного предмета, может быть, и долго не мог бы взять в толк Алексей Абрамович, куда клонит новый знакомец:
– Да ведь мертвые души, прямо сказать, дрянь.
– Не совсем, однако, дрянь, – ответствовал бы Павел Иванович с той почтительностью, какая подобает высокому чину Алексея Абрамовича.
Если же заинтересовался бы Чичиков, кроме мужского пола, еще и женским, занесли бы в реестр покупки не какую-нибудь Елизавет Воробей, которую в свое время подсунул покупщику Собакевич. Записали бы в реестре действительно существовавшую и свершившую земной путь дворовую девку Авдотью Барбаш, ту самую, которая умерла от беспредметной тоски после того, как Алексей Абрамович возвел ее в звание барской барыни. Было это, однако, давным-давно, еще до женитьбы Алексея Абрамовича на Глафире Львовне. О тех временах напоминает разве лишь юная Любонька, приходящаяся генералу родной дочерью, но с левой стороны. А потому и живет Любонька в доме Негровых на правах, вернее, в бесправии, барской воспитанницы.
Но никогда не попадет дворовая девка Авдотья Барбаш ни в какие реестры. Павел Иванович Чичиков по-прежнему не интересуется при покупках женским полом. А Алексей Абрамович наверняка забыл при охлажденных летах про какую-то Дуняшку…
Снова расшаркивается, прощаясь, Павел Иванович и ловко подходит к ручке Глафиры Львовны.
– Приезжайте, милейший Павел Иванович! Мы так рады вашему знакомству!
Чичикова провожают к бричке; кучер Селифан подбирает вожжи.
– В город! – приказывает Павел Иванович и, оборотясь, шлет дому Негровых воздушный поцелуй.
В городе заехал бы Чичиков к председателю палаты, а может быть, переодевшись после дороги, попал бы прямехонько на бал к губернатору. Впрочем, Павел Иванович не очень одобрял препровождения времени на балах. После же памятного столкновения на губернаторском балу с Ноздревым наверняка предпочел бы Чичиков привернуть к полицмейстеру, известному своим радушием.
А полицмейстер как раз и скачет навстречу. Но что это? Полицмейстер, положительно, не тот, хотя и похож на прежнего всеми ухватками… Свят-свят-свят! Да ведь и на гостинице никогда не было вывески с загадочным названием «Кересберг»!
Долго бы пришлось почтенному Павлу Ивановичу сидеть в бричке в полном недоумении. А может быть, и пообещал бы он высечь мошенника Селифана.
Но ни в чем не был повинен на этот раз кучер Селифан. Не было и разговора подле гостиницы с загадочным наименованием «Кересберг». Да и к Негровым Чичиков никогда не заезжал.
Если говорить правду, то и сам Алексей Абрамович Негров и все его семейство существуют только в воображении, вернее, в рукописи молодого сочинителя Александра Ивановича Герцена.
Сидит Александр Иванович в отчем московском доме на Сивцевом Вражке и перебирает мелко исписанные листы.
– Ты опять взялся за роман? . – с надеждой спрашивает у него жена, заглядывая в рукопись через мужнее плечо. – Как я рада, Александр!
– Нет, Наташа, – отвечает Герцен, – ни единой новой строкой не могу похвастать. «Мертвые души» с ума нейдут. Открою свое писание и воображаю: что, если бы среди моих героев вдруг явился собственной персоной Павел Иванович Чичиков? Праздная, может быть, мысль, а удержаться никак не могу.
– Вот славно! – Наталья Александровна смеется. – Стало быть, Гоголь виновен в твоей лености? Но почему же ты оставил свой роман задолго до выхода «Мертвых душ»?
Может быть, и трудно было бы Герцену ответить на этот вопрос, но Наталья Александровна перебила сама себя:
– Господи, сколько пыли опять накопилось на твоих бумагах!
– А к тем картонам я и до сих пор притронуться боюсь, – Герцен указал на объемистые картоны, лежавшие на диване. – Помоги, милая, разобрать их.
Герцены только что вернулись в Москву из странствий, которые совершили не по своей воле. А въезду скромного отставного чиновника в Москву предшествовала грозная резолюция самого императора Николая I: «В Москве жить может, но в Петербург не приезжать и оставить под надзором полиции».
– Надо обратиться в совершенное ничтожество, – сказал Герцен жене, прочитав высочайшую резолюцию, – может быть, тогда оставят в покое.
– Ты никогда не будешь ничтожеством. Никогда! – ответила мужу Наталья Александровна.
Разговор происходил в Новгороде, перед выездом в Москву. Политический преступник Герцен, отбывавший в Новгороде уже вторую ссылку в своей жизни, одновременно был назначен здесь на довольно значительную должность советника губернского правления.
По должности своей советник Герцен должен был надзирать за поведением ссыльного, Герцена тож. Незыблемый порядок обратился в данном случае в злую иронию.
Вместо того чтобы следить за поднадзорными, советник губернского правления Герцен стал разбирать следственные дела, сданные в архив за неотысканием виновных. Советник Герцен проявил любопытство, которого не проявлял до него никто из чиновников губернского правления. Он раскрыл шкафы и стал читать аккуратно подшитые бумаги.
То была летопись помещичьих расправ с подневольными крестьянами. Казалось, неслись с этих листов крики неповинных жертв разнузданной фантазии мучителей. Продажные следователи спешили сдать дела в архив с соблюдением всей канцелярской формы, а «неразысканные» виновники преступлений снова творили в своих вотчинах кровавые дела и тщетно взывали к правосудию новые жертвы злодеяний.
Герцен закрывал одно следственное дело, чтобы открыть другое, и заболевал от сознания собственного бессилия.
– Всякое отмщение народное будет справедливо и оправдано!
Вероятно, это был единственный советник губернского правления в Российской империи, который пришел к такому выводу, хотя в каждой губернии, в каждом губернском правлении лежали груды подобных дел.
Тогда же и задумал свой роман Александр Герцен и, взявшись за перо, сказал:
– О ненависть, тебя пою!
Было это примерно за год до выхода в свет «Мертвых душ». Стало быть, события, разыгравшиеся в имении Алексея Абрамовича Негрова, произошли без всякого участия Чичикова. Да наверняка не возбудили бы они у Павла Ивановича интереса по полной несущественности. Всего и случилось, что Негровы наняли учителя для сына, появившегося на свет божий, в отличие от Любоньки, совершенно законно, с благословения церкви, от брака Алексея Абрамовича с Глафирой Львовной. Как же не порадеть родителю о просвещении наследника, коли завелась ныне такая мода?
Для того и был выписан из Москвы университетский кандидат Дмитрий Яковлевич Круциферский. В усадьбе Негровых молодой человек встретился с Любонькой.
А дальше все пошло естественным ходом: робкие разговоры, лунные ночи; стихи Жуковского. Чтение Любоньке «Ивиковых журавлей» прошло благополучно. Иначе случилось при совместном чтении «Алины и Альсима».
Задыхаясь, Дмитрий Круциферский еще мог прочесть пламенные слова:
…Ты будь моя на свете!..Но тут молодой человек, награжденный от природы душою нежной, зарыдал. Книга выпала у него из рук, и, одушевленный новой, неведомой силой, он едва мог выговорить:
– Будьте, будьте моей Алиной!
Любонька трепетала… Виноват ли в том Василий Андреевич Жуковский? Впрочем, как знать? Без его стихов все могло повернуться иначе.
Сама Глафира Львовна намеревалась разыграть с учителем деревенский роман, в котором романтические стихи не имеют никакого значения. Однако молодой человек оказался совершенно туп к прелестям запоздалой страсти, а отвергнутая Глафира Львовна не могла не воскликнуть:
– Какую змею я отогрела на своей груди!
Змеей оказалась, очевидно, Любонька.
От полноты неизрасходованных жизненных сил Глафиры Львовны досталось, конечно, и его превосходительству Алексею Абрамовичу; Алексей же Абрамович быстро смекнул: вот счастливый случай сбыть воспитанницу за учителя, – разумеется, не тратясь на приданое.
…Устраиваясь в Москве и разбирая бумаги, Александр Иванович Герцен нет-нет да и заглянет в свой роман или перечитает жене знакомые ей страницы.
– А я опять думаю о Чичикове, – смеется Александр Иванович. – Приведись ему узнать о предстоящей у Негровых свадьбе, не обратил бы он на это событие никакого внимания. Всего-то и жалует Алексей Абрамович от щедрот родительского сердца на обзаведение Любоньки чахоточного малого Николашку да рябую горничную Палашку. Какая тут может быть негоция?
Но Наталью Александровну интересуют другие, еще не написанные главы романа:
– Скажи, друг мой, найдет ли свое счастье Любонька?
– Прежде ты сама ответь: кто может быть счастлив в ночную мглу?
– А мы с тобой?
– Никакое исключение, родная, не колеблет общего правила. Подумай, как бы изменилась и наша жизнь, если бы мы могли дышать и действовать свободно. О, если бы!.. – Герцен вздымал руки, будто хотел порвать невидимые цепи.
– А я еще раз заступлюсь за Любоньку, – продолжала Наталья Александровна, – ведь ты сам написал про нее, что она тигренок, который не знает своей силы. Силы эти должны пробудиться…
– И тем хуже будет для Любоньки! Тем горше будет ее участь, если она не захочет примириться с мертвечиной нашей повседневности. А ленивые умом и сердцем, сочувствуя Любоньке, будут все валить на судьбу. А какая там судьба? – Александр Иванович говорил все горячее. – Рабство разъедает нашу жизнь, калечит все живое и честное. Вот и пусть задумаются люди: кто виноват?
Глава третья
Невесело встретил Александра Герцена отчий дом. Все больше замыкался от жизни богатейший московский барин Иван Алексеевич Яковлев; сидел безвыходно в кабинете, занимаясь лечением действительных и мнимых болезней.
В этом же кабинете, воздух которого был пропитан запахом лекарств, и произошла встреча отца с сыном, вернувшимся из ссылки. В свое время Иван Алексеевич, путешествуя за границей, набрался было вольного духа, – кто в молодости не грешил? Однако вовремя опомнился Иван Алексеевич – огромное состояние и обширные вотчины оказались могучим противоядием против опасных мечтаний. Давно бы пора взяться за ум и Александру.
Иван Алексеевич присмотрелся к сыну; бросил рассеянный взгляд на Наташу, которая, став его невесткой, не сделалась ему ближе; подивился короткую минуту на внука Сашку, которого привезли родители в Москву. Сашка, цепляясь за материнскую юбку, смотрел на Ивана Алексеевича еще с большим удивлением.
– Ну, устраивайся с богом! – объявил Иван Алексеевич после первых приветствий. – Поместитесь в малом доме, так и мне и вам будет удобнее.
Мысль о том, что его сын будет состоять под полицейским надзором, нарушала спокойствие Ивана Алексеевича.
– Ежели же, – продолжал он, обратившись к Герцену, – частный пристав или квартальный станут справляться о твоем здоровье, то объяви моим именем: сюда, в мое обиталище, им хода нет. Такого позора не потерплю!
Давно не может понять Иван Алексеевич, что творится с Александром. Жить бы ему беззаботно на отцовских хлебах, а он вместо того дважды угодил в ссылку, побывал и в Вятке и в Новгороде.
– Все еще в вольнодумцах ходишь, сударь? – спросил, не выдержав, Иван Алексеевич. – Так ведь теперь сам испытал: у нас с вольнодумцами шуток не шутят.
Герцен вспыхнул. Ответил родителю, что, побывав в изгнании, он окончательно утвердился в мысли: вся русская жизнь требует коренных перемен.
Иван Алексеевич слушал с нетерпением.
– Сказывают, ты еще и статейки пописываешь? – спросил он с холодной улыбкой. – Беспредметное, сударь, занятие.
И, высказав сыну все, что следовало, Иван Алексеевич обратился к доверенному слуге:
– Подай-ка мне вчерашние капли.
Родственная аудиенция была закончена. Иван Алексеевич дал знак об этом величественным движением исхудалой руки.
Сашка устремился на волю с такой быстротой, что мать едва успела схватить его за парадный кружевной воротник.
Двери кабинета Ивана Алексеевича наглухо закрылись. Долгожданных гостей перехватила мать Герцена.
Странно сложилась судьба Луизы Ивановны Гааг. Когда-то, путешествуя по Германии, Иван Алексеевич встретил ее, дочь мелкого чиновника. Ей едва исполнилось шестнадцать лет; она была моложе Ивана Алексеевича лет на тридцать. Но то ли по барской прихоти или действительному увлечению, привез ее Иван Алексеевич в Москву. Здесь и родила Луиза Ивановна сына Александра. Произошло это в грозное время – армия Наполеона приближалась к Москве. Юная мать вместе с грудным младенцем оказалась в дальней яковлевской вотчине одна, без языка, среди молчаливых, бородатых русских мужиков. Собственная гибель представлялась ей неминуемой. Как спасти сына? Только эта мысль поддерживала ее силы. Но Иван Алексеевич, как только отлетела от Москвы военная гроза, вспомнил о ребенке. Вместе с ним была возвращена и мать.
С тех пор живет Луиза Ивановна при Иване Алексеевиче на каких-то неопределенных, птичьих правах. Никто, начиная с хозяина дома, ее давно не замечает. Да и заботы самой Луизы Ивановны сосредоточились только на том, чтобы остаться неприметной тенью в пышных хоромах: сохрани бог, еще прогневается Иван Алексеевич!
В такие минуты Иван Алексеевич язвительно обращался к ней: «Барышня!» Весь яд этого обращения заключался в том, что Луиза Ивановна, не получив прав законной жены, числилась по бумагам девицей. Если же очень не в духе был Иван Алексеевич, то шутил еще язвительнее:
– Вы, барышня с сыном!..
II вот – долгожданный сын снова с ней.
Луиза Ивановна целовала и сына, и невестку, и внука, пугливо прислушиваясь: как бы не увидел эти нежности Иван Алексеевич…
Встреча с отцом не порадовала Герцена. На мать смотрел он с нежной любовью и горьким состраданием.
Молодые стали вить гнездо в малом доме.
Александр Герцен, надолго отлученный от Москвы, бросился изучать московскую новь. А где ее найдешь?
Московские сановники и неслужащие господа дворяне вечером, прежде чем сесть за карточный стол, перекидывались коротким словом об известных барских докуках: совсем избаловались мужики – где от барщины отлынивают, где оброка недоплатят.
Старая барственная Москва жила, по-видимому, своей неизменной жизнью. Ан нет! В этой пустопорожней жизни нарастали тревоги. В каком-нибудь имении на крыше барского дома вдруг взметнет огненным крылом красный петух, и взлетает тот петух все чаще и чаще: вчера кукарекал где-то в волжских деревнях, сегодня объявился в ближней подмосковной. Иному же владетелю приходится и совсем плохо: вызывай воинскую команду. Тут господа дворяне порядок знают и никаких новшеств не хотят, разве только чтобы побольше войска было наготове.
Но нашлись в Москве и такие философы, которые желают обновления жизни… стариной. Смотрят эти философы-славянофилы вроде бы в историю, но выдают за историю собственные мечтания; говорят о народности, но принимают за народность суеверия и пережитки; предрекают России своебытный путь развития, а как и чем живет народ, не знают и знать не хотят. Далеки барские гостиные от мужицких черных изб.
Наиболее прозорливые из славянофилов понимали, что именно в народе таится будущее России. Но после такого признания немедленно наделяли народ собственными мыслями, а потом приятно рассуждали о величии смиренномудрого народа-богоносца.
Если же эту картину несколько портил красный петух, гулявший по крышам барских усадеб, если нарушал сельскую тишину бой барабанов, с которым шли на вразумление народа-богоносца воинские команды, то был и здесь ясен славянофилам путь спасения: надо очистить Русь от новшеств, заведенных со времен Петра I, и вернуть отечество ко временам Гостомысла. Каков был премудрый Гостомысл, этого, по темноте преданий, никто знать не мог. Главное заключалось в древней русской самобытности. Какова была та самобытность, достоверно тоже никто не знал, и каждый живописал ее по собственному разумению.
Славянофилы, которые были посмелее, даже косились на правительство, наивно подозревая его в попустительстве западникам. Когда же говорили о самих западниках, сеющих смуту, тут готовы были московские философы применить древнейшее против крамолы средство – топор и плаху.
Александр Герцен не представлял себе, каким пышным цветом расцвела в Москве эта своебытная философия – помесь маниловских мечтаний, ученой схоластики, нетерпимости и мистицизма с привкусом лампадного масла.
Но и у своебытных философов не было единого взгляда на будущее. Если же что-либо и объединяло их без исключения, то это была лютая ненависть к Виссариону Белинскому.
– Они правы по-своему, – говорил Герцен жене, возвратись с очередной сходки у славянофилов. – Белинского можно или любить, или ненавидеть. Середины нет.
– А когда же Виссарион Григорьевич будет в Москву? – спрашивала Наталья Александровна. Она издавна питала к нему большую дружбу.
– Боткин твердо отвечает: обещал Белинский этим летом хоть пешком, да прийти в Москву.
Лето было в разгаре. Белинский в Москву не ехал.
Немногих прежних друзей застал, вернувшись из ссылки, Герцен. Невесело пенилось при встречах вино. Приветствуя изгнанника, вспоминали тех, кого раскидала жизнь в разные стороны.
Чаще всего ездил Герцен к Грановскому. Этот молодой преподаватель Московского университета обладал широким кругозором и нежной, мягкой душой. Совсем еще юная жена Грановского так же легко и естественно сошлась с Натальей Герцен. На дружеских встречах шумел неугомонный Кетчер. Одинокий бобыль, он так растворился в товариществе, что вне товарищества не мог провести дня. Позже других приезжал Василий Петрович Боткин. Суровый родитель по-прежнему не давал спуска сыну-приказчику, даром что стал сын знатоком искусства и литературы. На сходках не было Виссариона Белинского, но он постоянно напоминал о себе в каждой книжке «Отечественных записок».
Всех их славянофилы презрительно именовали западниками.
Но даже славянофилы, предававшие анафеме всех западников скопом, понятия не имели о том, какие ожесточенные распри вскоре у них возникнут. Некоторые из западников считали порядки, утвердившиеся в Западной Европе, едва ли не конечной и совершенной формой жизни. А Виссарион Белинский и Александр Герцен, например, вовсе не считали порядки западных государств ни конечными, ни совершенными. Они ясно представляли себе, что несут обездоленным самые красноречивые конституции, продиктованные властью капитала.
Но пока что битвы у московских западников происходили со славянофилами. Появился Герцен – бои ожесточились.
Константин Сергеевич Аксаков сам давал соблазнительные поводы для атаки. Это был воинствующий и неутомимый пророк, искавший битвы с неверными.
– Петербург, – объяснял Аксаков, – только резиденция онемечившихся царей, Москва – столица русского народа.
– Добавьте, – перебивал его Герцен, – что в Петербурге вас посадят в кордегардию, а в Москве отведут на съезжую. Как же не предпочесть патриархальную Москву?
Но пророк не любил шуток, когда дело касалось его веры. В ответ он начинал величание Москвы – столицы народа-богоносца. От восторга речь его прерывалась мистическими восклицаниями, смысл которых был понятен только самому пророку.
…Герцен, вернувшись домой, прошел в детскую. Там вернее всего найти Наташу. А Сашка, увидев отца, начал с жаром что-то лепетать. Трудно уловить течение его мысли, потому что скачет Сашкина мысль, как проворная блоха. Да еще изъясняется Сашка от внутреннего восторга какими-то междометиями.
Александр Иванович слушал сына с полной серьезностью.
– Совсем ты у нас славянофилом стал, – сказал Герцен, – как они тебя на помощь не зовут?
Сашка в недоумении замолчал, – должно быть, сам не мог понять: почему же не зовут его славянофилы?
– Фи… ли… фи, – лепечет Сашка и окончательно путается. Родители неудержимо смеются.
– Эх ты, философ! – корит Сашку отец.
Легко, конечно, укорить человека, когда у него всего три года жизни за плечами. Успеет, коли захочет, свести знакомство с философией. Пока что ему и собственной няньки довольно. А нянька тут как тут; запыхавшаяся, появляется она на пороге детской как раз вовремя: Сашка только что собирался прошмыгнуть вслед за родителями в отцовский кабинет.
– Куды? Куды? – кудахчет нянька. – Сам знаешь, не велено пущать.
– Вот истина, которую следует усвоить с колыбели каждому россиянину, – вмешивается, улыбаясь, Герцен и снова обращается к сыну: – Понял, философ?
А что же можно понять, если все-таки увели родители Сашку с собой?
Но только хотел было Сашка заняться в кабинете отцовскими рукописями, как тотчас услышал от него:
– Куда? Куда?
Вот и попробуй разобраться в противоречиях, которыми полон мир.
Глава четвертая
«Мы живем на рубеже двух миров – оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящих людей. Старые убеждения, все прошедшее миросозерцание потрясены – но они дороги сердцу. Новые убеждения, многообъемлющие и великие, не успели еще принести плода; первые листы, почки пророчат могучие цветы, но этих цветов нет, и они чужды сердцу. Множество людей осталось без прошедших убеждений и без настоящих».
Кто же может помочь людям? Наука! Наукой должна стать и философия. Выходит, вся существующая философия, созданная великими умами, не имеет права зваться истинной наукой? Да кто же мог такое сказать?
Отставной чиновник, состоящий под полицейским надзором, Александр Иванович Герцен сидит в кабинете на Сивцевом Вражке и перечитывает философский трактат, начатый им в Новгороде.
Признанные философы ищут истину, удалясь от треволнений жизни, чтобы не докучала суета сует полету мысли. А Александру Герцену пришла в голову дерзкая мысль: перевести философию в жизнь.
В сочинении Герцена появляются мысли одна еретичнее другой. Автор полагает, что философия должна служить массам. Никем не званный, Александр Герцен предъявляет философии неслыханное требование: она должна потерять свой искусственный язык, сделаться достоянием площади и семьи, стать источником действий каждого!
В трактате не сказано прямо, зачем зовет автор философию на площадь. Но он объяснит это в своем дневнике: философия должна стать революционной и социальной. Только тогда сможет стать она источником действий всех и каждого, только тогда будет служить массам.
Такой философии нет. Но она непременно родится! Для того и начал Александр Герцен еще в Новгороде философский трактат. Работа продолжается в Москве. В кабинете Герцена собраны сочинения знаменитых философов, начиная с Гегеля, а рядом поместились на книжных полках поэты, публицисты, историки, химики, физики, астрономы, естествоиспытатели.
Снова впал в ересь молодой человек! Ни один из заправских философов не станет охотиться на чужих полях. Нет никакого дела философии до видений поэтов. Пусть химики взбалтывают свои колбы. Кто из правоверных философов поставит рядом величавую «Логику» Гегеля и мятежные поэмы Байрона? Кто из философов будет тратить драгоценное время на то, чтобы заинтересоваться стачкой силезских ткачей или картофельным бунтом русских мужиков? Философия так же далека от всего этого, как небесные светила от обманных огней земли.
– А это и значит, – заявляет Герцен, – что философы, убегая от жизни, прикрывают молчанием торжествующее зло и, следовательно, потворствуют злу.
Философ-еретик, поселившись в доме на Сивцевом Вражке, разбирает рукописи. Наташа сидит неподалеку, приютившись на диване. За окном живет своей жизнью московская улица, а ей кажется, будто вернулись одинокие дни, проведенные с Александром в Новгороде. И совсем так, как бывало в Новгороде, Герцен, оторвавшись от рукописи, продолжает разговор.
– Великое дело – наука! – восклицает он и тотчас спрашивает, будто Наташа должна держать ответ за всех философов: – Но какова же будет наука, если двигают ее жрецы, коснеющие в предрассудках? Подумай, – есть великие творения, имеющие всемирное значение, и нет сколько-нибудь образованного человека, который бы их не знал. А вот цеховый ученый наверняка их не читал, если они не относятся прямо к его предмету. На что, мол, химику «Гамлет»? На что физику «Дон-Жуан»?
Герцен садится на диване рядом с женой.
– А еще страшнее, Наташа, – продолжает Александр Иванович, – когда жрец науки читает все, но понимает только то, что касается его части. Такой бонза прослушает все звуки музыкального произведения и не уловит одного: гармонии этих звуков. Замечательно сказал об этом Гегель.
Гегель? Возникни бы это имя в разговоре с любой московской дамой, тотчас спросила бы она: «А где он, Гегель, служит? В какой должности?»
Знакомство Натальи Александровны Герцен с Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем началось давно. Наташа хорошо помнит, сколько жарких споров здесь же, в Москве, вел о Гегеле ее муж, сколько бессонных ночей он провел над его сочинениями.
– Замечательно сказано у Гегеля об ученых бонзах, – повторяет Александр Иванович, – но представь, Наташа, именно философы и оказались особенно косны. Они равнодушны ко всему, что не касается, по их мнению, их собственной науки. А не касается, стало быть, весь необъятный мир трезвых знаний, добытых человечеством.
Наташе многое не ясно в этих рассуждениях. Вот и отстанет она, потерявшись в бездне премудрости. Но сейчас же протягивает ей руку муж: «Идем дальше вместе!»
А Наташе все-таки порой становится страшно: сможет ли она идти рядом с ним?
Эти мысли стали приходить к ней вскоре после свадьбы. Их счастье было полно и, казалось, неиссякаемо. Но чем полнее была их любовь, тем нетерпеливее рвался Герцен к людям, к деятельности.
– Я рожден для кафедры, для форума! – скажет, бывало, Александр Иванович, а сам мечется по комнате, готовый сотрясать стены, потом с горьким вздохом берется за рукописи.
Тогда, глядя в будущее, тревожно задумывалась Наташа: что, если и она когда-нибудь станет невольной ему помехой? Время шло, тревожные мысли возвращались.
В Москве по-прежнему щедро светит им любовь. Разве может угаснуть солнце? А крохотный червячок сомнений точит и точит сердце.
Александр рожден для кафедры, для форума? Но и Наталья Александровна теперь знает, что нет в России такой кафедры, с которой мог бы свободно прозвучать голос ее мужа. Если же и можно представить себе российский форум, то не иначе как с частным приставом или квартальным надзирателем у входа.
– Так для чего же я предпринял свой труд? – спрашивает Герцен, отрываясь от рукописи. – Что должна дать людям новая философия?
Наташа ласково гладит его усталую голову.
– Изволь; пожалуй, даже я теперь отвечу. Новая философия должна соответствовать потребностям нового мира… Так? Видишь, я тоже кое-чему научилась. Философия, – продолжает она серьезно, – должна помочь людям перестроить жизнь.
– Иначе не было бы ни нужды в философии, ни пользы от нее, – подтверждает Герцен. – Молодец, Наташа! Ты не теряешь времени даром!
– Я твое создание, – тихо говорит Наталья Александровна, – если только не отстану от тебя в пути.
– Милая, когда же ты расстанешься с этими мыслями?
– Может быть, и никогда…
– Слышать этого не могу! – Герцен ласкает Наташу, целует ее глаза. – Не уподобляйся, ради бога, тем романтикам, которые пуще всего любят рыдать над руинами собственных нелепостей.
– Не буду, не буду, – говорит, улыбаясь сквозь слезы, Наташа. – Пока мы вместе, я буду жить тобой. А как жить тебе? Я вижу и чувствую: ты томишься пустотой жизни. Я все понимаю. Мне больно, и я плачу. Я знаю, что ты меня любишь, а чем, кроме любви, могу помочь тебе я?
Все те же мысли, все те же тучки: набегут, исчезнут и снова вернутся. Но что значат они перед силой любви? Разве может погаснуть солнце?
Допоздна сидит над книгами Александр Герцен. Потом открывает рукопись:
«Мы живем на рубеже двух миров…»
Глава пятая
Герцен загорается, когда думает о будущих сражениях с цеховыми учеными, не видящими далее собственного носа, и с буддами от науки, которых и калачом не заманишь в мир живой действительности. Но, прежде чем начать генеральное сражение с псевдонаукой и псевдоучеными, надо освободить науку от тех ложных друзей, которые могут быть страшнее любого врага. Это – дилетанты. С них, дилетантов, и начал Герцен философский трактат.
Когда говорит он об этих людях, толпящихся вокруг науки, речь его становится язвительно-беспощадной.
Дилетанты чувствуют неудержимую потребность пофилософствовать, но пофилософствовать между прочим, легко и приятно. Они жаждут осуществления несбыточных фантазий и, не найдя их в науке, отворачиваются от нее. Им дорога́ не истина, а то, что они называют истиной. Дилетанты клевещут на науку. Оттого и надобно начать бой против них.
Все это было написано Герценом еще в Новгороде. Теперь он читал статью о дилетантах в науке друзьям в Москве.
Грановский принял ее как долгожданную новость. Он был в восторге от смелого вызова врагам науки. По обыкновению, шумел Кетчер: смерть им, философствующим тупицам! Василий Петрович Боткин считал, что Герцен пишет не статью, а героическую симфонию.
– Дилетантизм – опасная болезнь, – говорил Александр Иванович, – а у нас эту болезнь почитают чуть ли не достоинством. Наши дилетанты с плачем засвидетельствовали, что они обманулись в коварной науке Запада, что ее результаты темны и сбивчивы, и нет нелепости, которая бы не высказывалась после этого с уверенностью, приводящей в изумление.
Споры, которые велись в Москве, подтверждали справедливость этих мыслей. Алексей Степанович Хомяков, например, развивал тезис, который казался ему непогрешимым:
– Нельзя дойти разумом до познания истины. Разум может только развивать зерна истины, полученные через откровение свыше. Иначе никогда не дойти разуму до понятия о духе, до понятия о бессмертии.
Герцен сбил с коня философа-славянофила первым ударом.
– Выводы разума, – сказал он, – не зависят от того, хочу я их или нет.
Алексей Степанович Хомяков взглянул на смельчака с едва скрытым раздражением:
– Как же надо свихнуть себе душу, чтобы примириться с такими выводами.
– Докажите мне обратное, – продолжал Герцен, – и я приму вашу истину даже в том случае, если она приведет меня в часовню к Иверской божьей матери.
Хомяков, пораженный неслыханной дерзостью, отвечал уже с явной неохотой:
– Для этого надобно иметь веру.
– Чего нет, Алексей Степанович, того нет, – заключил Герцен.
Спорить было больше не о чем. Столкнулись вера и безверие, предание и наука, откровение и разум.
В Москве жил еще один философ, очень далекий от славянофилов, – Петр Яковлевич Чаадаев. Его «Философическое письмо», напечатанное несколько лет назад в журнале «Телескоп», прозвучало тогда как выстрел в глухой ночи. Мужественно обличил Чаадаев застой русской жизни. Но философ не оценил славного прошлого русского народа и не увидел для России другого будущего, кроме приобщения… к всемирному католицизму.
Грустный вернулся Герцен от Чаадаева.
– Как страшно, Наташа, слышать голос, исходящий из гроба. Но еще больше претит мне тот елей, который выдают за философию славянофилы. Чаадаев, несчастный, весь в прошлом. Славянофилы же тем и вредны, что противостоят будущему. Ох как они вредны!
А Наташа вернула его от споров со славянофилами к судьбам ничем не примечательных людей, с которыми она сжилась еще в Новгороде.
– Скажи, – спросила она, – что будет с Любонькой и Круциферским? Нельзя же злоупотреблять автору терпением читательницы, притом пока единственной!
– Ты же знаешь, что им предстоит пожениться, – рассеянно отвечал автор романа.
– Боюсь, что они состарятся задолго до свадьбы, если будут так же медлительны, как ты…
– Сдается мне, Наташа, что я могу куда лучше послужить пером моим философии: каждому – свое.
– А роман? – удивилась Наталья Александровна.
– Но чем я виноват, если философия никуда меня не отпускает?
– Грех тебе будет, Александр, если оставишь роман. Кому много дано, с того много и спросится.
Герцен ходил по кабинету в глубокой задумчивости. Кажется, даже не слушал, о чем говорит жена.
– Когда я думаю о Любоньке, – продолжала Наталья Александровна, – мне всегда видится моя собственная прежняя жизнь. Помнишь, как я начала описывать для тебя мое детство? Сколько горя, сколько унижения принесли мне люди. Иногда кажется, будто я сама написала многие строки из Любонькиного дневника.
Александр Иванович остановился перед женой:
– Тебе и будет посвящен роман, Наташа, если я когда-нибудь его напишу.
Глава шестая
Герцен рано разгадал тайну бесправного и унизительного положения матери в доме своего отца. Мог бы и он, незаконнорожденный, оказаться на задворках жизни, где нередко мыкались внебрачные барские дети. Но Иван Алексеевич по-своему любил сына, если только мог кого-нибудь любить этот холодный человек.
Рано понял мальчик и подоплеку барской жизни: вся роскошь отчего дома покупалась подневольным трудом, лишениями и горестями рабов. Многочисленные родичи Ивана Алексеевича Яковлева были такими же праздными владетелями ревизских душ.
Иван Алексеевич еще с детства возил сына к своей сестре, княгине Хованской, и с детства невзлюбил Александр Герцен эту чванливую, вздорную старуху.
Княгиня жила в особняке на Поварской. Дом был набит приживалками и предрассудками. В мрачных, запущенных покоях пахло мышами и ладаном. Могильную тишину нарушали только старинные часы. Словно спохватившись, они вдруг начинали хрипеть, отмеривая время. А зачем? В этом доме никто, никогда и никуда не торопился.
Когда приезжали родственники, из мезонина, по приказу княгини Марьи Алексеевны, спускалась в гостиную бледная, молчаливая девочка в темном платье. Наташа старательно приседала перед каждым гостем, перед Александром Герценом тоже: ведь он был старше ее на целых пять лет! Потом садилась поодаль и сидела неподвижно под суровым взором княгини.
В судьбе этой молчаливой девочки было много общего с судьбой Александра Герцена. Оба были незаконными детьми своих именитых отцов, родных братьев Яковлевых.
Наташа, которой дали фамилию Захарьина, рано осиротела. После смерти отца ее должны были отправить из Петербурга в дальнюю вотчину: пусть замаливает там грехи родителя.
На перепутье, в Москве, девочку увидела княгиня Хованская. Наташа получила приличное звание воспитанницы в доме родной тетки, а княгиню стали величать благодетельницей безродной сироты.
В доме княгини Хованской Герцен и встретил двоюродную сестру – Наташу Захарьину. Впрочем, это родство не признавалось ни церковными, ни гражданскими законами, ни щепетильным мнением барских гостиных.
Сначала мальчик дарил Наташе назидательные книжки, потом, с годами, когда пришла юность, стал слать ей поздравительные, очень рассеянные записки: «Любезнейшая Наталья Александровна! Сегодня день вашего рождения, с величайшим желанием хотелось бы мне поздравить вас лично; но, ей-богу, нет никакой возможности…»
Университетские годы Александра Герцена были подобны наполненной чаше, которая никогда не иссякала. Споры и раздумья, пирушки, бессонные ночи и светлая влюбленность, а потом снова книги и жаркие споры.
Сколько философских трактатов Герцен в это время ни прочел, философия жила в своем мире отвлеченных формул, словно не было на свете извечных страданий большей части обездоленного человечества.
Впрочем, появлялись, хотя и редко, другие философы. Герцен вместе со счастливо найденным в юности другом Николаем Огаревым еще в университетские годы с жадностью набросился на учение французского мыслителя Сен-Симона. Сен-Симон признал губительными для человечества чудовищные порядки, которые установили имущие для неимущих. Молодых москвичей смущало, однако, немаловажное обстоятельство: последователи Сен-Симона учили, что истины, провозглашенные их учителем, воцарятся тогда, когда добровольно примут и осуществят их все люди, когда богатые, поняв причину зла, потрясающего мир, сами откажутся от преимуществ.
Это было похоже на церковную проповедь о становлении царства божия на земле, после того как род людской достигнет нравственного совершенства. А родство с религией могло быть пагубно для философской мысли не меньше, чем извечное пребывание ее вдалеке от земных нужд человечества.
Кроме Сен-Симона мечтал о справедливом переустройстве жизни французский ученый Шарль Фурье. Идеал был все тот же: мир богатых и неимущих, дошедший до жесточайших бедствий, надо превратить в разумное содружество людей. В этом обществе у каждого будет священное право на труд.
В европейских журналах и книгах звучала непримиримая критика существующих порядков, мелькали уже привычные слова: капитал, буржуазия, пролетариат; входило в обиход новое слово – социализм. Оно звучало как суровый приговор старому миру, но новый мир, в котором все трудятся для общего блага, в котором нет обездоленных, был похож на прекрасное, однако туманное видение. И лились об этом прекрасном будущем жаркие речи.
Когда тут было вспомнить Александру Герцену о молчаливой, робкой Наташе?
В мезонине на Поварской, в комнате воспитанницы княгини Хованской, подолгу светился вечерами одинокий огонек. Вначале в руках у Наташи была только одна книга – евангелие, – какие другие книги могли сюда проникнуть?
Позднее вместе с молодой гувернанткой, нанятой по дешевке, в мезонин пришла девичья дружба, и на смену евангелию – другие книги: о людях, живущих на грешной земле, об их делах, страстях и страданиях. Этих книг, вплоть до новейших французских романов, становилось в мезонине все больше; их тащили сюда и молодая гувернантка, ставшая верной подругой своей питомицы, и добросердечные кузины, во множестве водившиеся в яковлевском родстве.
Теперь уже и до утра, случалось, не угасал огонек в комнате Наташи. Она листала страницы модного романа, но ее мысли неохотно спускались на землю: здесь ей было по-прежнему холодно и одиноко.
Тогда, опустив книгу на колени, мечтательница искала в предрассветном небе утреннюю звезду. Звезда сияла немеркнувшим светом, потом бледнела и, наконец, совсем растворялась в лучах солнца. О, если бы когда-нибудь взошло солнце и в ее, Наташиной, жизни!
Однажды Александр Герцен, явившись на Поварскую, вдруг заговорил с ней так, будто подслушал ее мысли. Вскоре, при новой встрече, Наташа вспомнила какие-то стихи, и Александр прочел на память те самые строки, которые полюбились ей. Наташа быстро взглянула на него из-под опущенных ресниц: что это – совпадение?
Разговор перекинулся на какую-то книгу, и Герцен в свою очередь сделал неожиданное открытие: Наташа умеет думать о многом и думает по-своему глубоко. Удивительная сестра Наташа! Как это он раньше ее не замечал?
Они заново знакомились. Герцен мог бы теперь поклясться: когда в гостиную спускается из мезонина, словно утренняя звезда, Наташа, даже стены светлеют. Однако не произошло решительно ничего, что могло бы смутить чувства молодых людей: они заключили союз дружбы, союз святой и чистый.
На алтарь этой дружбы Герцен нес теперь все, что волновало его мысли, все, чем он жил. Герцен говорил о Вольтере и Руссо, о Данте, об учении Сен-Симона, о дружбе с Николаем Огаревым и мальчишеской клятве, которую дали они с Огаревым на Воробьевых горах. Недаром принадлежали они оба к поколению, разбуженному гулом пушек на Сенатской площади.
Александр говорил о горькой участи народа: двенадцать миллионов крестьян живут в рабстве, над ними стоят сотни тысяч угнетателей, в руках у них вся власть и все орудия угнетения – царский скипетр, кнут, чиновники, полиция, тюрьма и каторга.
Наташа далеко не все понимала в его рассуждениях, но она откликалась всем сердцем, когда Александр произносил звонким голосом заветное слово: свобода! Впрочем, и свободу она понимала по-своему: ведь она тоже чувствовала себя узницей в доме на Поварской. Как ненавидела она здесь все! И гранд пасьянс, который раскладывала княгиня, и прогулки, которые разрешались ей не дальше палисадника при доме, и хор приживалок, твердивших о благодарности, которую должна чувствовать к княгине-благодетельнице безродная сирота.
А стремительный поток мыслей, чувств, замыслов и надежд Александра Герцена лился в Наташину жизнь.
– Я видел Пушкина, – рассказывал он и, торопясь, боясь упустить самую малую подробность, говорил об этой встрече. Однажды, еще в детстве, он увидел поэта в Москве. Эта встреча, запомнившаяся на всю жизнь, озарила Герцену новым светом пушкинские создания.
Так нес на алтарь дружбы Герцен все, чем жил. Дружба, да святится имя твое!
У друзей, как известно, не бывает тайн. Александр был влюблен в светловолосую девушку, Людмилу Пассек. Смущаясь, он называл ее ландышем.
Людмила сочиняла для него стихи; он отвечал диссертациями в прозе. В порыве, который так простителен влюбленному, он переписал для Наташи стихи, присланные ему светловолосой Людмилой.
– Не правда ли, прелестные стихи? – спрашивал у Наташи Герцен.
Это была явно пристрастная оценка. Но… чего не делает любовь! Перечитав еще раз Наташе стихи Людмилы, влюбленный объяснил с чистосердечием друга:
– Удивительно ли, Натали, что я там бываю почти всякий день – и все мало?
Наташа тоже была готова принести любую жертву на алтарь дружбы. Только стихи Людмилы Пассек казались ей слабыми. К тому же Наташа и сама писала стихи, но, по-видимому, Александр этим не интересовался. Дружба, в отличие от любви, не нуждается в поэзии.
Герцен кончил курс в университете и получил серебряную медаль за кандидатское сочинение о Солнечной системе Коперника. Теперь молодому человеку не хватало ни дней, ни ночей, чтобы жить. А жить для него – значило мыслить и действовать.
Копятся черновики написанных и набросанных статей, возникают поэтические фантазии, исторические и философские этюды.
Продолжается и кружение сердца. Этим сердцем по-прежнему владеет Людмила Пассек. Герцен и на Поварскую стал ездить все чаще, для того чтобы рассказывать Наташе о своей любви. У дружбы есть священные права. Пусть Наташа разделит его счастье. Кроме того, он собирается читать ей свои новые статьи. Она понимает каждое движение его мысли. Необыкновенная Наташа! Удивительная сестра! Дружба, да святится имя твое!
А любовь? А ландыш Людмила? Она по-прежнему писала для него стихи, но он все реже отвечал ей диссертациями в прозе. Он уже не стремился увидеть ее каждый день. Пожалуй, он не называл ее больше ландышем.
Глава седьмая
Летним днем 1834 года Наташа увидела Герцена и поразилась: Александр был взволнован и непривычно сумрачен. Как только им удалось уединиться от княгини, Герцен объявил новость:
– Огарев арестован… – и умолк.
– Огарев?! – Наташа лучше других знала, что значит для него Огарев.
Нет, она не потерялась в этот горький час. Наташе так хотелось его утешить! Герцен возражал ей, проклиная безысходную действительность. Но каждое Наташино слово, дружеское, твердое, полное надежды, вливало бодрость в душу.
А он все еще считал ее ребенком, хотя ей уже исполнилось семнадцать лет.
– До завтра, – сказала, прощаясь, Наташа.
– До завтра, – ответил Герцен и долго смотрел ей вслед.
А ночью в барский дом Ивана Алексеевича Яковлева нагрянула полиция и подняла страшный переполох. Потом полиция увезла Герцена и взятые у него бумаги. Университетский кандидат оказался узником Крутицких казарм, под бдительной охраной жандармов.
Дело, по которому был арестован Александр Герцен, называлось витиевато: «О пении в Москве пасквильных песен». Под этими пасквильными песнями подразумевались и такие, в которых с издевкой упоминалась августейшая особа государя императора. Правда, Герцен нигде никаких песен не пел. Что из того? После ознакомления с бумагами, отобранными при аресте, его, как и Огарева, зачислили в группу «прикосновенных».
На беду, в это же время Москву посетил император Николай Павлович. Он никогда не забывал своих «друзей 14 декабря». Мысль о том, что где-то могут зреть побеги нового бунта, не давала покоя. Московское дело с большим числом арестованных привлекло его настороженное внимание. Кто они, эти новые враги престола? Среди арестованных были студенты и чиновники из университетских кандидатов, какие-то вольные живописцы и выходцы из мещан, развращенные учением; даже молодой офицер, покинувший службу царю по собственной воле, попался в полицейские сети. Вот они, новые побеги, вот она, новая закваска на старых дрожжах! Высочайшее мнение было выражено ясно, направление розыску дано.
Следователи огорошили Герцена вопросом:
– Не принадлежите ли или прежде не принадлежали ли к каким-либо тайным обществам?
Однако никаких намеков на существование в Москве тайного общества следователям обнаружить не удалось…
Лето сменилось осенью, осень отплакала тягучими дождями; потом зима не торопясь подморозила и запорошила осенние лужи. Узники Крутицких казарм тщетно ждали решения своей участи.
Уже аукалась где-то вдалеке от Москвы весна – в Крутицких казармах все еще не было перемен.
Только в апреле 1835 года арестованным объявили наконец монаршую милость. По закону за оскорбление величества их следовало лишить жизни. Но император освобождает их от суда. Главные виновники будут заключены в крепость без срока, другие отправятся в ссылку в дальние губернии для службы под строгим надзором начальства.
Герцена ссылали в Пермь…
Когда в камеру осужденного в Крутицких казармах вошла Наташа, Герцену показалось, что блеснула ослепительная молния. Такие явления природы нередко наблюдаются, как известно из изящной словесности, в жизни влюбленных. Но мало ли обманываются несовершенные человеческие чувства? Перед молодым человеком была только двоюродная сестра и друг, пусть самая удивительная сестра, Наташа.
Разговор шел как-то странно, о каких-то пустяках, что можно вполне объяснить волнением юных друзей после долгой разлуки. Герцен держал холодную Наташину руку в своих руках и вдруг ощутил небывалую растерянность. «Ты ее любишь! Любишь!» – вихрем пронеслось в его голове.
Герцен стоял перед Наташей оглушенный, кажется, еще пытался о чем-то говорить. А мысль, самая несуразная и невозможная из всех, которые когда-нибудь приходили ему в голову, опять вернулась. По счастью, Наташа, казалось, ничего не заметила.
– Брат, – сказала она, прощаясь, – в дальнем крае помни о своей сестре. Это так же необходимо мне, как жизнь.
Дверь за ней закрылась.
В камере оставался один из приятелей Герцена, добившийся прощального свидания с приговоренным к ссылке. Он все еще смотрел вслед Наташе.
– Она хороша, как ангел, – сказал приятель Герцену, – и как она тебя любит!
Герцен резко к нему повернулся. Потаенная, невозможная и сладостная мысль опять вернулась: Наташа!..
Он еще успел послать ей записку перед самым отъездом из Москвы:
«К тебе будет последний звук отъезжающего… Когда же мы увидимся? Где? Все это темно, но ярко воспоминание твоей дружбы…»
Итак, дружба выдержала опасное испытание.
Однако записка еще не была кончена.
«Может быть… – начал Герцен новую строку и сейчас же оборвал: – но окончить нельзя, за мной пришли…»
– Что «может быть»? Что? – в замешательстве повторяла Наташа, перечитывая записку в мезонине на Поварской.
В окна лилось горячее апрельское солнце. Весна уже распустила лужи на улицах и выслала в Москву крикливых разведчиков – грачей. И не понять, кто гомонит громче – грачи или ребятишки, гоняющиеся за каждым солнечным зайчиком.
– Что хотел сказать Александр? Что «может быть»?..
Герцен отъезжал в это время все дальше от Москвы.
Как во сне, промелькнули короткие дни в Перми. Место ссылки удалось переменить на Вятку. О многом передумал Герцен, пока сюда добрался. То, что причудилось ему в Крутицких казармах, когда держал он холодную руку Наташи в своих руках, было, конечно, только безумным и безотчетным порывом. В самом деле, давно ли дарил он Наташе книги с родственной надписью: «Милой сестрице»? Давно ли рассказывал ей о любви к Людмиле Пассек? И Наташа была счастлива его счастьем. Недаром загорались ее глаза и румянец вспыхивал на бледных щеках. А разве не писал он ей из Крутицких казарм: как брат, он будет помогать, если Наташа кого-нибудь полюбит… Искушенный в увлечениях сердца, он великодушно предвидел такую возможность и для нее.
И снова взывал к их дружбе в письмах в Москву:
«…наша дружба – поэзия. Это самое святое чувство…»
Тут же следовало неожиданное признание: по пути в ссылку он сжег письма Людмилы Пассек. «Я ошибся, – писал Герцен, – приняв неопределенное чувство любви за любовь к ней».
Далее оказались в письме и вовсе загадочные строки:
«Ты, сестра, ты ближе, несравненно ближе к моему идеалу, нежели она».
Сестра!.. Что же могла понять Наташа?
Глава восьмая
Если бы в то время, когда Герцен попал в Вятку, уже вышли в свет «Мертвые души», можно было бы подумать, что губернатором сидит здесь выслужившийся в чины небезызвестный Иван Антонович Кувшинное Рыло. Конечно, попав в губернаторы, приобрел Иван Антонович новый размах во взимании благодарностей. Кроме того, вятский губернатор имел слабость к женскому полу. Вот в этом Иван Антонович Кувшинное Рыло из губернского города NN, по благоразумию лет, повинен не был.
Вокруг губернатора располагались в порядке нисходящем губернские и уездные чины. Люди в засаленных мундирах с видом верноподданнического усердия одурачивали, предавали, продавали, брали с живого и с мертвого.
Кандидат университета Александр Иванович Герцен не заглядывал в Москве в таинственные дебри присутственных мест. В Вятке этот новый мир открылся перед ним во всей первобытной простоте. Правила житейской мудрости провозглашались откровенно, даже с добродушием. Становому надо жить? Надо! Исправнику тоже надо, да еще жену содержать? А как же! Советнику, кроме того, нужно и детей воспитывать. Советник – примерный отец.
И вот в закоптелой канцелярии умудренный в делах столоначальник пишет на лоскутке серой бумаги какой-то черновик, копиист переписывает, особы, возглавляющие присутственное место, подписывают, регистратор заносит бумагу в исходящие – и целые деревни объяты ужасом, разорены…
Чиновники благодарили бога за милость, когда выезжали с воинской командой, чтобы приобщить язычников вотяков к истинам православной веры. И приобщали до тех пор, пока не забирали последнюю коровенку.
Когда мужики отказались сажать промерзлый картофель, выданный в ссуду от правительства, это происшествие объявили бунтом. Воинские команды двинулись в поход уже с пушками. Потом долго пиршествовали судьи и подьячие.
Даже землемеры умели ловко использовать невинную астролябию. Приедет землемер в деревню, поставит астролябию и ждет. Мужики тревожно хмурятся: нанесло новую, неведомую беду!
– Помилуй, отец, – подступают они к незваному гостю, – езжай себе с богом, а мы, знамо дело, ни в чем не постоим.
И сгинет землемер вместе с дьявольской трубой, подсчитывая добровольную дань, уплаченную извечным страхом и темнотой.
В полицейских застенках пороли подозреваемых на одну или две трубки – сколько выкурит этих трубок следователь, добивающийся признания.
Но картина народных бедствий еще не была в Вятке полной. В Вятке не было помещиков, вольных распорядиться жизнью и достоянием своих ревизских душ раньше, чем доглодает остатки чиновничья саранча.
Да, картина не была в Вятке полной, но оставалась красноречивой.
Вятка, Вятка! Надолго запомнит тебя новоиспеченный чиновник губернаторской канцелярии Александр Герцен. Здесь прошел он университетский курс, которого не читают, впрочем, ни в одном университете.
Еще в Москве, когда Герцен был студентом физико-математического отделения, его интересовал весь необъятный мир наук. Философия тоже. Это в Москве можно было вести споры о переустройстве жизни и рассуждать о Сен-Симоне. Но какой там Сен-Симон, когда секут в вятской полиции на две трубки? Какое может быть право на труд в стране рабства? Что проку в философии, если не научит она, как смести с лица земли все существующие на ней застенки?
Молодой чиновник канцелярии вятского губернатора, вероятно, еще не знал в то время, куда приведут эти смутные мысли об истинном назначении философии.
Постоянно мучила изгнанника одна неотступная мысль: Наташа!
И вдруг, словно для того, чтобы не оставить себе никакой надежды, чтобы навсегда покончить с безумием, охватившим его при разлуке в Крутицких казармах, он шлет ей письмо, писанное слогом провинциального ловеласа:
«Здесь есть одна премиленькая дама, а муж ее больной старик; она сама здесь чужая, и в ней что-то томное, милое, словом, довольно имеет качеств, чтоб быть героиней маленького романа в Вятке, – романа, коего автор имеет честь пребыть, заочно целуя тебя…»
Наташа не придала сообщению никакого значения. А маленький роман в Вятке завязался. Но увлечение Герцена, начавшееся при осенней луне, кончилось, едва выпал первый снег. Очнувшись, он пришел к выводу: его сердце может принадлежать только одной женщине, и женщина эта – Наташа.
Моралисты вправе осудить странную логику чувства, проверенного таким парадоксальным путем. Во всяком случае, окончательно прозрев, он мог теперь написать Наташе:
«Я сделаю вопрос страшный. Оттого, что я теперь, в сию минуту безумный, иначе он не сорвался бы у меня с языка. Веришь ли ты, что чувство, которое ты имеешь ко мне, одна дружба? Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, одна дружба? Я не верю!..»
Вот и рухнули ширмы, за которые держались любящие сердца. И ты, дружба, – да святится имя твое! – улыбаясь причудам юности, отступишь теперь перед чувством, которое робкая юность так долго не смела назвать…
А почта идет от Вятки до Москвы целых две недели! Вот когда почувствовал изгнанник, как бесконечно длинны версты, отделяющие его от Наташи. Насквозь промерзшие почтальоны переваливают на попутной станции запечатанные казенными печатями мешки из одного возка в другой, и снова тащится возок в снежную даль.
Но коли объявилась любовь, тогда что ей версты и стужа? Дойдет письмо до Москвы, дружеские руки передадут его на Поварскую, там спрячется письмо в рукаве у верной горничной – и шасть в мезонин.
Наташа, глупая Наташа, о чем же ты плачешь? А слезы падают на бумагу и мешают писать.
«Как хороша я теперь, друг мой, как полно счастьем все существо мое. Сам бог обручил наши души. Теперь мне ясны и этот страх души, и этот трепет сердца, когда в Крутицких казармах ты бросил на меня взгляд – этот взгляд, полный чем-то непонятным мне и неразгаданным. Не правда ли, я создана только для того, чтобы любить тебя?»
Герцен перечитывает письмо и через тысячу верст слышит милый голос. Оказывается, Наташа помнит все и признается с простодушной лукавинкой: она-то давно предчувствовала – вот-вот придет день, а ей так хотелось подольше насладиться рассветом.
С помощью Наташи кандидат Московского университета, дока в Солнечной системе Коперника и в философских трактатах, сделал еще одно открытие: он полюбил Наташу гораздо раньше, чем молнией сверкнула эта мысль в Крутицких казармах.
Конечно, воспитанница княгини Хованской не могла свободно переписываться с государственным преступником, как неизменно называла теперь княгиня Хованская ссыльного сына своего несчастного брата Ивана. Княгине крепко запомнилось, как при известии об аресте этого молодого человека Наташа упала в обморок. Смекнула княгиня-благодетельница, что Наталья по дурости может вздумать писать в Вятку. Княгиня была далека от мысли, что между двоюродными (на этот случай вспомнилось об их родстве по крови) может возникнуть такой разврат, как любовь. Однако были приняты меры строгости. Письма в Вятку княгиня решительно запретила.
В Москве было объявлено под рукой, что, княгиня Хованская, желая устроить счастье воспитанницы, дает за ней в приданое сто тысяч рублей. Иван Алексеевич Яковлев, смущенный ссылкой сына-вольнодумца, не меньше боялся семейных осложнений. Вполне согласясь с распоряжениями княгини и в предупреждение новых безумств сына, Иван Алексеевич между прочим писал ему:
«Наташе нужно выходить замуж, а не сентиментальничать».
Но письма из мезонина на Поварской по-прежнему благополучно шли в Вятку, а из Вятки летели в мезонин. Как ни надзирала за воспитанницей сама княгиня, как ни усердствовали доверенные приживалки, Наташе самоотверженно служили дворовые люди княгини Хованской.
Прислушиваясь к каждому шороху за дверью, счастливая влюбленная бралась за очередное письмо.
«Ты один жил в моей душе, одному тебе я поклонялась всю жизнь мою… О, как я счастлива, как благодарю бога, что могу отдать и сердце и душу, созданные для одного тебя и полные одним тобой… Только помни, Александр, что у твоей Наташи, кроме любви, нет ничего».
И эту любовь он предал!
Для него настали черные дни. Старый, больной муж молодой женщины умер. К Герцену с немым, затаенным вопросом обратились ее глаза. Почему он медлит? Ведь она, вдова, теперь свободна.
Надо бы сказать ей о Наташе – и кончились бы все муки. Но он не может нанести жертве своего легкомыслия такой удар. Он не может видеть нелегкие женские слезы. Эти слезы по его вине вот-вот прольются в Вятке. Что будет там, в Москве, где так светло верит в него Наташа?
«Я должен сделать тебе страшное, немыслимое признание!» – пишет Герцен на Поварскую и мысленно молит, как приговоренный к смерти, отсрочки.
Написано наконец чистосердечное признание. Никакой пощады себе! Но каждая строка полна мольбы: может быть, у преступника не отнимется надежда?
Равнодушный почтмейстер взвешивает пакет, объявляет цену пересылки и припечатывает сургучом. Не раньше как через две недели узнает о его падении Наташа; пройдут еще две недели, пока придет ответ. Ожидание стало страшнее самой ссылки.
Глава девятая
Даже летним вечером рано затихает Москва. Только на опустевших бульварах бродят влюбленные. На смену вечеру опускается ночь – ничто беспечной юности! Пусть же ищут счастья влюбленные, на то отпущен им короткий срок. Глядишь, еще не успели испить из обманчивой чаши одни, а на поиски идет новая поросль. И все так же коротки для них вешние дни, все так же мимолетны летние ночи. Как же тебя, счастье, найти?
Может быть, тот самый юноша, который знал беспокойную сладость мечты, теперь встречает ночь сладкой зевотой и, облекшись в халат да повязав голову фуляром, торопится закончить любимый пасьянс? А то, вооружась хлопушкой, станет собственноручно казнить сонных мух.
И дева-ангел, которая раньше читала тайком от маменьки чувствительные романы, ныне, став рачительной супругой, старается неслышно подкрасться к людской: не спят ли холопы и холопки, не выполнив урочных работ?
Так зачем же шелестят на бульварах вековечные липы и бодрствует беспечная юность?
Все больше темнеют окна в домах, и наглухо закрываются тяжелые ставни. Надо бы и в малом доме на Сивцевом Вражке гасить огни. Совсем поздно. А Александр Иванович Герцен зажигает новые свечи.
– Есть что-нибудь новое из романа? – спрашивает, глядя на эти приготовления, Наталья Александровна.
Герцен отрицательно качает головой и молча раскрывает заветный портфель. Здесь хранятся Наташины письма – все горести и радости, все, что сказалось в разлуке. Александр Иванович узнает каждую ее записку, помнит, что написано в каждой строке. Вот записки, которые присылала она узнику в Крутицкие казармы, вот ее письма в Вятку. Вот и то письмо, которое вернуло ему жизнь.
– Я решительно не помню, Наташа, что было со мной, когда я ждал ответа на мое признание. Найти тебя для того, чтобы, быть может, снова потерять…
Герцен держит в руках старое письмо, а в глазах его такой ужас, словно только сейчас суждено ему узнать свою судьбу.
Он читает давнее Наташино письмо, почти вовсе на него не глядя, наизусть, а голос то и дело прерывается:
– «Читая признание твое, ангел мой, я залилась слезами…»
Наташа слушала собственное письмо, когда-то посланное в Вятку; она и сегодня повторила бы его слово в слово, ничего не меняя.
«Мне жаль тебя, Александр, горько, что в тебе не стало сил устоять против того стремления, которое вовлекло тебя в этот поступок… Но, ей-богу, я слишком постигаю весь ужас твоего положения, и этот холод, и эти оковы, и эти убийственные взгляды на каждом шагу, и твою душу. Всей душой, всей любовью моею прощаю тебя на каждом слове. Чего стоит твое раскаяние! О, оно выше твоей вины, а если разлука наша была наказание, то она давно, давно искупила пятно это в душе твоей…»
Герцен не может перечитывать эти строки без слез. Сейчас речь пойдет о женщине, которая стала в Вятке жертвой его легкомыслия.
«Теперь просьба о ней, – писала Наташа. – Если ты не можешь прибавить ей счастья, не умножай горя ее… Ты сам говоришь, что она довольно несчастна и без новых ударов. Да поможет тебе бог спасти ее…»
Наташа, взволнованная воспоминаниями, молчала. Ведь и для нее черным оказался день, когда она получила откровенное признание и поняла его истинный смысл. И она тогда провела не одну бессонную ночь, ища утешения у утренней звезды, только бы быть подальше от земных страстей.
– Я бы сумела устраниться, – говорит Наташа, первая нарушив молчание, – если бы знала в те дни, что это нужно для тебя.
– Наташа, опомнись!
– Нет такой жертвы, Александр, которую я бы для тебя не принесла…
Герцен перебирал письма. Которые перечитает молча, которые покажет ей.
– А это ты помнишь, Наташа?
Она, конечно, помнила. Александр, будучи в Вятке, делился с ней своими раздумьями. Для себя он жить никогда не станет. Как же противоборствовать злу: служить или взяться за перо?
«Писать! – отвечала Наташа. – Здесь труды необыкновенные и польза необыкновенная!..»
– Так, Наташа, – Александр Иванович отложил памятное письмо. – Но как писать в стране, где молчание почитается первой добродетелью?
– Ты все можешь, недаром тебе даны способности и силы. – Они еще долго стояли у раскрытого окна. – Тебе все дано, – снова повторила Наташа.
Она заговорила о романе. И снова перебирал Герцен написанные страницы.
Рассказано в романе, что губернатор возненавидел уездного лекаря, отца Дмитрия Круциферского, только за то, что лекарь отказался выдать свидетельство о естественной смерти кучера, засеченного помещиком. Или, к примеру, приведена сентенция Глафиры Львовны Негровой о мужиках: «С ними нельзя обходиться по-человечески, тотчас забудутся».
И опять отложит рукопись Александр Иванович. Не страшнее ли любого романа ужасы жизни?
Годы, проведенные в ссылке, не забывались.
Летом 1837 года к вятским дорогам сгоняли мужиков в праздничных одеждах. В каждом захолустном городишке чинили тротуары, красили заборы. На улицах суетились городничие и гоняли еще более ошалелых квартальных. Можно было подумать, что происходят сцены из комедии Гоголя «Ревизор», которая уже год шла на столичной сцене. Но какой ревизор мог сравняться с наследником российского престола! Наследник, путешествуя для ознакомления с любезным отечеством, не сегодня-завтра нагрянет со свитой в Вятку!
Сколько ни суетились в уездах городничие, общее наблюдение за подготовкой к встрече царственного гостя взял на себя, разумеется, сам губернатор. Главная забота – проклятые жалобщики! Только проморгай – такого натащат, что устелют кляузами весь путь августейшей особы.
Кроме обычных мер отеческой кротости губернатор упрятал одного купчишку, показавшегося особо подозрительным насчет жалоб, в сумасшедший дом. Пусть-де лекари не торопясь разберутся: нет ли у купца затемнения в голове? Вот и посиди до времени, архибестия, под замком! А пронесет бог гостей – тогда выходи, борода! Тогда строчи, аршинник, свои жалобы! Авось хоть черти почитают их на страшном суде.
Но что же вышло-то? Подвел, зарезал губернатора проклятый купчишка. Всучил, архиплут, через благоприятелей жалобу наследнику престола. По малому знакомству с отечественными обычаями история показалась неслыханной высоким петербургским гостям.
Губернатор еще пытался вначале приободриться: сам, мол, купец по злобе сел в сумасшедший дом. Еще имел смелость губернатор сопровождать наследника на приготовленную для высочайшего обозрения выставку местных промыслов и рукоделий. Для учености даже начал что-то бормотать высокому гостю о царе Тохтамыше. Черт его знает, почему подвернулся на язык!
Губернаторская карьера Ивана Антоновича Кувшинное Рыло по стечению непредвиденных обстоятельств неожиданно кончилась.
Приехавшие на выставку вместе с наследником воспитатель царственной особы поэт Жуковский и петербургский профессор Арсеньев обратили внимание на молодого чиновника, резко отличавшегося от приближенных низвергнутого вятского царька. Титулярный советник Герцен, высланный императором из Москвы за вольнодумство, давал на вятской выставке объяснения его августейшему сыну. И Жуковский и Арсеньев заинтересовались: как мог попасть в Вятку столь образованный молодой человек? Его история раскрылась. Петербургские гости обещали замолвить слово в столице.
Неужто придет, наконец, освобождение?
Царственный гость вместе со свитой покинул Вятку. Герцен жил надеждами. Надежды не сбывались.
А в Москве, в доме княгини Хованской, появились женихи – мерзкие букашки, как называла их Наташа. После семейных совещаний княгиня избрала наиболее подходящего кандидата – какого-то полковника.
Полковник, сидя за карточным столом, многозначительно вычерчивал мелом на сукне Наташин вензель. Княгиня возила будущую невесту по лавкам покупать приданое. Наташа ездила, но знала твердо: никто и никогда не разлучит ее с Александром.
Полковник по-прежнему вычерчивал на карточном столе заветный вензель и, учитывая презрительную холодность невесты, попросил прибавки приданого. Княгиня тотчас прибавила к обусловленному капиталу подмосковную.
Опасность, грозящая со стороны государственного преступника, сосланного в Вятку, все больше пугала княгиню-благодетельницу.
Наташу, осторожности ради, лишили свечей. Но она продолжала писать в Вятку при лампаде. Верные горничные по-прежнему выносили письма на волю. Наташа ждала: вот-вот княгиня соберет родственников и на семейном сборище ее врасплох объявят невестой… Но и этого нисколько не боялась. В таком случае и она объявит свое решение.
Должно быть, и кандидат в женихи понял: как возьмешь приданое, если не могут скрутить невесту? Не желая терять времени даром, полковник предпочел вычерчивать чей-то другой вензель, при других, более надежных обстоятельствах.
Приживалки княгини были разосланы в поисках новых букашек.
«Душно!» – писала Наташа Герцену.
«Душно!» – откликался он, измученный и ее и собственными невзгодами.
Попадись подобная переписка молодых людей в руки записного философа, что бы он мог из нее извлечь для суждения, скажем, о конечном блаженстве духа? Письма влюбленных не пользовались вниманием в холодном царстве науки наук. А трактатов, достойных названия философских, молодой чиновник канцелярии вятского губернатора не писал. Не считать же, в самом деле, философским трактатом безумную мысль молодого человека – смести все существующие на земле застенки! Нельзя же путать величественно-степенные идеи философии с призывом к бунту!
Философии не было дела до молодого человека, томившегося в Вятке.
Герцен жил надеждами на освобождение. Жуковский, вернувшийся в столицу, молчал. Профессор Арсеньев утешал неопределенными посулами, которые, может быть, осуществятся в следующем году. Хлопотал о ссыльном сыне Иван Алексеевич Яковлев, полагавший, что сын никогда не повторит ошибок молодости, – но сколько же раз отказывали Ивану Алексеевичу и в Москве и в Петербурге…
И вдруг – монаршая милость! «Перевести во Владимир», – начертал император на докладе шефа жандармов.
Глава десятая
Во Владимире Герцен оставался по-прежнему ссыльным и поднадзорным. Только сократились версты, отделявшие его от Наташи.
А в Москве, в доме княгини Хованской, появились новые женихи. Княгиня утроила хлопоты. В доме, в котором давно остановилась всякая жизнь, жила и развивалась всепоглощающая идея – сватовство Наташи.
В это время в Москву из Владимира стали ездить среди многих других путешественников ничем не примечательные люди. То выезжал в Москву, если верить подорожной, чей-то дворовый человек, то какой-то отставной поручик. И оба были подозрительно похожи на политического ссыльного Герцена.
И дворовый человек и отставной поручик, прибывши в Москву на рассвете, немедленно сворачивали на Поварскую, к дому княгини Хованской. Княгиня и приживалки спали сладким сном. Из мезонина в гостиную неслышно спускалась Наташа. Верные слуги стояли на страже, чутко прислушиваясь к каждому шороху.
Ни Наташа, ни Герцен не помнили, о чем они говорили в эти короткие минуты. Но заговор зрел.
Вешним днем 1838 года Герцен, снова тайно приехав в Москву, умчал во Владимир узницу из мезонина на Поварской.
Без колебаний ринулась Наташа в путь, грозивший беглянке многими опасностями. Оскорбленная княгиня Хованская могла обратиться даже к полиции.
Погони, однако, не было. И Наталья Захарьина стала во Владимире Натальей Герцен, что и было удостоверено записью в церковной книге о совершенном бракосочетании.
У молодых супругов не было ничего, кроме долгов. Экспедиция по увозу Наташи стоила немало денег.
Иван Алексеевич Яковлев, узнав о женитьбе сына, рассчитал, по-видимому, верно: чем и прижать непокорных, как не рублем? Он написал сыну:
«Не без огорчения узнал я, что бог соединил тебя с Наташей. Я воле божией ни в чем не перечу и слепо покоряюсь испытаниям, которые ниспосылаются мне. Но так как деньги мои, а ты не счел нужным сообразоваться с моей волей, то и объявляю тебе, что к твоему прежнему окладу не прибавлю ни копейки».
Смиренно отдавшись на божию волю, Иван Алексеевич еще больше уповал на могучую силу рубля. Только плохо, должно быть, знал он и сына и богоданную невестку.
Молодые сидели дома, как под арестом. Наташе не в чем было выйти. Она бежала в том самом платье, в котором была.
За окнами владимирского дома мирно дремала кособокая улица, да вслед редкому прохожему долго глядела, встревожившись, обывательская коза. Кто бы мог предположить, что живет здесь подневольный чудак, занятый писанием исторических исследований, повестей, драматических этюдов и многих других начатых сочинений! Да и путь, которым шел молодой человек, был тоже необыкновенный. Начал он с детской клятвы на Воробьевых горах, а едва вошел в годы, уже был объявлен государственным преступником.
Много ли таких на Руси? Откуда берутся? Чего хотят? Пишут о них, поднадзорных, полицейские донесения. И нигде, кроме полицейской словесности, нет ни единого намека на то, что нарождаются на Руси новые люди, которые идут нехоженой дорогой.
Вряд ли не единственной слушательницей сочинений Александра Герцена оставалась Наташа. Порой ей было страшно видеть это непрерывное кипение мысли, эту неиссякаемую энергию.
А рукописи складывались одна к другой. В них жили и смелые идеи, и поэзия, и опасные мысли (опасные, разумеется, прежде всего для самого вольнодумца), и несбыточные проекты.
Из Владимира шли письма друзьям, и прежде всего Николаю Огареву.
«Сколько раз, например, я и ты, – писал Герцен, – шатались между мистицизмом и философией, между артистическим, ученым и политическим, не знаю каким призванием… Причина всему ясная: мы все скверно учились, доучиваемся кой-как и готовы действовать, прежде нежели закалили булат и выучились владеть им…»
Не этим ли булатом хочет овладеть владимирский узник?
В том же письме Герцен подвел важный для себя итог:
«Кончились тюрьмою годы ученья, кончились с ссылкой годы искуса, пора наступить времени Науки в высшем смысле и действования практического».
Замечательное свойство новых на Руси людей: не мечтой, но точными знаниями, наукой в высшем смысле хочет руководствоваться Александр Герцен.
Далеко от Владимира, в пензенском имении отца, в Акшене, Николай Платонович Огарев трудился над философским трактатом, который, говоря кратко, должен был объяснить происхождение вселенной и указать математически точно законы, по которым развивалось человечество с самого своего появления на земле.
Трактат, или система, как называл свое сочинение автор, писался трудно. Автор понимал, что неудачи возможны и вероятны, если человек задумал обнять весь мир знания, если хочет провидеть начала и результаты идей, чтобы потом с твердостью и силой вступить на поприще практической деятельности.
А жизнь не хотела ждать. Еще до приступа к трактату Николай Огарев вместе с Александром Герценом и многими другими образованными молодыми людьми был арестован по обвинению в пении пасквильных песен. В результате Огарев оказался в ссылке, как и другие осужденные, но ему было оказано снисхождение – он отдан был под надзор отца, богатейшего пензенского помещика.
Тогда и появился философский трактат. Кроме того, Николай Платонович занимался химией и анатомией, лечил крестьян, переписывался с друзьями; задумал роман на тему о том, как гибнет порядочный человек в провинциальном обществе, и писал драму под названием «Художник». После этого он снова возвращался к химическим и физическим опытам или садился за трактат.
Но кому нужен трактат, начатый изгнанником в Пензе, если он наверняка не будет окончен? Кого могут заинтересовать сочинения другого изгнанника, обитающего во Владимире? Кто же допустит их к практической деятельности? Пусть себе марают бумагу. Известно, молодости даны короткие дни, недолгие ночи.
Но вот распахнулись перед узником двери: Герцену было разрешено ехать и в Москву и в Петербург. Из Владимира Герцены вывезли первенца – сына Сашку, гору рукописей и короб разнообразных замыслов.
В Москве, на перепутье к Петербургу, молодой человек встретился наконец вплотную с философией. На смену прежним спорам в студенческих кружках пришло преклонение перед Гегелем. Виссарион Белинский добровольно наложил на себя философские цепи и проповедовал примирение с действительностью.
Герцен был поражен. Как?! Только для того и спустилась философия на землю, чтобы проповедовать людям пассивность и созерцательность?
У Герцена было немалое преимущество перед московскими друзьями. Он хорошо знал, какова она, российская действительность, которую ему советовали теперь принять во имя философской доктрины. Порочна, значит, примирительная доктрина!
Друзья-противники резко поспорили и разошлись.
Белинский уехал в Петербург, чтобы встать у руля «Отечественных записок». Герцен засел за Гегеля. Он разобрался в этом учении с удивительной быстротой.
Безвестный кандидат Московского университета проявил невероятную дерзость по отношению к признанному авторитету: он откинул шелуху абстрактных формул Гегеля, оценив в его учении главное – диалектику, которую и назвал алгеброй революции. Молодой человек понял, что новая философия должна вмешаться в человеческие дела и стать научным орудием революционного преобразования жизни.
Переехав в Петербург, Герцен снова встретился с Белинским. Российская действительность, представшая перед Виссарионом Белинским в столице, была такова, что раз навсегда исцелила его от всякого примирения с ней. Теперь друзья быстро поняли друг друга. Применительно к будущему России было произнесено знаменательное слово: революция.
Друзья были согласны и в другом: всякая революция будет бесплодна без социального переворота. Какие силы могут произвести такой переворот – этот вопрос оставался неясным. Но дерзкие молодые люди, делясь мыслями, пополнили для себя учение французских философов Сен-Симона и Фурье тем революционным духом, которого этим учениям не хватало.
Ну что же важного может быть в том, что сошлись какие-то молодые люди в Петербурге и взапуски судят о делах, до них не касающихся? Бывает, однако, малый ручей, от которого берет начало могучая река. От знамени, на котором написано: «Революция и социальность», в страхе отшатнутся многие люди, склонные к свободолюбию до тех пор, пока не звучит грозное слово.
Так оно и случилось, когда заговорил о революции Виссарион Белинский на сходке у Панаевых. Пусть же отшатнутся от одного имени революции те, кому суждено коснеть в либерализме, – тем сильнее станет будущий лагерь революционных демократов. Герцен и Белинский нашли друг друга, чтобы никогда больше не расходиться.
А над Герценом уже нависли новые тучи. В одном из писем Александр Иванович рассказал о происшествии, известном всем петербуржцам: некий страж порядка, будочник, повинился в убийствах, совершенных им для грабежа. Письмо Герцена было перлюстрировано. Колесо следствия завертелось. О новом преступлении бывшего ссыльного был срочно представлен доклад царю.
– Опять из тех, московских?! – переспросил, хмурясь, Николай Павлович. Он имел хорошую память. – Вернуть его в Вятку. В Вятку! – грозно повторил император.
Герцена опять сослали, однако не в Вятку, а в Новгород.
Глава одиннадцатая
Заседания новгородского губернского правления были похожи на сходки мертвецов. Молча подписав бумагу, губернатор передавал ее ближайшему чиновнику, тот подписывал не глядя и передавал соседу. Только и слышен был шелест бумаги, словно мертвяки собрались развлечься им одним ведомой игрой. Но от этих бумаг зависела участь целой губернии.
Советник Герцен возвращался домой. За окнами необжитой квартиры виднелись каланча, гостиный двор и будочник на углу. Смотри хоть всю жизнь – все то же: будочник, растворы мрачных лавок гостиного двора и пожарная каланча, по которой ходит и ходит дозорный.
– Только бы вытерпеть! – повторял Герцен, но тотчас перебивал себя: – Нет, мои плечи не сломятся… А Наташа?
Наташа тоже знала теперь горечь подневольных дорог. Знала она и цену невозвратимых утрат. В Петербурге в те тревожные дни, когда к Герцену являлся либо квартальный надзиратель, либо жандармский офицер, либо его самого возили на допросы к высшим жандармским сановникам – и все из-за письма о будочнике-убийце, – в эти дни из-за крайнего волнения Натальи Александровны погибло ее новорожденное дитя, и Сашка снова остался их единственным сыном.
В Новгороде прибавилась еще одна новая могила: у Герценов умерла новорожденная дочь. Страшны были те дни в квартире ссыльного советника губернского правления.
А потом вошел в эту квартиру человек, закутанный в шарфы, промерзший в своей вытертой от времени шубейке. Виссарион Григорьевич Белинский заехал в Новгород по пути в Москву.
В Новгороде, остановись у Герценов, увидел Белинский и скорбь отца и неутешные слезы матери.
– Что сказать о себе? – медленно, с трудом отвлекаясь от печальных событий, начал Герцен. – Путешествие в Новгород пробудило во мне ярость. Должно быть, мало было для меня прежних обо мне забот со стороны правительства. Но что делать ссыльному? Как развязать руки? Хочу прежде всего подумать об отставке. У меня кровь стынет от одной мысли, что какой-нибудь несчастный, придя искать правды в губернское правление, может и меня принять за одного из этих чудовищ, облеченных властью. В отставку! В отставку! – – повторял Герцен. – Ты один счастлив из всех нас! – сказал он Белинскому. – Ты один действуешь в журнале изо дня в день!
Но уехал Белинский, и Новгород для Герцена снова опустел. Вглядываясь в будущее, снова скажет Александр Иванович жене:
– Я рожден для трибуны, для форума, как рыба для воды! А ему предоставлено единственное рыбье право – молчать.
Но почему же допоздна горит свет в кабинете советника Герцена? Пройдут мимо чиновники, возвращаясь с очередной пирушки:
– Не зря жжет свечи наш советник. Чего только полицмейстер смотрит?
А полицмейстеру и дела нет: есть в губернском правлении советник Герцен – ему по должности положено наблюдать за политическими ссыльными.
Так и горят свечи у Александра Ивановича чуть не до утра. А то медленно, со скрипом откроется дверь и в кабинет войдет Наташа. Ей тоже не спится. Всякое бы горе победила любовь. Но нет у них будущего. Заказаны им пути-дороги из чужого города, насильно навязанного судьбой. И кажется, что вечно будет в этом городе лютовать зима да морозы.
Все так же необжитой оставалась новгородская квартира. А утром советник Герцен шел по заснеженным улицам в губернское правление; на заседаниях губернатор, подписав бумагу, все так же молча передавал ее ближайшему чиновнику. Мертвяки с неизменным усердием правили службу его величеству.
Двадцать пятого марта 1842 года, в день своего рождения, Герцен сделал запись в дневнике: «Тридцать лет!.. и восемь лет гонений, преследований, ссылок…»
К весне роман, который начал писать Александр Герцен о семействе Негровых, о Любоньке и Круциферском, вовсе остановился. Герцен подал в отставку и ждал решения из Петербурга.
Трудно было угадать, как отнесутся к вольнодумцу в столице. Его прошение об отставке представят, конечно, царю – кто же решится взять на себя решение столь важного государственного дела! Царь грозно нахмурит брови и прикажет… Кто знает, что прикажет самодержец?
Самодержец не раз тратил драгоценное время на то, чтобы писать резолюции о молодом человеке, имя которого узнал в свое время из дела о московских вольнодумцах. Император и теперь нашел время заняться беспокойным подданным. Было приказано уволить советника губернского новгородского правления Герцена в отставку по его просьбе, даже с награждением следующим чином за усердную службу. Одновременно ему же предписывалось отбывать дальнейшую ссылку в Новгороде.
Прочитал высочайшее повеление Герцен, и потемнело у него в глазах. Можно сказать, что Новгород затянуло беспросветной тьмой. Даром что по весне обмылось первыми дождями северное небо и светлее стали холодные воды Волхова; даром что косяками летели перелетные птицы, оглашая воздух переливчатым шумом; даром что на вешнем небе все чаще играли далекие зарницы.
Человеку, рожденному для форума и кафедры, предлагалось смириться с жизнью отставного чиновника и жить без срока, без надежды в городе, где все еще властвовал угрюмый дух временщика Аракчеева. Можно ли выбрать город страшнее и дальше от жизни? А рядом истаивает Наташа, его единственная на всю жизнь любовь.
Герцен начал новые хлопоты в столице, ссылаясь на болезнь жены. Он должен показать ее опытным медикам, если не в Петербурге, то хотя бы в Москве.
Наташа и в самом деле плохо поправлялась после ужасов, пережитых в Петербурге, и потери второго ребенка в Новгороде.
Весна на севере незаметно уступает место лету. Еще не потеплели дни, но на Волхов выплывают лодки и слышатся издали щемящие звуки русских песен. А кому они нужны здесь, в городе присутственных мест и купеческих амбаров?
Совсем посветлели ночи, но мертвым сном объяты улицы. Лишь древний кремль смотрится в спокойные воды Волхова, отражаясь в них, как в воздушной светлоте. Но кому дорог здесь этот памятник народного величия, когда в кремлевском соборе кощунственно хранят, как святыню, записки проклятого народом Аракчеева?
Все душевные силы Александра Герцена слились в одном чувстве ярости против насилия, управляющего страной. Но это не были прежние чувства молодого человека, вооруженного для борьбы только неудержимым пылом. Настало время науки в высшем смысле и действия практического. Герцен засел за философское сочинение, в котором звал науку наук на службу человечеству.
В Петербурге появилась в это время еще одна высочайшая резолюция, изменившая участь ссыльного. Ему разрешено было ехать в Москву – с тем чтобы оставаться и здесь под полицейским надзором.
Экипаж тронулся из Новгорода в жаркий июльский день 1842 года. Герцен вез в Москву начатый роман, незаконченные философские статьи, дневники, наброски. В будущее летели мысли. В одном только не заблуждался полупрощенный узник: в империи Николая I нет для него ни кафедры, ни форума…
В малом доме на Сивцевом Вражке все еще устраивается жизнь. А потом, усталые, сядут Герцен с женой в кабинете и оглянутся на прожитые годы. Какой долгий и трудный пройден путь! Они вспоминают дом княгини Хованской и незабываемое свидание в Крутицких казармах; вспоминают вятскую разлуку и счастье, обретенное во Владимире. Когда речь заходит о Петербурге, Наташа содрогается: никогда не забыть ей нового гонения на Александра и детской могилы, оставленной там. Наташе кажется, что дни, проведенные после Петербурга в Новгороде, текли, как пустые и холодные старческие слезы.
«Нет, нет!» – сама себе возражает Наталья Александровна. Всюду и везде, несмотря на горести, они все-таки были счастливы с Александром. И как забыть? В Новгороде Александр начал свой роман; исполнился ее давний совет: писать! И там же, в Новгороде, оставив роман, Александр со всей страстью души повернулся к философии. Философия! О ней кое-что знает теперь Наташа.
Будто давний сон, вспоминаются ей девичьи дни, проведенные на Поварской. Нелегко было пробуждение, но ни за что на свете не вернулась бы она теперь к прежней мечтательности.
А может быть, сама Москва изменилась? Раньше как-то не замечала Наташа на московских улицах истощенных поденщиков, бредущих с работы. Теперь ей нестерпимо сидеть за роскошным столом, уставленным драгоценными ненужностями. Конечно, ей, может быть, и трудно усваивать философские истины, но она умеет видеть неправду в жизни.
– И все-таки мы с тобой счастливы, Александр, – говорит Наташа. – Помнишь, ты сказал как-то, что никакие исключения не могут отменить общего правила? Пусть так! Но когда-нибудь эти исключения сами станут законом жизни.
– А знаешь, что нужно для того, чтобы не было бедствий на земле? О, самая безделица: только уничтожить беззаконные привилегии меньшинства. Даже враги развития человечества понимают это и трепещут. Нелепость случайного распределения богатства, нелепость гражданского порядка, приносящего в жертву интересы огромного большинства, невозможность равенства при таких условиях очевидны для каждого, кто видит дальше собственного носа. Чего же проще – лишить привилегий меньшинство? Но владельцы этих привилегий никогда не откажутся от них добровольно. Вот тебе и безделица! Эти привилегии можно уничтожить только силой. Но тут-то и кончается вся простота. Где взять силы, способные произвести такой переворот?
Сам Александр Герцен, пишущий трактат о новой философии, не знает ответа на этот вопрос. И никто не знает.
Никто? Но уже живет и действует человек, который закладывает первые камни в фундамент будущей философии. Та философия выйдет на площадь и совершит переворот и в сознании и в жизни людей.
Мыслитель, который укажет путь человечеству, живет далеко от России. Имя Карла Маркса не значится среди корифеев философии. Но именно этот человек откроет своим именем новую эру в науке.
Глава двенадцатая
«Да будут все страницы этой книги и всей твоей жизни светлы и радостны…» Надпись сделана Натальей Герцен на тетради, которую подарила она мужу для дневника.
Есть люди, которые с огромным трудом выработали в себе внутреннюю свободу. Один из таких людей стоит рядом с ней, Натальей Герцен. Пусть же будут светлы и радостны все дни его жизни!
Но еще не отцвело московское лето, еще даже издали не смеет заглянуть в кабинет Александра Ивановича хмурая осень, а в его дневнике появляются одна за другой горестные строки:
«Я увлекался, не мог остановиться – после ахнул… Подл не факт – подл обман…»
Отвлечется Герцен от дневника, потом снова возвращается к сокровенным признаниям: «Я добровольно загрязнился».
Что же могло случиться в доме, где живет любовь, выдержавшая все испытания?
А вот – случилось…
Однажды Герцен, задержавшись у друзей, вернулся домой на рассвете. Двери ему открыла горничная, девушка редкой красоты, едва пробудившаяся от сна. Александр Иванович хотел пройти к себе задними комнатами, чтобы никого не будить, и пошел следом за горничной…
Александр Иванович мог поддаться непреодолимому зову крови, но он не мог унизить себя и Наташу ложью.
Наташа долго ничего не могла понять. Слушала, чуть склонив голову, руки неподвижно лежали на коленях, глаза были строги и сухи.
– Вот и нет нашей любви, – тихо сказала наконец Наташа и сделала беспомощное движение руками, словно хотела собрать какие-то черепки, лежавшие у ее ног.
Смятенный грешник поглядел на нее с удивлением. Он готов был принять любое возмездие, но не мог понять одного: как можно мешать сюда их любовь?
– Вот и нет нашей любви, – еще раз повторила Наташа и смолкла.
Она могла казнить его, и он принял бы любую казнь. Вместо того она казнила их любовь.
В тот же день Наташа заболела.
Похудевшая, печальная, Наталья Александровна бродила по дому, как тень. Все чаще остается Сашка с нянькой. Все нянькины морщины он знает, все ее сказки наизусть помнит. И становится ему скучно.
– Мама! – Сашка бросается навстречу матери: теперь-то наслушается он сказок!
Наталья Александровна молча ласкает сына. Сашка терпеливо ждет. Потом вежливо напоминает:
– Ну, мама!
– Что тебе, Шушка?
– А куда пошла царевна? Помнишь?
– Вот и пошла она, Шушка, в далекое, светлое царство.
– К царевичу, – подсказывает Сашка.
– К царевичу, – соглашается Наталья Александровна. – «Спаси меня, премудрый царевич, от злых людей!» Вот шла царевна и шла, и как вошла в светлое царство, тут и заблудилась.
– Насовсем? – пугается Сашка. – Да ну же, мама! – торопит он. Даже нянька и та знает, что спасет царевну премудрый царевич. Уже слышится в лесу конский топот.
Сашка оглядывается. А мать опять ушла.
Тихо проходит Наталья Александровна подле кабинета мужа. Герцен прислушивается – шаги затихают. Прошла мимо, мимо! Охватил в отчаянии голову руками.
Они научились не касаться происшедшего. Тогда приходило обманчивое успокоение. Иногда утро заставало их за мучительным разговором, начавшимся с вечера. Впрочем, и утра не было.
Наташа ни в чем не упрекала мужа. Эта маленькая, хрупкая женщина молча приняла удар. Может быть, теперь и настало время, чтобы ей устраниться?..
За окнами тревожно шумели липы. Осень обрывала с них пожелтевшие листья. Москвичи начали съезжаться с дач.
Как-то в сентябре Герцен заехал к Грановскому. Тимофей Николаевич был расстроен.
– Читал? – спросил он, указывая на сентябрьскую книжку «Отечественных записок».
– Что же могло тебя огорчить?
– Не понимаю я Виссариона, вернее, перестаю понимать.
Грановский раскрыл статью Белинского «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» и, слегка заикаясь от волнения, стал читать вслух:
– «Неужели в иностранных романах и повестях вы встречаете все героев добродетели и мудрости? Ничуть не бывало. – Тимофей Николаевич сделал паузу и продолжал читать с особым ударением: – Те же Чичиковы, только в другом платье: во Франции и в Англии они не скупают мертвых душ, а подкупают живые души на свободных парламентских выборах! Вся разница в цивилизации, а не в сущности. Парламентский мерзавец образованнее какого-нибудь мерзавца нижнего земского суда, но в сущности оба они не лучше друг друга…»
– Ну, что скажешь? – спросил Грановский, откладывая журнал.
– Всей душой радуюсь за Белинского. Ему принадлежит, как всегда, важная мысль: Чичиков, порожденный нашей жизнью, воплощает чичиковщину, давно присущую западному миру.
– А я, – перебил Грановский, – дивлюсь Белинскому и скажу: не могу понять, чего он хочет. Помилуй, если мы, пребывая в нашей российской гнусности, будем охаивать парламентский строй и говорить о продажных выборах в Европе, где найдем тогда пример для России? Надо вовсе потерять чувство российской действительности, чтобы, коснувшись европейского уклада, написать: «Вся разница в цивилизации, а не в сущности». Опрометчиво и недальновидно высказался Виссарион Григорьевич!
– Я же подписываюсь обеими руками под каждым его словом!
Грановский взглянул на гостя с беспокойством, но Герцен не колеблясь продолжал:
– Нет нужды играть в прятки с истиной. Там, где властвуют деньги, все подчиняется закону купли-продажи. Пусть младенцы верят в эту свободу.
– А весь прогресс, завоеванный Западом, прикажешь скинуть со счетов? И только потому, что где-нибудь бесчестие нагло воспользовалось правом, предоставленным гражданину? – Грановскому трудно было сохранить обычную свою мягкость. – Какое огульное и поспешное суждение!
– Нимало, Грановский! В том и заслуга Гоголя, что он показал нам приобретателя, начинающего свой путь в России, а на Западе приобретатели давно управляют государственной машиной. Белинский только расширил и правильно истолковал мысль, которую не досказал Гоголь. Поверь, наши Чичиковы тоже сменят свои кафтаны на европейские фраки, и тогда…
– Да сейчас-то чего хотите вы, безумцы? Вместо того чтобы искоренять нашу азиатскую дикость, вы охаиваете те порядки, которые еще надолго останутся для нас недосягаемым идеалом. Как не понять такую простую истину?
Грановский был взволнован не на шутку.
– Неистовому Виссариону видится революция. А в России еще печатают объявления о продаже живых людей. Я тщетно хотел вернуть Белинского к историческому мышлению. Но ему угодно оставаться фантазером. Остается умыть руки.
В кабинет вошла Елизавета Богдановна. Грановский встретил жену извиняющейся улыбкой.
– Прости, если мы опять расшумелись. И даю слово, не буду больше тебя тревожить.
Разговор оборвался…
Случись такой разговор раньше, Герцен непременно рассказал бы о нем Наташе и, может быть, размышляя вслух, сам бы развеял свои тревоги: неужто даже с близкими друзьями придется когда-нибудь столкнуться?
Глава тринадцатая
«Для нашего времени, – писал в «Отечественных записках» Белинский, – мертво художественное произведение, если оно изображает жизнь для того только, чтобы изображать жизнь… Наш век решительно отрицает искусство для искусства, красоту для красоты».
Но разве точно так же не звал Александр Герцен и философию спуститься с облаков на землю?
Далек от жизни малый дом на Сивцевом Вражке. Как было не позавидовать Виссариону Белинскому! Он так и не ехал в Москву, но появлялся в каждой книжке «Отечественных записок».
Борьба вокруг «Мертвых душ» обострялась. Московские друзья Гоголя начинали новый поход за присвоение писателя. Застрельщиком оказался на этот раз Константин Аксаков. Он выпустил брошюру о «Мертвых душах», в которой приписывал Гоголю странную роль: будто бы автор «Мертвых душ» возродил величие древнего эпоса. Обличитель мертвых душ был представлен читателям чуть ли не современным Гомером. Это было нелепо, но восторженное величание Гоголя в столь мало подходящей ему роли должно было послужить обличению ненавистного Запада. Константин Сергеевич Аксаков торжественно провозглашал: в то время как на Западе роман выродился в ничтожную повесть, на Руси своебытно возрождается великий эпос. А далее открывался полный простор мистическим провидениям московского пророка о содержании будущих частей поэмы Гоголя.
Белинский показал всю нелепость этих песнопений, но поделился с читателями своей тревогой. Наступило время прямо сказать о той непосредственной силе творчества Гоголя, которая составляет пока величайшее его достоинство, но отводит ему глаза от идей и нравственных вопросов, которыми кипит современность.
К статье было сделано Белинским обширное примечание. Он обещал читателям подробный разбор сочинений Пушкина, за этим разбором последует разбор всех сочинений Гоголя – до «Мертвых душ» включительно; далее – разбор сочинений Лермонтова. Все эти разборы составят как бы одно критическое сочинение. Историческая и социальная точка зрения будет положена в основу этих статей. Поговорить будет о чем! – закончил Белинский.
– Еще бы! – откликается Герцен, читая «Отечественные записки», и снова завидует Белинскому. Если бы приехал он в Москву! На свете есть только один человек, которому можно до конца открыть душу.
Но Белинский не ехал. Конечно, его держала в Петербурге спешная работа для журнала. Но только ли работа мешала поездке? Ехать в Москву – это значило прийти к Марии позвать ее, такую же одинокую, как и он сам: «Будем вместе!» А имеет ли на это право человек, изнуренный болезнями, над которым висит страшное слово – чахотка? Имеет ли право на семейный очаг поденщик пера, заработок которого зависит от того, сможет ли он подняться с постели и встать за рабочую конторку? Может ли он звать Мари в это будущее, такое неверное, что и назвать его будущим можно не иначе как с горькой иронией?
Работа отгоняла тревожные мысли; работа давала возможность убедить себя самого: нет никакой возможности ехать в Москву.
Но стоило себя в этом убедить, как холодела душа. Неужели так и суждено ему мыкаться бездомным бобылем?
А в Москве он прежде всего привел бы Мари к Герценам: «Смотрите, Мари, как полно и разумно могут быть счастливы люди, нашедшие друг друга!» Потом подвел бы нелюдимую Мари к Наталье Александровне: «Подарите вашу дружбу Мари! Нет на свете дружбы нужнее и надежнее, чем ваша!» – в этом никогда не сомневался Белинский с того дня, когда узнал Наталью Герцен.
Виссарион Григорьевич мечтал, потом вздыхал, потом принимался за работу. И все больше кашлял от осенней непогоды.
В Петербурге никогда не поймешь, льют ли еще осенние дожди или уже сыплется с невидимого неба такой же мокрый снег.
Не то в Москве. Конечно, зиму нигде не зовут. А коли пришла, делать нечего – милости просим! Белешеньки стали московские улицы, громоздится сугроб на сугроб, а зиме все мало: не хотите ли, люди добрые, отведать морозцу?
Вся твоя воля, матушка зима. Известно, от мороза и кровь лучше играет! И сами подбрасывают дровишек в печь: так-то оно надежнее.
Клубятся сизые дымки над снежными просторами; из окон спозаранку ложатся поперек улиц дрожащие желтые тени; за скрипучими калитками брешут сторожевые псы. Но чу! Летят по первопутку крылатые тройки: к Яру, к цыганам!
Кому – цыгане и шампанское в серебряном ведерке со льдом, а кому – одна вековечная дума: долго ли, зима, будешь лютовать?
Молчит, захлопотавшись, зима, а из ночной мглы мчатся ведьмы-вьюги. Они теперь все заметут, – эх, жги, говори!
В поздний ноябрьский вечер в дневнике Александра Ивановича Герцена появилась новая короткая строка: «Писал статью о специализме в науке». А вот и самая статья: «Дилетанты и цех ученых».
Александр Иванович пишет, не поднимая головы, – перо не успевает за мыслью. Да и не к чему ему отрываться от рукописи. В кабинете нет, как бывало, Наташи. А может быть, вьюга-ведьма, разыгравшись, гукает в печную трубу: «Нет на свете никакой любви, нетути!»
Сотворить бы Наташе, как в прежние годы, молитву, но и молитвы теперь нет. Вместе с Александром ушла она от наивной девичьей веры. А новая вера в свободного человека тоже разбилась.
В комнату неслышно вошел Александр Иванович:
– Не спишь, Наташа?
– Не спится… – Посмотрела на мужа долгим взглядом. – Помнишь, когда ты привез меня ко Владимир, мы проговорили всю ночь…
– А утром тебе прислали розы. Помнишь?
– Да, розы… – повторяет Наташа и задумывается. – Ты опять из-за меня оторвался от работы. Ну, ступай, я не хочу тебе мешать.
И опять допоздна горит свет в кабинете Александра Ивановича. Без остановки бежит по бумаге перо. Горе вам, цеховые ученые, покорные слуги предрассудков!
Но кто же он такой, этот цеховый ученый? Это величайший недоросль между людьми. Такой ученый теряет даже первый признак, отличающий человека от животного; он боится людей, он отвык от живого слова. Такие ученые – это чиновники, это бюрократия науки, ее писцы, столоначальники, регистраторы. Искалеченные сами, они калечат юношей, вступающих в науку. Юношей вталкивают в бесконечные и бесполезные споры; бедняги мало-помалу забывают все живые интересы, расстаются с людьми и современностью; они привыкают говорить и писать напыщенным и тяжелым языком касты, считают достойными внимания только те события, которые случились за восемьсот лет.
Когда Герцен уезжал из дома, Наташа приходила в кабинет, зажигала свечи, читала неразборчивые черновики.
Она всегда знала, что Александра ждет большое поприще. Слава богу, он снова работает. А она, устраненная из его жизни, больше не будет ему мешать. Наташа совсем не думает о себе, у нее нет будущего, только прошлое. Это прошлое и будет она хранить как святыню.
Погасит свечи и опять уйдет к себе. Но трудно, очень трудно жить прошлым. По какому-нибудь неотложному делу Наталья Александровна опять зайдет в мужнин кабинет, заглянет через плечо в его рукопись.
– Наташа!
Он возьмет ее руку и надолго задержит в своей. Рука у Наташи такая же холодная, как была когда-то, когда она пришла к нему, узнику, в Крутицкие казармы…
– Наташа!
А вместо того начинается мучительный разговор, и оба, обессиленные, никнут.
Однажды, заглянув в рукопись мужа, Наташа прочла знакомое имя: Гегель. Герцен коснулся Гегеля в той же статье, в которой завершал бой с цеховыми учеными. Не потому, конечно, что причислял к ним великого мыслителя. Но и на Гегеле ясно сказались приметы времени:
«Гегель часто, выведя начало, боится признаться во всех следствиях его и ищет не простого, естественного, само собой вытекающего результата, но еще чтобы он был в ладу с существующим…»
Так писал о властителе дум Европы русский отставной чиновник, самозванно ворвавшийся в царство философии. Александр Герцен увидел смелость философских посылок Гегеля и удивительную робость его выводов.
Герцен отвел Гегелю его историческое место и смело пошел к будущему. Пусть незваный и непрошеный пришел он в философию. Он послужит истинной науке, рождение которой предвидит.
Часть третья
Глава первая
У классной дамы московского института благородных девиц Марьи Васильевны Орловой есть заветная шкатулка, в которой хранит она драгоценности. Здесь нет ни золота, ни бриллиантов. Аккуратно сложены старые письма от институтских подруг. Разлетелись подруги по белу свету, повыходили замуж, обзавелись семьями, а ей, Мари, оставили восторженные письма. Вот, собственно, и все, что уцелело у Мари от юности.
Хранится с недавнего времени в заветной шкатулке еще список поэмы «Демон», присланный из Петербурга, и письмо, написанное той же рукой.
Перечитает Мари письмо, заглянет в «Демона» и надолго задумается: господи, что же в ее жизни произошло?
Смутно вспоминаются детские годы в отчем подмосковном доме. Отец ее, незадачливый сельский священнослужитель, водил излишне тесную дружбу с языческим богом Бахусом и за то был гоним духовным начальством.
Когда кончились для Марьи Васильевны годы учения, она стала мыкаться по барским домам в звании гувернантки. Хлеб, зарабатываемый собственным трудом, оказался не менее черствым, чем тот, который вкушала она в родительском доме. Судьба впервые улыбнулась ей, когда она получила место классной дамы в том самом институте, в котором когда-то рассталась, рыдая, с беспечными подругами.
Конечно, московский Александровский институт не шел в сравнение, скажем, с петербургским Смольным институтом, куда запросто ездили и император и императрица. В Смольном воспитуемые девицы считались между собою знатностью с большим знанием родословных. В московском институте питомицы набирались с бору да с сосенки. И начальницей в этом институте была не титулованная и кавалерственная статс-дама, а просто мадам Шарпио.
К мадам Шарпио заезжали гости – покровители просвещения. Но если гостем был даже сановник-звездоносец, то из отставных, живущих на покое в Белокаменной. Дамы, приезжая с визитом к начальнице института, рассказывали последние новости из петербургских сфер, но, увы, дошедшие до них из вторых или из третьих рук.
Мадам Шарпио восполняла досадные изъяны действительности строгим соблюдением этикета. Когда приезжали в институт почтенные особы, высокой честью для классных дам было приглашение к начальнице – разливать чай.
Марья Васильевна Орлова удостаивалась этой чести, быть может, чаще, чем другие.
Когда гости разъезжались, Марья Васильевна уходила в свою комнату, похожую на монастырскую келью; от уныло окрашенных казенных стен веяло сверкающей чистотой и холодом.
– Кто был у мадам Шарпио? О чем говорили? – нетерпеливо расспрашивала Марью Васильевну младшая сестра Аграфена, жившая при ней.
Аграфене Васильевне всегда казалось, что Мари принесет от начальницы удивительные, неслыханные новости, после чего переменится вся жизнь.
Вместо ответа Марья Васильевна снисходительно улыбалась и ласково гладила взбалмошную головку Аграфены.
Мари давно ничего не ждала. Чего ждать девице-бесприданнице, которой исполнилось – страшно сказать – тридцать лет! Правильные черты лица Мари приобрели чуть заметную суровость; на тонких губах стала реже появляться улыбка.
Будущее, казалось, не сулило Мари ни надежд, ни огорчений.
И вдруг… Впрочем, это случилось совсем не вдруг. У Мари была подруга, тоже мыкавшаяся в гувернантках. Брат подруги, студент Московского университета, дружил со многими молодыми людьми. Среди них был молодой человек, не то угрюмый, не то стеснительный, с редким именем Виссарион. Было известно, что Виссарион Белинский участвует в журналах; порой Мари приходилось о нем слышать и даже читать его статьи. Впрочем, все это не имело никакого отношения к тому миру, в котором жила Мари.
В этом мире все определялось расписанием уроков, дежурствами в классах и дортуарах, посещением церкви с воспитуемыми девицами да время от времени неотложной заботой о починке платья или башмаков. И вся жизнь в институте звала к нерушимому порядку. Только почему-то, когда Марья Васильевна разливала чай у мадам Шарпио, гости начальницы иногда казались ей нестерпимо скучными. Сама мадам Шарпио понятия не имела о том, в каких страстных порывах бесплодно сгорает, душа Мари, так ловко хозяйничающей за чайным столом.
Молодой человек с редким именем Виссарион сначала не занимал места в ее мечтах. В этих мечтах все было так неопределенно и странно, так светло и непривычно, так беспокойно и радостно, а потом так тревожно и томительно, что Мари ничего не могла понять. Может быть, она заболевает?
Институтский медик выслушивал ее жалобы на переутомление, на расстройство нервов и прописывал холодное обливание по утрам и успокоительные капли перед едой. Он всегда будет повторять этот рецепт, равнодушный эскулап, ничего не знающий о томлениях поздней девичьей весны!
Виссарион Белинский переехал в Петербург. Слухи о его деятельности в «Отечественных записках» стали доходить до Мари и чаще и определеннее, а встречи стали еще более случайны и редки. Только однажды им пришлось разговориться.
Белинский заинтересовался преподаванием в институте русской словесности. Разговор повернулся к Пушкину. Говорил, конечно, Белинский, а Марья Васильевна слушала. Однако они даже поспорили о пушкинской Татьяне. Марья Васильевна стояла на том, что главное в жизни – долг перед богом и людьми. Виссарион Григорьевич говорил о святой свободе чувства. Как всегда, в споре он ужасно горячился. Ну и что из того?
Даже Аграфена, вечно ожидавшая каких-то чудес, пропустила рассказ сестры мимо ушей. Она сделала вид, что ничего не замечает, и тогда, когда Мари решилась на безумство и послала в Петербург вышитый ею бумажник.
Пожалуй, и «Демоном» Аграфена завладела раньше, чем пришла в себя Мари. Аграфена осталась совершенно равнодушна к коварным речам обольстителя Тамары. Аграфена Васильевна больше всего хотела добраться до тайного смысла аллегорической посылки. Но что могла объяснить Мари?
Виссарион Белинский не походил ни на одного из героев, созданных воображением Аграфены Васильевны Орловой. Герои блистают на балах, лорнируют дам, играют их сердцами, похищают возлюбленных, дерутся на дуэлях, проигрывают и выигрывают состояния и, в крайнем случае, пишут стихи. Но кто из них будет писать журнальные статьи?
– Кри-ти-ческие! – раздельно повторяла Аграфена, вкладывая в это слово откровенное разочарование.
Мари, смущенная, растерянная, улыбалась. Первый раз в ее жизни появилась тайна, от которой захватывало дыхание. А время шло.
– Обязательно и скоро явится Виссарион Григорьевич в Москву! – заверил ее Василий Петрович Боткин, вернувшийся из Петербурга
Он заехал в институт, передал привет и, рассказывая о петербургской жизни, поглядывал на Мари с улыбкой, за которой не мог скрыть снисходительное недоумение: только Виссариону Белинскому могло прийти в голову влюбиться в эту стареющую девицу!
А потом и вовсе забыл Василий Петрович Боткин путь в Александровский женский институт.
Мари стала аккуратной читательницей «Отечественных записок». Небывалое занятие для девицы, служащей под начальством мадам Шарпио!
Журнальные книжки приходили одна за другой. Это значило, что течет месяц за месяцем, но ничего не приносили они снедаемой беспокойством Мари. Она, кажется, и не заметила, как вплотную пришел 1843 год.
Аграфена гадала на картах, лила воск, – надо было хоть чем-нибудь помочь бедняжке Мари, – но сколько ни старалась сострадательная Аграфена, судьба не пожелала дать ни одного положительного намека на будущее Мари. Расхрабрившись, Аграфена спрашивала имена у прохожих на улицах. Прохожие называли разные имена, но никто не объявил себя Виссарионом. Это было утешением для Аграфены. Она по-прежнему не считала подходящим для Мари героем автора критических статей.
Недомогания Мари усилились. С согласия мадам Шарпио, Аграфена нередко заменяла Мари на дежурствах. Ведь и младшая из девиц Орловых тоже окончила институтский курс. Она тоже могла быть классной дамой. Но, конечно, она еще не удостаивалась чести разливать чай у мадам Шарпио. Вынуждена была избегать этих почетных приглашений и сама Мари. Бедняжка! У нее стали сильнее дрожать руки. Она, бывало, и вся дрожала мучительной нервической дрожью, с которой не могла совладать. Но именно теперь Мари решительно отказывалась обратиться за советом к медикам.
Однажды, ссылаясь на недомогание, она попросила Аграфену взять на себя дежурство в классе. Едва Аграфена удалилась, Марья Васильевна раскрыла «Отечественные записки». То был первый номер журнала, вышедший в 1843 году. Книжка открывалась обзором русской литературы за прошлый год. Мари углубилась в чтение. И, неожиданно для себя, огорчилась. Белинский писал, что авторы, приверженные к наивному верхоглядному романтизму, не поняли ни Шекспира, ни Байрона, ни Шиллера, по-детски взяв у Шиллера лишь «деву неземную да любовь идеальную…».
Марья Васильевна огорчилась еще больше. Разве не может быть идеальной любви? Над чем тут смеяться? А Белинский и далее иронически писал о повестях с сахарной любовью, мышиным героизмом и тому подобным вздором. Горько улыбнулась Мари: как же может любить человек, который способен называть любовь сахарной?..
Сухи показались Мари и те страницы обзора, на которых Белинский говорил об успехах русской литературы: «Сближение с жизнью, с действительностью, есть прямая причина мужественной зрелости последнего периода русской литературы».
Мари читала, недовольно сжав губы. Что же остается для тех, кто, убегая от унылой действительности, хочет отдаться грезам?
Когда с дежурства забежала Аграфена, она нашла Мари в горестном раздумье. Сердобольной Аграфене захотелось ее утешить.
– Я выдам секрет, Мари. Девицы готовят тебе сюрприз – переписывают стишки на розовой бумаге с рамкой из фиалок. Ольхина пишет высунув язык, а остальные стоят вокруг и не смеют дышать.
– Милые девицы! Как они меня любят! А представь, есть люди, которые называют любовь сахарной!
Аграфена пожала плечами и убежала в классы. Она все чаще заменяла Мари.
Марья Васильевна перелистывала все тот же номер «Отечественных записок». Взгляд упал на статью с непонятным названием: «Дилетантизм в науке». Хотела равнодушно перевернуть страницу, а в глаза бросилась начальная строка: «Мы живем на рубеже двух миров…» Мари пробовала читать и отступилась. Автор, по-видимому, не собирался отвечать ни на один из вопросов, интересующих классную даму Александровского института.
«Отечественные записки» приходили словно с другой планеты. Там жил Виссарион Белинский. Может быть, в том далеком мире нет места для нее, Мари? Может быть, она забыта?
Единственным соучастником ее тайны был Василий Петрович Боткин. Но и Боткин не являлся.
Глава вторая
В жизни Василия Петровича Боткина произошло событие чрезвычайное. Впрочем, начало не предвещало ничего опасного для холостяка, умеющего пользоваться благами жизни.
В обычной маскарадной сутолоке Василий Петрович приметил девушку, которая поразила его эстетическую душу свободной грацией движений и благоуханием расцветающей юности. Даже имя у новой знакомки было удивительно звучное и певучее: Арманс!
Василий Петрович был готов превратиться в пылающего страстью поэта. Но тут открылись обстоятельства совершенно прозаические: Арманс оказалась дочерью какого-то парижского рабочего; она смело отправилась в неведомую Россию, чтобы зарабатывать хлеб иглой в модной мастерской на Кузнецком мосту.
Тогда воспламененный эстет сообразил, что легко может стать героем быстротечного романа, который не потребует ни особых усилий, ни экстраординарных расходов.
Но стоило Василию Петровичу предпринять хотя бы самые отдаленные действия, свидетельствующие о том, что он жаждет испить от чаши наслаждений, как все в миг менялось.
– О, Basil! – Ее голос был полон гнева и укоризны, каблучки стучали быстро и повелительно, а сама Арманс оказывалась на таком же далеком расстоянии, как освежительная чаша от уст грешника, сгорающего в адском пламени.
Арманс Рульяр вовсе не была похожа на тех заезжих француженок, которых знал Василий Петрович Боткин по московским ресторанам и по кутежам на ярмарках. Маленькая Арманс, нежная, ласковая, веселая, ни на кого не была похожа! Что оставалось делать Василию Петровичу, как не влюбиться по уши? Вот с этого и начались чрезвычайные события в жизни почтенного эстета, которого какая-то легкомысленная девчонка окрестила Базилем.
Василий Петрович по-прежнему сидел целые дни в отцовском «ангаре», и даже здесь ему слышался ее смех. Но появление Арманс в чаеторговой конторе было так же невозможно, как сошествие сюда небесного ангела, которому вдруг вздумалось бы осведомиться об оптовых ценах на китайский чай.
Из-за Арманс остановились и литературные занятия Боткина, а ведь совсем недавно он написал для «Отечественных записок» замечательные статьи «Германская литература в 1842 году», которые понравились Виссариону Белинскому больше всех прежних его статей.
Василию Петровичу даже некогда было признаться старому другу, что он не столько изложил в этих статьях собственные мысли, сколько широко использовал брошюру «Шеллинг и откровение» мало известного в России автора – Фридриха Энгельса. Да бог с ними, с учеными немцами, – единственно Арманс владеет мыслями и чувствами Василия Петровича. Он называет ее Миньоной и Клерхен, хотя дочь предместий Парижа, может быть, и не знает, что значат эти имена для поклонника бессмертных творений Гёте…
Все в жизни Василия Петровича подчинилось демонической силе любви. Но тут же посетила его еще одна, правда, незваная и непрошеная, но опасная гостья – рефлексия. Можно ли назвать наваждение любовью? Способен ли он, Василий Петрович Боткин, к истинному чувству?
Может быть, ему следует жениться на Арманс? И тотчас, как тень отца Гамлета, немедленно возникал перед ним призрак сурового родителя Петра Кононовича: «Жениться на француженке? На католичке? На швее?» Самоочевидные возражения Петра Кононовича были бы тем более существенны, что он надежно держал капитал в своих руках и наградил бы старшего сына-наследника при его неповиновении разве что могучим кукишем.
Василий Петрович задумывался о тайном браке, потом снова был готов спасаться бегством.
По счастью, Арманс понятия не имела о том, что значит на русском языке мудреное слово – рефлексия. Она даже не подозревала о страданиях несчастного Базиля. Сколько бы часов ни отдавал он размышлениям – ни философия, ни итальянская музыка, ни германская литература не занимали в этих размышлениях никакого места.
Даже письмо, пришедшее от Белинского, он решился распечатать не сразу.
«Я чувствовал, что должен был уведомить тебя, – писал Белинский, – что ехать решительно не могу; но вид пера погружал меня в летаргию… Работа журнальная мне опостылела до болезненности, и я со страхом и ужасом начинаю сознавать, что меня не надолго хватит… Я – Прометей в карикатуре: «Отечественные записки» – моя скала, Краевский – мой коршун. Мозг мой сохнет, способности тупеют…»
Дальше прочитать не удалось.
В дверях стояла Арманс, чуть порозовевшая от легкого мороза. Она скинула плохонькую шубку на руки Василия Петровича, потом присела в реверансе, как благонравная девица, и, старательно расправив платье, опустилась в кресло. А потом, словно отыграв роль, рассмеялась и протянула маленькие руки к Боткину…
Ему снова пришла в голову безумная мысль: не жениться ли на этой упоительной девчонке? Но он тут же поглядел на нее, не скрывая растерянности: его будущая супруга, если только допустить такую возможность, угощалась конфетами и, покончив с одной, старательно облизывала пальчики, прежде чем приняться за следующую!
Василий Петрович все чаще называл гостью Миньоной. Миньона вдруг задумалась, притихла и, должно быть по рассеянности, надолго оставила свои пальчики в его руке. Пальчики были горячи и покорны…
А Василий Петрович, не дочитав письмо Белинского, так и не узнал, что творится в Петербурге. Редактор-издатель «Отечественных записок» Андрей Александрович Краевский, пережив семейное горе, вернулся к управлению журналом. 1843 год встретил его приятной новостью: подписка на «Отечественные записки» шла и шла вверх! Андрей Александрович нетерпеливо заглядывал в желанное будущее. Черт возьми! Он станет наконец единственным и полновластным распорядителем журнала. Но до тех пор еще придется терпеть даже нежелательные крайности, если эти крайности не только не отпугивают, но все больше привлекают подписчиков.
Беседуя с Белинским, Андрей Александрович по-прежнему его торопит, убедительно просит, напоминает и опять торопит. Торопить нерадивого сотрудника редактору-издателю тем легче, что сотрудник опять забрал вперед более тысячи рублей. Кроме того, Андрею Александровичу положительно известно, что Белинский имеет и другие немалые долги. Куда же ему деваться?
– Еще раз прошу вас, почтеннейший Виссарион Григорьевич, – заключает свои беседы редактор-издатель «Отечественных записок», – поспешайте! Из-за вашего промедления простаивает типография. Растут неисчислимые убытки. Убытки! – с укоризной повторяет Андрей Александрович.
А Белинский, исписав горы бумаги, тратит короткие дни отдыха на… преферанс.
Он играет запоем и, по собственному признанию, горячится, как сумасшедший. Он готов не есть – только бы играть; он готов не спать – лишь бы нашлись партнеры.
Конечно, Виссарион Григорьевич не может проиграть состояния, которого у него нет; по той же причине он не может заложить имение; но если человек, работающий из-за хлеба насущного, проигрывает в короткое время сто пятьдесят рублей наличными и триста рублей «на мелок», это ли не свидетельствует о безумии?..
Страсть к преферансу начинает ужасать его друзей, а он снова садится за карточный стол и возвращается к себе то в три, то в четыре часа ночи. Играл бы еще дольше – только бы не быть дома одному. Надолго ли его хватит?
А не все ли равно? Писать становится невозможно, в бешенстве убеждает себя Виссарион Белинский. Цензура вырезала целый печатный лист из его обзора русской литературы. А он так дорожил этой статьей!
Белинский задумал большую статью о Державине. Надо же показать русским читателям те исторические условия, из-за которых не мог свободно развиться талант поэта. Надо сказать, почему Державин, выйдя в знать, не мог отразить свой век во всей его полноте; он мог отразить свое время только так, как оно отразилось в высших кругах общества, с которыми остальная русская жизнь не имела ничего общего!
Белинский смотрит на эту статью как на подступ к давнему замыслу – дать читателям полное обозрение созданий Пушкина, но не иначе, как на фоне исторического развития всей русской литературы. Давно обещан читателям этот труд. Когда же он за него возьмется?
В «Отечественных записках» печатались статьи Герцена «Дилетантизм в науке». Больше чем кто-нибудь другой понимал Виссарион Белинский, с какой смелостью явился Герцен на заросшем сорняками поле философии.
– Донельзя прекрасная статья! – повторяет Виссарион Белинский. – Вот как надо писать для журнала. Чертовски хорошо! – И, мысленно обращаясь к Герцену, заключает со вздохом: – Счастлив ты в трудах и в семье. Счастлив ты, коли об руку с тобой идет твоя избранница, лучше которой нет никого на свете.
В его, Белинского, жизни все смешалось в каком-то диком хаосе. Хищным коршуном смотрел Краевский; неумолимо грозила карающим перстом цензура; мерещились карты; улетали неведомо куда бессонные ночи; каждый раз, когда он брался за работу, теснило грудь от мучительной мысли: способности тупеют.
Он давно не писал даже Боткину. Наконец объяснил в письме:
«Причина этому – страшное, сухое отчаяние, парализовавшее во мне всякую деятельность, кроме журнальной, всякое чувство, кроме чувства невыносимой пытки. Причин этой причины много; но главная – невозможность ехать в Прямухино…»
«Как в Прямухино?!» – поразился Боткин, когда, расставшись с Арманс, вернулся к недочитанному письму. В Прямухине, тверском имении Бакуниных, живет Александра Александровна Бакунина. Кому, как не Боткину, помнить, что значила когда-то в их жизни эта девушка?
А Виссарион Белинский продолжал:
«Мысль о Прямухине я всячески отгонял, словно преступник о своем преступлении, и она, в самом деле, не преследовала меня беспрестанно, но, когда я забывался, вдруг прожигала меня насквозь, как струя молнии…»
Василий Петрович Боткин мог сделать безошибочный, как казалось, вывод: если все это так, значит, прошла у Виссариона дурь, которую он вбил себе в голову, когда посылал его, Боткина, знакомиться с какой-то классной дамой. Даже фамилию ее забыл Василий Петрович, и Белинский не упоминал о ней в своих письмах.
Как одержимый, он снова писал только о Прямухине:
«Из Прямухина пишут ко мне – зовут, удивляются, что я не еду и молчу, говорят, что ждут, – о, боже мой!.. Нет сил отвечать. А может, оно и лучше, что мне не удалось съездить: я, кажется, расположен к сумасшествию, а теперешнее сумасшествие было бы не то, что прежнее».
Боткин отвлекся от письма. Когда-то он пережил с Александрой Бакуниной неповторимые часы. Но что вспоминать Виссариону Белинскому, кроме собственной фантазии да быстрого нелегкого похмелья? А он, чудак, кажется, снова пьян?
«Пьян, Боткин, в самом деле пьян! – мог бы подтвердить Виссарион Григорьевич. – И как это случилось, видит бог, не знаю…»
Из Прямухина приходили к Белинскому новые письма. Их писали все молодые Бакунины сообща. В шумном, наполненном молодежью бакунинском доме не было только Михаила Бакунина, уехавшего за границу.
Письма были объемистые, писанные разными почерками, но Виссарион Белинский безошибочно отличал строки, написанные изящной и твердой рукой Александры Александровны. Она тоже присоединялась к общему приглашению.
Прямухино! Так вот где кроется причина сухого отчаяния!
«Если что-нибудь живо напоминало мне Прямухино, – писал туда Белинский, – и ваши образы, ваши голоса, ваша музыка и пение овладевали всем существом моим, тогда жгучая тоска, как раскаленное железо, как угрызение совести за преступление, проникала в грудь мою и, махнув рукой, я хватался за все, что только могло снова привести меня в мое мертвенно-спокойное состояние…»
Виссарион Григорьевич знал, конечно, что эти строки прочтет Александра Бакунина.
Глава третья
– Тургенев, Иван Сергеевич, – отрекомендовал себя посетитель. Он говорил не без смущения, но прикрыл смущение подкупающей улыбкой.
– Милости прошу, – отвечал Белинский. Гость как-то сразу пришелся ему по душе.
– Видеть вас стало давним моим желанием, Виссарион Григорьевич, что совершенно естественно, впрочем, для вашего почитателя. А кроме того, – продолжал Тургенев, – я много наслышан о вас в Берлине.
– В Берлине?
– По счастливой случайности мне привелось жить в Берлине в одном доме с Михаилом Александровичем Бакуниным и, смею сказать, заслужить его дружбу.
– А! Вы знаете Мишеля?! – Интерес Белинского к новому знакомцу сразу повысился. – И давно вы с ним расстались?
– Всего несколько месяцев. А дату знакомства с Михаилом Александровичем, как событие чрезвычайное в моей жизни, я даже записал на экземпляре «Энциклопедии философских наук» Гегеля. Мне казалось, что нет более подходящей книги для этой записи.
– Стало быть, и вы уплатили дань германскому философу?
– Уплатил, хотя, может быть, и не сполна, – охотно признался Тургенев. – Мне думается, что философия, оставаясь наукой, должна быть и величайшим творением искусства, а философы – мудрыми мастерами этого искусства. Во всяком случае, я многим обязан Бакунину, который очень облегчил мне блуждания в философских дебрях. Но, конечно, не только поэтому могу я сказать о нем: человек исключительных дарований!
– Кому, как не мне, знать способности Мишеля! – откликнулся Белинский. – Если бы только оказался он способен к деятельности практической!
– Знаю, Виссарион Григорьевич, о всех ваших спорах и расхождениях. Слушал я Бакунина и думал: вот ненаписанный роман о поисках истины, которые начались на Руси…
– Ненаписанный роман, говорите? Боюсь, что такому роману пришлось бы застрять на первых главах. Теперь я примирился с Мишелем. Знаю, что он совсем не тот, каким был во время нашей юности в Москве. Но никогда не сочту прежние споры бесплодными – это была необходимая полоса нашего развития. Нуте, а что же вы-то сами делали в Берлине, если не целиком поглотил вас Гегель?
– Я окончил университет у вас в Петербурге. Говорю – у вас, потому что детство мое прошло в Москве, на Орловщине и за границей, куда возили меня родители. Так вот, окончил я университет в девятнадцать лет и поехал в Берлин совершенствовать знания. Меня интересовала и история, и филология, и философия, но тут я первым делом убедился, насколько неполно наше учение. Пришлось покорпеть и над латынью и над греческой грамматикой. – Тургенев говорил серьезно, потом вдруг почти по-детски признался: – Однако же я мог бы больше успеть в науках, если бы не предался отчасти рассеянной жизни. И в этом грешен по молодости, Виссарион Григорьевич!
В последних словах чувствовалось, впрочем, не столько раскаяние, сколько мальчишеская удаль. А мальчишка объявил, что в прошлом году он приступил в Петербургском университете к экзаменам на степень магистра философии и удачно сдал главный экзамен. С откровенной скромностью он приписывал успех не столько своим знаниям, сколько склонности господ профессоров довольствоваться хоть и поверхностными, но бойкими ответами.
«Да сколько же лет этому без пяти минут магистру философии? – размышлял Белинский. – Должно бы быть, по расчету, не меньше, чем двадцать пять, а по живости, по непосредственности и чистосердечию – еще только бы воевать за Шиллера. Любопытный объявился гость!»
– Я близко знал и покойного Николая Владимировича Станкевича, – продолжал Тургенев.
Со Станкевичем были связаны московские годы жизни Виссариона Белинского. В кружке Станкевича начались философские споры.
– И Станкевича знали? – переспросил Белинский и сел против гостя.
– В Берлине я не мог заслужить внимания Николая Владимировича по рассеянной своей жизни. Мы сошлись с ним позднее, в Италии.
– Позвольте, – перебил Белинский, – вы и в Италию попали?
– Моя жизнь, Виссарион Григорьевич, идет как-то на перекладных. Но я не боюсь ни путешествий, ни влечения к наукам и к искусству Запада. Разве мы, русские, столь ничтожны как народ, что можем потерять в этом общении свою самобытность? Пусть о том толкуют славянофилы. У нас на Руси, случается, не только шапку, но и мозги носят набекрень. – Иван Сергеевич нашел удачное слово и остался очень доволен, глядя, как зашелся от смеха Белинский. – Так вот, – Тургенев снова вернулся к рассказу, – в Италии и раскрылось передо мной все богатство души Станкевича. Он помог мне понять неумирающее величие итальянской живописи. Я, признаться, стал было даже брать уроки у итальянских художников, и хоть в живописцы не вышел, но о занятиях своих ничуть не жалею… Со Станкевичем мы говорили часто о Пушкине. Как-то раз он начал читать мне свои любимые пушкинские стихи, но вдруг голос его оборвался. Он обтер губы платком – на платке осталось кровавое пятно. Николай Владимирович спрятал платок и продолжал читать. Я не думаю, что он предчувствовал близкую смерть, но он очень томился и нетерпеливо ждал приезда Варвары Александровны Бакуниной, по мужу Дьяковой. Я был приобщен к тайне этой любви. По счастью, Варвара Александровна успела приехать к Станкевичу незадолго до его кончины…
О, сестры Бакунины! Вот и опять явилась на сцену одна из них. Белинский слушал печальный рассказ и уносился мыслями в прошлое, а направление этих мыслей было все то же – в Прямухино. Не к Варваре Бакуниной, а к ее сестре Любови вначале склонилось сердце Николая Станкевича. Уже объявлены они были женихом и невестой, когда у Станкевича зародились сомнения в серьезности его чувства. Сомнения переросли в уверенность. Несбывшееся счастье обратилось в муку. Горькую истину надо было скрыть от девушки, у которой развивался тяжкий недуг. Станкевич, сам пораженный чахоткой, уехал за границу. В письмах к невесте он поддерживал святую ложь. Любовь Бакунина умерла, так и не узнав жестокой правды. Станкевич нашел свое короткое счастье перед смертью, и избранницей оказалась сестра Любови, из той же семьи Бакуниных!
– Должен же был хоть перед гробом обрести счастье с нею Станкевич! – прервал молчание Тургенев. – Как вы думаете, Виссарион Григорьевич?
Белинский развел руками. Волнение его, видимо, достигло предела.
– – Почему же, – воскликнул Тургенев, – этот человечнейший из людей ушел из жизни, ничего не свершив?! И только наши воспоминания остаются единственным ему памятником? А знаете, кто познакомил меня со Станкевичем? Грановский! Мы вместе с ним учились в Петербургском университете. Он уже кончал курс, я – только начинал. Но среди всех юнцов именно меня избрал для конфиденций Грановский. Он читал мне отрывки из своей драмы в стихах под названием «Фауст». – В улыбке Тургенева почувствовалось мягкое снисхождение к прошедшему. – Если не ошибаюсь, в этой драме Фауст и Мефистофель поднимаются над землей в каком-то стеклянном ящике и обозревают открывающиеся виды. Фауст произносит подходящий к случаю и, признаться, длинноватый монолог, а Мефистофель молчит как убитый. Потом-то я догадался: какие же язвительные монологи мог вложить в уста бесу Грановский? Ирония чужда ему и останется чуждой навсегда. Недавно я встретил его в Москве, и мне казалось, что одного боялся Тимофей Николаевич, ныне ученый муж, глядящий в профессоры: не сконфужу ли я его напоминанием о том, как он мучил Фауста и беса путешествием в стеклянном ящике, а меня – стихами, бог ему прости? Но кто же не пишет стихов? Вот и я, если каяться, тоже пишу. – Признание вырвалось, казалось, совершенно непроизвольно.
– Стихи? – удивился Белинский.
– Стихи, – с сокрушением подтвердил Тургенев. – И третий год печатаюсь, правда не часто, в «Отечественных записках».
– Не может быть! – еще больше удивился Белинский. – Почему же я-то вас не знал?
– Как закоренелый преступник, я искусно заметаю следы. Моя фамилия надежно прикрыта от критиков скромными буквами Т. Л. Вторая из них произошла от девичьей фамилии моей матушки, урожденной Лутовиновой.
– Позвольте, позвольте, – стал припоминать Белинский, – в таком случае это были ваши стихи – «Баллада», – кажется, так они назывались? Чем-то они мне приглянулись. Ну-ка, напомните!
Тургенев не заставил себя просить:
Перед воеводой молча он стоит; Голову потупил – сумрачно глядит. С плеч могучих сняли бархатный кафтан; Кровь струится тихо из широких ран…Кончил читать и сейчас же перевел разговор:
– Должен отметить, Виссарион Григорьевич, что не редактору-издателю «Отечественных записок» принадлежит честь открытия поэта Т. Л. Начинал я под высоким покровительством Петра Александровича Плетнева, которого вы изволите, конечно, хорошо знать. По неизреченной доброте своей Петр Александрович печатает на страницах «Современника» всякий рифмованный лепет. Там и я живописал красоты отечественной природы в вечерний час, а также взывал к Венере Медицейской. И даже зван был к Петру Александровичу Плетневу на его литературные вечера. Вот там однажды… – Тургенев приостановился, и на лице его появилось восторженное выражение. – Вот там однажды вижу в передней человека среднего роста, который уже надел шинель и шляпу и, прощаясь с хозяином, очевидно продолжая какой-то разговор, звучным голосом воскликнул: «Хороши же наши министры! Нечего сказать!..» Он засмеялся и вышел. Я успел разглядеть только живые, быстрые глаза и белые, сверкающие зубы. То был Пушкин, которого я тогда впервые увидел. Годы идут, Виссарион Григорьевич, а я и сейчас слышу его голос: «Хороши же наши министры!» Вот эпиграф, которым должно украсить всякое повествование о российской власти.
Гость несколько раз порывался уйти, искренне каясь в том, что злоупотребляет временем и вниманием хозяина.
– Сидите! – отвечал ему Белинский. – Любопытно знать, как вы судите о русской словесности?
Но, едва завязался этот разговор, Тургенев вернулся к воспоминаниям. И сколько же было их у этого удивительного человека! Иван Сергеевич видел Лермонтова и запомнил взгляд его больших и неподвижно-темных, сумрачных глаз. Тургенев был и в числе тех петербургских студентов, которые слушали лекции по истории средних веков адъюнкт-профессора Гоголя-Яновского. Совсем недавно он несколько раз встречал Гоголя в Москве.
– Представляете, Виссарион Григорьевич, кто собирается в гостиной Елагиных? – начал новый рассказ Тургенев. – Главным образом – юродствующие во славянофильстве. И вдруг – Гоголь! Как мне хотелось послушать, о чем беседует с ними Николай Васильевич! Но то ли сами славянофильствующие господа витийствовали без роздыха, то ли Гоголь предпочитал размышлять о «Мертвых душах», над которыми тогда работал, но так и не услышал я ни единого его слова. Теперь могу рассказывать: «Видели Гоголя, Иван Сергеевич?» – «Видел!» – «Ну что?» – «Да так… молчит Гоголь. Такой оригинал!» Рассказчик так произнес последние слова, что Виссариону Григорьевичу невольно подумалось: «Играть бы ему Хлестакова. Право, играть бы!»
– О, Москва, Москва! – воззвал Тургенев. – Один Константин Аксаков чего стоит: философский субстанциональный пирог с московской начинкой!
Это было так неожиданно, что долго смеялся Белинский. Иван Сергеевич почувствовал, что он сделал знакомство, которое будет и долгим и прочным.
– Михаил Александрович Бакунин, – серьезно и с глубоким раздумьем начал Тургенев, – много рассказывал о своих сестрах. Когда я познакомился с Варварой Александровной, мне еще больше захотелось узнать остальных. Будучи в Москве, я, конечно, воспользовался рекомендацией Михаила Бакунина, чтобы поехать в Прямухино.
– В Прямухино! – только и мог сказать Белинский. Слушал гостя Виссарион Григорьевич, и казалось ему, что он наяву слышит, как шелестят в прямухинском парке липы; будто сам дышит ширью прямухинских полей; будто наяву видел вечерние огни в окнах прямухинского дома; будто сам поднимался на террасу по замшелым ступенькам; сам слышал, как кто-то поет в комнатах чистым, горячим голосом. Трудно было понять, был ли этот рассказ экспромтом или картиной, до мелочен отделанной художником.
– Помнится, вы говорили, Иван Сергеевич, что учились живописи в Италии? – воспользовался паузой Белинский.
– Учился, – подтвердил Тургенев.
– А надо вам живописать словом. У вас в рассказе даже ступеньки, ведущие на прямухинскую террасу, и те поют.
В рассказе Тургенева как живая явилась наконец и Александра Бакунина, вечно с книгой в руках, с неохотой бросающая первое слово, зато потом, когда увлечется, – неутомимая спорщица. Тургенев говорил о ней много, с чувством, и трудно было понять, знает ли он о том, что пережил в Прямухине Белинский. Впрочем, как он мог не узнать об этом от Михаила Бакунина?
Иван Сергеевич то рассказывал о шумной ватаге юных братьев Бакунина, то снова повествовал о поэтической прелести его сестер. Но как-то выходило, что только одна из сестер, Татьяна, присутствовала в рассказе как едва ощутимая тень.
– Вы несправедливы к Татьяне Александровне, – не выдержал наконец Белинский. – Есть ли более благородное существо на свете?
– Не мне о том спорить, – согласился Тургенев, – но всякое суждение мое о Татьяне Александровне могло бы показаться пристрастным.
– Надеюсь, в этом нет тайны?
– Нет, Виссарион Григорьевич. Я отдал Татьяне Александровне свое чувство.
– Стало быть, и вы не миновали прямухинских чар?
– Не миновал и не раскаиваюсь в этом, хотя мы и разошлись. – Тургенев стал сосредоточен и, казалось, с трудом находил нужные слова. – О сестрах Бакуниных, Виссарион Григорьевич, не просто говорить. А еще труднее их понять. Ум, поэзия, грация души – все так…
Белинский уставился на гостя: куда гнет этот молодой человек? А гость показал себя с новой стороны:
– Эти одаренные натуры, Виссарион Григорьевич, рождены для того, чтобы быть несчастными. Они не принесут счастья никому. Я имею в виду всех сестер Бакуниных, – говорил Иван Сергеевич. – И знаете, почему? Они неспособны к глубокому чувству, которое было бы подобно религии, но у них нет и смелости прямо посмотреть черту в глаза…
– Какому черту? – только и мог переспросить Белинский.
– Ну, это весьма фигуральное выражение, – отвечал будущий магистр философии. – Бывает такая способность у людей: следовать влечению сердца, не двоясь между прописными принципами и чувством. Такой смелостью награждает избранных черт, или, говоря высоким слогом, Мефистофель. Но не тот смиренно-молчаливый Мефистофель, с которым когда-то меня познакомил Грановский…
«Умен, – решил после ухода гостя Виссарион Григорьевич. – Чертовски умен! Однако срезался на Прямухине. Срезался и заврался!»
Глава четвертая
Письма из Прямухина прекратились. Попробуй догадаться: почему замолкла Александра Бакунина? Но если возможно, оказывается, возрождение прежних прямухинских безумств, стало быть…
А Мари? Увы, он никогда не заблуждался: сколько наивных верований и глупых, скучных правил властвует в замкнутом, тусклом мирке, в котором живет Мари. Правда, это не касается ее большой, открытой души, ее сильного характера, ее благородных; чувств.
«В Москву! – хочет сказать Виссарион Григорьевич, а губы шепчут: – В Прямухино!» Есть от чего сойти с ума!..
К Белинскому все чаще приходил Тургенев.
– Где вы пропадали? – корит его Виссарион Григорьевич. – Чем заняты?
– Я подал прошение о зачислении меня на службу по министерству внутренних дел, – охотно отвечает Тургенев, – и теперь усердно хлопочу, не щадя ни времени, ни сил.
– Неужто всем только и суждено на Руси, что щеголять в вицмундирах?
– Таково непреклонное желание моей матушки. А до поступления на службу непременно уеду в наше Спасское. Вы не охотник, Виссарион Григорьевич?
– Охотник, – подтвердил, смеясь, Белинский. – Охочусь на зеленом поле – и то неудачно. Что ни выстрел, то и ремиз.
– Э! – отмахнулся Тургенев. – Когда послушаете, какая охота у нас на Орловщине, уверяю, увлечетесь. Представьте себе, весной вы идете на тягу… Да, может быть, вы не знаете, что значит стоять на тяге? Так вот: весной перед заходом солнца отправляетесь вы с ружьем, но без собаки. Без собаки! – повторил Иван Сергеевич.
И наверняка предстояло бы Виссариону Григорьевичу войти в неведомый мир, населенный неведомым охотничьим племенем, если бы не помешал новый посетитель.
– Знакомьтесь, господа, – весело сказал Виссарион Григорьевич.
Молодые люди раскланялись. Некрасов, встретив у Белинского незнакомца, смотрел исподлобья. Тургенев с первых слов проявил неподдельный интерес к литературным занятиям Некрасова, оговариваясь, что сам не имеет чести принадлежать к этому беспокойному кругу.
«Истинный барич высокого пошиба», – определил Некрасов. Он отвечал коротко, отрывисто. А «барич», учитывая новые обстоятельства, повернул разговор на журнальные дела. В «Отечественных записках» была напечатана вторая статья из цикла «Дилетантизм в науке» – о романтиках.
– Бедные лжеромантики! – Иван Сергеевич улыбнулся. – Беспощадно высмеиваете этих лунатиков вы, Виссарион Григорьевич, а теперь бьет их наотмашь отважный философ. А как читают его статьи! Глазам не верю. Конечно, многие у нас съели собаку премудрости, глотая Декарта, Спинозу, Канта, закусывая Фихте или Шеллингом, а на десерт Гегелем. – Тургенев покосился на Некрасова, проверяя впечатление.
Тут выяснилось, что «барич» хорошо осведомлен в европейской философской литературе. Но это ничуть не было похоже на лекцию будущего магистра философии. Живая картина складывалась из отдельных коротких замечаний, из портретов, данных одним-двумя штрихами.
– А философ, который укрылся в «Отечественных записках» за загадочными буквами, – сказал Иван Сергеевич, – тем и удивителен, что ниспровергает застойные наши представления. Вот завидное искусство истинного ученого, Виссарион Григорьевич. Кто автор?
– Если познакомитесь с Александром Ивановичем Герценом, – отвечал Белинский, – вы не потеряете времени даром, Иван Сергеевич. Коли будете в Москве, непременно пойдите к Герцену.
– Как же я не буду в Москве? – удивился Тургенев. – Там – перекресток всех моих дорог. А как отрадно встретить на перекрестке нового человека. И благо ему, Герцену, что его статей не читают наши аристархи, верующие, по Шеллингу, в божественное откровение. А то сожгли бы они еретика во славу божию. Удивляюсь, однако, как этот дерзкий голос мог раздаться из Москвы? Когда я думаю о Москве, мне так и слышатся акафисты Шевырева, урчанье Погодина да зычный клич многоглаголющего отрока Константина Аксакова.
Тургенев встал, расправил плечи и будто даже стал выше ростом, изображая богатырскую фигуру Константина Аксакова.
– Москва велелепная! – начал он нараспев. – Москва – третий Рим!.. Восславим, братие! – Он все больше впадал в экстаз. – Восславим и воспоем, братие… севрюжину и требуху!
Пародия была злой, но мастерской. Виссарион Белинский замер от восхищения. Даже Некрасов не мог удержаться от улыбки. Тургенев стал прощаться. Сердечно сказал Некрасову:
– Буду рад продолжить приятное знакомство.
И еще больше смутил Николая Алексеевича: он так и промолчал весь вечер. Нечего сказать, приятное знакомство!
– Вот вам и барич! – Белинский легко угадал первоначальное впечатление Некрасова. – Только зачем ему чиновничий хомут? Или прилгал для красного словца?
А «барич» плелся меж тем домой, не имея возможности нанять извозчика.
Никто даже из близких людей не знал, как нуждается порой этот своевольный сын богатой орловской помещицы. Не ладились у него отношения с суровой матерью. К тому же она была скуповата на расходы. А сын, по молодости лет, плохо умел считать. Как часто Иван Сергеевич брал по необходимости деньги в долг у знакомых и, если задерживал уплату, трепетал от одной мысли: вот-вот ему напомнят! Случалось, что и сворачивал в сторону от заимодавца, вовремя заметив его на улице.
Перед отъездом из Петербурга Тургенев пришел к Белинскому прощаться и весь, должно быть, был мыслями на своей Орловщине.
– Бродишь с ружьишком, Виссарион Григорьевич, – и открываются перед тобой два мира. Один – заскорузлый, убогий, душевно нищий: это когда привернешь в попутную усадьбу. Но тут не мне говорить, тут словно заново читаешь «Мертвые души». А вот когда заночуешь у костра с встречным мужиком, или разговоришься на перевозе, или, застигнутый ненастьем, попросишься в какую-нибудь избу, – господи, какой необъятный русский мир открывается перед тобой!
В тот день сделал Иван Сергеевич важное признание:
– Я вырос в богатой помещичьей усадьбе. Но с детства умел видеть страшное зло русской жизни. И я поклялся: всю жизнь отдам на одну цель – борьбу с рабством.
– И для того поступаете на службу по министерству внутренних дел? – попрекнул Белинский.
– Вряд ли выйдет из меня толковый чиновник, – отвечал, улыбаясь, Тургенев. – Что из меня выйдет – бог весть! Только от клятвы своей не отступлюсь…
– Клятвами да обещаниями, говорят, ад вымощен, Иван Сергеевич. А как его, это идолище поганое, низвергнуть?
Завязался прелюбопытный разговор. Ивану Сергеевичу была известна вся подноготная крестьянской жизни. Он говорил о пашнях и сенокосах, о вековечной сохе, о домашнем обиходе и промыслах; мог подробно исчислить доходы и протори землепашца, лежащие на нем подати и повинности; он знал буквально все об отношениях мужика к помещику и начальству; о чем бы ни говорил, везде видел и путаницу, и бестолочь, и безысходную мужицкую нужду.
Когда же ушел гость, только тогда и спохватился Виссарион Григорьевич: а что думает Иван Сергеевич о будущем? Ни слова не сказал – и был таков!
Но беглец снова напомнил о себе. Белинский вернулся от Краевского, а мальчик, который прислуживает ему, подает какую-то тоненькую книжку. Виссарион Григорьевич прочел на обложке: «Параша. Рассказ в стихах Т. Л. Писано в начале 1843 года».
– Кто принес?
– Не сказался, – равнодушно отвечал мальчуган.
– Знакомый?
– Они частенько к вам ходят.
Стало быть, Иван Сергеевич и принес свое новое произведение. А сам уж, наверное, далеко проехал за московскую заставу. Хорош, нечего сказать! Целую поэму написал и все скрыл!
Виссарион Григорьевич раскрыл «Парашу». Кого ныне удивишь стихами? А сам читал все с большим интересом. Кончил, отложил в сторону, на следующий день снова зачитался. За этим занятием и застал его Некрасов. Белинский был в необыкновенном увлечении.
– Он, греховодник, скачет в Спасское, а мне задача – пиши рецензию. Да как не написать? Авось успею тиснуть в майский номер.
Виссарион Григорьевич энергично обдернул домашний сюртук, стеганный на вате, с которым не расставался до лета. Снова полистал «Парашу».
– Сюжет взят самый простой. Любовь провинциальной барышни к помещику-соседу. Все идет чин чином – и встречи, и прогулки влюбленных, – а автор вдруг задается едким вопросом:
Что, если б бес печальный и могучий Над садом тем, на лоне мрачной тучи Пронесся – и над любящей четой Поник бы вдруг угрюмой головой, — Что б он сказал?– Откуда бы залететь владыке зла в неприхотливый Парашин сад? – спросил Белинский. – Какая тут может быть ему пожива? Описал автор робкое томление девы, тревожное биение ее сердца, задумчивую речь и нежные пальцы, исколотые непослушной иглой в час ожидания неторопливого соседа. Словом, проник, злодей, в девичью душу, а потом отправляет Парашу под венец. Ну и быть ей помещицей да зваться Прасковьей Николаевной. И снова раздается голос автора:
Но все ж мне слышен хохот сатаны…Вот куда метнул Иван Сергеевич!..
Глава пятая
– В случае, если бы мне, предположим, привелось отлучиться из Петербурга, – сказал Белинский Некрасову, – поставлю перед Краевским непременное условие: критикой в журнале будете ведать только вы!
А Некрасов вовсе не стал отбрыкиваться. Этакий молодец!
– Только ни в чем, Николай Алексеевич, Краевскому не уступайте. Ведь он собственными глазами ничегошеньки не видит. Ну, а коли носом что-нибудь учует, вы опять не уступайте. Берите его измором!..
Белинский помолчал.
– На днях, Николай Алексеевич, – начал он, хитро посмеиваясь, – был у меня разговор с Авдотьей Яковлевной Панаевой. «Когда, спрашивает, приведете к нам Некрасова? Выслушала, говорит, я от вас необыкновенную повесть его жизни и словно прочитала дразнящую любопытство строку: «Продолжение следует». Когда же, – улыбается, а улыбка у нее неотразимая, – последует продолжение?» – «И рад бы, говорю, Авдотья Яковлевна…»
– Помилуйте, Виссарион Григорьевич! – Некрасов совсем смешался. – Вовсе негож я, бирюк, для дамского общества. Сами знаете!
– Знаю! Вот и ответил я, что мы с вами два сапога пара. Однако же кто может отказать в просьбе Авдотье Яковлевне? Обещал непременно вас привести.
– Обещали? – Некрасов готов был обратиться в бегство.
– Обещал! – Белинский добродушно посмеивался. – А стоит ли откладывать? Может быть, сегодня и пойдем? Умница Авдотья Яковлевна – вы и не заметите – полонит вас и околдует. А боитесь к Панаевым идти – извольте рассказывать, как поживает Тихон Тросников.
Никто, кроме Белинского, не знал о романе «Жизнь и похождения Тихона Тросникова», над которым работал Некрасов.
– Новое есть? – спросил Белинский.
– Как сказать… – отвечал Некрасов. – Вчера вроде бы окончил главу, сегодня посмотрел – только зря, оказывается, бумагу измарал.
– Быть роману, коли не обленитесь, – откликнулся Белинский. – Куда же теперь я-то, однако, хватил! Вы – и лень! Несовместно! – Никто, кроме Белинского, не знал, как умеет трудиться этот человек.
Прошло всего три года с тех пор, как вышли в свет «Мечты и звуки». От столкновений с жестокой действительностью давно поблекли у Некрасова романтические мечты. Только от мысли о литературном поприще и в то время не отказался упрямец неудачник. Теперь его рассказы, повести и рецензии занимают заметное место в «Литературной газете» и в «Отечественных записках». Друг и единомышленник Белинского разит всю продажную квасно-патриотическую словесность. Вместе с Белинским молодой критик заявляет: «Теперь уже публика, воспитанная на произведениях Гоголя, очень скоро и верно умеет отличить хорошее от дурного».
Гоголь! Если присмотреться, в рассказах и повестях Николая Некрасова появляются персонажи, навеянные образами Гоголя. От петербургских повестей Гоголя родился и замысел романа о Тихоне Тросникове. «Мертвые души» стали напутственной книгой молодому писателю.
А стихи? Стих низведен теперь до бойких водевильных куплетов. Стих служит для злых пародий, которыми охотно уснащает Некрасов критические статьи. Да еще в роман введены поэтические опыты Тросникова – одна из многих черт в характеристике героя.
Роман должен охватить повседневную петербургскую жизнь, отразить ее противоречия, – словом, стать социальным в самом широком смысле слова.
Записки, которые стал вести в Петербурге Тихон Тросников, как нельзя лучше отразили впечатления провинциала.
«Петербург – город великолепный и обширный. Как полюбил я тебя, когда в первый раз увидел твои огромные дома, в которых, казалось мне, могло жить только счастье…»
Прошло время. В записках Тросникова появились новые страницы,
«Я узнал, что у великолепных и огромных домов есть чердаки и подвалы, где воздух сыр и вреден, где душно и темно и где на голых досках, на полусгнившей соломе и грязи, в стуже и голоде влачатся нищета, несчастья и преступления. Узнал, что есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и в подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые дома…»
Многое случилось в Петербурге и с самим Тросниковым. Труден оказался путь бедняка разночинца в блистательной столице. Всюду побывал вместе с героем автор романа: и в столичной бильярдной, и в танцклассе, и в трущобах; заглянул и на извощичий двор и к пришлым в столицу рабочим. На извощичьем дворе услышал рассказ извощика:
– Придешь домой без выручки, хозяин костить примется: пьяница, вор, такой-сякой, и карманы обыщет, и сапоги снимет, а иной раз драться лезет…
Не легче достается от подрядчиков пришлым рабочим.
– Спорить, что ль, с ним станешь? – жалуется крестьянин, пришедший в Петербург на заработки. – Заспоришь, так, пожалуй, и ни с чем отпустит. Вон у нас молодцы из другой артели пришли было к подрядчику, да как гаркнут всей гурьбой: «Не хотим-ста такого дувану, давай настоящий!» Так поди ты, что вышло: «А! Вы, говорит, бунтовать?» Да и послал за фатальным.
А квартальному принадлежит, как господу богу, высшая власть.
В романе, автор которого хотел представить жизнь во всей полноте, появлялись новые сюжетные линии, новые персонажи. Росли черновики…
Между тем Тихон Тросников вступил в журнальный и околожурнальный мир. Новые картины развертывал автор романа.
«Каждый, почти каждый русский журнал той эпохи, – писал Некрасов, – можно было сравнить с лавочкой толкучего рынка, где развешены разные приманки и безотходно стоит ловкий парень с широким горлом, зазывающий покупателей…»
Появилась в романе и портретная галерея хозяев этих лавчонок. Редактор-скоморох, надевший шутовской колпак, зазывает к себе подписчиков:
– Почтеннейшая публика! Наука – вздор, философия – сказка!..
Будущий читатель романа без труда вспомнит все, что писал в «Библиотеке для чтения» барон Брамбеус, он же профессор Сенковский.
Тихону Тросникову, проникшему в закулисные тайны петербургских редакций, привелось столкнуться и с теми литературными особами, которые в печатных обращениях друг к другу давно освоили почетное звание любимцев публики и титул почтеннейших. «Почтеннейший», гневно обличенный Тросниковым, не погнушался самолично явиться к мелкой сошке. Посетитель был среднего роста, имел красноватую физиономию, вечно гноящиеся серые глаза без ресниц; губы его были отвислые и мокрые, как у легавой собаки.
Если когда-нибудь прочтет эти строки Фаддей Булгарин – что будет тогда с автором романа о Тихоне Тросникове? Уже и так гневается Фаддей Венедиктович, глядя, что пишет о нем в «Отечественных записках» Некрасов, соучастник преступлений Виссариона Белинского.
А Некрасову и горя мало. Портретная галерея романа расширяется: появляются журналисты-москвичи. Автор не раскрывает имен ни Шевырева, ни Погодина, ни названия их журнала. Но кто не узнает профессора Погодина в такой, к примеру, речи:
– Наши нововводители, либералы, развращают поколение молодых людей… Не верьте этим врагам отечества, которые унижают все русское. Что нам заимствовать у иностранцев? Разве русские в любви к богу, царю и отечеству отстали от гниющего и омраченного буйством Запада?
А рядом слышится елейно-плачущий и визгливый голос:
– Отечество гибнет! Литература гибнет! Святые основания истины и религии подкапываются.
Но картина была бы неполной, если бы не представить тех, кто вынужден на хозяев литературных лавчонок работать.
Страшно подумать об участи сотрудника некоей газеты, который написал водевиль о себе самом. Трудно только назвать водевилем эту человеческую трагедию. Главный персонаж водевиля живет на чердаке, обедает только по праздникам. Он долго боролся с нуждой, он пожертвовал ей всем, чем мог пожертвовать: временем, способностями, даже лучшими порывами и заветнейшими мечтами. Борьба с нищетой истощает вконец слабые силы журналиста.
– Слава богу, у меня чахотка! Недолго мне приведется скитаться по белу свету, – заключает печальную повесть о себе герой этого, вероятно единственного в мире, водевиля, содержание которого занес в свои записки Тихон Тросников.
Но вот будто первый луч света падает на темную жизнь толкучего литературного рынка.
«Было несколько человек, – свидетельствует герой некрасовского романа, – которые пытались поселить в публике настоящее понятие о значении литературы в жизни народа, свергнуть ложные авторитеты, низложить кумиры и основать здание новой литературы, литературы сознательной и благородной в своих стремлениях».
Тихон Тросников был уверен, что нет нужды называть имя Виссариона Белинского.
Некрасов обещал показать читателям текущий день русской словесности.
А роман все шире охватывал петербургскую жизнь. Но не часто читал автор из «Тихона Тросникова», потому что не было, казалось ему, ничего окончательно готового.
– Когда будет готовое, – не раз повторял Белинский, – обязательно устроим первое чтение у Панаевых. Решено и подписано!
Виссарион Григорьевич худел, кашлял. Его жег внутренний огонь. А сам работал так, будто обладал богатырскими силами.
Когда в «Отечественных записках» появились одна за другой две его статьи о Державине, то-то встрепенулась «Северная пчела»! Белинский посягает на славу России! На священные чувства всех патриотов! Ату его, Белинского!
А ему, Белинскому, опять ништо! Он отвечал шулерам от критики: больше, чем они, «патриоты», он чтит истинные заслуги Державина, обусловленные и ограниченные историческими условиями эпохи.
Но дело для Белинского было не только в Державине. Он приступил наконец к обзору сочинений Пушкина.
«Чем более думали мы о Пушкине, – значилось в первой из задуманных статей, – тем глубже прозревали в живую связь его с прошедшим и настоящим русской литературы и убеждались, что писать о Пушкине – значит писать о целой русской литературе: ибо как прежние писатели русские объясняют Пушкина, так Пушкин объясняет последовавших за ним писателей».
Конечно, Виссарион Белинский далек от самолюбивой мысли выполнить капитальный обзор всей русской литературы только своими скромными силами. Он хочет проложить дорогу другим там, где еще не протоптано и тропинки.
Труд, предпринятый Белинским, займет несколько лет. Его суждения о Пушкине станут не тропкой, а столбовой дорогой, с которой не сойдет русская мысль. Даже ошибки его станут благотворной почвой для познания истины.
Глава шестая
«…Спешу обрадовать Вас приятным известием, что четвертого числа июня месяца, сего 1843 года, Вы будете иметь неизреченное счастие видеть мою особу в богоспасаемом селе Прямухине. В. Белинский».
Шуточное письмо адресовано, конечно, не Александре Александровне Бакуниной, а одному из ее братьев, с которым давно дружит Белинский.
Виссарион Григорьевич почти выздоровел. Ему легко дышится, не ломит грудь, а душа парит в эмпиреях. Он пьянеет от радости и, идучи по улице, готов объявить и знакомому и незнакомому: «Я еду… еду…»
Он едет в Москву, а по дороге окажется Прямухино. Конечно, он расположен к сумасшествию, но теперешнее его сумасшествие будет не то, что прежнее. В дорогу!..
Когда улыбнется счастье, тогда задается все! Даже коршун Краевский великодушно согласился на отлучку главного сотрудника, которого будет заменять Некрасов.
Укладывая нехитрый багаж, Белинский раскрыл только что вышедшую июньскую книжку «Отечественных записок». Перечитал еще раз заглавие: «Сочинения Александра Пушкина. Статья первая…» Начало есть! Положил журнал в дорожный саквояж.
На следующий день Виссарион Григорьевич покинул Петербург.
В открытые окна дилижанса залетает легкий ветерок и нашептывает нетерпеливому пассажиру: «Ждут не дождутся тебя в Прямухине!»
Стучат колеса: в Прямухино, в Прямухино!
В Торжке Белинский покинул дилижанс. Теперь до Прямухина рукой подать. Он бы по крайности и пешком дошел.
Незаметно пролетели версты. Лошади прибавили ходу. За поворотом показался раскидистый дом Бакуниных.
С террасы спускалась девушка в розовом платье с белым корсажем. Она заслонила рукой глаза от солнца, стараясь разглядеть, кто едет, потом вернулась на террасу – и на террасе произошло общее движение. Все бросились навстречу приезжему.
Здравствуй, многоголосая молодость, здравствуй, обитель гармонии и блаженства, где Виссарион Белинский любил так горестно и трудно!
Когда молодежь отправилась гулять по парку, Белинский замедлил шаги подле скамеек, укрытых цветущей сиренью: здесь он читал вслух только что написанную статью. Помнит ли это Александра Александровна?
Александра Бакунина, смеясь, потянула его за руку:
– Дальше, дальше! Иначе мы ничего не успеем показать вам до обеда!
Виссарион Григорьевич согласно склонил голову.
Он бывал в этом парке и летом и осенью. Ему всегда казалось, что прямухинский парк полон неземной красоты: такие благоухающие деревья, такие чистые ручьи могли быть только в раю.
Было время, когда Боткин, расставшись с Александрой Бакуниной, сказал Белинскому: «Ясно, что она меня не любила. Одна фантазия. Точно так же она могла бы вообразить, что любит тебя, если бы ты держался умнее».
Виссарион Белинский умнее не стал. А рядом идет Александра Бакунина! Правда, Александра Александровна шла не совсем рядом, а несколько поодаль, хотя и участвовала в общем разговоре. Впрочем, разговор был такой шумный, что далеко не каждое ее слово долетало до гостя.
Когда возвращались к дому, в аллее показалась еще одна молодая женщина… Силы небесные! Варвара Александровна, старшая из сестер Бакуниных, благоговеть перед которой его научил Николай Станкевич! Варвара Александровна снова на родине и снова с постылым мужем. Во имя долга? Или вернулась в тихую пристань после короткой освежительной бури?
За обедом сошлись все обитатели дома. Нельзя сказать, чтобы сам хозяин, Александр Михайлович Бакунин, жаловал Белинского, как, впрочем, многого не одобрял он и в жизни собственного сына, ныне скитавшегося за границей.
Александр Михайлович оказывал за обедом явные знаки внимания мужу Варвары Александровны, недальнему соседу помещику Дьякову. Наконец-то восстановился этот союз, освященный богом! Разговор хозяина дома с Дьяковым шел о неотложных хозяйственных делах. Дьяков, желая блеснуть в застольной беседе, говорил о задуманных им в имении новшествах, от которых можно ждать неслыханных барышей.
– Какую же такую диковинную фабрику вы собираетесь поставить? – недоверчиво спрашивал старик Бакунин. – Вот поддался и я на новшества, можно сказать, в фабриканты записался, а кроме хлопот, ничего не имею. Плохо работают нерадивые людишки.
Виссарион Григорьевич так и замер с вилкой в руке: какая фабрика может быть в царстве гармонии и блаженства?
Варвара Александровна сидела рядом с мужем. Она заботливо следила за тем, чтобы его тарелка не была пуста, и старательно выбирала для него любимые кусочки. Господин Дьяков кушал с отменным аппетитом, бросая на жену благосклонные взгляды.
«Еще одна тверская помещица появилась на свете», – с тоской подумал Белинский.
Варвара Александровна поймала устремленный на нее взгляд и в ответ Белинскому улыбнулась спокойной улыбкой. Словно хотела сказать неистовому другу прежних лет: «Давно прошли они, годы чудачеств и любовных безумств».
«Хорошо, что нет на свете Станкевича», – вздохнул Виссарион Григорьевич.
Первый день, проведенный в Прямухине, шел к концу. Белинский ждал. Сколько бывало здесь задушевных бесед и споров, сколько мыслей и сердечных порывов изливалось, когда вечером в гостиной собиралась молодежь!
Так было и сегодня. Говорили о московских концертах и журнальных новинках, перебирали последние статьи самого Белинского и расспрашивали о Петербурге. Разговор перекинулся на новинки европейской литературы. Мелькали имена и названия книг.
– Кстати, – вспомнил Николай Бакунин, – мы прочли в «Отечественных записках» статьи Боткина о германской литературе. Досадно, что мы не знаем мнения о них нашего Мишеля. Просто не верится, до какой высоты поднялся многоуважаемый Василий Петрович. Вам, Виссарион Григорьевич, наверное, больше, чем нам, провинциалам, известно, чем живет ныне философ, обитающий на Маросейке? – в голосе Николая Александровича отчетливо прозвучала неприязнь.
Белинский и ждал вопроса о Боткине и не хотел его. Впрочем, в Прямухине издавна повелось, что сердечные тайны свободно обсуждались в кругу избранных друзей. Виссарион Григорьевич взглянул на Александру Александровну. Она не проявила никакого интереса к вопросу, который задал ее брат.
Белинский не собирался быть судьей се сердца, ему хотелось только подробнее определить характер Боткина.
– Ничего нельзя и не надо определять, – спокойно перебила его Александра Александровна. – Когда что-нибудь определяешь, самой становится гадко. Так говорит наш Мишель, а он редко ошибается.
Она не теряла уверенного спокойствия. И это было все-таки лучше, чем душевный холод Мишеля, на которого она ссылалась.
– Давайте петь хором, – предложила Александра Александровна. – Только чур, Виссарион Григорьевич, не сбивайте нас, как случалось в прежнее время.
Она имела в виду его отчаянные попытки петь, сбивавшие хор. Александра Александровна даже погрозила шутливо человеку, лишенному музыкального слуха.
Татьяна села за рояль. Прямухинские чары вернулись.
А потом – наконец-то! – когда все расходились из гостиной, Александра Александровна предложила Белинскому побродить по саду. Они долго шли молча, вдыхая ночную прохладу. Где-то между деревьев сонно лепетал ручей.
– Вы писали мне, – начал Белинский, – что научились ненавидеть то, чему прежде поклонялись.
– Ненавидеть? – переспросила Александра Александровна. – Это слишком сильное слово. Оно, должно быть, случайно слетело у меня с пера. Дело обстоит куда проще, Виссарион Григорьевич: жизнь сама разоблачает перед нами свои обманы.
– Вы правы в том смысле, что жизнь беспрестанно изменяется, только те и живут, кто так думает. Старое – бог с ним! Оно хорошо только тогда, когда становится причиной нового. А старое – прочь его! – с жаром повторил Виссарион Григорьевич и неожиданно признался: – Так, да, наверное, не всегда так! Вот я, например, до сих пор храню вашу расписку…
– Какую расписку? – удивилась Александра Александровна.
– Ту самую, которую вы выдали мне однажды, проиграв шесть миллионов рублей на китайском бильярде. – Он говорил о какой-то шуточной расписке, но голос его выдавал нешуточное волнение.
– Не помню никаких расписок, – отвечала, подумав, Александра Александровна. – Ну что же, может быть, теперь вы посадите меня, как неоплатную должницу, в тюрьму? – Слова ее тоже были шуткой, но после этого Александра Бакунина сказала совершенно серьезно: – Может быть, я и в самом деле была виновата перед вами в прошлые годы? Но стоит ли о прошлом говорить? Вот вы, неисправимый человек, опять говорите о чем-то новом в жизни. А если его нет и быть не может? – Она не могла заметить в ночном сумраке, как изменилось его лицо. – Новое? – еще раз повторила Александра Александровна. – А если жизнь наша похожа на тюрьму, из которой нет выхода и в которой не бывает никаких перемен? Живешь и ждешь: хоть бы пришел тюремщик да звоном ключей нарушил тишину. Счастливы вы, Виссарион Григорьевич, в своей страсти к обманчивым мечтаниям! – с чувством сказала Александра Александровна. – Когда я читала ваши недавние письма, мне так хотелось улыбаться милым воспоминаниям. Гордитесь: ваши прошлые речи не пропали даром. Ну, вернемся, однако, к жестокой действительности.
Они повернули к дому. Весь дом давно спал. Только заезжему гостю была суждена бессонница. Неужто сызнова все ему только померещилось? Неисправимый, неистовый, сумасшедший человек!
Случилось так, что на следующий день Белинскому приходилось больше быть в обществе Татьяны. Александра Александровна была занята беседой со старшей сестрой. Супруги Дьяковы собирались уезжать в свое имение.
Татьяна уводила гостя в дальние, любимые ею места. Прямухинские обитатели любили природу и умели ею наслаждаться. И, кажется, больше других истинной дочерью природы была Татьяна. Впрочем, на этот раз для уединенной прогулки с Белинским была у нее особая причина.
– Вы познакомились с Тургеневым, Виссарион Григорьевич? – спросила Татьяна. – Конечно, он рассказывал вам о нашей встрече?
– Он не скрыл от меня своего увлечения вами…
– Увлечения?! Иван Сергеевич слитком часто говорил мне о своей любви, чтобы дерзнуть повторять это слово после поспешного бегства. Что же это за человек, который даже в чувствах не осмеливается быть правдивым? Он называл меня своей музой и даже после бегства сложил в мою честь трогательные стихи. А для чего?
Что это было? Жалоба оскорбленной девы? Кажется, и мнение Белинского о Тургеневе ее вовсе не интересовало. Она во всем давно разобралась сама.
– Людей, Виссарион Григорьевич, надо узнавать не чувством, а рассудком. К сожалению, я на минуту забыла мудрый совет нашего Мишеля.
Опять Мишель! Он давно покинул родной дом, а его заветы по-прежнему властвуют в Прямухине.
Виссариону Григорьевичу ясно представилось, что должен был испытать по-мальчишески юный Тургенев, если бы услышал из девичьих уст, что не чувством, а рассудком нужно руководствоваться в науке страсти.
Татьяна продолжала говорить, а ее собеседнику казалось, что он слышит голос Михаила Бакунина. Кажущаяся горячность, а под ней ледок, который никогда не растает. Только темно-голубые глаза Татьяны еще больше потемнели.
От Татьяны же услышал Виссарион Григорьевич новость, сказанную между прочим: получено письмо о приезде в Прямухино еще одного гостя.
– Кто таков? – спросил Белинский, не придавая значения услышанному известию.
– Вы его знаете: Вульф.
– Который из братьев? – Виссарион Григорьевич предчувствовал недоброе.
– Гаврила Петрович.
Гаврила Петрович Вульф! Как ревновал к нему Белинский Александру Бакунину в давние времена – и тогда, когда сам еще лелеял несбыточные надежды, и тогда, когда уже не имел никаких надежд! Тверской помещик Гаврила Петрович Вульф приезжал к Бакуниным редко, но каждый раз, если это происходило при Белинском, Виссариону Григорьевичу казалось, что угрюмый паук плетет паутину вокруг Александры Александровны.
И как же торжествовал однажды над ним Белинский! В прямухинской гостиной зашла речь о Пушкине. Вульф долго слушал, наконец счел выгодным для себя вмешаться в разговор.
– Господин Пушкин приезжал в наши места по приятельству своему с нашим двоюродным братом Алексеем Николаевичем Вульфом, – сказал Гаврила Петрович. – Так вот, сказывали тогда, что господин Пушкин вел себя неназидательно по женской части.
И ничего больше не мог о Пушкине сказать.
Наступило неловкое молчание. Белинский, схватив какой-то журнал, судорожно им обмахивался.
– Что с вами? – тихо спросила у него Александра Александровна.
– Летом бывает очень много мух, сударыня, – громко отвечал Белинский и быстро вышел из гостиной.
Но разве был чем-нибудь похож Гаврила Петрович Вульф на достопамятного Ивана Федоровича Шпоньку, описанного Гоголем? Ничуть! Гаврила Петрович Вульф до отставки командовал кавалерийским эскадроном и сохранил властные привычки бравого отца-командира.
После того случая Виссарион Григорьевич на все лады варьировал рассказ Вульфа о Пушкине, и Александра Александровна неумолчно смеялась.
А что будет теперь? Глупая, беспредметная ревность Белинского сызнова зашевелилась.
Если бы не благоразумное предупреждение, бог знает, что могло случиться с Белинским, когда он, возвращаясь с прогулки, услышал на террасе ненавистный голос.
Новоприбывшего гостя встретили с подчеркнутым радушием. Впрочем, может быть, так только показалось Виссариону Белинскому. Он молча стоял, прислонившись к колонне, и наблюдал. Гаврила Петрович Вульф потолстел, как и подобает мужчине к сорока годам. Он что-то рассказывал, обращаясь преимущественно к Александре Александровне. В голосе его звучали властные нотки. Впрочем, и это легко могло показаться Виссариону Григорьевичу.
Новый гость присоединился к обществу, и прямухинская жизнь пошла обычным порядком – с шумом и смехом, с чтениями и музыкой. Гаврила Петрович участвовал во всем, а когда басовито подтягивал хору, то никого не сбивал. Только Виссарион Белинский сидел молчаливый, бледный: ему казалось, что пришел тюремщик и позванивает ключами.
Когда Александра Александровна играла с Вульфом на китайском бильярде, Белинский мучился еще больше: ведь ставкой была свобода Александры Александровны, ее судьба, ее счастье. А она проигрывала партию за партией. О горе! Еще один тверской помещик приехал в Прямухино искать себе подругу…
Александра Александровна была по-прежнему приветлива с Белинским, только стала чуть-чуть рассеянной. Она ничего не помнила из тех писем, которые совсем недавно ему писала. Вероятно, удивилась, если бы узнала, что от этих писем он сызнова сошел с ума. Во всяком случае, она не собиралась участвовать в этом сумасшествии. Ни прежде, ни теперь. Никогда. Да, кажется, она и не догадывалась, какую бурю подняла.
Виссариону Григорьевичу редко удавалось перемолвиться с ней наедине. Только однажды, когда Белинский неожиданно спросил, что думает Александра Александровна о своем будущем, он услышал в ответ:
– Нам, женщинам, прежде всего приходится считать свои годы.
Он удивился: какие годы властны над Прямухином? Сестры Бакунины должны быть вечно молоды! А прикинул – Александре Александровне больше двадцати шести лет!
…Когда идет она по саду и Гаврила Петрович молодцевато поддерживает ее под руку, Белинскому приходит на память знакомый стих:
А, кажется, хохочет сатана…И сразу вспомнил: из тургеневской поэмы.
Кто же срезался в Прямухине? Ехал Виссарион Григорьевич в обитель гармонии и блаженства, а уезжал из тверского села Прямухина, принадлежащего господам Бакуниным. Умерла еще одна и последняя фантазия, залетевшая в безумную голову.
Путь Белинскому на Москву был открыт и свободен.
Глава седьмая
На концерте знаменитого Листа зал Московского Большого театра был переполнен. Любители музыки слушали затаив дыхание.
В недальнем ряду партера сидела совсем еще молодая дама. Ее большие серые глаза не отрывались от сцены. Волнение ее заметно нарастало. Спутник, сидевший рядом, часто бросал на нее взгляды, полные заботы и тревоги.
В одну из тех минут, когда прославленный артист, казалось, нераздельно овладел чувствами слушателей, молодая женщина склонилась к своему спутнику и, не в силах скрыть смущение, сказала ему так тихо, что он едва мог расслышать:
– Узнай новость, Александр. У нас будет ребенок.
Александр Иванович Герцен почувствовал, как у него остановилось дыхание. Радость, надежда и страх объяли его душу. Может быть, судьба посылает им выход?
Концерт Листа, на котором Наташа объявила новость, состоялся 27 апреля 1843 года.
Беспросветная ночь по-прежнему часто и подолгу царила в доме Герценов. Дневник Александра Ивановича был тому суровым свидетелем.
Еще в январе Герцен записал: «Опять тяжелый разговор с Натали, точно в прошедшем году… Несколько дней я заставал ее в слезах, с лицом печальным… Я просил, умолял, требовал, наконец, разумом разобрать всю нашу жизнь, чтобы убедиться, что все это тени, призраки. Она плакала ужасно…»
Долгий, холодный был январь. Еще не успели засохнуть чернила в дневнике, как в один из вечеров они опять долго и скорбно проговорили. А Герцен ощутил всю любовь, свою и ее, и чудо наконец свершилось. Они снова были юны и пламенны, как в день свадьбы.
В эти дни Герцен, может быть, в первый раз в жизни пожалел, что он не музыкант, – только торжественными звуками, потрясающими душу, он мог, казалось, рассказать о своих чувствах. И Наташа, на лице которой так долго лежала печать страдания, вдруг снова раскрылась и любовью своей обняла все его существо.
Он принялся за работу – предстояло написать последнюю статью из цикла «Дилетантизм в науке». Он писал с огнем и вдохновением. Знал, что статья будет хороша, потому что для него вопрос науки неотделим от социальных вопросов. А кроме того, рядом с ним, в кабинете, опять сидела Наташа, его прежняя Наташа!
На Сивцевом Вражке торжествовали разум, воля, любовь.
– О, если бы я мог быть музыкантом! – повторял Герцен.
Наташа смеялась. Она смеялась совсем по-прежнему. И это было самое радостное, самое удивительное. Будто через насквозь промерзшие окна заглянуло на Сивцев Вражек ослепительное солнце.
Они подолгу сидели молча, крепко обнявшись, и он видел, как исчезают страдальческие складки, которые так долго лежали около ее губ.
Если бы не появились в дневнике новые строки, похожие на стон!
«Еще ужасное и тяжелое объяснение с Наташей, – я думал, все окончено, давно окончено; но в сердце женщины нескоро пропадает такое оскорбление. Еще пять-шесть таких сцен – и я сойду с ума, а она не переживет…»
Измученные, лишенные сил, любящие и страдающие, они снова ищут и находят друг друга: «Мы теснее соединились, выстрадав друг друга… Мы глубже почувствовали благо нашей жизни! Но я трепещу…»
Александру Ивановичу хотелось увезти ее вдаль, где было бы и тепло и море, где бы остались они только вдвоем. Наташа слушает и недоверчиво улыбается: куда может увезти ее Александр, прикованный к Москве полицейским надзором? И разве можно убежать от самих себя? Здесь, дома, они восстановят свою любовь. Так шла эта зима, долгая, мучительная, с короткими проблесками прежнего счастья.
В апреле Герцен снова писал в дневнике: «Ни моя любовь, ни молитва к ней – ничего не помогает… Она бывает жестка, беспощадна со мной, – много надобно было, чтоб довести до этого ее ангельскую доброту… Она хочет и не может отпустить мне… Страшно, земля под ногами колеблется…»
Когда через несколько дней после этой записи Наташа объявила мужу новость на концерте Листа, чувство радости переплелось у Герцена с тысячью других чувств. Наташа любила, не простив, и сама изнемогала, не имея сил вырваться из заколдованного круга. Теперь, когда ей предстояло стать матерью его ребенка, прошлое святотатство Александра против их любви мучило ее с новой силой.
Она говорила об этом с угасшим взором, бледная, без кровинки в осунувшихся чертах; она умела быть и жестокой и беспощадной к нему, к себе, к ним обоим.
Их отъезд из Москвы стал бегством от самих себя. А ехать можно было только в ближнее подмосковное имение отца Герцена – Покровское. Здесь нет ни южного тепла, ни моря, но есть уединение и покой.
Вокруг дома шумели вековечные леса. Едва заметная в полях проселочная дорога вилась к Можайску. Воздух густо напоен клевером. На некошеном лугу перед домом блаженствует, вырвавшись на простор, Сашка. Только его звонкий голос нарушает тишину.
Но как не разыскать друзей Василию Петровичу Боткину? Василий Петрович вышел из рефлексии. Он женится на Арманс! А где же и можно обвенчаться тайно от родителя, как не в убогой церквушке села Покровского, затерявшейся в лесах?
Герцен взял на себя переговоры с местным священником. Седовласый отец Иоанн, живший в постоянном подпитии, едва услышав, что получит за свадьбу двести рублей, стал благодарить Герцена так, будто свадьба была задумана единственно для увеличения его, отца Иоанна, доходов.
Жених с невестой должны были приехать в Покровское. Наташа волновалась за Арманс. Василия Петровича Наташа хорошо знала. Он мог одинаково наслаждаться и песнями Шумана и индейкой с трюфелями. Какое же место уготовано бедняжке Арманс?
День свадьбы приближался. Приехал Кетчер. С его приездом исчезла в доме тишина. Гостил в Покровском и Грановский с женой. В честь будущих супругов был приготовлен торжественный ужин. Но из Москвы никто не приехал. В полночь дамы удалились. Мужчины сели за стол, и Кетчер не преминул откупорить шампанское. Он действовал по мудрому правилу: если вино есть, его надо пить.
К звону бокалов присоединились звуки приближающегося колокольчика. Едут!..
В ночной темноте из тарантаса вышел Боткин. Герцен подал руку, чтобы помочь выйти Арманс, – и очутился в чьих-то крепких объятиях.
– Белинский!
Виссарион Григорьевич хохотал до упаду. Боткин едва не плакал. Белинский и объяснил загадочное происшествие. Когда он приехал в Москву, то застал Боткина в новом припадке рефлексии. Арманс было отправлено письмо: проанализировав свои чувства, Василий Петрович не может без ужаса думать о браке. Ответ Арманс был короток: она освобождала Боткина от данного слова.
«Я вас буду помнить с благодарностью, – писала она, – нисколько не виню вас: я знаю, вы чрезвычайно добры, но еще больше слабы. Прощайте же и будьте счастливы».
Письмо и приехало в Покровское вместо Арманс. В уединенное жилище Герценов, где Александр Иванович и Наташа боялись коснуться незаживающей раны, ворвалась история попранной любви, принесенной в жертву рефлексии.
Василий Петрович был смущен, однако жаждал обсуждения своего поступка. Обсуждения не было. Всем было не по себе. Наташа смотрела на Базиля холодными глазами. Василий Петрович, не найдя сочувствия, проводил время в одиноких прогулках.
Внимание хозяев было отдано Белинскому. Наталья Александровна только и думала о том, чтобы предложить ему теплый плед, едва слышала первый приступ его кашля. Она заказывала его любимые блюда. Едва Белинский вступал в общий разговор, Наташа смотрела на него пытливыми глазами. Не часто доставалось такое ласковое внимание Виссариону Григорьевичу.
А на очереди был Сашка.
– Белинский! – басил он, подражая взрослым, и тянул гостя на луг за домом.
Здесь у Сашки был собственный кабинет естествоиспытателя. А мошки и жуки-самоубийцы, как нарочно, ползли сюда со всех сторон. Только бабочки, беззаботно кружась, дразнили нерасторопного натуралиста. Но тут неожиданные способности ловца проявил Белинский.
– Природа – важная материя для философии, – говорил Александр Иванович.
– Важнейшая, – отвечал Виссарион Григорьевич, готовясь к новому прыжку.
– Мне все больше думается, – продолжал Герцен, пытаясь начать серьезный разговор, – что философия без естествоведения так же невозможна, как естествоведение без философии. Взаимное отдаление этих наук – только свидетельствует об ошибках прошлого, их взаимосвязь – откроет новые, еще невиданные горизонты. Как ты думаешь, Виссарион Григорьевич?
Сашка настороженно прислушивался к непонятным, но заведомо опасным речам отца. По собственному опыту четырехлетней жизни он хорошо знал, что дай только взрослым стакнуться – тогда прости-прощай всякое дело!
– Белинский! – Сашка тянул его за руку подальше от родителя, туда, где природа раскрывала новые, только ему одному ведомые тайны.
Белинский покорно следовал за ним, зорко всматриваясь в высокую траву.
А с террасы спешила к дорогому гостю Наташа.
Наконец Герцен увел Белинского в кабинет. Виссариону Григорьевичу привелось выслушать рассказ о драме, которая началась в доме Герценов в тот летний день, когда Александр Иванович поддался неодолимому зову крови и добровольно загрязнился.
– Взыграла, стало быть, голубая дворянская кровь? – вырвалось у Виссариона Григорьевича. – Всех бы нас, мужиков, поучить хорошенько одной плетью! – Кажется, к укору грешнику он присоединил укор и самому себе. За каким призраком погнался он в Прямухино?
– Наташа, – продолжал Герцен, – вся сосредоточилась на своем оскорблении, на своем чувстве боли. Она отгородилась от жизни, и это ее губит. Для нее словно не существует больше ни окружающий мир, ни наши мысли и надежды. И вот – дом, построенный только на личном, оказался на песке. А ты, Белинский, писал мне о нашем счастье!..
Долго молчал Виссарион Григорьевич.
– Я не умею утешать, да и не нужны они, утешения. Оставим их для слабых духом. Но запомни мои слова: не может Наталья Александровна жить вне того необъятного мира идей и чувств, в который она вошла вместе с тобой. Если же рана ее глубока, то не может и быть иначе, когда сильна любовь. Любовью же вы и исцелитесь оба. Ни о ком бы не стал я пророчествовать, кроме как о тебе и о Наталье Александровне. Если ее силы иссякли, будь ты вдвойне силен… Творец небесный! Как я люблю вас обоих! – вдруг воскликнул Белинский, и столько горячности было в этих словах, что Герцен взглянул на него, не скрывая удивления: не часто так откровенно обнаруживал свои чувства Виссарион Белинский.
Виссарион Григорьевич теперь делил время между хозяином и хозяйкой дома. А возвращаясь с прогулок, которые он совершал с Натальей Александровной, держался в кабинете Герцена с видом заговорщика.
– Может быть, ты опять повторишь, что Наталья Александровна отвернулась от жизни? Нет в мире женщины, равной по уму и сердцу твоей жене! Нуте, – Белинский напускал на себя отчаянно строгий вид, – а что можешь предъявить ты?
Герцену, за отсутствием других новых работ, пришлось предъявить главы давно оставленного романа о некоем университетском кандидате Круциферском и Любоньке.
Белинский читал страницу за страницей, сопровождая чтение одобрительными восклицаниями. Но читать пришлось недолго. Так и застрял роман на предстоящей свадьбе героев.
Виссарион Григорьевич сложил последний лист и долго смотрел на Герцена.
– И ты не пишешь? Не пишешь?! – только и мог вначале повторять он. И тотчас весь вскипел: – Мировая скорбь одолела? Наталье Александровне, мол, присущ дар страдания? Ну, предположим. А у тебя что? Опомнись, Александр Иванович. Чем же и поможешь ты Наталье Александровне, если не позовешь ее: «Приди и помоги мне!» Ты обязан завершить роман! – Виссарион Григорьевич был полон энергии, словно именно ему суждено было возродить жизнь в доме Герценов.
Но тут Василий Петрович Боткин, о котором все забыли, потребовал немедленного возвращения в Москву. Шутка ли! Прогостил в Покровском целых три дня!
– Да неужто прошло всего три дня? – ахнул Белинский.
…Скрылся из виду тарантас, в котором уехали гости. Замолк вдали колокольчик. Только пыль, поднявшаяся на проселочной дороге, стояла неподвижным столбом.
– Он все тот же, Виссарион Белинский, и как я люблю его непримиримость и резкость! – сказал жене Герцен.
– Нет, нет! – отвечала Наташа. – Виссарион Григорьевич в чем-то изменился. Я не знаю, как выразить свое ощущение. Если б дело касалось не Белинского, я бы подумала, что так бывает с человеком, когда он встречает женщину и встреча эта очень, очень для него серьезна.
Герцен с удивлением на нее посмотрел.
Глава восьмая
Москва! Всю тебя искодесил в прежние годы Виссарион Белинский. Ходил в легкой шинелишке и прохудившихся сапогах в университет, пока не выгнали его из храма науки. А перепугались университетские профессоры-цензоры не зря, едва прочитали написанную этим студентом драму «Дмитрий Калинин». Восстал в этой драме Белинский против крепостного права с такой яростью, что поспешно закрыли перед ним университетские двери под благовидным предлогом неспособности к наукам.
Выгнали автора «Дмитрия Калинина» из университета, а он стал ходить к товарищам в университетские номера и там читал пьесу студентам.
А то еще путешествовал Виссарион Григорьевич куда-нибудь в Замоскворечье к дальним знакомым и, идучи, сгорал от стыда: сколько ни отгонял унизительную мысль, а она упорно возвращалась к изголодавшемуся человеку: авось попадет к обеду. Приходилось ему ютиться в разных местах, в каморках на Петровских линиях и в арбатских переулках, и наконец снова попал в университетские дома. Он жил тогда на квартире профессора Надеждина, став одним из главных сотрудников издаваемого профессором журнала «Телескоп». Закрыли «Телескоп» – опять пошел мыкаться по разным углам.
Воистину исколесил тебя, Москва, вдоль и поперек Виссарион Белинский, только в Сокольниках если и бывал, то всего раз-другой. А теперь будто и нет ему другого пути.
От Маросейки до Сокольников – не близкий путь, а седок знай торопит извозчика, пока не приедет под благостную сень. Между всех сокольнических аллей есть одна заветная, а на той аллее стоит дача, так себе с виду, ничем не примечательная. Но если на дорожке, ведущей от дачи к калитке, появляется женщина, давно расставшаяся с юностью, пожалуй, даже болезненная, Виссарион Григорьевич чуть не бежит ей навстречу и, перемогая проклятую одышку, шепчет:
– Мари!..
Марья Васильевна Орлова живет у родственников в Сокольниках, чтобы поправить на чистом воздухе пошатнувшееся здоровье.
Вот и ходят они по аллеям Сокольнического парка, а еще чаще сидят на уединенной скамейке. Если и забредет сюда случайный прохожий да взглянет на сидящих на той скамейке, непременно подумает: «Смолоду, что ли, не любили?»
Вечерние тени лягут на зеленую скамейку, прошелестит над ней свежий ветерок, Мари зябко поведет плечами – по нездоровью ей вредна вечерняя прохлада. Тогда они идут к даче рука об руку. Что бы сказала, встретив сейчас классную даму Орлову-старшую, мадам Шарпио?
Классная дама Орлова-младшая давно примирилась с действительностью и даже великодушно готова стать советчицей растерявшейся Мари. Но советов не потребовалось. Все на той же заветной скамейке Белинский просил Мари быть его женой.
– Зачем вам такая старая и неинтересная жена? – только и нашлась ответить Мари.
Можно представить, как бы возмутилась рассудительная Аграфена, услышь она это уничижительное и неловкое признание.
А Виссарион Белинский принял слова Мари как горькую исповедь одинокой жизни. Он не заблуждался и в себе. В его чувстве не было пыла юности. Ни капли хмеля – так казалось ему – не было у него ни в мыслях, ни в сердце. Но как мало он себя знал! Все доводы рассудка оказались бессильны перед волнением сердца, рванувшегося к Мари. И Мари проснулась после долгого и скучного сна в институтских стенах.
Ни жених, ни невеста не заговаривали о будущей совместной жизни. Зато Мари прочла первую статью своего избранника, посвященную Пушкину. А он говорил ей, с какими новыми силами примется теперь же, в Москве, за продолжение.
Когда в Сокольниках появлялась Аграфена, она слушала странные отчеты Мари. Может быть, чаще всего звучало в этих отчетах имя Пушкина, потом являлся какой-то Герцен и его жена, будто бы совершенно удивительная женщина…
– Ну, предположим, Пушкин – это очень хорошо, Пушкин! – выходила из себя Аграфсна. – А какова квартира, в которой вы будете жить? А меблировка? А средства? – Аграфена по-прежнему не верила в материальную силу критических статей. – Хорош и он, твой жених! – заключала с явным сарказмом практическая Аграфена.
Времени же, чтобы направить мысли Мари на существенное, никогда не оставалось. Жених уже подходил к даче со счастливой улыбкой. И даже в летнюю пору у него был повязан на шее теплый шарф. Можно ли такое вообразить!
Когда Белинский рассказывал Мари о Прямухине, она не раз повторяла:
– Оказывается, вы большой ребенок, Виссарион Григорьевич! А может быть, мне бы следовало вас приревновать?
Но она не ревновала, как не ревнуют избранника к любимой книге или картине, поразившей его воображение. Ничего подобного чувству ревности не было в сердце Мари, одержавшей блистательную победу над неведомой ей Александрой Бакуниной. Скорее даже гордость испытывала Мари.
Они по-прежнему ходили к заветной скамейке. По-прежнему дружелюбно шелестели в Сокольниках деревья. Только однажды залетел резкий, порывистый ветер, и на заветную скамейку, медленно кружась, стали падать пожелтевшие листья.
– Вот и напоминание мне о предстоящей разлуке с вами, Мари, – грустно сказал Белинский, разглаживая на ладони блеклый лист. Он поглядел на опечаленную невесту. – Но разве это не говорит вам о том, что скоро я опять приеду, чтобы увезти вас в Петербург?
Пожалуй, это и все, что было сказано о предстоящей свадьбе. Как ни добивалась Аграфена, наезжавшая в Сокольники из института, Мари ничего не могла припомнить. Дались ей какие-то опавшие листья!
Мокрое небо повисло над Москвой. Виссарион Григорьевич сидит в квартире Боткина и пишет. Во второй пушкинской статье речь идет все еще не о великом поэте, а о предшественниках его – Карамзине и Жуковском. Велики заслуги Карамзина. Он – преобразователь литературного языка, он приохотил публику к чтению журналов, он отразил в своих повестях жизнь сердца, как ее тогда понимали. Но никто не будет искать теперь в этих повестях воспроизведения действительности, никто не будет читать их как художественные произведения. Таков неизбежный приговор новых времен.
А как же смотреть ныне на «Историю государства Российского», за которую пожаловали Карамзину титул гениального писателя и великого гражданина? Дряхлеющие поклонники Карамзина думают и до сих пор, что присудили они Карамзину титул великого навечно.
Виссарион Григорьевич подошел к окну. Непереносный дождь! Хорошо, что Мари перебралась из Сокольников обратно в институт. Очень даже хорошо. А все-таки жаль до боли сердца недавних встреч на вольном просторе сокольнических аллей. Словно и Мари стала в институтских стенах другой: все чаще ссылается на мадам Шарпио…
Так что же сказать об «Истории государства Российского» Карамзина? Это скорее история Московского государства, ошибочно принятого историком за высший идеал всякого государства, полагает Белинский. Однако он и здесь отдает должное Карамзину: без него русские не знали бы истории своего отечества. Вот почему труд Карамзина навсегда останется памятником, хотя критика историческая и философская уже вытеснила «Историю» Карамзина из ряда творений, удовлетворяющих потребности современного общества.
Белинскому страстно хочется назвать другого современника Карамзина, творение которого перейдет как живое к потомкам. Но имя Александра Радищева запретно. Поэтому Виссарион Григорьевич принужден писать, не называя имен, о деятелях, которые действуют для будущего. Они бывают не признаны, не поняты, не оценены, часто даже гонимы современниками. Таков удел Радищева.
Белинский мог бы, конечно, работать над статьей и возвратясь в Петербург. Но стоит вспомнить опечаленные глаза Мари.
– Вот вы уже и уезжаете? – спрашивает она каждый раз и не может скрыть волнения.
Как же не вырвать у судьбы каждый лишний день, лишний час?
Статья между тем разрасталась. Впереди предстоял важный разговор с читателями о Жуковском.
…А дожди льют и льют. Серая, хмурая, мокрая Москва. Осунулась, побледнела Мари. Как ее покинуть? Может быть, они еще смогут вернуться в Сокольники хоть на одну счастливую минуту, прежде чем Мари снова станет пленницей этой чертовой старухи мадам Шарпио? Белинский не имел чести ее видеть, но каждый раз, когда о ней говорит Мари, ему хочется отправить мадам Шарпио на Лысую гору…
Приступив к изложению мыслей о Жуковском, Виссарион Григорьевич должен был обстоятельно коснуться романтизма. Прежде всего – надо же установить, что такое романтизм. Ведь и Пушкина тоже называли романтиком. А с другой стороны, и сейчас величают себя романтиками авторы туманно-чувствительных и беспредметных стихов. Что же такое этот романтизм, которому так верно служит Жуковский?
«Романтизм, без живой связи и живого отношения к другим сторонам жизни, – пишет критик, – есть величайшая односторонность!» Потому-то поэзия Жуковского чужда чувства прогресса, идеала высокой будущности человечества. Поэт видит лишь мир скорбей без исцеления, борьбы без надежды и страдания без выхода.
Несомненная заслуга Жуковского в том, что своими переводами он познакомил русских читателей с поэтами Запада. И стих его был приуготовлением к стиху Пушкина. Но Жуковский навсегда остался самим собой, то есть поэтом душевного порыва к неопределенному идеалу.
Вторая пушкинская статья близилась к концу. Истекали все сроки возвращения Белинского в Петербург.
Но сколько он ни повторял: «Я еду для того, чтобы как можно скорее возвратиться за вами, Мари», – все-таки печальны были ее глаза.
Глава девятая
Марья Васильевна мучилась своим счастьем: ей было страшно замужество; еще страшнее – мысль об одиночестве.
Аграфена с грустью смотрела на сестру-невесту. Она считала предстоящую свадьбу Мари прологом к скучной повести, серой, обыденной, лишенной всякого романтизма.
Конечно, она переедет с сестрой в Петербург. Как оставить ее одну? Тут следовал глубокий вздох: о таком ли бегстве из института в страну грез мечтала Аграфена?
К Мари тем временем стали приходить удивительные письма, словно шли они не из Петербурга, а из волшебной сказки:
«…Я хотел бы теперь хоть на минуту увидать Вас, – долго, долго посмотреть Вам в глаза, обнять Ваши колена и поцеловать край Вашего платья…»
Мари краснеет от смущения. Институтские стены не слыхивали таких слов. Что стало с Виссарионом Григорьевичем? Ничего подобного он никогда ей не говорил. А письма из Петербурга все чаще врываются в институт:
«Теперь я и здоров и болен одним, об одном могу думать и одним полон, и это одно – Вы!»
Письма опаляют руки Мари.
Видит бог, она долго сопротивлялась. Сначала она отвечала жениху главным образом наставительными письмами: как Виссариону Григорьевичу одеваться, чтобы уберечься от простуды, как правильно распределять работу и отдых, как лечиться. Это было похоже на мудрые правила, которые управляли жизнью в институте.
Белинский читал наставления и снова безумствовал. Тогда Марья Васильевна прибавила к разумным советам ему еще одно правило для себя: она будет писать в Петербург один раз в две недели.
А писала каждую неделю. Может быть, она стала бы писать еще чаще, но, чувствуя надвигающуюся опасность, взяла свои меры. В одном из писем она снова спросила жениха: зачем нужна ему жена старая, больная, бедная, нелюдимая в обществе и ничего не смыслящая в хозяйстве?
Ждать ответа было и томительно и страшно. Но все страхи утонули в потоке его ласк. Он тосковал, он считал дни до встречи. Однако умудрился же написать о ее болезни:
«Вы должны выздороветь, вышедши замуж; бывали примеры, что доктора отказывались лечить, как безнадежных, больных расстройством нервов женщин, советуя им замужество, как последнее средство, – и опыт часто показывал, что доктора не ошибались в своих расчетах».
Это уже слишком! Что бы сказала, прочитав эти строки, мадам Шарпио?
А письмо снова пламенело страстью и нежило. Ураган подхватил и закружил Мари, как беспомощную былинку.
Так бывает весной на реке: толпятся и кружатся почерневшие льдины – и вдруг откроется чистая полынья, блещущая небесной синевой. В письмах Мари вместо рецептов от кашля и кратких рассуждений о пользе калош стали появляться строки о том, что ей, разлученной с суженым, стыдно приносить в общество свою нарядную печаль.
«За эти мысли, – отвечал Белинский, – мне хотелось бы поцеловать Вашу ножку…»
Письмо и вовсе пришлось прятать от Аграфены. Да где же и знать Аграфене, что может написать порой автор критических статей!
Мари запомнила это письмо наизусть. Коли тронулся лед и солнце первое спешит искупаться в студеных, прозрачных водах, – тогда многое свершается в сердце. Если весна даже запаздывает, она все-таки остается весной.
После долгих лет наложенного на себя запрета Марья Васильевна решилась снова участвовать в танцах. Конечно, это произошло не на пышном и многолюдном бале, где соперничают между собой молодость и кокетство. Мари решилась провальсировать на скромном вечере у начальницы института, чем и вызвала несказанное удивление самой мадам Шарпио.
Отчет о событии, происшедшем на вечере у начальницы института, тотчас пошел в Петербург. При этом было передано беспристрастное мнение Аграфены: она, Мари, была лучше всех! Во всяком случае, этого хотелось Аграфене, а еще больше – самой Мари.
«Я совершенно согласен с Аграфеной Васильевной, – немедля откликнулся Белинский, – что Вы были лучше всех на маленьком бале Вашей начальницы. Другие могли быть свежее, грациознее, миловиднее Вас – это так…»
Мари читала – и вдруг замолкли звуки мечтательного вальса, которые слышались ей после танцев у мадам Шарпио. Мари уже не писала больше в Петербург о своем участии в танцах.
Зато как же смеялась она, – а это так редко с ней бывает, – когда получила новое письмо с известием о кадрили, состоявшейся в Петербурге с участием Виссариона Белинского!
На вечеринке у знакомых развеселившиеся дамы вытащили Белинского на танец. Его посылали направо и налево, а он безнадежно путался и окончательно запутался в замысловатой фигуре, именуемой шене…
Мари долго смеялась, потом задумалась, сидя над шкатулкой, в которой хранила письма. Вошла Аграфена.
– Ты опять перебираешь свою ветошь, Мари? Я вовремя и о многом тебя предупреждала, но ты не хотела меня слушать.
И в подтверждение слов Аграфены, с письма о кадрили начались неприятности. Вернувшись в тот вечер домой, Виссарион Григорьевич почувствовал себя совсем плохо. И не было писем от Мари! Он высчитывал дни и часы. Когда же письмо приходило, Виссарион Григорьевич долго держал его нераспечатанным, чтобы продлить наслаждение. Чудак! Его ждала неотложная работа, а он описывал ей неожиданно пригожие сентябрьские дни, подаренные природой Петербургу. Он описывал ей ночное небо, усыпанное ярко блистающими звездами. И снова томился разлукой.
«Терпеть не могу таких положений, – признавался он, – они очаровательны для юношей и мальчиков, которые еще не выросли из стихов Жуковского и любят твердить: «Любовь ни времени, ни месту не подвластна». Виссариону же Григорьевичу представлялось, что разлука перед браком ставит людей в преглупое положение, которое можно выразить словами: ни то ни се…
Мари больше хотелось, чтобы он писал ей о звездах. А он, заболев после вечера, на котором отличился в кадрили, больше ничего не писал о звездном небе. Его заботило другое. Как и когда он сможет поехать в Москву? Прикинул неотложные работы по журналу – от них не оторваться, пожалуй, и через полгода. Совсем плохо с деньгами.
Сославшись на советы друзей, Виссарион Григорьевич поставил перед невестой, правда, нерешительно, важный вопрос: не лучше ли ей приехать для венчания в Петербург?
В то время, когда писалось это письмо, Мари тоже думала о предстоящей свадьбе. По картам (какая же невеста не раскинет карты?) будущее сулило столько счастья! И Мари размечталась. Конечно, свадьба не может состояться без участия мадам Шарпио! Что сказала бы иначе отвергнутая начальница? А после торжественной церемонии в институтской церкви почему бы не устроить свадебный обед с приличным числом приглашенных?
Бедная Мари! Она все еще плохо знала своего жениха.
Их письма разминулись. Дочитав письмо Белинского, начатое с описания кадрили, Мари не сразу даже поняла, какое чудовищное предложение сделал ей безумец: когда было слыхано, чтобы невеста ехала к жениху?
В то же время письмо, наполненное свадебными мечтаниями Мари, пришло в Петербург.
– А!.. – только и мог сказать Виссарион Григорьевич и задохнулся.
Он схватился за перо, перо разбрызгивало чернила, рвало бумагу. И разве это было похоже на письмо? Это гораздо больше походило на страстную речь, с которой он сам предстал бы перед Мари:
– Как? Покориться подлым и шутовским обычаям, профанирующим святость отношений, в которые мы вступаем! Свадебный обед? Да будь они прокляты, эти обеды, и все родственники, все дядюшки и тетушки с их гнусными обычаями! Опомнитесь, Мари!
Он был вне себя. Словно не от Мари пришло это письмо, в котором виделись ему премудрые наставления чертовой мадам Шарпио, и пьяные оскорбительные шуточки за свадебным столом, и идиотские визиты будущих молодоженов.
«При венчании будут, – пишете Вы, Мари, – всего человек двадцать да с моей стороны человек десять или пятнадцать; да зачем и где наберу я такую орду? У меня все такие знакомые, для которых подобное зрелище нисколько не интересно. – С пера опять брызнули чернила. – Еще раз опомнитесь, Мари!..»
Так начались неприятности.
Но кому же, если не Мари, он писал еще на днях:
«Какие ночи, боже мой! какие ночи! Моя зала облита фантастическим серебряным светом луны. Не могу смотреть на луну без увлечения: она так часто сопровождала меня в то прекрасное время, когда, бывало, возвращался я из Сокольников».
В окна снова смотрела луна, только свет ее уже не казался Виссариону Григорьевичу фантастическим. И ночь была не волшебной, а мучительно бессонной. Перед ним лежало новое письмо Мари. Она была глубоко оскорблена его предложением приехать для свадьбы в Петербург. Что скажут о такой невесте порядочные люди!
Сердце Белинского разрывалось от горести, но он хотел спокойно убедить Мари в ничтожестве предрассудков, которые обнаружили над ней такую власть. Белинский писал, что в Петербурге ни один разумный человек не поймет, в чем тут неприличие, если невеста сама приедет к жениху, который из-за дел не может отлучиться ни на один день.
А дальше не хватило спокойствия у Виссариона Григорьевича.
«Не то в Москве, – написал он, – в этой сточной яме, наполненной дядюшками и тетушками, этими подонками, этим отстоем, этим исчадьем татарской цивилизации».
Это мало походило на письмо счастливого жениха. Трудно было представить Виссариона Белинского во фраке и в цилиндре, едущего с благодарственным визитом к мадам Шарпио.
Он боролся за Мари, как умел.
Глава десятая
В ненастный октябрьский вечер Тургенев застал Белинского в забытьи. Виссарион Григорьевич лежал на кушетке, бледный, небритый, со следами крови на лице. Запекшаяся кровь была на подушке, на воротнике рубашки.
– Вот простудился сдуру, – сказал он, с трудом открывая глаза, – а доктор обрек меня в жертву пиявкам.
На столе подле кушетки стоят пузырьки с лекарствами, воздух пропитан их запахами, в комнате было душно и неприбранно.
Виссарион Григорьевич опять закрыл глаза. До боли сжалось сердце у Тургенева. Он еще раз взглянул на Белинского: хоть чем-нибудь отвлечь его от мрачных мыслей… И полились рассказы Ивана Сергеевича, такие занимательные, что Виссарион Григорьевич даже сел на своей кушетке: так легче ему было смеяться – меньше душил кашель.
– Когда вы были в Москве, Виссарион Григорьевич, – вспомнил Тургенев, – я принес Краевскому свое стихотворение «Толпа» с посвящением вам.
– Знаю… Вымарал посвящение Андрей Александрович? Куда как хорошо! Я не из числа тех мелочных людей, которые гонятся за пустяками. А вам на добром слове спасибо!
– Не в том суть, Виссарион Григорьевич. Я знал, что вы не заподозрите меня в лести. Так вот, передаю я «Толпу» Краевскому. А он, едва взглянув на посвящение, смотрю – жует губами, будто хлебнул уксуса.
Тургенев изображал то Краевского, то себя в роли поэта, ожидающего решения участи. Андрей Александрович читал стихотворение, поглядывая на стихотворца с неодобрением.
– «Помилуйте, – скучным голосом говорил Тургенев за редактора-издателя «Отечественных записок», – здесь у вас господь бог носится тревожно над толпой. Тревожно! Этого про господа никак нельзя сказать, милостивый государь!»
– Как есть он Кузьма Рощин! – в полный голос смеялся Белинский. – И мне он писал в Москву, да, читая письмо, рожи-то его я не видел.
Далее сцена превращалась в пантомиму. Воображаемый Краевский взял воображаемое перо и стал тщательно вымарывать посвящение на воображаемом листе. Марал долго, усердно, с удовольствием, потом приблизил лист к глазам, смотрел даже на свет: вовсе ли истребил нежелательные слова?
– Да черт с ним, с Ванькой-каином! – говорил Виссарион Григорьевич, вытирая выступившие от смеха слезы. – Сами-то вы что делаете, Иван Сергеевич?
– Отчасти служу в министерстве внутренних дел, но, признаться, по неспособности своей не жду поощрения от начальства. А потому имею к вам просьбу, Виссарион Григорьевич. Вышел, как вам известно, шиллеровский «Вильгельм Телль» в переводе Миллера. Вот если бы вы поручили мне написать для «Отечественных записок» критическую статью… Страсть как хочется написать о Шиллере!
– Эк вас бросает, батенька, во все стороны!
– Бросает, – охотно согласился Тургенев. – Все думаю: займусь делом – отстану от стихов. Мне бы и по летам и по службе в министерстве пора бы покончить с грехами юности, а не могу отстать, никак не могу!
Ушел Тургенев, у Белинского началась новая бессонная ночь. Он ворочался, кашлял, глядел в темные окна, томительно ожидая позднего рассвета, и наставлял сам себя:
– Эх, Виссарион Григорьевич, если бы не ходил ты осенью без калош, как бы просто было жить на свете. Не правда ли, Мари?
Бедняжка Мари тоже мучилась в Москве. Белинский не понимал самой простой вещи: не может уважающая себя невеста, забыв стыд и приличия, ехать к жениху!
– Не может! – кричали институтские стены.
– Не может! – слышался твердый голос из покоев начальницы института.
– Не может! – подтверждала Аграфена Васильевна. – Подумай, какой позор падет на твою сестру! Он Подколесин, твой жених! – язвила Аграфена, обнаруживая хорошее знакомство с комедией Гоголя «Женитьба», недавно показанной на сцене. – Я бы сама широко раскрыла ему окошко, если бы он возымел намерение выпрыгнуть в него.
Хорошо говорить Аграфене, а каково ей, Мари?..
…Во сне или в бреду Виссарион Григорьевич увидел новое письмо из Москвы? Он даже не сразу понял его смысл: Мари решилась ехать в Петербург! Он вырвал Мари из-под власти чудовищных предрассудков. А ведь бывали минуты, пока длилась эта тягостная переписка… Впрочем, ни слова о прошлом!
Виссарион Григорьевич еще раз перечитывает письмо: ох, неопытная, далекая от жизни Мари! Теперь она не думает о том, что формальности, которые необходимо исполнить перед венчанием, требуют времени. Проклятые формальности! Из-за них он сам теперь должен отсрочить приезд Мари. Он пишет ей о бумагах, которые она должна исхлопотать и привезти.
Но Мари едет, едет! Ответное письмо Виссариона Григорьевича превращается в подробную инструкцию, в которой предусмотрено все. Какое место взять в дилижансе, чтобы Мари не пускалась в путь одна, без надежной служанки. Он пришлет ей на дорогу свой тулуп на прекраснейшем заячьем меху (именно так и было написано в письме об этом тулупе). А Мари перешьет тулуп на дорожный капот. Он советовал купить для дороги меховые калоши и башмаки на двойной подошве, и чтобы одна подошва была непременно из пробкового дерева. Он умолял Мари не пить в дороге горячего чая и больше всего бояться сквозного ветра на станциях.
– Смелее! Вашу руку, Мари, которая, бог даст, скоро будет моею!
Все, кто видел Виссариона Белинского в этот день, не могли надивиться его бодрости.
– Что случилось с вами, почтеннейший Виссарион Григорьевич? – спросил с недоумением Андрей Александрович Краевский, отдавая ему корректуры.
– Что со мной? – переспросил Белинский. – Я бы сегодня горы перевернул! Любые горы, Андрей Александрович! – чем и привел Краевского в полное недоумение.
А наутро явилось новое письмо из Москвы. Мари писала сквозь слезы, ее дрожащая рука едва могла вывести прерывающиеся строки. Она поедет в Петербург, хотя, может быть, и убьет этим ужасным поступком и отца и сестру и сама заболеет от отчаяния горячкой. Мари готова пожертвовать собой, хотя и не может поверить, что из-за журнала Виссариону Григорьевичу нельзя приехать в Москву. Мари приедет, потому что этого эгоистически хочет он, но пусть будет ему известно, что она ужасается этой позорной для невесты поездки, как смертной казни!
Тут рука Мари стала дрожать, и строки письма окончательно спутались.
Что же может теперь помочь, кроме встречи, может быть последней? Белинский порывисто встает. Если бы сейчас оказаться в Москве! Он застает Мари одну, убитую горем. Она даже не удивляется, как он к ней попал.
– Мари! Моя добрая, милая Мари, – задыхаясь, говорит Виссарион Григорьевич. – Умоляю вас: спасите себя и меня от горя и отчаяния! Вы страдаете, – продолжает он и говорит так, будто в самом деле видит перед собой Мари. – Да зачем же вы страдаете, бедный, милый друг, без всякой причины? Зачем пугаете себя призраками, созданными вашим воображением?
Вот так бы обратился Виссарион Григорьевич к Мари, если мог бы хоть на день съездить в Москву. Но нет для этого никакой возможности у журнального поденщика, закабаленного неотложной работой.
Он снова доходит до болезни. Рано он торжествовал. Борьбу за Мари выиграли московские кумушки. Попробуй посягни на допотопный символ веры старых салопниц!
Виссарион Григорьевич был в таком состоянии, что сам не знал, где он – в Петербурге или в Москве. Между припадками мучительного кашля он продолжал разговор с Мари:
– Меня убивает мысль, что Вы, которую считал я лучшею из женщин, что Вы, в руках которой теперь счастье и бедствия всей моей жизни, что Вы, которую я люблю, что Вы – раба… И как рабыня же Вы любите, Мари!
Мари стала бояться его писем, а письма шли и шли.
«Мари, Вы обожествили деревянного болвана общественного мнения и преусердно ставите ему свечи, чтобы не рассердить его. Я с детства моего считал за приятнейшую жертву для бога истины и разума – плевать в рожу общественному мнению там, где оно глупо и подло, или то и другое вместе… Вы, Мари, совсем не понимаете меня с моей главной существенной стороны. Знаете ли Вы, что людей, с которыми ни в чем не могу сойтись, я считаю моими личными врагами и ненавижу их? Знаете ли Вы, что я это считаю в себе добродетелью, лучшим, что есть во мне?»
В полном отчаянии Мари назвала его фанатиком.
«Я фанатик, но не деспот», – отвечал невесте жених. Он обещал ей объяснить в будущем, при совместной жизни, какая разница между тем и другим.
И как же умел любить этот фанатик!
«К груди приливают горячие волны любви, и мне хотелось бы излить перед Вами вею душу мою… Я весь полон Вами, весь проникнут Вашим незримым присутствием. О, когда же незримое превратится в очевидное! Когда же, утомленный работою, тихо буду входить в Ваше святилище и, глядя на Вас, слушая Вас, говоря с Вами, отдыхать душою и собирать новые силы на новые труды?.. Когда же тесный угол мой наполнится Вашим присутствием и, почуяв близость святыни, я буду жить полною жизнью?»
Впрочем, он не уставал повторять: если все его доводы, вся его любовь окажутся бессильны, тогда он приедет в Москву.
Это и было, пожалуй, единственное признание, которое еще заставляло Мари верить в его любовь.
«Любовь? – задумывалась она, перебирая письма. – Странные письма, странная любовь…»
Жених между тем написал, что он сможет приехать в Москву только в том случае, если удастся раздобыть денег. Денег, как всегда, не было. Тогда он сообщил, что, может быть, приедет в апреле. А шел к концу октябрь.
И вдруг потускнели у Мари прежние мечты о торжественном венчании в институтской церкви. И даже поездка к жениху, которая раньше казалась таким позором, перестала пугать.
А Виссарион Григорьевич честно признался в новом письме, что по журнальным обстоятельствам вряд ли сможет приехать и следующим летом.
Теперь даже мадам Шарпио, столь часто упоминавшаяся в переписке невесты с женихом, превратилась в бесплотную тень. Бог с ней, с мадам Шарпио, если идет невесте тридцать второй год!
В ненастный ноябрьский день Марья Васильевна Орлова вышла из дилижанса, прибывшего в Петербург. На ней не было ни капота на заячьем меху, ни дорожных ботинок с двойной подошвой, но доехала она в полном здоровье. Еще не успела оглянуться на чужбине смущенная путешественница, как услышала знакомый голос:
– Мари!..
Венчание состоялось днем, в одной из малолюдных петербургских церквей, в присутствии нескольких свидетелей, необходимых по закону. Потом у новобрачных был чай. На нем присутствовали лишь супруги Панаевы, да и то потому, что жили теперь в одном доме с Белинским.
Иван Иванович Панаев, глядя на новобрачную, едва мог справиться с растерянностью: где только нашел Белинский такую болезненную деву?
Авдотья Яковлевна Панаева посматривала на жену Белинского с великодушным любопытством: ведь должно же быть в этой женщине что-то необыкновенное, если именно ее избрал в подруги Виссарион Белинский?
Авдотья Яковлевна, одевшаяся сегодня нарочито скромно, как и подобало единственной гостье на такой скромной свадьбе, вела важный разговор с хозяином дома: о кухарке, которую следует Белинским нанять, и необходимых вещах, которые следует приобрести.
И какой бы предмет ни называла Авдотья Яковлевна, Белинский, смеясь, приговаривал:
– Каюсь, не сумел вовремя подумать!
А в голубых его глазах все ярче светились золотые искорки.
Глава одиннадцатая
Виссарион Белинский садится за обеденный стол с женой и свояченицей. Навсегда покончено с обедами, которые носили холостяку-бобылю из ближнего трактира. На кухне хлопочет кухарка. И не хочешь, да отведаешь горячих щей или попросишь вторую порцию жаркого. Пусть щи бывают пересолены, а жаркое частенько пригорает.
– Что ты заказала к обеду на завтра, Мари? – спрашивает Виссарион Григорьевич, и, каков бы ни оказался заказ Мари, он будет слушать ее ответ как поэму. Особенную прелесть словам Мари придает ее смущение. Она нелегко свыкается с новым положением и каждый раз запинается, прежде чем обратиться к мужу на «ты».
Даже в кабинете Белинского, кажется, все переменилось. С полок глядят знакомые книги, но и они сочувствуют счастливцу. Впрочем, давно пора ему за работу.
И так будет каждый день, всю жизнь! Пусть хлещет в окна холодный осенний дождь, пусть слепит окна снег. Виссарион Григорьевич стоит за конторкой и пишет. Если же начинает душить проклятый кашель, Мари спешит к мужу со смягчающей микстурой, и отвратительное лекарство кажется ему волшебным напитком!
Давно ли он писал невесте:
«Когда буду поверять я Вам мои мечты и читать мои писания, требуя Вашего мнения и совета?»
Теперь Мари рядом с ним, но он так загружен работой, что готов завидовать даже почтовой лошади. А журнальная книжка не будет ждать.
Виссарион Григорьевич написал последние строки и позвал Мари. Она пришла в кабинет испуганная – Мари часто боится неведомо чего.
– Ничего, решительно ничего со мной не случилось, – успокаивает ее муж. – Просто кончил еще одну из пушкинских статей. Святители! Сколько нужно было сказать – ведь теперь идет дело о самом Пушкине! Но к сроку все-таки успел. – Усталый, он все еще горел завершенной работой. – Хочешь послушать, Мари?
– А может быть, лучше отложить до завтра? Доктор говорит, что для твоего здоровья очень важен сон вовремя.
Он только отмахнулся. Какие там доктора, когда пишешь о Пушкине!
Он читал долго, упиваясь пушкинскими стихами, которые обильно приводил для подтверждения своих мыслей.
Виссарион Григорьевич отложил статью.
– Давно задумал я этот труд, Мари, и знаю: теперь совершу. А свершением буду обязан тебе.
– Если бы ты знал, как я боюсь будущего, – отвечала Мари. – Гоню эти мысли, а они опять тут. Ты целиком зависишь от журнала, а прочное ли это основание для жизни? Расходы растут и будут расти – как за ними угнаться? Когда я жила в институте, я, должно быть, совсем не знала жизни. Вот и сегодня напомнил мне управляющий домом: мы два месяца не платили за квартиру. Оба больные, что с нами будет?
Тут уж не приходилось спрашивать мнения Мари о прочитанном. Приходилось успокаивать. Ее нервы жестоко давали о себе знать.
Она не умела быть счастливой.
А статья о Пушкине действительно успела к сроку. Для того же декабрьского номера набрана статья Герцена – «Буддизм в науке», последняя из цикла «Дилетантизм в науке».
Великолепный номер «Отечественных записок» получат читатели! И Тургенев написал статью о Шиллере, о переводе «Вильгельма Телля». С какой свободой говорит Иван Сергеевич в короткой статье о занятиях Шиллера философией Канта и Фихте, о влиянии Гёте. Как ловко, будто походя, приводит выдержки из писем Шиллера или набрасывает к случаю портрет Гегеля. Как живой и нелицеприятный свидетель, объездивший всю Европу, автор статьи рассказывает о низком состоянии театра в Германии и тут же умеет сказать главное о «Вильгельме Телле»: произведение, так верно выражающее характер целого народа, не может не быть великим произведением. С чарующей непринужденностью Тургенев уличал переводчика во многих смешных ошибках, обнаружив глубочайшее знание шиллеровского текста и такое же понимание духа немецкого языка и стиля Шиллера. Тут вволю порезвился Иван Сергеевич! Тут его хлеб! Ах он, гуляка праздный!
Но почему же автор столь блестящей статьи назван гулякой праздным? Во-первых, пропал Иван Сергеевич, а без него всегда чего-то недостает Белинскому; во-вторых, если и забежит теперь Тургенев, то ни о чем больше не говорит, кроме как об итальянской опере. Заболел, безнадежно заболел он итальяноманией!
Все началось со званого обеда у Александра Александровича Комарова. Здесь и встретил Тургенев гостя из Франции, ученого и литератора Луи Виардо.
Сам Виардо не был знаменитостью. Но он прибыл в Петербург вместе с женой, прославленной на европейских оперных сценах певицей Полиной Виардо.
Иван Сергеевич Тургенев всегда увлекался театром, музыкальным тоже. Встреча с господином Виардо показалась ему счастливой возможностью для знакомства с примадонной, которая чаровала петербургских меломанов.
Конечно, молодой петербуржец, оказавшийся знатоком европейского искусства и обаятельным собеседником, произвел на господина Виардо наилучшее впечатление. Ему и в голову не могло прийти, что этот молодой человек, принадлежавший к избранному обществу, с великим трудом, по недостатку денег, приобретает билеты на гастроли Полины Виардо в самых верхних ярусах. Тургенев удостоился приглашения к супругам Виардо.
Знаменитая артистка с привычной любезностью, но рассеянно взглянула на представленного ей русского порта. Господин Виардо дал лестную о нем справку: гость печатает стихи в журналах и является автором поэмы «Параша», пользующейся успехом.
– «Параша»? – переспросила госпожа Виардо, с трудом повторяя незнакомое слово, которое ничего не могло ей объяснить.
Нельзя сказать, чтобы мадам Виардо была красавицей. Вовсе нет, хотя у нее были прекрасные, полные жизни глаза. Прославленная певица не проявила никакого интереса к новому знакомцу. Он же только теперь понял: вовсе не обязательно иметь чарующую внешность, чтобы покорить душу.
Иван Сергеевич шел на эту встречу, уверенный в себе. Кто, как не он, сможет привлечь внимание знатной гостьи рассказами о Петербурге и петербуржцах? И вдруг – смешался. Он, пожалуй, даже оробел, как робеют в присутствии женщин желторотые птенцы.
Только придя домой, схватился за голову: как поправить непоправимое? И знал твердо: без новой встречи не сможет жить.
Конечно, он рассказывал о своем посещении мадам Виардо несколько иначе, чем это происходило на самом деле. Выходило так, что мадам Виардо ни за что не хотела его отпустить до тех пор, пока не настало время ехать на какой-то бал. «О, приезжайте, непременно приезжайте к нам!» – будто бы говорила, прощаясь, эта необыкновенная женщина, крепко пожимая руку новому знакомцу. Может быть, и сам Иван Сергеевич этому верил.
– Итальянобесие, сударь вы мой, – перебивал его Белинский, – не принадлежит к числу главных ваших добродетелей. – Тургенев успел изрядно наскучить ему своими музыкальными восторгами. Словно подменили этого умнейшего собеседника.
Виссарион Григорьевич проявлял к итальянобесию, которым заболел Тургенев, непостижимое равнодушие. Тургенев взывал к его жене, к свояченице. Но, должно быть, никто не мог понять, что во всей музыке, созданной человечеством, есть сладчайшие звуки, и звуки те воплощаются в одном имени: Полина Виардо!
Марья Васильевна и ее сестра были терпеливыми слушательницами и не перебивали гостя.
Чаще же всего, когда у Белинского бывали посетители, дамы оставались у себя.
– Ты помнишь, Мари, – начинала Аграфена, – как пепиньерка Колокольцева – да, точно, это была она! – объелась безе? Она съела десять пирожных в один присест!
Мари, конечно, помнила чрезвычайное институтское происшествие.
Отдавшись воспоминаниям, сестры незаметно коротали время. Вернее, им никогда не хватало времени на то, чтобы припомнить все, что случалось на вечерах у мадам Шарпио. А сколько хлопот было у классных дам, когда девиц вывозили в театр! Выпуск за выпуском покидали воспитанницы институт, а у классных дам копилось все больше и больше историй – то смешных, то тревожных. А тот ужасный вечер, когда питомицы Мари, сойдя с ума, погасили лампы в дортуаре?
– Да, да, – подхватывает Аграфена, – а помнишь, как какой-то офицер, прикинувшись родственником – о, разврат! – добивался свидания со своим предметом? Как ее фамилия?
– Неужто ты могла забыть эту притворщицу? – удивляется Мари. – Она пыталась обмануть даже мадам Шарпио!
Чем больше окутывается институт дымкой сладостной грусти, тек ближе сердцу становятся владения мадам Шарпио…
– Подожди, – говорит Мари, прислушиваясь, – что-то Виссарион опять развоевался. Пойду взгляну.
В кабинете Белинский читал Некрасову только что написанную статью о «Современнике» Плетнева.
– Присядь, Мари, и послушай, – обрадовался приходу жены Виссарион Григорьевич.
Это была убийственная статья. Ее смысл можно было бы обозначить коротким выражением, известным с древности: «Иду на вы!»
– «Современник», – читал Белинский, – напоминает собою то блаженное время русской литературы, когда писались стишки к «милым» и «прекрасным», когда в литературе не подозревали никакого отношения к обществу и не вносили в нее никаких вопросов…»
– А ведь это тот самый «Современник», который освящен именем Пушкина! – объяснил жене Виссарион Григорьевич.
Белинский утверждал, что плетневский «Современник» ни с кем не бранится, ни с кем не спорит, ни на кого не нападает, ни против кого не защищается; в нем постоянно являются розовые мечты, радужные фантазии и сладостные чувства. У «Современника» все свое – и поэты, и изящная проза. У него свой круг предметов, своя философия.
Эту убогую философию как нельзя лучше отражал переводный роман, печатавшийся в «Современнике». Роман назывался «Семейство, или Домашние радости и огорчения».
Марья Васильевна подняла глаза. Название романа было и любопытно и близко ей. Но именно этот роман и стал поводом для яростной атаки Белинского.
«Бог знает, что же нужно самому Виссариону Григорьевичу в семейной жизни», – подумала Марья Васильевна и перевела глаза на Некрасова.
Этот обычно хмурый, замкнутый человек слушал статью, будто только и ждал: как еще ударит по «Современнику» Виссарион Григорьевич?
Марья Васильевна, покинув мужний кабинет, вернулась к сестре.
– Представь себе, – сказала она Аграфене, – Виссарион пишет ужасную статью против единственного журнала, в котором до сих пор его еще не бранили. Что же будет дальше?
На Белинского сыпались злобные обвинения со всех сторон. Но самым опасным оказался удар, нанесенный Фаддеем Булгариным. Булгарин крепко запомнил, что Белинский не признал Жуковского поэтом народным.
«Итак, – взревел в «Северной пчеле» Фаддей Булгарин, – автор народного гимна «Боже, царя храни» – не народный поэт?»
Свой печатный донос Фаддей Венедиктович подкрепил «юридическим» письмом к председателю цензурного комитета.
«Существует партия, – сообщал Булгарин, – положившая своей целью ниспровергнуть существующий порядок вещей. Представителем этой партии являются «Отечественные записки».
Булгарин требовал создания следственной комиссии, перед которой он сам предстанет как доноситель для обличения злоумышленников, колеблющих веру и престол. Фаддей Венедиктович будет просить государя лично разобрать это дело, а если просьба не дойдет до него, то он, Булгарин, обратится к… прусскому королю.
К прусскому королю Булгарину обращаться не пришлось, но по цензуре последовал новый приказ: со всею строгостью, без малейшего послабления, рассматривать статьи в «Отечественных записках».
Виссарион Григорьевич с головой ушел в работу. Когда же и работать, как не теперь, когда его счастье, его Мари, рядом с ним?
Блаженнейшие часы наступали тогда, когда, покончив с текущими рецензиями и заметками, он урывал время для пушкинских статей. Чем больше думал о начатом труде, тем необъятнее он представлялся. Но теперь все ему под силу.
Белинский работает в кабинете, а сам прислушивается: в соседней комнате ведут оживленный разговор жена и свояченица. Аграфена часто заливается смехом. Но почему так редко смеется Мари?
Поздно вечером Мари сама пришла к нему в кабинет. Какая-то неотступная мысль тревожила ее эти дни.
– Ты все-таки будешь печатать статью о «Современнике»?
– Не позднее, чем в новогоднем номере. А что?
– И, значит, сам вызовешь новую угрозу на свою голову? Профессор Плетнев не простит тебе этого выпада, а он, говорят, имеет большое влияние… – Мари начинала разбираться в петербургских отношениях.
– Мне не привыкать, Мари! – отвечал Белинский. – Единственно, за что я виню себя, так только за то, что слишком долго молчал.
– Как, кстати, называется тот роман, за который ты ополчился на Плетнева?
– Я бы охотно назвал его: «Пошлость, или Торжествующая добродетель». Но он называется иначе: «Семейство, или Домашние радости и огорчения». Почему тебе вспомнилось?
Мари промолчала. Нужно ли было ей говорить о том, что домашних радостей в собственной семейной жизни она еще не видела, а огорчения являлись одно за другим…
Глава двенадцатая
В Петербург, на службу по медицинскому департаменту, переехал самый далекий от медицины лекарь – Николай Христофорович Кетчер. Никогда бы не покинул родную Москву почитатель и переводчик Шекспира, если бы явная опасность для свободы этого бесшабашного человека не проникла в его собственное жилище.
Опасность поселилась здесь в виде черноглазой, измученной невзгодами девчонки Серафимы. Она могла показаться подростком, хотя давно изжила детство, проведенное в раскольничьем скиту. Оказавшись в Москве, она кое-как жила, вернее, голодала, работая в какой-то мастерской. На московской улице и встретил ее сердобольный Кетчер. Разговорился, заинтересовался ее историей, потом – неожиданно для обоих – Серафима поселилась у Николая Христофоровича, пригретая, обласканная и… без памяти влюбленная в своего спасителя.
В берлоге Кетчера, заросшей грязью и пылью, вдруг появился порядок и чистота. Как дикарка, не ведающая, что творит, она посягнула даже на то, чтобы прибирать его рукописи. Когда Николай Христофорович возвращался домой, Серафима, довольная своими трудами, счастливо улыбалась.
Кетчер хмурился и терпел. Что делать! В ожившей Серафиме стали отчетливо проступать миловидность и привлекательность. А в молодой женщине, вдруг обретшей вместе с любовью нерастраченную юность, стали обнаруживаться новые опасные привычки.
Покончив с нехитрыми домашними делами, Серафима молча садилась в уголке и, ничуть не пряча своих чувств от Кетчера, молилась на него. В этих молитвах без слов были исступление, всепоглощающая страсть и отрешение от себя, – так, должно быть, молятся в скитах люди, обретшие бога.
Николай Христофорович терпел и это, но долго ли может жить в роли божества медик, презирающий всякое идолопоклонство? А Серафима уже начинала прирастать к сердцу. Оставалось одно – прибегнуть к хирургической операции.
Приготовлением к этой операции и было прошение, посланное Кетчером в Петербург, о приеме его на службу в медицинский департамент.
Теперь Николай Христофорович ходил по петербургским улицам, ругал северную столицу, вспоминал о Москве и наслаждался свободой.
Когда Кетчер появлялся у Белинских, тихая, небольшая квартира наполнялась шумом. И, конечно, приносил Кетчер короб московских новостей.
– Грановский читает публичные лекции в университете. Успех невероятный! Он толкует о средних веках на Западе, и – о удивление! – в университет ездят даже дамы. Ни одного свободного места в аудитории! Восторг, аплодисменты, столпотворение!
Николай Христофорович способен и сам сотворить такое же столпотворение своими возгласами. Но какая-то новая мысль заставляет его на минуту притихнуть.
– Конечно, Грановский не боец. Я, говорит, скажу все, что надо, но, разумеется, в пределах своего предмета. Так ему и суждено ходить в «пределах». А ведь благородный человек! И будит святые чувства! Недаром бледнеет от зависти иуда Шевырев, а кулак Погодин весь багровеет. А Грановский взойдет в назначенный день на кафедру, изящно поклонится дамам – и каждым словом Погодину и Шевыреву по зубам! Но опять же, разумеется, в «пределах». Очень это грациозно у него выходит. И дамы шепчут: «Ах, душка! Мы и не знали, что есть на свете такие интересные средние века». Умора! И просвещение! Ну, и друзья откупоривают в честь Грановского шампанское.
Николай Христофорович делает привычный жест, словно готовится откупорить бутылку, но, осмотревшись, опускает руки. У Белинских никогда не пьют шампанского. Надо же знать Виссариона. Да и жена, которой он обзавелся, смотрит монастыркой.
Кетчер вспоминает, что он находится в чопорном Петербурге, и садится на своего любимого конька:
– В Москве хоть Грановский заговорил. Не скажу, что его голос подобен грозному набату. Но все-таки говорит! А у вас в Петербурге что? Сидите, как лягушки в замшелом болоте: молчим-де, братцы, молчим! У вас и о шампанском только в книгах пишут, а случись надобность, так тащат на стол какую-нибудь дри-мадеру, да еще наговорят таких скучных речей, что дри-мадера и та скиснет. Канцелярскими чернилами несет от вашего Петербурга да еще застаредым геморроем. Это я тебе, Виссарион Григорьевич, как медик говорю.
При упоминании геморроя дамы ужасно сконфузились. Аграфена Васильевна даже выбежала из комнаты. Марья Васильевна покраснела. Белинский смеялся от всей души.
– От тебя, Кетчер, попахивает Ноздревым. Впрочем, я всегда это подозревал.
– Врешь! – с достоинством отвечал Николай Христофорович. – Не может Ноздрев переводить Шекспира!
Кетчер стал заходить частенько. Сидя с Белинским наедине, он доверительно поведал: просил Герцен рассказать Белинскому о своих семейных делах. В письме, говорит, всего не упишешь.
– Ну, ну? – торопил Белинский.
– А что ну? Родила Наталья Александровна сына – тебе известно? Ну, а прочее все, что у Герценов творится, ты знаешь. Наталья Александровна… вот тут-то и есть главная загвоздка. Одним словом – шекспировские страсти. Только попробуй перевести эти шекспировские страсти на русский язык. Я по крайней мере отказываюсь.
Сколько ни бился Белинский, ничего больше не мог у Кетчера вытянуть.
А о существовании некой Серафимы Кетчер сам не обмолвился ни словом. Это была единственная тайна, которую он пока что умел хранить от друзей.
Дружбу с Виссарионом Белинским Николай Христофорович ценил превыше всего. Николаю Христофоровичу казалось, что он ближе всех стоит к Белинскому по своей непримиримости, и поднимал шуму еще больше.
– Шумим, братцы, шумим! – приговаривал, улыбаясь, Виссарион Григорьевич.
У Марьи Васильевны начиналась нестерпимая головная боль. Она положительно боялась этого гостя. Ей и все знакомые мужа не пришлись по душе. Мари страшно конфузилась, когда забегал Иван Иванович Панаев: может быть, этот щеголь забегает нарочно, для того чтобы потом развозить по городу рассказы о ее неловкости.
Лучше других был, пожалуй, Тургенев. Но он исчез.
– Мне кажется, Мари, – говорила романтическая Аграфена, – он влюбился по уши в свою певицу.
– Какая нелепость может прийти в твою голову! Ведь мадам Виардо замужем!
– Конечно, – соглашалась Аграфена. – Но Тургенев все-таки влюблен. Представь себе: знаменитая артистка, опьяненная успехом, спешит после спектакля в карете. Тургенев летит за ней на рысаке…
– Но у него нет рысака.
– Какие пустяки! Разве дело в рысаке? – отвечает Аграфена. – Ты слушай дальше, Мари. Влюбленный входит в гостиную мадам Виардо. Она сидит у камина. Камин вот-вот погаснет. А влюбленный осыпает цветами свою богиню. «Мне не нужны почести, мосье Тургенев, – шепчет она, – я устала от славы». Понимаешь, Мари, она устала! А камин вспыхивает, и на ее груди переливаются бриллианты…
Все это было так зримо, что Аграфена даже прикрыла глаза от блеска бриллиантов мадам Виардо.
– А что же делает в это время господин Виардо? – улыбается Мари. – Или ты о нем забыла?
Аграфена открыла глаза.
– Ты всегда меня перебиваешь, – с досадой говорит она, – ты не умеешь мечтать, Мари!
В комнате давно стемнело. Аграфена зажгла свечи. Как здесь тесно и бедно! Кончилась сказка о знаменитой певице и рыцаре, осыпающем ее цветами.
Вместо Тургенева приходил Некрасов. Новые, неведомые опасности подстерегают Мари. От дружбы мужа с этим хмурым и желчным человеком она не ждет ничего доброго.
– Нуте, нуте! – встречает желанного гостя Белинский. – По глазам вижу: есть вести о Тихоне Тросникове.
– Нет таковых, Виссарион Григорьевич, и не знаю, когда будут.
– Ну, так я их для вас имею! – Белинский необычно весел, загадочно улыбается. – Представьте, раньше одна блистательная дама донимала меня вопросом, когда я вас приведу, а теперь меня же пытает: ужели вы после знакомства навсегда от нее сбежали? И с весьма опасной для нашего брата скромностью, опустив прекрасные глаза, вопрошает: чем-де она перед вами провинилась? Да будь я на вашем месте, я бы, поверьте, умер от восторга.
– Умирать я не собираюсь, – серьезно отвечал на шутку Некрасов. – Но каждый раз, когда вздумаю идти к Панаевым, весь леденею от мысли: как мне, ярославскому медведю, предстать перед очами Авдотьи Яковлевны? А вдруг она, к примеру, на мои сапоги глянет? Или, еще хуже, обратится к медведю на чистейшем французском диалекте?
– Вы не знаете Авдотьи Яковлевны, – возмутился Белинский. – Эх вы, сапоги всмятку!
Глава тринадцатая
Поздней осенью 1843 года в Петербурге появился Павел Васильевич Анненков, вернувшийся из-за границы, и пришел к Белинскому. Виссарион Григорьевич подвел его к жене.
– Рекомендую тебе старого моего приятеля. Это тот самый Анненков, который под диктовку Гоголя переписывал в Риме «Мертвые души». Стало быть, можно сказать, соучастник преступления… А что теперь знаете о Гоголе, Павел Васильевич? Где он странствует?
Анненков ничего не знал.
Уведя гостя в кабинет, Виссарион Григорьевич показал ему корректурные листы.
– Вот, тружусь по мере сил, – сказал Белинский, – выполняя просьбу Гоголя. Вскоре выйдет собрание его сочинений. Эту важную новость вы, конечно, знаете?
– Кое-что слыхал, однако любопытно знать подробности, Виссарион Григорьевич.
Нет, пожалуй, другого человека, который проявлял бы больший интерес к событиям литературной жизни. Павел Васильевич, вернувшись на родину после долгой отлучки, расспрашивает Белинского со свойственной ему обстоятельностью, словно бы суждено стать ему одним из выдающихся летописцев своего времени.
– Так что же нового подарит нам Гоголь, поскольку не будет в собрании сочинений «Мертвых душ»?
– Нового? – переспрашивает Белинский. – Нового как будто и немного, зато многое обновится в его созданиях. Шлет и шлет Гоголь всякие «хвосты», по собственному его выражению, приятелю своему Прокоповичу, которого уполномочил на издание сочинений. Истинное наслаждение наблюдать за работой Гоголя! Каждый присланный им «хвост» драгоценен. А новое, конечно, есть. Прочтете в скором времени повесть «Шинель». Тут, скажу вам, до новых высот возвысился Гоголь! Да что говорить – сами прочтете, если образумится цензура. До смерти перепугались цензоры самого ничтожного, пожалуй, из чиновников – Акакия Акакиевича Башмачкина. Что же еще нового? Будет новая пьеса под названием «Театральный разъезд после представления новой комедии». А действует в ней, представьте, сам автор комедии. Сказать: умнейшая пьеса – это значит ничего не сказать. Расширил еще Гоголь свою повесть «Тарас Бульба». Прочтете обновленного «Тараса» – и тогда лучше поймете те страницы «Мертвых душ», где писатель обращается к будущему России. А вот смиренный Акакий Акакиевич Башмачкин – имею в виду героя «Шинели» – это наша теперешняя гнусная действительность, убивающая все человеческое в человеке… Ну, хватит, пожалуй, новостей о Гоголе, которыми встречает вас отечество. Зато, – продолжал Белинский, – извольте, расскажу вам скверный российский анекдот. Хоть и долгонько странствовали вы по Европе, а о существовании Фаддея Булгарина, надеюсь, не забыли? Сей подлец больше всех клеветал на Гоголя, как оскорбленный за отечество «патриот», а ныне прикинулся простачком. Вот, пишет, до чего доходят у нас злонамеренные партии: «Господин Гоголь ставится выше Михаила Николаевича Загоскина». А что с Булгарина возьмешь, когда надежно прикрыт он крылом императорского двуглавого орла? – Белинский задумался. – Так неужто так и не встречался вам Гоголь на европейских перепутьях? Хотелось бы знать, как он теперь думает о величественно-степенных идеях?
– Я что-то не совсем вас понимаю, Виссарион Григорьевич.
– Это я так, к слову вспомнил. Сильно корил Николай Васильевич Францию за отсутствие такой идеи. Сам и словечко придумал. А писал он все это в повести «Рим», которой и украсил в свое время страницы «Москвитянина». При вас это было? Впрочем, сызнова можете прочитать злополучный «Рим» в собрании сочинений. Не стоило бы и вспоминать этого в упрек автору «Мертвых душ», если бы не было у меня памятного разговора с Гоголем перед его отъездом за границу.
Еще более заинтересовался Анненков, но Белинский уклонился от продолжения беседы на эту тему.
– Подождем, Павел Васильевич, – сказал он. – Сам боюсь признаться себе кое в каких мыслях, которые лезут в голову, когда думаешь о Гоголе… Да нет, никому не повернуть вспять нашу словесность, ни даже ему самому. А новым талантам как не прийти… А теперь, – спохватился Виссарион Григорьевич, – извольте вы просветить меня, россиянина, насчет европейских дел. Прежде всего о Париже расскажите.
– Что ж в Париже? – отвечал Анненков. – В Париже поражает невероятный наплыв книг и брошюр, авторы которых обещают осчастливить мир, разумеется, каждый на свой образец. Но при всей разноголосице можно видеть поголовное обращение к экономическим вопросам. Но вот что удивительно: идя от экономики, модные философы перекраивают и даже разрушают все привычные наши представления. Берутся и за религию и за нравственность. Все критикуют и все хотят воздвигнуть на новом, хотя и шатком, по-моему, фундаменте.
– Стало быть, социализм не привлекает вашего сочувствия? – перебил Белинский. – Ну что же? Будет у нас время сшибиться во мнениях. Только наперед скажу: чем больше вникаю в европейские учения, тем больше вижу – наши русские дела придется нам решать по-своему. Тут нет для нас готового образца.
– И представьте, – продолжал Анненков, – вернувшись в Россию, я еще больше, чем в Париже, удивился: в Петербурге увидел я, пожалуй, не меньший интерес к модным европейским философам. Не говорю о Фейербахе или Прудоне – этих совсем залистали, – так ведь даже малозаметные книжки, вроде «Икарии» Кабе, которую мало знают даже блузники в Париже, тоже умудряются достать.
– Читают, читают! – с удовлетворением подтвердил Белинский. – Но как не позавидовать Европе? Там всю мошенническую государственную систему обличают, а у нас, чтобы показать читателю хоть крупицу правды, надо всякие ширмы изобретать. Вот и пишешь о водевилях Александрийского театра или даже о грамматике, чтобы протащить между строк хоть какую-нибудь мыслишку. Впрочем, поживете с нами – сами увидите…
– Когда я переписывал в Риме «Мертвые души», я понимал, какую бурю поднимет в России эта книга. А сейчас с удивлением вижу: о Гоголе продолжают писать и спорить так, будто только вчера вышли в свет «Мертвые души».
– Так, думаю, будет не только сегодня или завтра, – отвечал Белинский. – Тут корень не только литературы нашей, но и общественной жизни. Благодаря Гоголю, хотел он этого или не хотел, поставлен важнейший вопрос: быть или не быть России царством мертвых душ?
…Собрание сочинений Гоголя должно было вскоре выйти в свет. Оно заканчивалось пьесой, о которой говорил Анненкову Белинский.
В «Театральном разъезде» автор комедии выходит на сцену, которая представляет сени театра, и выслушивает мнения зрителей, расходящихся после представления.
«Бодрей же в путь! – заключает пьесу автор, выслушав все суждения высокомерного невежества, все легкомысленные отзывы многоликой толпы. – И да не смутится душа от осуждений, не омрачись даже и тогда, если бы отказали ей в высоких движеньях и в святой любви к человечеству!»
Часть четвертая
Глава первая
Где бы ни странствовал Гоголь, мысли его несутся на родину.
«…для меня все, до последних мелочей, что ни делается на Руси, теперь стало необыкновенно дорого и близко». И опять: «Для меня давно уже мертво все, что окружает меня здесь, и глаза мои всего чаще смотрят только в Россию, и нет меры любви моей к ней».
А Россия так далека!
За окном живет привычной жизнью римская улица via Felice, слышится певучая итальянская речь. Николай Васильевич тоскует о других звуках. «Громада – русский язык! Наслаждение погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его».
Но из людей, говорящих на русском языке, живет в Риме рядом с Гоголем только неизлечимо больной поэт Николай Михайлович Языков, давно переживший прежнюю славу, да слуга Языкова, нянчащий прикованного к креслу барина.
Когда над Гастейном полились холодные дожди, а Гоголь заговорил о путешествии в Рим, Языков тоже поверил, что в вечном, сияющем городе его ждет исцеление.
И вот он, Рим! Та же via Felice, тот же дом № 126, та же квартира в третьем этаже, в которой Гоголь жил и раньше.
Прошло полгода с выхода «Мертвых душ», а вести, доходящие до автора, редки и случайны. Напрасно пишет Николай Васильевич друзьям и знакомым, чтобы слали ему журнальные статьи и мнения, высказанные людьми всяких званий. Пока мнения читателей еще свежи, автору важно каждое слово.
Но если и откликается кто-нибудь из друзей, каждого больше всего интересует вопрос: когда приготовит Николай Васильевич второй том «Мертвых душ»? А здесь скуп, как Плюшкин, становится на ответы Гоголь. Он может умереть с голоду, но не выдаст в свет незрелого, необдуманного творения.
Если же сам автор обращается к предстоящему труду, смятение объемлет его душу. Как несовершенно и неполно все до сих пор созданное им! А ведь поэма, когда он ее завершит, должна указать путь спасения всем и каждому. Следуя этим путем, преодолеют люди и нестроения жизни, причины которых кроются в их собственных несовершенствах и слабостях. Вот когда повторит автор «Мертвых душ» великое слово: «вперед»!
В первой части поэмы он самонадеянно бросил этот клич, сам не зная пути к будущему. Теперь, умудренный подвигом воспитания собственной души, он подвигнет соотечественников на путь нравственного возрождения и убережет их от разрушительного вихря, носящегося над Западной Европой.
Вихрь этот, поднявшись когда-то в мятежной Франции, чувствуется повсюду, даже в Риме, во владениях католического первосвященника. Правда, в римских церквах идут торжественные богослужения, по улицам движутся священные процессии, звучат гимны богу, и сам папа римский, являясь в окне своего дворца, посылает благословение коленопреклоненной толпе. Иностранцы стекаются в Рим на эти пышные зрелища и, может быть, даже не подозревают, что монах-первосвященник, щедро раздающий благословения, столь же ревностно наполняет тюрьмы вольнодумцами, которые всем молитвам предпочитают заветное слово – свобода! Итальянцы хотят быть итальянцами. Они не хотят нести иго чужеземных завоевателей. Римляне, отданные во власть монаху-первосвященнику, не хотят быть подданными папы римского.
Конечно, когда в переполненных храмах совершаются торжественные богослужения, а по улицам идут церковные процессии и к лазурному небу возносятся гимны богу, трудно увидеть подспудную жизнь Италии. Но русский путешественник Николай Гоголь – свой человек в Вечном городе. Он хорошо знает, как в харчевнях где-нибудь на отдаленной улице сызнова возникает невидимый вихрь, родившийся когда-то от мятежных идей Французской революции, от зажигательных речей якобинцев и грозных действий санкюлотов. Прошлое не умирает в памяти новых поколений.
Тревогой проникается душа Гоголя, а мысли снова обращаются к России. Да минует отчизну горькая чаша потрясений!
Николай Васильевич долго ходит по своему тихому жилищу, потом опускается этажом ниже, к Языкову. Николай Михайлович сидит в кресле неподвижно, понурив голову. В тусклых глазах – немой укор: для чего привез его Гоголь в Рим? Неужто только для того, чтобы показать всю тщету надежд на спасение от недуга? Николай Михайлович говорит с трудом, ему плохо повинуется язык, а голова никнет все ниже.
Николай Васильевич поднимался к себе и зажигал старинный светильник. В жилище русского путешественника на via Felice когда-то вереницей являлись: и Павел Иванович Чичиков, и сановники губернского города NN, и окрестные помещики. Теперь Гоголю видится далекий Тремалаханский уезд и усадьба Андрея Ивановича Дерпенникова, Тентетникова тож. Стоит въехать в эти места – и невольно воскликнет каждый: силы небес, как здесь просторно! какая ничем не возмутимая тишина!
Но по мере приближения к усадьбе Андрея Ивановича на барском дворе все отчетливее слышатся громкие голоса.
– Душонка ты мелкопоместная, ничтожность этакая, да и только! – ревел небритый буфетчик, относясь к ключнице. – Тебе бы, гнусной бабе, молчать да и только!
– Уж тебя-то не послушаюсь, ненасытное горло! – выкрикивала ключница.
– Да ведь с тобой никто не уживется, – ревел буфетчик, – ведь ты и с прикащиком сцепишься, мелочь ты анбарная!
– Да и прикащик вор такой же, как и ты! – продолжала ключница таким голосом, что на деревне было слышно. – Вы оба пьющие, губители господского, бездонные бочки. Ты думаешь, барин не знает вас, ведь он здесь, он все слышит.
– Где барин?
– Да вот он сидит у окна и все видит.
Андрей Иванович сидел у окна с чашкой холодного чая. Он все видел и слышал. В довершение картины кричал дворовый ребятишка, получивший от матери затрещину; визжал борзый кобель по поводу кипятка, которым обкатил его выглянувший из кухни повар. Словом, все голосило и верещало. И только тогда, когда это делалось до такой степени невыносимо, что мешало барину даже ничем не заниматься, он высылал сказать, чтобы шумели потише.
Если будущие читатели второго тома «Мертвых душ» познакомятся с Андреем Ивановичем, то повторят вместе с автором: «экий коптитель неба!»
Гоголь поправляет огонь в старинном светильнике и, отложив перо, присматривается к тремалаханскому помещику. Часа за два до обеда Андрей Иванович уйдет в кабинет. В кабинете занятие его, точно, сурьезное. Оно состоит в обдумывании сочинения, которое должно обнять всю Россию со всех точек – с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность.
Но все оканчивается одним обдумыванием. Изгрызается перо, на бумаге появляются рисунки, потом все отодвигается в сторону.
По собственному признанию, Гоголь не умел творить иначе, как заранее обдумав каждую мелочь. Знакомство его с Андреем Ивановичем состоялось, по-видимому, давно, и распорядок занятий этого помещика известен ему во всех подробностях.
Отложив ученое сочинение, Андрей Иванович брался за какую-нибудь книгу и читал до обеда, а потом книга читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирожным. Далее следовала прихлёбка чашки кофею с трубкой, игра в шахматы с самим собой. А что делалось потом, до самого ужина, – и сказать трудно. Кажется, просто ничего не делалось. Андрею Ивановичу не гулялось, не ходилось, не хотелось подняться вверх – взглянуть на окрестные виды, не хотелось даже растворить окна, чтобы забрать в комнату свежего воздуха. Прекрасный вид деревни, которым не мог равнодушно любоваться никакой посетитель, точно не существовал для хозяина.
Но спроси, кому принадлежат эти леса, эти луга и пашни, – услышишь один ответ: все это принадлежит Андрею Ивановичу. Было время, когда, переселясь в Тремалаханье из Петербурга, увидел он мужиков и баб, собравшихся к крыльцу. Даже растрогался Андрей Иванович. «Сколько любви – и за что? – подумалось ему. – За то, что я никогда не видел их, никогда не занимался ими?» И он дал тогда себе слово разделить с ними труды и занятия.
Много, очень много надо сказать читателям «Мертвых душ» о помещике Тремалаханского уезда, который стал неотступно являться взору Гоголя. Какое воспитание получил Андрей Иванович, как проходил службу в одном из петербургских департаментов, какие происшествия были в его жизни.
В Петербурге, по легкомыслию молодости, обзавелся было Андрей Иванович знакомствами, которые вовлекли его в беду. На официальном языке увлечение молодого человека называлось преступлением против коренных государственных законов и приравнивалось к измене земле своей. Если же говорить попросту, долетел и до Андрея Ивановича тот самый вихорь вольномыслия, что кружит многие головы. Правда, всего-то и осталось от того вихря, что обдумывание сочинения, которое должно обнять Россию со всех точек, да понапрасну обгрызенное перо. По-разному умеют коптить небо на Руси. Полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют в своих усадьбах непробудно и бесплодно.
Пусть же пустопорожняя жизнь, которую ведет Андрей Иванович, образумит коптителей неба. Пусть, устрашенные примером, займутся они собственным душевным хозяйством. Вставайте, сидни! Просыпайтесь, лежебоки! За дело, байбаки! К вам обратится всемогущее слово – вперед!.. Только бы не упустить автору «Мертвых душ» светлых минут вдохновения.
…В усадьбе Андрея Ивановича произошло непривычное движение и некоторая суета. Поварчонок и поломойка побежали отворять ворота, и в воротах показались кони, точь-в-точь как лепят или рисуют их на триумфальных воротах: морда направо, морда налево, морда посередине.
– Кому бы это быть? – Андрей Иванович неохотно поднялся с любимого места, чтобы встретить приезжего.
Но тут автор «Мертвых душ» закрыл тетрадку.
Глава вторая
Об Александре Осиповне Смирновой говорят всяко. Ее называют сиреной, плавающей в прозрачных волнах соблазна; величают ее и кающейся Магдалиной. Да мало ли что могут говорить о красавице, воспетой поэтами и принадлежащей к высшим дворцовым сферам… Найдутся и такие вестовщики, которые будут обсуждать непонятные отношения Гоголя с сиреной. Даже друзья Николая Васильевича встревожатся за судьбу писателя, подпавшего под обольстительные чары. Неужто и эти сердобольные друзья не верят слову Гоголя, который сказал о себе, что вся его жизнь отдана предпринятому труду и что он умер для других наслаждений?
В тот день, когда поезд знатной русской дамы остановился в Риме у приготовленных для нее апартаментов, когда на улице уже начали собираться зеваки, с ярко освещенной лестницы стремительно сбежал Гоголь.
– Я нашел для вас эту квартиру, – радостно говорил он, – вам здесь будет отменно хорошо!
Квартира, которую нашел Гоголь для Александры Осиповны, могла удовлетворить самому изысканному вкусу. Это был уголок старого Рима, живое напоминание о былом величии Вечного города.
На следующее утро Гоголь, снова явившись, взял лоскут бумаги и начал писать, куда следует Александре Осиповне наведаться между делом и бездельем, между визитами, и прочее, и прочее. Список достопримечательностей Рима, который составил Гоголь, был своеобразен. В нем значились и такие места, которых тщетно искать в путеводителях. Составитель списка руководствовался собственным вкусом, своей любовью к искусству, своими знаниями Вечного города, в чем мог состязаться с любым из римских старожилов.
В тот же день осмотр Рима начался с собора Петра.
– Так непременно следует поступать, – объяснил Гоголь. – На Петра никак не насмотришься, хотя фасад у него глядит комодом.
Это было далеко не единственное оригинальное суждение из тех, которые привелось выслушивать Александре Осиповне.
Николай Васильевич нередко обставлял таинственностью избранные маршруты. Однажды он запретил спутнице оглядываться в пути на правую сторону. Потом вдруг велел обернуться. Перед Александрой Осиповной предстала статуя Моисея.
– Вот вам и Микель Анджело! – сказал Гоголь. – Каков? – И сам стоял потрясенный до восторга, как будто видел знаменитое творение в первый раз.
Когда Смирнова не выразила достаточного восхищения перед Рафаэлевой Психеей, Гоголь серьезно на нее рассердился. Потом последовала горячая речь, посвященная гениальному художнику, которого Гоголь пламенно любил.
Александра Осиповна прониклась твердым убеждением, что Гоголь знает в Риме все.
– Как вы думаете, – спросила она при обозрении Колизея, – где сидел Нерон? Как он сюда являлся – пеший, в колеснице или на носилках?
– Какая вам нужда в этом мерзавце? – сурово ответил Гоголь. – Или вы воображаете, что я жил в то время? Или думаете, что я хорошо знаю историю? Историю еще никто не написал так, чтобы можно было увидеть в ней народ. Историки только сцепляют события, но они не интересуются связью человека с той землей, на которой он живет… Я, кажется, заврался, друг мой, – оборвал он себя. – Вы спрашивали о Нероне? Извольте слушать: этот подлец являлся в Колизей в золотом венке, в красной хламиде, в золоченых сандалиях. Он был высокого роста, очень красив и талантлив, пел и аккомпанировал себе на лире. – Николай Васильевич видел малейшие подробности картины, которую рисовал.
Но чаще всего он отделывался короткими фразами и, показывая Смирновой Рим, забывал о ней самой. В Сикстинской капелле он задержал спутницу перед картиной страшного суда. Казалось, его и отпугивало изображение адских мук, ожидающих грешников, и вновь влекло создание могучей фантазии великого художника.
– Обратите внимание на эту фигуру, – сказал Гоголь после долгого молчания и указал на грешника, которому вверху улыбались ангелы, а внизу ожидали со скрежетом зубовным слуги сатаны. – Тут история тайн души, – объяснил Николай Васильевич. – Каждый из нас раз сто на день бывает то добычей бесов, то ангелом.
Гоголь бросил еще раз тревожный взгляд на картину страшного суда; неприкрытый страх овладел им, он весь сник.
Александра Осиповна не обратила внимания на эту перемену. За долгое знакомство с Гоголем она хорошо знала необъяснимо переменчивые его настроения.
Гоголь расспрашивал ее о России, но что она могла рассказать? О новостях придворной жизни? Или о том, что ее муж ждет назначения на высокий пост, а назначение затягивается? Судя по этой затяжке, можно прийти к печальному выводу: может быть, ее собственное положение при дворе тоже колеблется?
Ничего нового не могла рассказать Александра Осиповна и о «Мертвых душах». Если она и слышала какие-то суждения, то эти отзывы исходили все из того же замкнутого мирка, который жил в той или иной близости к императорскому трону.
Гоголю нужно было знать все о громадно несущейся жизни России. Но Александра Осиповна Смирнова если и видела эту жизнь, то не иначе, как из окна дорожной кареты.
Что же мог рассказать ей Гоголь о продолжении своего труда? Все было смутно ему самому.
Однако ведь появились какие-то лошадиные морды в воротах тремалаханской усадьбы? Когда кони вынесли экипаж к крыльцу барского дома, господин приличной наружности и умеренной толщины соскочил на крыльцо и раскланялся с ловкостью почти военного человека… Кое-что знал, оказывается, автор «Мертвых душ» о событиях, которые должны развернуться в поэме. Да, собственно, они уже начались.
Андрей Иванович, увидя незнакомого гостя, поначалу даже струсил, приняв приезжего за чиновника от правительства.
– То-то вот! – корил его автор «Мертвых душ», вернувшись от Смирновой. – А помните, сударь, как, живя в Петербурге, замешались вы в некое якобы филантропическое общество, которое затеяли какие-то философы из гусар, да недоучившийся студент, да промотавшийся игрок, а верховодил всем старый плут? Втянули же вас в то сомнительное общество приятели ваши из так называемых огорченных людей, охочих до тостов во имя науки, просвещения и прогресса. Как не быть им в том обществе, если организовалось оно под девизом: доставить счастье всему человечеству. Вот и попались вы, Андрей Иванович, на приманные слова!
Конечно, мог бы Андрей Иванович возразить: неужто о счастье человечества заботятся только философы из гусар, недоучившиеся студенты или огорченные люди?
Однако недосуг было заводить спор тремалаханскому помещику. Он все еще рассматривал незнакомца, явившегося в его усадьбу. Между тем гость в коротких словах объяснил, что издавна ездит по России, побуждаемый и потребностью и любознательностью; что государство наше изобилует предметами замечательными, не говоря о красоте мест, обилии промыслов и разнообразии почв.
Андрей Иванович подумал, что к нему завернул какой-нибудь любознательный ученый профессор. Но гость заговорил о превратностях судьбы и уподобил жизнь свою судну посреди моря, гонимому ветрами; сказал, что он много потерпел за правду и что даже жизнь его была в опасности со стороны врагов. Закончив речь, он шаркнул ножкой и высморкался так громко, будто пройдоха труба хватила в оркестре. Именно такой звук раздался в пробужденных покоях тремалаханского помещика.
Гоголь не мог не улыбнуться старому знакомцу. Павел Иванович Чичиков, поспешно скрывшийся в свое время из губернского города NN, снова явился перед духовными очами автора «Мертвых душ».
…За окном затихает римская улица. Но ни крики запоздавших погонщиков ослов, ни синьоры и синьориты, переговаривающиеся через улицу полусонными голосами, ничуть не отвлекают Гоголя от долгожданной встречи.
По его воле заехал ныне Чичиков в тремалаханскую глушь, в сонную усадьбу Андрея Ивановича. Неужто станет опять разъезжать по помещикам да покупать мертвые души? Конечно, может быть, и теперь не упустит Павел Иванович подобной негоции, если придется она с руки. Но иное, более широкое, поприще предстоит ему. Сказано было в первом томе поэмы: «Приобретение – вина всего».
О том же кричат в Европе авторы ученых трактатов и скороспелых брошюр, восстающие против несправедливого распределения жизненных благ между людьми. Как не знать Гоголю этих зажигательных трактатов и брошюр! О, горделивые слепцы, забывшие о мудрости и милосердии небес! Пусть до глубины падения дойдет приобретатель, но и он возродится, когда душа его устремится от смертельных язв приобретательства к богу…
Между тем Чичиков начал совершать прогулки по владениям Андрея Ивановича. Трудно было найти лучший уголок для отдохновения. Весна убрала его красотой несказанной. Что яркости в зелени! Что свежести в воздухе! Что птичьего крику в садах!
Но, как известно, поэтические картины не очень занимали Чичикова. Как умный человек, заметил он, что незавидно идет здесь хозяйство: повсюду упущения, нерадения, воровство, немало и пьянства. И мысленно говорил Чичиков сам себе: какая, однако же, скотина Андрей Иванович! Запустить имение, которое могло бы приносить по малой мере пятьдесят тысяч годового доходу!
Не раз приходила в голову Чичикова мысль сделаться владельцем подобного поместья. Тут представлялась ему молодая хозяйка, свежая, белолицая бабенка, может быть, даже из купеческого звания, однако образованная и воспитанная как дворянка. Представлялись и молодые поколения, долженствующие увековечить фамилию Чичикова.
Словом, не стал Чичиков ни хуже, ни лучше, чем был раньше, когда появился в губернском городе NN.
Гоголь провел не одну бессонную ночь, озирая будущее течение поэмы. Но чем больше проникал взором в будущее, тем меньше мог измерить время, необходимое для завершения второго тома «Мертвых душ».
В конце февраля 1843 года из Рима в Москву пошло письмо, которое должны были вместе прочесть Шевырев, Аксаков и Погодин:
«…если предположить самую беспрерывную и ничем не останавливаемую работу, то два года – это самый короткий срок. Но я не смею об этом и думать, зная мою необеспеченную нынешнюю жизнь… Возьмите от меня на три или на четыре даже года все житейские дела мои».
Гоголь упирал еще на одно обстоятельство: отсутствие средств бывает роковым для него, когда нужно сняться с места; состояние его бывает тогда тяжело и оканчивается болезнью.
Находясь в Риме, Гоголь четвертый месяц не получал писем. Жил кое-как на деньги, занятые у Николая Михайловича Языкова, а Языков собирался ехать обратно в любимый Гастейн, и долг ему следовало уплатить немедленно.
Воистину из рук вон плохи были житейские дела автора «Мертвых душ».
Глава третья
Весной, перед праздником пасхи, в Рим толпами съезжались иностранцы. Александра Осиповна Смирнова и Гоголь часто ходили в скромную русскую церковь.
В церкви совсем по-новому увидела Александра Осиповна своего спутника: Гоголь стоял поодаль от других богомольцев и до такой степени был погружен в молитву, что ничего вокруг себя не замечал. Лицо его то светлело от молитвенного восторга, то глубокое страдание охватывало его, как грешника, ожидающего небесной кары. Он низко клонил голову, часто, судорожно крестясь.
Возвращаясь из церкви, они долго молчали. Когда же Александра Осиповна решилась заговорить о том, что увидела в нем истинного христианина, Гоголь резко перебил ее:
– Меньше, чем кто-нибудь, достоин я имени христианина! Все мы погрязаем в житейской суете.
Николай Васильевич был так взволнован, что вскоре ушел.
Александра Осиповна в ожидании новой встречи передумала о многом.
В высшем петербургском свете дамы по-разному увлекались религией. Одни усердно посещали пышные архиерейские служения и, возлюбив того или иного иерарха, даже разделялись на враждующие партии. Другие тайком от своих духовников читали сочинения знаменитых католических проповедников. И, пожалуй, больше всего верили в чудеса, происшедшие в каком-нибудь захудалом монастыре или на могиле новоявленного угодника.
Все это можно было бы поставить в прямую связь с нестроениями России: так огорчительны были беспорядки в собственных имениях, с таким трудом выколачивали управители недоимки с мужиков. Казалось, все колеблется, вот-вот рухнет привычный уклад. Путешествовавшие по Франции с ужасом рассказывали о выходящих там брошюрах и журналах. То и дело повторялось модное слово – социализм. Проще всего было перевести это слово по-русски как знамение надвигающегося светопреставления. Мысли встревоженных светских барынь, а порой и их сановных супругов обращались к всевышнему. Не довольствуясь церковными службами, они жадно искали прорицателей будущего. В Петербурге объявились ясновидящие и юродивые. Некий святой муж по имени Петр Федорович бессвязно выкликал из священного писания. И такая пошла на него мода, что принимали старца в самых аристократических гостиных, даром что щеголял пророк убогим обличьем. За высшую милость считалось получить от него щепоть благословенной соли, а то и камешек, вынутый из-за пазухи. Толкуй его дары как хочешь.
Образованная и умная Александра Осиповна Смирнова не могла предаться столь наивному, первобытному мистицизму. А в душе росло неудовлетворение и прожитыми годами и будущим. Когда она появилась при царском дворе, каких только головокружительных мечтаний не было у нее! Но мечты тускнели из года в год. И замужество не стало той блестящей партией, которой она была достойна. Рано потучневший и медлительный Николай Михайлович Смирнов мог в лучшем случае получить губернаторский пост. Это ей-то, красавице, отмеченной вниманием императора, закончить жизнь губернаторшей в каком-нибудь захолустье! Являясь при дворе, Александра Осиповна то ловко боролась за место подле царского трона, то, огорченная успехом счастливых соперниц, беспомощно опускала руки. Она часами могла сидеть перед зеркалом, разглядывая наметившиеся вокруг глаз морщинки; когда наступали припадки хандры, бросала язвительные взгляды на мужа.
Александра Осиповна думала о жизни, прожитой напрасно, и, боясь сойти с ума от непереносной тоски, взывала к небу: если бы милосердный господь исцелил ее страдающую душу!
Ни один церковный проповедник не мог завладеть ее воображением. Если и суждено ей духовное возрождение, бог пошлет ей особого наставника и придет она к богу своим, особым путем. Впрочем, ведя жизнь сирены, плавающей в волнах соблазна, либо кающейся Магдалины, Александра Осиповна ни в какие путешествия к богу не торопилась.
В тот день, когда она увидела в римской церкви Гоголя, погруженного в молитву, мысли ее устремились по новому направлению. Великий сердцевед, осененный божьей благодатью, будет целителем ее души. Попутно шевелились и другие честолюбивые мысли. Если она станет бескорыстной спутницей знаменитого писателя на духовном его пути, имя ее с благодарностью назовут русские люди.
Оставалось открыть Гоголю душу и подать ему дружескую руку, чтобы вместе совершать подвиги благочестия. Вероятно, еще ни разу столь странная мысль не залетала в ее увлекающуюся головку.
Гоголь, как нарочно, не приходил. Когда же объявился, ни словом не обмолвился о посещении церкви. Он был суров, проверяя, весь ли список, составленный им для ознакомления с Римом, выполнен. Александра Осиповна переезжала в Неаполь. Гоголь, обнаружив пробелы, сердился, а Александра Осиповна слушала упреки со смиренно опущенными долу глазами.
– Милый хохлик, – сказала она, называя его ласковым именем, ею самой изобретенным, – не заботьтесь о приобщении меня к таинствам искусства, подумайте лучше о моей душе. Когда-нибудь я расскажу вам, как я несчастна.
Больше Александра Осиповна ничего не сказала. Для завязки новых духовных отношений и сказанного было достаточно.
Поезд знатной русской путешественницы двинулся в Неаполь. Гоголь вернулся на via Felice. На пюпитре подле окна лежит аккуратно сшитая тетрадь, предназначенная для второго тома «Мертвых душ». А в тетради, кроме коротких набросков, ничего еще нет. Смутно проступает усадьба Андрея Ивановича да Чичиков все еще обдумывает, с какой бы стороны приступиться к байбаку помещику.
Отправив Чичикова в Тремалаханье, Гоголь обозревал дальнюю губернию с губернским городом Тьфуславлем. Самое название города не сулило, казалось, ничего доброго. Уже описал он подобный город в первой части поэмы, хотя и обозначил его название только буквами NN. Иная судьба назначена Тьфуславлю. Именно здесь явятся мужи божеских доблестей и все величие русского духа. Если каждый откажется от греха алчности и стяжательства и вместо вражды к людям воспылает бескорыстием и братолюбием, где же останется хотя бы малейшая почва, в которой коренятся пороки жизни? Так откроется в «Мертвых душах» тайна, о которой автор давно говорил.
А легко ли такое душевное дело? Вовсе не легко и даже неимоверно трудно. Чем решительнее пойдет человек к богу, тем сильнее будет закрывать ему путь владыка зла. Но чем больше занимается своим душевным воспитанием Гоголь, тем радостнее сознает: сам бог помогает обратившемуся к нему. И нет меры милосердию его!
«Извещайте меня обо всех христианских подвигах, высоких душевных подвигах, кем бы ни были они произведены…» – писал Гоголь знакомой московской старушке, преданной нехитрой вере в бога.
В ответ старушка присылала ему благословения и молитвы, казавшиеся ей особенно важными. Увы! Все это имело мало отношения к работе, которой был занят автор «Мертвых душ».
А Россия так далека! Тщетно взывал Гоголь к друзьям, прося выслать ему «Хозяйственную статистику России» и другие статистические сборники, вышедшие в последнее время. Просил еще выслать реестр всех сенатских дел за прошлый год с короткой пометкой, между какими лицами и по каким обстоятельствам завязалось дело. Просьба эта, вероятно, казалась Гоголю легко исполнимой.
А если все-таки не движется работа? Тогда автор «Мертвых душ» может сослаться на тысячи неотложных дел. Это прежде всего, его письма нуждающимся в добром совете.
Гоголь отдал свою часть отцовского наследства матери и сестрам. У них небольшое, но достаточное для прокормления имение с двумя стами ревизских душ. Но, кажется, нигде не идут так плохо дела, как в Васильевке. Здесь всем правят легкомыслие и нерасчетливость матушки, молодость и незнание хозяйства сестрами, мотовство и беспечность. Кто же может помочь незадачливым помещицам, как не сын и брат?
Из Рима на Украину идут наставительные письма. От Гоголя не ускользает ни одна хозяйственная статья, ни одна помещичья забота. А в заключение следует торжественный наказ:
«В минуту тоски или печали пусть каждая обратится к письму моему и прочтет его… Пусть даже каждая спишет с него копию… Прочитавши один раз письмо это пусть не думает никто, что он уже понял смысл его совершенно. Нет, пусть дождется более душевной минуты, прочтет и перечтет его. Всего лучше пусть каждая прочтет его во время говенья, за несколько часов перед исповедью, когда уясняются лучше наши очи…»
В Васильевке преклоняются перед Гоголем. Но читать его письма как молитвы или как священное писание перед исповедью? Нет ли здесь непомерной гордыни? Спаси, господи, раба твоего болярина Николая!
А какая там гордыня! На via Felice в Риме жил человек, изнемогавший в борьбе с самим собой. Он нашептывал молитвы и часто-часто осенял себя крестным знамением, беспокойно озираясь по сторонам.
Давно бы пора начать новые предприятия Павлу Ивановичу Чичикову, который понапрасну тратит время в тремалаханской глуши, но, словно в тумане, исчезают только что ожившие в воображении картины, и нетронутое лежит на конторке перо. Не от болезни ли гаснет способность творить?..
Прощай, Рим, приютивший страдальца! Гоголь молит бога только о том, чтобы были ниспосланы ему светлые минуты, нужные для труда. Пусть будут даны ему такие минуты в дороге, в тряском экипаже или на временном пристанище – все равно!
Глава четвертая
Снова видят русского путешественника многие города Европы. Гоголь едет с Языковым в постылый Гастейн.
Но и в Гастейне Николаю Васильевичу не сиделось. Уехал в Мюнхен и засел за работу.
Утро застает Николая Васильевича в мюнхенской гостинице за пересмотром черновиков своих писем. Чаще всего он перечитывает недавнее письмо, посланное из Рима матери и сестрам, то самое важнейшее письмо, которое советовал им читать перед исповедью.
Письмо занимает чуть ли не целую тетрадку. В нем сказано ясно, почему все хуже идут хозяйственные дела в России. Многие из помещиков думают, что только крестьяне созданы для серьезного труда, а помещики существуют лишь для приятного препровождения времени. И губят люди свое хозяйство, будучи не в силах преодолеть непостижимую лень. И некуда убежать им. Не спасут беглеца столичные развлечения, и балы, и все, что выдумано модой. А те, кто остаются в деревне, знают о своем хозяйстве меньше, чем о том, что делается в китайском государстве. Они не знают, что долг их трудиться па благо других, чью судьбу вверил им бог. Они живут, надеясь на чудо; даже за месяц до уплаты податей в казну или процентов в ломбард у них не оказывается ни копейки в кассе.
Бесплодная жизнь существователей, коптящих небо в усадьбах, показана в «Мертвых душах». В поэме обозначился еще один лежебока из Тремалаханья. Но доколе живописать Гоголю царство мертвых душ? Где они, строители жизни, истинные хозяева, действующие на пользу себе и другим?
Должно быть, и задержался Гоголь в Мюнхене именно потому, что привиделась ему Русь, все та же тремалаханская глушь и неподалеку от владений Андрея Ивановича чье-то удивительное имение: образцово обработаны поля, перемежающиеся сеяными лесами; стоят хлебные амбары-великаны, и деревня столь богата, что даже крестьянская свинья глядит здесь дворянином. В имении не было ни аглицких парков, ни беседок с затеями, ни проспекта перед барским домом. В скромном жилище помещика нет ни фресок, ни картин, ни фарфора, ни бронзы.
А вот и сам хозяин этого необыкновенного уголка, рассуждающий об обязанностях помещика:
– Возделывай землю в поте лица своего! Это нам всем сказано. Я говорю мужику: кому бы ты ни трудился – мне ли, себе ли, соседям, – только трудись! Нет у тебя скотины – вот тебе лошадь, вот тебе корова, вот тебе телега. Всем, что нужно, готов тебя снабдить, но трудись. Для меня смерть, если хозяйство у тебя не в устройстве, если вижу у тебя беспорядок и бедность. Не потерплю праздности. Я затем и поставлен над тобой, чтобы ты трудился.
Все яснее обозначался перед духовными очами Гоголя этот необыкновенный помещик, и уже прибрал для него Николай Васильевич фамилию тоже необыкновенную: Скудронжогло.
Гоголь раскрыл тетрадку, чтобы занести в нее речи Константина Федоровича Скудронжогло, благо никто не мешал работать в тихом номере мюнхенской гостиницы. Уже и за перо было взялся Николай Васильевич – тут же оглянулся, услышав знакомый голос:
– Прошу покорно! И Чичиков здесь!
Но как же обойтись без Чичикова, когда в поэму вступает столь важное лицо: имение Скудронжогло приносит двести тысяч дохода в год! Как не заслушаться Чичикову речей Константина Федоровича!
– Чем больше слушаешь вас, почтенный Константин Федорович, – вступил в разговор Чичиков, – тем больше хочется слушать. Изумительнее же всего то, что у вас всякая дрянь доход дает.
Но то ли еще объявит Скудронжогло! Если придет к нему нуждающийся и попросит взаймы, а Константин Федорович увидит, что деньги принесут ему прибыль, не только не откажет Константин Федорович, но и процентов не возьмет. Скудронжогло говорил веско и даже, пожалуй, сердито: как люди не понимают общей пользы? А в глазах Чичикова отразилось явное недоверие. Дает деньги взаймы? И без процентов? Все стало сомнительным после этого для Павла Ивановича Чичикова: и необыкновенные доходы Скудронжогло, и даже крестьянская свинья, которая выглядела во владениях Скудронжогло дворянином.
Да пусть себе сомневается Чичиков! Должен же быть на Руси разумный хозяин, созидающий хозяйство не только для себя, но и для блага других!
Когда Гоголю работалось, он либо никому не писал, либо посылал только короткие записки. А из России все, словно сговорившись, торопят со вторым томом «Мертвых душ». Даже байбак Прокопович пишет:
«Не хочу тебя обижать подозрением, будто ты не приготовил второго тома «Мертвых душ» к печати».
Словно «Мертвые души» – блин, который можно испечь! Так и отписал Прокоповичу. А заключил письмо неожиданным советом:
«Деньги свои приберегай. В предприятие ни в какое не пускайся. Ты изумишься потом, сколько у нас есть путей для изворотливого ума обогатиться, принеся пользу и себе и другим. Но об этом после…»
Рано еще рассказывать байбаку Прокоповичу об образцовом хозяйстве Скудронжогло, о двухсоттысячных его доходах. Еще сам автор «Мертвых душ» должен свести прочное знакомство с Константином Федоровичем, чтобы показать, как растущее его богатство обращается на пользу всеобщую.
Когда же почитают об этом соотечественники, кто не соблазнится наглядным примером?
Глава пятая
Во Франкфурте увидел Гоголь старого друга, Василия Андреевича Жуковского. С тех пор как послал ему «Мертвые души», сколько раз молил сказать хотя бы два слова о поэме. Но скуп на отзывы Жуковский.
Василий Андреевич посвежел, будто назад пошли его годы. И одет щеголевато, пожалуй, даже не по летам. А рядом с ним – юная жена, дочь немецкого живописца Рейтерна. Поздно нашел свое счастье мечтательный поэт. Василию Андреевичу за шестьдесят, его подруге едва минуло двадцать. Должно быть, это из тех браков, которые заключаются по велению небес. Жуковский стал для молодой жены учителем жизни, познавшим потусторонние тайны. К таинственному с детства тянулась эта девушка, чувствовавшая себя чужой и в семье и во всем мире. Сменив девичью фамилию на фамилию знаменитого мужа и став зваться на русский лад, Елизавета Алексеевна Жуковская тоже нашла нежданное счастье. Только в глазах ее, глубоких и прозрачных, жили какие-то свои мысли, свои страхи, свое смятение, которое она тщетно пыталась спрятать.
Жуковский с радостью приветствовал Гоголя. Может быть, Николай Васильевич присоединится к поездке в Эмс, куда врачи направляют Елизавету Алексеевну?
Гоголь присоединился с восторгом. Один бог знает, как он любил Жуковского, как жаждал общения с ним. Во имя этого он готов был претерпеть любую курортную сутолоку.
Отношения Гоголя с Елизаветой Алексеевной налаживались туго. Она не говорила по-русски и была пугливо-молчалива. Жуковский весь ушел в лечение жены. Редко-редко выкраивал час для задушевной беседы.
– Гоголёк, – начинал Василий Андреевич, располагаясь в кресле, – откуда собрали вы столько грязи в свою поэму, чтобы вылить ее на головы ошеломленным читателям? В том ли цель поэзии? Зачем же гневите бога, милосердного к слабостям нашим? А если ввергнете в грех сомнения колеблющиеся умы? Легкое дело обличать, но то ли заповедано истинным христианам?
Гоголь слушал с беспокойством. Жуковский обвинял автора «Мертвых душ» в том самом грехе, который все больше его мучил. Николай Васильевич поднял руку, словно защищаясь. Но Жуковский продолжал с мягкой улыбкой:
– Как христианин, взыскующий божьего милосердия, я не хочу и не могу осудить вас, прежде чем узнаю, каков будет колоссальный дворец, которым назвали вы продолжение поэмы. Будет ли тот дворец храмом бога живого?
Жуковский приготовился слушать, прикрыв глаза рукой. Но стоило появиться Елизавете Алексеевне, и беседа, едва начавшись, прервалась.
Гоголь проводил время в одиночестве. Ему все равно, где быть – в Италии ли, или в дрянном немецком городишке, или хотя бы в Лапландии. Его не привлекают ни новые виды, ни летнее солнце. Он весь живет в себе, в воспоминаниях, в своем народе и земле. Господи, как можешь быть близка сердцу ты, далекая Русь!
Пусть Василий Андреевич Жуковский первый прочтет, что напишется ныне в «Мертвых душах»; тогда со слезами на глазах обнимет он автора поэмы и снимет с него страшное обвинение в том, что обличением своим он, Гоголь, смущал колеблющиеся умы.
Но так и не открылся заветный портфель. В нем не было ничего готового. Не считать же делом описания жизни какого-нибудь тремалаханского байбака да недавние встречи автора с мудрым хозяином Скудронжогло!
Гоголю давно хотелось надежно пригнездиться у старого друга Жуковского. «Восбеседуем и воспишем вместе», – мечтал он. Мечта наконец осуществилась.
Гостю отведены покои в верхнем этаже. Внизу трудится Жуковский. Поэт занят переводом на русский язык древней «Одиссеи». Для кого, как не для соотечественников, предпринят этот труд?
В России чтут талант чудесного балладника, и даже в школах заучивают его стихи. Правда, молодые поколения требуют от поэтов служения идеям, отражающим новые запросы времени. Но все это доходит до Василия Андреевича как отголосок далекой жизни, которая бог знает куда стремится в России. С того страшного дня, когда безумцы восстали против царя, а царь разогнал мятежников, собравшихся на Сенатской площади, залпами картечи, поэт Жуковский мог бы с убеждением повторить собственные стихи:
Рай – смиренным воздаянье, Ад – бунтующим сердцам.Когда из России доходят вести о мужицких бунтах иди о вольномыслии молодых, набирающих силу умов, с тревогой откликается Василий Андреевич: ад им, бунтующим!..
Потом Василий Андреевич возвращается к «Одиссее», погружаясь в красоты древнего мира.
В верхних покоях работал Гоголь. В его мыслях – только Россия, ее судьбы. Автор «Мертвых душ» снова взялся за Константина Федоровича Скудронжогло. Но не рождается из-под пера живой, во плоти и крови, образцовый и добродетельный помещик, даром что произносит Скудронжогло одну речь за другой. Поучает он и заезжего кулака-пройдоху. Он, кулак, подъезжает к помещикам в самый срок уплаты в ломбард. А Константину Федоровичу что деньги? Ему в ломбард процентов не платить. Он как объявил цену на хлеб, так и будет на ней стоять. И кулак-покупщик, припертый к стене, покорно отсчитывает Скудронжогло засаленные ассигнации. Эх, глянуть бы на такую картину другим помещикам!
А Константин Федорович уже рассказывает о своих фабриках:
– Кто их заводил? Сами завелись: накопилось шерсти, сбыть некуда – я и начал ткать сукна, да сукна толстые, простые; по дешевой цене их тут же на рынках у меня разбирают. – И дальше продолжал мудрый хозяин: – Рыбью шелуху, например, сбрасывали на мой берег шесть лет сряду; ну, куда ее девать? Я начал из нее варить клей, да сорок тысяч и взял. У меня все так…
Сомнителен, конечно, сорокатысячный доход от рыбьей шелухи. А ничего более достоверного не смог подсказать своему герою Гоголь, хоть и изучал старательно полученные из России статистические сборники. По этим сборникам выходило, что помещики знают преимущественно одну проторенную дорогу – в ломбард для заклада и перезаклада имений.
Да и фабрики Константина Федоровича больше походили на богоугодные заведения, чем на те фабрики, которые ставили на Руси промышленники, алчущие барыша. Как устоит против них фабрикант-благодетель Скудронжогло? Совсем измучился с ним автор «Мертвых душ».
В это время до Гоголя дошла статья Белинского, в которой критик откровенно высказал свои мысли о «Риме», о «Портрете», а обратившись к «Мертвым душам» и вспоминая посулы Гоголя, писал:
«Кто знает, как еще раскроется содержание «Мертвых душ»… Нам обещают мужей и дев неслыханных, каких еще не было в мире».
Да, много обещано читателю – и ничего еще не сделано.
А Белинский твердит: непосредственность творчества Гоголя имеет свои границы, даже иногда изменяет ему, особенно там, где поэт сталкивается с мыслителем, где дело преимущественно касается идей. И пошел писать об этих идеях: они-де требуют эрудиции, интеллектуального развития, основанного на быстро несущейся умственной жизни современного мира. Одним словом, нужен Виссариону Белинскому все тот же вихорь нового общества!
Глава шестая
Счастливым для автора «Мертвых душ» был тот день, когда перед ним, после многих обдумываний, возник как живой полковник Кошкарев. Полковник Кошкарев хозяйствует в том же Тремалаханском уезде той же Тьфуславльской губернии, куда заехал Павел Иванович Чичиков.
В имении полковника Кошкарева были: и главная счетная экспедиция, и комитет сельских школ, и депо земледельческих орудий, и школа нормального просвещения поселян. Была еще комиссия построения, и комиссия прошений, и комитет сельских дел. Черт знает, чего только не было в этой бестолковщине!
Много хлопот предстояло помещику, хотя знал он вернейшее средство, чтобы всему помочь:
– Одеть всех до одного, как ходят в Германии. Ничего больше, как только это, и ручаюсь, что все пойдет как по маслу: науки возвысятся, торговля подымется, золотой век настанет в России!
Полковник Кошкарев обнаружил ту страсть к единообразию, к которой искони тяготело высшее правительство России. А комиссии, комитеты и экспедиции, заведенные в имении Кошкарева, были подозрительно похожи на столичные и губернские учреждения, призванные опекать и понуждать нерадивых россиян.
Когда к Кошкареву заехал Павел Иванович Чичиков и замолвил словечко насчет покупки мертвых душ, Гоголь почувствовал минуты истинного вдохновения. Теперь не было ему нужды ни в статистических сборниках, ни в реестрах сенатских дел. Он снова видел Русь из своего прекрасного далека. По поводу предложения Чичикова пошли писать у Кошкарева комиссии и комитеты. А чтобы не было скучно Чичикову ожидать решения, хозяин предложил гостю заглянуть любопытства ради в библиотеку.
В библиотеке были книги по всем частям. В особом шкафу находились книги по искусству с нескромными мифологическими картинками, которые нравятся холостякам средних лет и старичкам, изощрившим вкус на балетах.
Не зря, однако, завел сюда Чичикова автор «Мертвых душ». Намерение Гоголя обнаружилось вполне, когда Павел Иванович открыл шкаф, где были собраны книги по философии. В библиотеке у Кошкарева нашлись целых шесть томов под названием «Предуготовительное вступление к теории мышления в их общности, совокупности и в применении к уразумению органических начал общества обоюдного раздвоения». Чичикову такая премудрость совсем ни к чему, но точит и точит свое язвительное перо автор «Мертвых душ». Стал описывать трактат по страницам – на каждой странице кружатся в унылом хороводе суконные слова: проявление, абстракт, замкнутость и сомкнутость…
Долго припоминал Николай Васильевич, какие бы вставить еще колючие словечки, а впрочем, и так хватит вам, господа новейшие философы! Гоголь крепко помнил недавно читанную статью Белинского. К нему и обратил речь:
– Пишете вы, досточтимый Виссарион Григорьевич, об идеях быстро несущейся умственной жизни современного мира, а философские трактаты ваши находят себе могилу в книжных шкафах какого-нибудь маньяка. Только и всего!..
Павел Иванович Чичиков все еще ожидал у Кошкарева решения по своей просьбе. Наконец Кошкарев явился и заставил Чичикова выслушать длиннющую бумагу; бумага была писана до того витиевато, что, будучи докой в канцелярском крючкотворстве, Павел Иванович едва мог уразуметь ее смысл. Смысл же заключался в том, что коллежскому советнику и кавалеру Павлу Ивановичу Чичикову на основании всей совокупности соображений было отказано в его просьбе.
– Так зачем же вы мне этого не объявили прежде? – спросил с сердцем Павел Иванович.
– В том и выгода бумажного производства, – отвечал полковник Кошкарев, – что теперь все, как на ладони, оказалось ясно.
«Дурак ты, глупая скотина!» – думал Чичиков и повел себя без всякой учтивости, наподобие того, как обошелся в свое время с Настасьей Петровной Коробочкой. Гневался он недаром: у Кошкарева не удалось даже покормить лошадей. О корме лошадям надо было подавать письменную просьбу, а резолюция – выдать овса – вышла бы только на другой день.
Слов нет, задался автору «Мертвых душ» полковник Кошкарев. С неохотой расстался с ним Гоголь. А что скажет о Кошкареве уважаемый Константин Федорович Скудронжогло?
– Кошкарев – утешительное явление, – объявил с обычной своей рассудительностью Константин Федорович, едва вспомнил о нем автор «Мертвых душ». – Кошкарев нужен затем, что в нем отражаются карикатурно и виднее глупости умных людей.
Излагает Скудронжогло мысли, сходные с мыслями самого автора «Мертвых душ», можно сказать – даже прямо объясняет авторский замысел:
– Завели конторы и присутствия, и управителей, и мануфактуры, и фабрики, и черт их знает, что такое. Вон другой дурак еще лучше: фабрику шелковых материй завел!
Иначе обстояло дело в имении Константина Федоровича Скудронжогло. Описал Гоголь всякую мелочь, касающуюся этого замечательного хозяина, а на крыше его дома поместил фонарь-беседку, какие измышляют помещики для обозрения приятных видов. Попался наконец Константин Федорович в расточительстве? Ан нет! Оказывается, и фонарь-беседка имела у Скудронжогло разумное назначение: оттуда удобно было хозяину наблюдать, какие, где и как производятся работы. Словом, даже кажущиеся оплошности оборачивались достоинствами в этом доме.
Творец небесный! Если помещики спешат друг перед другом закладывать имения, если скоро не останется угла, не заложенного в казну, кто не захочет разумного и прочного благосостояния Скудронжогло! И главное – приобретать не только для себя, но и для пользы общей. Заверни к Скудронжогло хоть сам Павел Иванович Чичиков, да если докажет, что просит взаймы на полезное дело, так и ему отвалит Константин Федорович хоть десять тысяч.
Но каждый раз, когда описывал Гоголь благодеяния Скудронжогло, ему казалось, что откуда-то издали смотрит на него Чичиков с улыбкой сомнения и отчасти даже недоверия.
Сам автор часто бывал в нерешительности. Не в каждом же помещичьем имении завалены речные берега драгоценной рыбьей чешуей. А какая-нибудь Настасья Петровна Коробочка и вовсе не узнает о существовании мудрого хозяина Скудронжогло. Ей бы сбыть пеньку покупщику, а лишнюю девку – помещику-соседу. Да неужто у Ноздрева, к примеру, могут появиться сеяные леса? Или Плюшкин станет давать взаймы мужикам?
Когда Гоголь снова обозревал далекую родину, являлись его взору убогие селения, истощенные пашни, нерадивые помещики и голодные мужики. Не было такого места на русской земле, где бы можно было отыскать имение, подобное тому, которое изобрел автор «Мертвых душ» для Скудронжогло. Внутренний холод охватывал Гоголя. Неужели господь бог покинул своего избранника?
К господу были обращены мысли всех обитателей дома, в котором пригнездился автор «Мертвых душ». Но Василий Андреевич Жуковский молился благостно и благодарно, взысканный всеми милостями небес. В единении душ стиралась, казалось, даже та непереходимая грань, которая отделяла мудрого летами мужа от стремлений и чувствований его юной подруги. Союз их, заключенный на небесах, цветет высшей земной радостью. Василий Андреевич не может отвести глаз от малютки дочери, которую пестует счастливая мать. Какие же другие молитвы, кроме молитв горячей благодарности, мог вознести к небу Василий Андреевич?
Гоголь молился иначе. Это был вопль о помощи, мольба, орошенная страдальческими слезами.
В один из тоскливых дней тревожной осени 1843 года Гоголь, прожив у Жуковского около двух месяцев, спустился вниз и объявил, что он уезжает в Ниццу.
– А! – улыбнулся Жуковский. – Собираетесь в дорогу по повелению Александры Осиповны Смирновой?
– При чем тут Александра Осиповна? – удивился Гоголь. Он, кажется, и вовсе успел о ней забыть. – Меня зовут в Ниццу графини Виельгорские.
Сборы были коротки, как и бывает у человека, ограничившего все имущество одним чемоданом.
Тепло простился с гостем Жуковский. Горячо желал ему преуспеяния в трудах. А глубокий душевный разговор о труде, предпринятом Гоголем, так и не состоялся. Чем меньше ладилась поэма, тем более скрытен становился Гоголь. Да вряд ли бы и понял переводчик бессмертной «Одиссеи», какие демоны терзают автора «Мертвых душ».
Глава седьмая
По дороге в Ниццу Гоголь остановился в Марселе. Ночью он внезапно и сильно заболел. Силы падали неудержимо. Он воочию увидел перед собой смерть. Смерть стояла у него в ногах в полутемной гостиничной комнате и, казалось, медлила сделать только последний шаг.
Он спасся от страшного видения, сев в дилижанс. В дороге, как всегда, отступились черные призраки. И снова верой укрепилась душа: в божьих руках находится его жизнь, и никто, кроме бога, над ней не властен!
«Ницца – рай, – писал Жуковскому человек, испытавший чудо воскресения, – солнце, как масло, ложится на всем, мотыльки, мухи в огромном количестве и воздух летний».
По календарю стоял декабрь. В Ницце давно кончился летний сезон. Курорт опустел.
Вот когда двинутся вперед «Мертвые души»! Николай Васильевич с утра берется за работу. Но главное, для чего предпринято продолжение поэмы, по-прежнему не приобретает ни живой формы, ни трепещущих жизнью красок.
К Жуковскому была обращена новая жалоба:
«Я продолжаю работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых душ». Труд и терпение, и даже приневоливание себя, награждают меня много…»
Приневоливание? Раз родившись, это страшное слово будет повторяться у Гоголя все чаще.
Николай Васильевич жил в Ницце, в семействе вельможного царедворца графа Виельгорского. Сам граф, масон, жуир, музыкант, европеец и сластолюбец, предпочитает держать в отдалении свою неумолимо взыскательную супругу. Графиня живет за границей, хотя всему бы предпочла сладостную атмосферу императорского Зимнего дворца. На это имеет священное право графиня Виельгорская, урожденная принцесса Бирон. Никто так не хвалится знатностью своей девичьей фамилии, никто так не блюдет аристократический этикет, как графиня Луиза Карловна. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем человеку с малейшим изъяном в родословной быть удостоенным приглашения в ее гостиную.
Никогда бы в голову не пришло Луизе Карловне пригласить в свою петербургскую гостиную бесчиновного малороссийского дворянина Николая Гоголя. Но на чужбине Гоголь может поселиться у Виельгорских как свой, домашний человек. Николай Васильевич умеет слушать жалобы с сердечным вниманием. В беседе с ним можно посетовать на легкомысленное поведение графа Виельгорского. Ему можно открыть материнские заботы, связанные с семейной жизнью дочери Софи.
Софья Михайловна Виельгорская, по мужу графиня Соллогуб, живет здесь же, в Ницце, вместе с мужем. Граф Владимир Александрович Соллогуб доставляет немалые огорчения и жене и старой графине. Не то смущает Луизу Карловну, что зять занят неудобным для аристократа делом – сочинением повестей и рассказов. Ужасно то, что Владимир Александрович кутит напропалую и не чурается даже сомнительных женщин. Бедная Софи!.. В меру повздыхав о Софи, Луиза Карловна рассказывает домашнему человеку Гоголю о младшей дочери, Анне Михайловне. Ей исполнилось двадцать лет, но она не имеет успеха в свете. Увы, она не блещет красотой и, равнодушная к светским увеселениям, кажется, вовсе не думает о том, о чем бы давно пора думать: о партии, достойной дочери графа и графини Виельгорских.
После утренних занятий Гоголь любил гулять по морскому берегу с Анной Михайловной Виельгорской.
– Ваше имя означает благодать, – говорил ей Гоголь. – Не для суетных дел предназначены вы! Вы сами еще не знаете себя и данных вам богом возможностей.
Анна Михайловна смущалась от непривычных речей и с тайным любопытством к ним тянулась. Ласковое море несло к ее ногам тихие волны. К каким же подвигам предназначена она, Анна-благодать?
Скоро случилось так, что, поселясь в доме Виельгорских, Гоголь всем стал необходим. Графини Виельгорские обрели пророка, чтобы внимать ему.
Неподалеку жила Александра Осиповна Смирнова. Все больше тосковала она о петербургском обществе. Все больше сознавала жестокую правду: ее чары, когда-то всесильные, блекнут. Александра Осиповна дорого бы дала, чтобы вернуть прошлое. Но бурное и сладостное прошлое неуловимо убегало от нее.
Гоголь выслушал наконец исповедь грешницы. Исповедь была горяча и стремительна. Рассказ о своих падениях Александра Осиповна сопровождала слезами.
– Теперь вы видите мою душу во всей черноте и наготе. – Она и в самом деле увлеклась покаянием, тем более что в покаянных рассказах оживало невозвратное.
Гоголь хотел вселить ей веру в исцеление:
– Знайте, сам бог вложил мне великую способность слышать душу человеческую… Говорите, говорите!..
Но он все еще боялся чего-то неотвратимого, что неминуемо должно произойти. И, даже выслушав покаянную исповедь, посещал Александру Осиповну накоротке.
Однажды он застал кающуюся Магдалину в состоянии полного душевного опустошения. Пересиливая себя, едва слышным голосом она сделала новое признание:
– Бывают минуты, хохлик, когда я боюсь сойти с ума…
Час, в который было сделано это признание, стал гораздо более важным для Гоголя, чем для нее. Он-то хорошо знал, как заползают в душу черные страхи, он давно испытал минуты, когда стоял у роковой черты.
Александра Осиповна, перестав таиться, говорила об ужасе перед смертью.
– Молитесь с рыданием и плачем! – отвечал Гоголь, как говорил сам себе. – Молитесь, как утопающий в волнах, ухватившийся за последнюю доску. Нет такой боли душевной, которую нельзя было бы выплакать слезами.
Гоголь немедленно приступил к делу. Если врач телесный тщательно выбирает лекарства, наиболее сильные против болезни, то тем более должен знать верные средства врач духовный, пекущийся о больной душе. Для исцеления души Александры Осиповны были избраны четырнадцать покаянных псалмов царя Давида. Гоголь собственноручно переписал их и вручил Смирновой, как медик вручает рецепт больному. Она должна была выучить псалмы наизусть.
Пациентка, к великому огорчению врача, выучивала плохо и, произнося трудные церковнославянские тексты, запиналась.
– Нетвердо! – сурово перебивал ее Гоголь. – Назначаю вам крайний срок – назавтра!
Он говорил с той властью, которую бог вручает своему избраннику, борющемуся с дьяволом за христианскую душу, попавшую в беду.
В часы досуга он любил по-прежнему гулять с Анной Михайловной у моря. Девушка, освоившись с ним, болтала о всякой всячине. Гоголь все больше к ней присматривался: выросшая в знатности и роскоши, она сохранила во всей простоте чистое сердце. «Благоуханная Анна!» – стал называть ее Николай Васильевич.
Должно быть, она явилась как раз вовремя на его пути.
По утрам Гоголь был всецело поглощен важными событиями, разыгравшимися в далеком Тремалаханье. Чичиков разведал, что его радушный хозяин Андрей Иванович раньше нередко ездил к соседу генералу Бетрищеву и что у генерала была дочь. Но потом как-то рушилось это знакомство и все разошлось. Разведал все это Чичиков и после обеда приступил к делу.
– У вас все есть, Андрей Иванович, одного только недостает.
– Чего? – спросил Андрей Иванович, выпуская из трубки кудреватый дым.
– Подруги жизни, – объявил Чичиков.
Ничего не ответил Андрей Иванович. Когда же выбрал Чичиков время после ужина и сказал с чувством: «А все-таки, как ни переберу ваши обстоятельства, Андрей Иванович, вижу, что нужно вам жениться, – иначе впадете в ипохондрию», – только тогда и рассказал Андрей Иванович историю своего знакомства и разрыва с генералом.
Генерал Бетрищев сначала принимал Андрея Ивановича довольно хорошо и радушно. Мир у них держался до тех пор, покуда не приехали гостить к генералу родственницы – графиня Глузтырева и княжна Юзякина, обе фрейлины времен Екатерины, отчасти болтушки, отчасти сплетницы, однако же имевшие значительные связи в Петербурге и перед которыми генерал немножко даже подличал. Андрею Ивановичу показалось, что с самого дня их приезда генерал почти его не замечал и обращался с ним как с лицом бессловесным. Он говорил Андрею Ивановичу то «братец», то «любезнейший», а один раз сказал ему даже «ты». Андрея Ивановича взорвало. С тех пор знакомство между ними прекратилось.
Слушая эту историю, Чичиков совершенно оторопел. Несколько минут он пристально глядел в глаза Андрею Ивановичу и мысленно заключил: «Да ты просто круглый дурак!» Потом, взявши его за обе руки, воскликнул:
– Андрей Иванович! Какое же это оскорбление? Что же тут оскорбительного в слове «ты»?
– В самом слове нет ничего оскорбительного, – объяснил Андрей Иванович, – но в голосе, которым было сказано оно, заключается оскорбление. Ты! Это значит: «Помни, что ты дрянь; я принимаю тебя потому только, что нет никого лучше, а приехала какая-нибудь Юзякина – знай свое место, стой у порога».
– Да хоть бы даже и в таком смысле, что же тут такого?
– Как?! – кроткий Андрей Иванович сверкнул глазами: – Вы хотите, чтобы я продолжал бывать у него после такого поступка?
– Да какой же это поступок? Это даже не поступок! Просто генерал привык всем говорить ты.
Долго еще шел разговор, при котором незримо присутствовал автор «Мертвых душ». И нет дела Гоголю, что за окнами отливает чистым серебром морская гладь, нет ему дела, что ждет его на прогулку Анна Михайловна Виельгорская.
– Позвольте мне как-нибудь обделать это дело, – сказал Чичиков Андрею Ивановичу. – Я могу съездить к его превосходительству и объясню, что случилось это с вашей стороны по недоразумению, по молодости и незнанию людей и света.
– Подличать я перед ним не намерен, – твердо сказал Андрей Иванович.
– Сохрани бог подличать! – Чичиков даже перекрестился. – Подействовать словом увещания, как благородный посредник, но подличать… Извините меня, Андрей Иванович, за мое доброе желание и преданность, я даже не ожидал, что слова мои вы принимали бы в таком обидном смысле.
– Простите, Павел Иванович, я виноват, – сказал тронутый Андрей Иванович. – Но оставим этот разговор…
– В таком случае я поеду просто к генералу без причины, – объявил Чичиков.
– Зачем? – спросил Андрей Иванович, в недоумении смотря на Павла Ивановича.
– Засвидетельствовать почтение!..
Гоголь вышел из своей комнаты к графиням Виельгорским веселый и помолодевший.
– Представьте, – сказал он, обращаясь к Анне Михайловне, – мой Чичиков опять выкинул коленце, да еще какое! – И тут же спохватился: в семействе Виельгорских понятия не имеют о том, куда и зачем собрался Чичиков. Еще меньше знают здесь о размолвке между каким-то тремалаханским помещиком и генералом Бетрищевым, тоже совершенным провинциалом.
Глава восьмая
В далеком Петербурге, придавленном низким зимним небом, Виссарион Белинский готовил очередной обзор – «Русская литература в 1843 году». Небогат оказался урожай. Романисты и нувеллисты старой школы попали в самое затруднительное и забавное положение: браня Гоголя и говоря с презрением о его произведениях, они невольно впадали в его тон и неловко подражали его манере. А публика читает и обращает внимание только на молодых писателей, дарование которых образовалось под влиянием поэзии Гоголя.
В кабинет зашла Марья Васильевна, приготовившаяся ко сну. Оглядела исписанные мужем листы.
– Не беспокойся, Мари! Становлюсь я тих и беззлобен.
– Если бы так! А профессор Плетнев прочтет твою статью против «Современника».
– Твоя правда, Мари! Даже на душе светлеет, как вспомню. Или ты думаешь, что я могу спокойно жить, пока отравляют воздух и Булгарин, и Греч, и Сенковский, и Шевырев, и Погодин, и все прочие, имена же их ты, господи, веси? Умру, но и из-за гроба буду их преследовать и для того испрошу у бога бессмертие души.
Марья Васильевна ушла к себе. Белинский вернулся мыслями к Гоголю: когда выдаст он продолжение «Мертвых душ»?
Но, как известно, именно этот вопрос больше всего раздражал автора поэмы. Разве мало того, что, пребывая в Ницце, он каждое утро уединяется для работы?
…Чичиков был введен в кабинет к генералу Бетрищеву. Но едва объявил Павел Иванович, что остановился у близкого соседа его превосходительства, Андрея Ивановича, генерал поморщился.
– Он, ваше превосходительство, весьма раскаивается в том, что не оказал должного уважения… потому что, точно, говорит: «Умею ценить мужей, спасавших отечество…»
– Помилуйте, что же он? Ведь я не сержусь, – сказал, смягчившись, генерал и выразил уверенность, что со временем Андрей Иванович будет полезный человек.
– Преполезный, ваше превосходительство, обладает даром слова и владеет пером.
– Но пишет, я чай, пустяки, какие-нибудь стишки?
– Нет, ваше превосходительство, не пустяки. Он пишет… историю! – Тут Чичиков приостановился и оттого ли, что перед ним сидел генерал, или просто чтобы придать более важности предмету, прибавил: – Историю о генералах, ваше превосходительство.
– Как о генералах? О каких генералах?
– Вообще о генералах, ваше превосходительство, в общности. То есть, говоря собственно, об отечественных генералах, – сказал Чичиков и сам подумал: «Что за вздор такой несу!»
– Так что же он ко мне не приедет? Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов.
– Робеет, ваше превосходительство!
– Какой вздор! Из-за какого-нибудь пустого слова… Да я совсем не такой человек. – Генерал Бетрищев был полон искреннего великодушия и готов был даже ехать к Андрею Ивановичу.
– Он к тому не допустит, – говорил Чичиков, а сам думал про себя: «Генералы пришлись, однако же, кстати, между тем как язык болтнул сдуру…»
Но тут настало время явиться на сцене той, чью головку постоянно рисовал пером и карандашом Андрей Иванович.
Гоголь давно знал ее имя и, гуляя с Анной Михайловной Виельгорской, все чаще думал об Уленьке Бетрищевой. Уленька – существо невиданное, странное, которое скорее можно назвать фантастическим видением, чем женщиной. Необыкновенно трудно изобразить портрет ее, признается автор «Мертвых душ»: это было что-то живое, как сама жизнь. Она была миловиднее, чем красавица; стройнее, воздушнее классической женщины…
Оторвавшись от работы, Гоголь делил время между домом Виельгорских и Александрой Осиповной Смирновой.
Александра Осиповна реже впадала в черную меланхолию, хотя так и не доучила предписанные ей псалмы. Она все рассеяннее слушала чтение выборок из творений святых отцов.
Грешница, всласть покаявшись, вдруг сызнова почувствовала прелесть светских развлечений. В минуту откровенности она призналась Гоголю, что собирается переехать в Париж.
– В Париж?!
Это было невероятно! Это было новое искушение, которое только дьявол мог внушить женщине, едва проснувшейся для духовной жизни. Гоголь и для себя боялся этого города, в котором рождаются вихри разрушения, в котором все предано мертвящему душу разврату.
Он был и величествен и жесток, когда осыпал Александру Осиповну упреками. Он не отступится от нее, пока она не познает истину, отказавшись от всякого комфорта, пока не будет у нее только два платья – одно для праздников, другое для будних дней. Он говорил об этом как раз в тот день, когда Александра Осиповна, собравшись в Париж, раздумывала о том, какого освежения потребуют ее туалеты.
Бедный пророк! Непосильное бремя возложил на него бог: спасать душу, убегающую от спасения. Гоголь был так удручен, что Александра Осиповна решила его утешить.
– Даю вам слово, – сказала она, – если будет изнемогать моя душа, я сама позову вас.
Ну что же? Он не оставит ее в борении с дьяволом. А ушел грустный, надломленный.
Только Уленька Бетрищева может его утешить. Как в ребенке, воспитанном на свободе, в Уленьке все своенравно. Если бы кто увидел, как внезапный гнев собирал вдруг строгие морщины на прекрасном челе ее, как она спорила пылко с отцом своим, – он бы подумал, что это было капризнейшее создание. Но гнев бывал у нее только тогда, когда она слышала о несправедливости или жестоком поступке с кем бы то ни было. Когда она говорила, все стремилось у нее вслед за мыслью: выражение лица, движение рук, даже складки платья.
Широкой, щедрой кистью написан портрет Уленьки, а Гоголь все множит милые сердцу черты. То напишет о ее бестрепетно-свободной походке, то упомянет, что при ней смутился бы и самый недобрый человек, а добрый и даже самый застенчивый мог бы разговориться с ней как с сестрой.
Ведь было обещано читателям «Мертвых душ», что явится в поэме чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления к самоотвержению.
Пусть себе пишут некоторые критики: нам-де обещают мужей и дев неслыханных, каких еще не было в мире… Как родилась в поэме Уленька – тайна автора «Мертвых душ». И еще есть тайна: когда Николай Васильевич пишет об Уленьке, перед духовным его взором является Анна Виельгорская. Когда он совершает прогулки с Анной Михайловной, все отчетливее рисуется ему Уленька.
Бог знает, почему соединились они в его воображении, почему будет предрекать ей поэт подвиги душевные, которых она никогда не свершит.
Автор «Мертвых душ» и Анна Виельгорская шли к морю, и море, как всегда, слало свои тихие, задумчивые волны к их ногам. Николай Васильевич присмотрелся: когда Анна Михайловна говорила, все стремилось за ее мыслью – выражение лица, движение рук и даже складки платья.
Глава девятая
Шумно, с речами и тостами, встречала Москва новый, 1844 год. А когда улеглась праздничная толчея, профессор Шевырев многозначительно объявил Сергею Тимофеевичу Аксакову:
– Ждите подарка от Гоголя!
А Сергею Тимофеевичу бог знает почему причудилось, что готовится Гоголь обрадовать Россию вторым томом «Мертвых душ». Каково же было удивление и разочарование Аксакова, когда Шевырев вручил ему изящно изданную книжку «О подражании Христу» – – богословское сочинение средневекового монаха Фомы Кемпийского. На книге была наклеена узкая полоса бумаги, писанная рукой Гоголя. Такие же подарки получили Погодин и сам Шевырев. Шевырев покупал эти книги в Москве по поручению Гоголя и наклеивал присланные им посвятительные надписи. На присылку книг у Николая Васильевича не было средств. Он сидел в Ницце без копейки.
Всем получившим сочинение Фомы Кемпийского следовало, собравшись вместе, прочесть письмо-наставление Гоголя.
«Есть какая-то повсюдная нервически душевная тоска, – писал он. – она будет потом еще сильнее. В таких случаях нужна братская взаимная помощь».
С такой помощью и спешил Гоголь к московским друзьям. Он советовал им избрать для чтения книги «О подражании Христу» час свободный и ненатруженный. Всего лучше читать по утрам, немедленно после чаю или кофею, чтобы и самый аппетит не отвлекал читающего.
Фома Кемпийский был новой тревожной вестью, пришедшей от Гоголя. Его торжественные или полные отчаяния обращения к небу давно и непостижимо сочетались с деловитостью аптекаря, отвешивающего на весах свои снадобья и пишущего сигнатурки: принимать до еды, после еды, по столовой или по чайной ложке.
Аксаков, ничего не говоря ни Погодину, ни Шевыреву, отправил Гоголю непривычно откровенное письмо:
«…Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренни; но уж, конечно, ничьих и не приму. И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, нисколько не зная моих убеждений, да еще в узаконенное вами время – после кофею… Смешно и досадно! И в прежних ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнение. Я боюсь, как огня, мистицизма, а мне кажется, он как-то проглядывает у вас. Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник!»
Долго не решался послать это письмо Аксаков. Долго будет идти оно на чужбину к Гоголю.
Гоголь по-прежнему жил в Ницце. В Ниццу пришла весна. Новыми красками блистали горы. Тихо ластилось к солнцу лазурное море. Но в утренние часы Гоголь никуда не выходил.
…В его тетради заполняются новые страницы. Увидя Уленьку, зашедшую в отцовский кабинет, даже Чичиков нашел в ней один только недостаток – недостаток толщины. Но стоит ли автору спорить с героем, который, не будучи поэтом, имел свое понятие о качествах, украшающих женщину? Куда больше интересовал Гоголя дальнейший разговор Павла Ивановича с генералом Бетрищевым.
– Изволили ли вы, ваше превосходительство, слышать когда-нибудь о том, что такое: полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит? – отнесся Чичиков к генералу с улыбкой, пожалуй, даже несколько плутоватой.
И, побуждаемый автором «Мертвых душ», Чичиков рассказал его превосходительству анекдот. Суд, выехавший на следствие, заворотил в полном составе к молодому управителю имения, из немцев. А немец только что женился, и сидят счастливые супруги за чаем. Вдруг вваливается сонмище. Небритые, заспанные и вполпьяна. Немец оторопело спрашивает: «Что вам угодно?» Не знал, стало быть, русских обычаев и даже не подумал, чудак, об угощении. «Ах, так!..» – говорят ему судьи. И вдруг – перемена лиц и физиономий. «Сколько, – спрашивают, – выкуриваете вина по имению? Покажи книги». Туда-сюда… Эй, понятых! Взяли, связали управителя да в город. Полтора месяца и просидел немец в тюрьме.
– Вот на! – сказал генерал. Уленька в гневе всплеснула руками.
Но еще не кончился анекдот. Жена немца бросилась хлопотать. А что может молодая неопытная женщина? Спасибо, нашлись добрые люди, которые посоветовали пойти на мировую. Немец управитель отделался двумя тысячами и благодарственным обедом.
Угощаясь, судьи корили немца: «Ты бы все хотел нас видеть прибранными, да бритыми, да во фраках? Нет, брат, полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит».
Уленька болезненно застонала. Генерал Бетрищев расхохотался. Чичиков был вполне доволен произведенным эффектом. Только автор «Мертвых душ» в изнеможении положил перо. Непреодолимый рок тянет его к обличению жизни, в которой совершаются изо дня в день подобные анекдоты. Когда же выберется он из бездонного омута? Гоголь сидел подавленный, потом снова взялся за тетрадку.
Генерал Бетрищев то и дело возвращался к услышанному казусу.
– Как бишь, – спрашивал он у Чичикова: – полюби нас беленькими?..
– Черненькими, – со всей деликатностью поправлял Чичиков. Туловище генерала вновь начинало колебаться от смеха. Чичиков вторил междометием: хе-хе-хе, пустив это междометие, из уважения к генералу, на букву э.
Между тем, отослав дочь, генерал приступил к предобеденному омовению. Камердинер-великан, в густых усах и бакенбардах, явился в кабинет с серебряной лоханкой и рукомойником в руках.
– Ты мне позволишь одеваться при тебе? – спросил генерал у Чичикова.
– Помилуйте, не только одеваться, но можете совершать при мне все, что угодно вашему превосходительству.
Генерал стал умываться, брызгаясь и фыркая, как утка.
– Как бишь, – переспрашивал он, вытирая толстую шею: – полюби нас беленькими?..
– Черненькими, – со всей деликатностью поправлял Чичиков. Он был в духе необыкновенном.
– Пора, Павел Иванович! – наставлял героя автор «Мертвых душ», – решительно пора приступить к делу.
Гоголь походил по комнате, потом, перечитывая написанное, снова оказался в генеральском кабинете. Теперь писалось легко, будто и никогда не жаловался он на приневоливание.
– Есть еще одна история, ваше превосходительство, – сказал Чичиков и начал по обыкновению несколько издалека.
В его рассказе возник дядюшка, дряхлый старик, а у дядюшки будто бы триста душ. Сам он управлять имением не может и племяннику не передает. Пусть-де племянник докажет, что он надежный человек, не мот, пусть раньше сам приобретет триста душ, тогда дядюшка передаст ему и свои триста.
– Какой дурак! – Генерал все еще не понимал сути.
Чичиков сделал новое пояснение: при дядюшке есть ключница, а у ключницы – дети. Того и смотри, старик все им передаст.
Генерал Бетрищев по-прежнему недоумевал: чем он-то может пособить новому знакомцу?
Павел Иванович наконец прямо заговорил о мертвых душах, которые его превосходительство мог бы продать ему с совершением купчей крепости как бы на живых, а он бы, Чичиков, представил купчую дядюшке.
Не в первый раз приступал к негоциям Павел Иванович, и по-разному принимали его просьбу господа помещики: и Манилов, и Ноздрев, и Коробочка, и Собакевич, и Плюшкин. Но эффекта, который последовал теперь, Чичиков никак не ожидал.
Генерал разразился таким смехом, что как был, так и повалился в кресло, даже закинул голову назад и чуть не захлебнулся. Чичиков с беспокойством ожидал окончания этого необыкновенного смеха.
– Попотчевать старика, подсунув ему мертвых… В каких дураках будет твой дядя! – Генерал совсем развеселился. – Да я бы пятьдесят тысяч дал, чтобы посмотреть на него в то время, как ты поднесешь ему купчую на мертвые души.
Генерал заинтересовался новыми подробностями, касавшимися старика. Спрашивал о его летах, да крепок ли на ноги, и даже есть ли у него зубы. И, выслушав ответ Чичикова, каждый раз приговаривал:
– Экой дурак! Экой осел!
– Точно так, ваше превосходительство… Если будете, ваше превосходительство, так добры…
– Чтобы отдать тебе мертвых душ? Да за такую выдумку я их тебе с землей, с жильем. Возьми себе все кладбище… А старик-то! В каких дураках будет!
Генеральский смех пошел отдаваться по всему дому. Отголоски его достигли даже далекой Ниццы, где жил автор «Мертвых душ».
Глава десятая
На русскую масленицу Александра Осиповна Смирнова получила от Гоголя неожиданную шуточную записку:
«Не позовете ли вы завтра, в пятницу, на блины весь благовоспитанный дом Paradis, то есть графиню с обеими чадами, что составляет включительно со мною, грешным, ровно четыре персоны. Полагая на каждую физиономию по три блина, а на тех, кто позастенчивее, как-то на Анну Михайловну и графиню, даже по два, я полагаю, что с помощью двух десятков можно уконтентовать всю компанию…»
Александра Осиповна тем более не хотела ни в чем отказывать Гоголю, что день ее отъезда в Париж был окончательно назначен. Блины состоялись.
Гоголь был весел и как-то сосредоточен.
– А знаете ли вы, сударыни, – вдруг спросил он, – как закладывают на Руси кулебяку на четыре угла?
На тарелке Николая Васильевича пылал пышный блин, ворчало распущенное масло. Прищурившись, словно для того, чтобы лучше разглядеть воображаемую кулебяку, он отдался рассказу.
– Вот как закладывают, сударыни, кулебяку на четыре угла. В один угол положат щеки осетра да вязигу, в другой запустят гречневой кашицы да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да чего-нибудь еще такого, этакого…
Гоголь причмокивал губами.
– Да надобно непременно, чтобы кулебяка, если она достойна своего звания, с одного боку зарумянилась, а с другого чтобы охватило ее полегче. Да исподу-то надобно так пропечь, чтобы проняло ее соком, чтобы даже не услышать ее во рту, чтобы как снег растаяла…
Дамы смеялись, слушая кулинарный экспромт. Только Анна Михайловна Виельгорская смотрела на Гоголя с неприкрытым удивлением: тот ли это Николай Васильевич, который недавно говорил ей о пользе страдания? И вдруг кулебяка на четыре угла!
Гоголь усердно потчевал Софью Михайловну Соллогуб, объясняя, как следует приправлять блины икрой и семгой, а потом, для подстегивания аппетита, непременно надо вернуться к соленому груздю.
Соленые грузди показались особенно забавны в Ницце, хотя стоило посмотреть, как Николай Васильевич цеплял на вилку воображаемый груздь, чтобы ощутить тонкий грибной аромат.
– Сделайте одолжение, Софья Михайловна, еще один блин!
– Увольте, – смеялась Софья Михайловна Соллогуб, – не могу. Места нет.
Гоголь посмотрел на нее, не снимая маски чревоугодника, которой прикрылся с начала пиршества.
– Могу поведать вам о поучительном случае. Однажды, представьте, в церкви не было места. Давка была такая, что и яблоку негде упасть. А вошел городничий – и тотчас нашлось для него место. Добрый блин, Софья Михайловна, тот же городничий.
И опять смеялись все, кроме Анны Виельгорской. Не раз говорил ей Гоголь о грехе чревоугодия.
Но ничего странного не оказалось бы в поведении Николая Васильевича, если бы знала Анна Михайловна: как раз в эти дни автор «Мертвых душ» свел знакомство с тремалаханским помещиком Петром Петровичем Петухом.
Самое появление его в тетради Гоголя было необыкновенно. Петру Петровичу, походившему на арбуз, суждено предстать перед читателями запутавшимся в рыболовных сетях. Мужики тянут сеть к берегу, а барин-арбуз выкрикивает скороговоркой: «Стой, черти! Зацепили меня, проклятые, за пуп!»
Кое-как выбравшись на берег и освободившись от сетей, Петр Петрович является удивленному взору Чичикова, держа одну руку козырьком над глазами в защиту от солнца, другую – пониже, на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани.
– Обедали? – был первый вопрос Петуха.
А там и пошло! От закуски к обеду, от обеда к ужину. По этой части Петр Петрович оказался совершенным разбойником и прирожденным поэтом.
– Два года воспитывал на молоке, ухаживал, как за сыном, – говорил он, накладывая Чичикову хребтовую часть теленка, жаренного на вертеле.
Все, что подавалось у Петра Петровича: и уха, созданная из молоки, икры и потрохов осетра с присовокуплением лещей; и свиной сычуг, со льдом в середке и с добавлением мелкой сечки из снетков, – все могло соперничать по роскоши красок с полотнами голландских живописцев.
– Барабан! Никакой городничий не взойдет! – сказал Чичиков, обследовав свой живот, когда был, наконец, отпущен Петухом на покой.
В соседней комнате хозяин заказывал повару на завтрашний день, под видом раннего завтрака, полный обед. «Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть хорошенько», – наставлял повара Петр Петрович. Чичиков заснул на каком-то индюке.
Имение Петуха оказалось, конечно, заложено. Все пошли закладывать, так зачем отставать от других?
Работая в Ницце, автор «Мертвых душ» свел еще одно примечательное знакомство. Ничуть не уменьшилась, стало быть, его способность творить.
Но тут глубокой заботой омрачалось лицо Гоголя. Если взять арбузоподобного Петуха, или бравого генерала Бетрищева, или коптителя неба Андрея Ивановича Дерпенникова, Тентетникова тож, имения их могли бы находиться рядом с имением любого Манилова или Собакевича, в окрестностях небезызвестного губернского города NN. Могли обитать новые герои и подле губернского города Тьфуславля.
Но где, в какой губернии, в каком уезде, могут найтись владетели ревизских душ, живущие не для себя, а для пользы общей? Где они, господа поместные дворяне, способные создать счастливую жизнь и себе и своим подвластным? Хоть бы снова встретиться Гоголю с Константином Федоровичем Скудронжогло. А вместо того из сетей вышел Петр Петрович Петух!
Не раз открывал Николай Васильевич первый том «Мертвых душ» и перечитывал собственные строки:
«Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..»
С непоколебимой верой в себя написались когда-то эти строки.
– Чего же ты хочешь от меня, Русь? – снова повторяет автор «Мертвых душ», но колеблется прежняя вера. Сколько ни приневоливал себя, молчат небранные струны.
Глава одиннадцатая
Вслед за Александрой Осиповной Смирновой, уехавшей в Париж, собрался в путь и Гоголь.
Оставалось только дать наставление графиням Виельгорским. Николаю Васильевичу в самом деле казалось, что горести Луизы Карловны и Софьи Михайловны требуют его постоянного участия. Ему и в голову не приходило, что любое известие из дворцовых петербургских сфер куда больше усладит душу Луизы Карловны, чем молитва. Не знал он и о том, что Софья Михайловна Соллогуб собирается с матерью в Париж вовсе не для того, чтобы читать покаянные псалмы.
Иначе внимала учителю жизни Анна Виельгорская. Перед расставанием он говорил ей душевно:
– Ваше поприще будет гораздо больше, чем у всех ваших сестер. Поле подвигов ваших близко…
Сердце Анны Михайловны билось сильно. Привыкнув к своей незаметности в свете, она не отказывалась от честолюбивых мыслей о будущем. Да, сердце дочери могущественного царедворца билось сильно. Но от разных причин трепещут девичьи сердца. Анна Михайловна внимала пророческим словам, но не думала о том, кто их произносил. Конечно, если бы перед ней стоял герой ее девичьих мечтаний, она предпочла бы иные речи.
Гоголь улыбнулся неожиданно светлой улыбкой.
– Я сужу о вас по тем душевным способностям, которые я потихоньку подсмотрел. Пусть все будут так безмятежны, как вы!
Прощальный вечер с графинями Виельгорскими прошел, по убеждению Гоголя, довольно весело. Только когда разговор зашел о значении снов, Гоголь впал в задумчивость.
– Я не верю ни снам, ни предчувствиям, ни приметам, – отозвался он. И тут же продолжал: – Но есть сны, которые действуют прямо на душу, те сны святы, они от бога. С такими снами связаны судьбы всей нашей жизни.
Бог знает, какие сны наяву грезились ему в эту минуту. Прощаясь, он еще раз пристально посмотрел на Анну Виельгорскую.
И в новую дорогу пустился скиталец. Дорога! Сколько родилось в тебе чудных замыслов… А бывает и так, что вместо поэтических грез вдруг завихрится в отдалении черный смерч и будет двигаться на тебя с неумолимой быстротой.
На этот раз случилось другое. В Страсбурге пароход, на котором плыл Гоголь по Рейну, ударился об арку моста и изломал колеса.
Путешественник, который совсем недавно говорил о себе, что не верует ни в предчувствия, ни в приметы, вопросил себя: зачем случилось происшествие с пароходом? И тут же ответил: задержка в пути дана ему для того, чтобы послать еще одно напоминание в покинутый дом Виельгорских. Письмо из Страсбурга он адресовал графине Луизе Карловне. Гоголь напоминал, что кроме собственноручно переписанных молитв он оставил им правила воспитания души, подтвержденные примерами из жития святых. «Примите их, как повеление самого бога!» – значилось в письме.
Гоголь спешил в Дармштадт. В Дармштадте он встретился с Жуковским. Василий Андреевич звал Гоголя во Франкфурт, куда он переселялся из Дюссельдорфа, и так соблазнительно описывал уединенную прелесть франкфуртского загородного домика, что неудержимо потянуло скитальца к тихой пристани. Предчувствуя недоброе, предвидя по многим признакам надвигающийся припадок черной тоски, он не знает, как и где от него спастись.
Жуковский еще хлопотал с переездом семьи. Гоголь его опередил. Сидел во Франкфурте в гостиничном номере и никуда не выходил. Торопясь сказать людям самое нужное, писал письмо за письмом.
Павлу Васильевичу Анненкову Гоголь объяснил:
«Если бы только хорошо осветились глаза наши, то мы бы увидели, что на всяком месте, где б ни довелось нам стоять, при всех обстоятельствах, каких бы то ни было, сколько есть дел в нашей собственной, в нашей частной жизни…»
Самую же главную мысль подчеркнул особо:
«Всяких мнений о нашем веке и нашем времени я терпеть не могу, потому что они все ложны, потому что произносятся людьми, которые чем-нибудь раздражены или огорчены».
Письмо направлялось в Петербург. Анненков дружит с людьми, пишущими в «Отечественных записках». Пусть почитают и вразумятся.
Анненкова поразил высокомерный тон письма: никогда раньше так не писал Гоголь. Пошел с письмом к Белинскому. Грустные мысли навеяло оно на Виссариона Григорьевича.
– Да что он толкует об обязанностях частной жизни и, будто нарочно, убегает от вопросов общих? Почему все, решительно все мнения о нашем времени кажутся ему ложными? Куда он идет?..
А потом и вовсе прекратились известия от Гоголя. Но по-прежнему не было статьи Белинского, в которой он так или иначе не коснулся бы созданий Гоголя. Гоголь произнес приговор царству мертвых душ, и никто, даже сам судья, не в силах ни изменить, ни отменить этот приговор. Приведись Белинскому повстречаться с Гоголем – он бы еще раз ему это повторил. И еще бы сказал:
– Вы открещиваетесь, Николай Васильевич, от всех мнений о нашем времени, потому что боитесь разрушительного вихря? Но не сами ли вы подняли этот освежительный вихрь в России? Взгляните на родину из своего прекрасного далека. Люди видят и клеймят Чичиковых, на которых вы им указали; люди говорят о маниловщине, о ноздревщине, потому что вы открыли им глаза. Каждое слово ваше пробуждает общественную мысль. И вы же пытаетесь теперь убедить нас, чтобы каждый занялся только частным своим делом. Опомнитесь!
Вот так непременно бы сказал Гоголю Виссарион Белинский.
Глава двенадцатая
Знаменитый профессор Копп обследовал пациента, не нарушая загадочного молчания. Гоголь покорно ждал. Наконец профессор объявил: он рекомендует морские ванны в Остенде. Еще раз присмотрелся к пациенту: он настаивает на немедленном исполнении своего предписания. Иначе может прийти гораздо худшее состояние. И, разумеется, он запрещает до улучшения здоровья всякие занятия.
Профессор Копп не знал, конечно, что значит этот запрет для автора «Мертвых душ».
Медик еще раз взглянул на истомленное лицо случайного пациента и заключил осмотр ободрительной улыбкой.
– Все будет хорошо!
В августе в Остенде можно было каждый день видеть приезжего, медленно прогуливавшегося по морской плотине. Он не заводил никаких знакомств. Подле него не было никого из близких. Иногда он останавливался и, сняв шляпу, с удовольствием подставлял голову ветру. Ветер шевелил его длинные волосы, ниспадавшие почти до плеч. Так мог он стоять очень долго, нисколько не жалея летящих часов. Ему и в самом деле было некуда девать свое время.
Обещали приехать в Остенде графини Виельгорские, а уехали в Дувр. Гоголь готов был ринуться за ними, – не все ли равно, где принимать морские ванны! Но этому порыву мешают самые прозаические препятствия. Во-первых, Николай Васильевич не переносит морской качки; во-вторых, в Дувре жизнь, говорят, вдвое дороже. Хорошо графиням Виельгорским, которые могут не считать расходов. У него же денег, как всегда, в обрез.
Гуляя у морского берега, Гоголь нередко устремляет взор вдаль, – может быть, туда, где находится Дувр. Если же и является его духовному взору Анна Виельгорская, никогда не думает он при этом о своей одинокой судьбе.
Обещала еще заехать в Остенде Александра Осиповна Смирнова, но некогда теперь ей тратить время на путешествия. Ее муж получил назначение губернатором в Калугу, и Александра Осиповна отправилась на родину.
Словом, надеялся Гоголь пожить в Остенде с людьми, близкими душе, а оказался один как перст. Нервические припадки измучили его вконец. Первые морские ванны не принесли никакого облегчения.
Случай, который кажется ему счастливым, а может быть даже ниспосланным богом, сталкивает его с графом Александром Петровичем Толстым.
Заграничные знакомые Гоголя все, как на подбор, принадлежат к русской знати. Все те же владетели дедовых имений и живой, крещеной собственности заполняют зарубежные курорты.
Граф Александр Петрович Толстой, проведя молодые годы на военной службе, стал позднее тверским губернатором, а потом военным губернатором Одессы. Он принадлежал к тем сановникам императора Николая I, которые с одинаковым убеждением верили в чудодейственную силу и кнута и молитвы, равно необходимых для народа. Православную церковь граф почитал одним из министерских департаментов, ничем не отличающимся от прочих департаментов государственной машины.
Собственные отношения с богом Александр Петрович строил, разумеется, иначе. Господу богу поручалась охрана графской души и всех земных благ и преимуществ, которыми по рождению был наделен Александр Петрович. Поскольку этим благам и преимуществам грозила извечная опасность от вольнодумцев и бунтующих мужиков, а охранять порядок даже всемогущему богу становилось все труднее, граф Толстой щедро платил вседержителю чтением акафистов, слушанием обеден и всенощных. Как ни были распространены в аристократических кругах мистические увлечения, Александр Петрович Толстой был первый среди ханжей, лицемеров и мракобесов.
На что же понадобилось автору «Мертвых душ» это чучело, насквозь пропахшее ладаном, обвешанное под элегантным сюртуком священными амулетами? Или явится в поэме еще одна мертвая душа, страшнее тех, что были показаны прежде? Если бы так!
Возобновив в Остенде знакомство с графом Толстым, Гоголь встрепенулся. Перед ним был русский сановник, знаток порядков управления, ныне отдыхающий от понесенных трудов. От кого же и набраться справок, необходимых для показа жизни в губернском городе Тьфуславле!
Автор «Мертвых душ» буквально впился в бывшего губернатора. Граф Толстой был куда более склонен поговорить с соотечественником, встреченным на чужбине, о благодати, почиющей на православной церкви, или о святых угодниках, явленных в богоизбранной России. А соотечественник настойчиво расспрашивал о делах и обязанностях, порученных губернатору. Его интересуют чрезвычайные происшествия, деятельность земского суда и уголовной палаты, рекрутские наборы, потом приказ общественного призрения, ведающий больницами и богадельнями, потом взаимоотношения губернатора с предводителем дворянства. Вопросам нет конца. Беседа затягивается; Гоголь тут же исписывает страницу за страницей в записной книжке.
Этакая удача! Автору «Мертвых душ» после окончания Нежинской гимназии никогда не приходилось жить ни в губернских, ни в уездных городах. Признайся читателям – кто поверит?
Гоголь спрашивает о губернских чинах, не подведомственных губернатору. Что делает прокурор – око закона? Верно ли, что ни одно дело не имеет исполнения без его пометки на бумагах?
Быстры, стремительны движения Гоголя. Все его силы обращены к будущему труду. Возродился автор – пойдет вперед поэма!
Морские ванны сулят ему, после первых неудач, чуть ли не полное исцеление.
– А как, Александр Петрович, кормятся взяточники? – спрашивает Гоголь, держа карандаш наготове.
Странно было бы заподозрить, что может быть прикосновенным к подобным делам именитый и состоятельный граф Толстой. Но Александр Петрович умудрен опытом службы. На его глазах творилось это черное дело во всех губернских присутствиях. Бывший губернатор охотно поучает неискушенного соотечественника. Можно сказать, он, как профессор студенту, излагает целую науку. Есть взятки постоянные, словно полагающиеся чиновнику по должности, и есть взятки случайные, как кому повезет. Взятки могут брать все: и губернатор, и вице-губернатор, и прокурор, и губернские советники, и самый ничтожный из секретарей, – у каждого есть свое поле для прокормления. И никому на том поле не тесно, каждому достанет.
Тщательно записывает Гоголь эту удивительную науку, пока не онемеет рука, а граф все говорит и говорит…
Автор «Мертвых душ» блуждал словно по кругам ада, пытаясь постигнуть все таинства и секреты, от которых кормятся должностные лица. Описанный им ранее в «Мертвых душах» чиновник гражданской палаты губернского города NN Иван Антонович Кувшинное Рыло теперь казался невинным младенцем, достойным ангельского нимба. Гоголю виделся чиновноподобный дьявол, который невидимо управляет бесовским стадом, алчущим добычи. Так обстоят дела в каждом российском Тьфуславле.
Но именно в Тьфуславле должно явиться мужам добродетели.
Глава тринадцатая
Первый разговор об этом замечательном человеке произошел в доме Скудронжогло. Чичиков, восхищенный рассказами Константина Федоровича о доходах от имения, говорил ему:
– Сладки мне ваши речи, досточтимый Константин Федорович. Могу сказать, что не встречал человека, подобного вам по уму.
– Нет, Павел Иванович, – отвечал Скудронжогло, – если хотите знать, есть у нас умный человек, которого я и подметки не стою.
– Кто это?
– Наш откупщик Муразов. Вот человек, который целым государством управит.
– Слышал, слышал о нем, – подхватил Чичиков. – Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия: десять миллионов, говорят, нажил.
– Какие десять! Перевалило за сорок! Скоро половина России будет в его руках.
Тут последовала новая речь Скудронжогло, несколько отдающая риторикой, за что тайно недолюбливал его автор «Мертвых душ».
Чичиков слушал Константина Федоровича, вытаращив глаза и разинув рот.
– Изумляешься мудрости промысла при рассмотрении букашки, – начал Павел Иванович. – Для меня же более изумительно, когда в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. Позвольте осведомиться насчет одного обстоятельства: скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?
– Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами, – поручился Скудронжогло.
– Не поверю, почтеннейший, – упорствовал Чичиков, – извините, не поверю!
Важнейший разговор, завязавшийся между Константином Федоровичем Скудронжогло и Павлом Ивановичем Чичиковым, как-то сам собой прервался…
Много времени утекло с тех пор. Автор «Мертвых душ» вернулся из Остенде во Франкфурт и снова пригнездился у Жуковского. Давно не было у него такой веры в свои силы. Пора подвергнуть Чичикова, обжившегося в Тьфуславльской губернии, назначенным для него испытаниям.
Размах у Павла Ивановича теперь совсем другой. Бог знает как, подъехал он к богатейшей старухе миллионщице, которая доживала век в Тьфуславле со своими моськами, канарейками, племянницами и приживалками. И стал в ее доме первым человеком. Обдумывая будущие виды, Павел Иванович несколько загадочно говорил со старухиной племянницей об одинокой своей жизни, а сам внимательно присматривался к сундукам, которые держала старуха миллионщица при себе в опочивальне. Чичиков уже успел оттеснить от нее ближайших наследников, между которыми был и местный губернатор и разорившийся от беспечной жизни помещик Хлобуев.
Может быть, еще требовалось Чичикову некоторое время, чтобы окончательно решить, как завладеть богатством старой хрычовки, а она возьми да умри! Тут проявил себя Павел Иванович как отважный воин, оказавшийся перед неожиданными препятствиями на поле битвы. По его распоряжению нашли бабу, которую обрядили в платье умершей, и баба эта, ничего не понимая в происходящем, подписала за покойницу подложное завещание. Кое-что немедленно перешло после этого из старухиных сундуков в знаменитую шкатулку Чичикова.
Словом, все было обстроено благоразумно. Чичиков не то чтобы украл, но попользовался. Конечно, следовало бы после этого выехать ему вон из города, но дороги испортились.
А в Тьфуславле вслед за одной ярмаркой, на которой прасолы и кулаки скупали нехитрые произведения крестьянского хозяйства, открылась другая ярмарка, собственно дворянская.
Некоторые помещики из-за неурожая удержались в деревнях. Зато чиновники, как не терпящие неурожая, развернулись широко. Какой-то француз открыл новое заведение: неслыханный в губернии воксал с ужином будто бы по необыкновенно дешевой цене и наполовину в кредит. Этого было достаточно, чтобы ринулись к французу не только столоначальники, но и канцелярские, в надежде на будущие взятки с просителей. Даже Павел Иванович Чичиков приволокнулся было за какой-то заезжей плясуньей.
Неотступно следил автор «Мертвых душ» за каждым шагом своего героя. Еще ничего не ведал Чичиков о тучах, сгущавшихся над его головой. В рассеянии прогуливался он по тьфуславльской ярмарке.
– Есть сукна брусничных цветов с искрой? – спросил он, войдя в лавку к купцу европейского типа, с бритым подбородком, но с чахлым лицом и гнилыми зубами. Этим чахлым лицом и гнилыми зубами наградил автор купца за приверженность к европейской моде. То ли дело, если бы оказался купец, по русскому обычаю, бородачом, в меховой горлатной шапке!
Пока Чичиков ждал ответа купца, Николай Васильевич стал перелистывать записную книжку, в которую заносил на случай всякую всячину. Чего только в этой книжке нет! Подробно записаны названия всяких ремесел и полюбившиеся писателю слова и выражения народного говора; описание крестьянской избы и тот особый язык, на котором объясняются охотники и голубятники; названия блюд, и птичьи и звериные обычаи, и сведения о рыбной ловле, о хлебной торговле, о крестьянских работах. Полистал записную книжку Николай Васильевич и нашел подходящее для купца слово: есть, мол, у нас сукна зибер, клер и черные.
Но не таков был покупатель Чичиков, чтобы можно было подсунуть ему первый попавшийся товар. Когда покупка была наконец сделана, хозяин лавки почтительно одобрил выбор:
– Вот-с сукно-с… Цвету наваринского дыму с пламенем!
Этих словечек не было в записных книжках Гоголя. Но известно – мастер он пустить по свету такое словцо, что долго будет гулять между людьми, вызывая невольную улыбку даже у хмурого человека.
А действие поэмы стало разворачиваться со стремительной быстротой. В лавку пришел разорившийся помещик Хлобуев, которого ловко объехал на кривой Павел Иванович Чичиков в подложном завещании старухи; следом за Хлобуевым появился Афанасий Васильевич Муразов, тот самый откупщик, который будто бы приобрел свои миллионы самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами. Чичиков успел только приветствовать откупщика почтительным снятием картуза да короткой фразой о прекрасной погоде. Муразов увел Хлобуева к себе.
…Во Франкфурте стояла дождливая осень. Жуковский трудился над переводом «Одиссеи». Как ни восторгался этим великим трудом Гоголь, теперь он слушал рождающиеся строки, не выходя из глубокой отрешенности. А то ответит невпопад и опять убежит к себе наверх.
Автор «Мертвых душ» жил всеми мыслями в скромном жилище откупщика Муразова. Николай Васильевич воочию видит необыкновенное для миллионщика жилище. Неприхотливее этой комнатки нельзя найти даже у ничтожного чиновника. Откуда бы взяться такой несуразности? Зачем селить миллионщика в убогой конуре? Или суждена ему участь Плюшкина, старого знакомца читателей «Мертвых душ»? Ничуть! Когда пишет Гоголь о Муразове, даже лицо его светлеет. Пробил час: в поэме явился наконец муж божеских доблестей.
Афанасий Васильевич Муразов участливо слушал горькую исповедь Хлобуева. Чтобы выпутаться из стеснительных обстоятельств, Хлобуеву нужно по крайней мере сто тысяч, если не больше. Словом, невозможное дело! И служить ему невозможно. Нельзя же начать с должности писца человеку в сорок лет, у которого и поясница болит, да и обленился он. Другой же должности, кроме писцовой, ему не дадут. Да и случись иначе, Хлобуев все равно не стал бы брать взяток. Как же ему ужиться на службе?
– Нет, Афанасий Васильевич, – говорил Хлобуев, – никуда я не гожусь. На малейшее дело не способен.
– Да ведь молитесь же вы богу? – прозвучало ответное слово Муразова. – Вы ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Зачем же вы так не рассуждаете в делах светских? Ведь и в свете мы должны служить богу. Если и другому кому служим, мы потому только служим, что так бог велит.
Долго говорил Афанасий Васильевич, и трудно было понять: повторял ли он мысли из наставительных писем, которые рассылал друзьям Гоголь, или сам автор «Мертвых душ» щедро наделил этими мыслями откупщика-миллионщика? Все неуловимо перемешалось.
Суров показался вначале грешнику Хлобуеву Афанасий Васильевич Муразов. Муразов ясно доказал, что не спасут Хлобуева никакие деньги, потому что растратит он их без всякого расчета, давая взаймы или угощая приятелей.
Но едва объявил несчастный Хлобуев, что он готов признать над собой власть Афанасия Васильевича, тотчас перебил его откупщик:
– Но я наложу на вас богоугодное дело.
И открылся перед Хлобуевым верный путь спасения. Ему следовало облечься в простую сибирку, сесть в рогожную кибитку и, получив от архиерея благословение, ехать по городам и деревням, чтобы собирать доброхотные даяния на строящуюся где-то бедную церковь.
– Призадумались? – спросил Муразов. – Вы здесь две службы сослужите: одну – службу богу, а другую – мне.
– Вам? – Хлобуев, по человеческой слабости, может быть, думал, что хочет использовать его Афанасий Васильевич для какой-нибудь своей выгоды. Но не таков был Муразов. Речь его отлилась в рукописи Гоголя вполне.
– Вы отправитесь по тем местам, где я еще не был, – говорил Муразов, – и узнаете на месте все: как живут мужики, где терпят нужду. Скажу вам, что мужичков люблю оттого, что я и сам из мужиков. Но дело в том, что завелось меж ними много всякой мерзости. Раскольники и всякие бродяги смущают их, восстанавливают против властей и порядков; а если человек притеснен, так он легко восстанет… Да дело в том, что не снизу должна начаться расправа. Уж тогда плохо, когда пойдет на кулаки: уж тут никакого толку не будет, только ворам пожива. Вы человек умный, вы рассмотрите, узнаете, где терпит человек от других, а где от собственного неспокойного нрава. Я вам на всякий случай дам небольшую сумму на раздачу тем, которые терпят безвинно. С вашей стороны будет полезно утешить их словом и объяснить, что бог велел переносить безропотно и молиться, а не буйствовать и не расправляться самому. Словом, говорите им, никого не возбуждая ни против кого, а всех примиряя.
По свидетельству автора «Мертвых душ», возрождение Хлобуева началось немедленно: в голосе его стало заметно ободрение, спина распрямилась, и голова приподнялась, как у человека, которому светит надежда…
Живописуя благодетельного откупщика Муразова, Гоголь, по-видимому, вовсе не заглядывал в собственные записные книжки. А ведь там много сказано именно об откупщиках. Записано, например, о назначении мест в губерниях для производства рекрутских наборов: «Губернское правление больше всего берет с откупщиков за назначение места, где, в каком уезде составить рекрутские присутствия, потому что выпивается в это время вина множество. Иногда 80 тысяч срывает губернское правление взятки с откупщика…» Да как и не сорвать! Открылись рекрутские присутствия, забривают рекрутам лбы, морем разливается горе-горюшко народное. Откупщик тут как тут: навез зелена вина – пейте, православные! Можно и восемьдесят тысяч отдать чиновникам: барыши всё с лихвой покроют.
И еще записано в памятной книжке: «Казенная палата, сдирая чрезмерную сумму с откупщика, ему мирволит во всем: дозволяет открывать кабаки не в законных местах и не в законные часы, дозволяя разводить водой вино… Откупщик всем дает: губернатору, смотря по губерниям, – от десяти до шестидесяти тысяч; в казенной палате – вице-губернатору и советнику винных дел – не меньше самого губернатора, и так нисходя до мелких чиновников. Кроме того, всякий служащий имеет право послать за штофом сладкой водки к откупщику, в каком бы месте ни служил».
Но как бы ни был бесчувствен человек, как бы ни была усыплена его природа, в две минуты может совершиться его пробуждение. Нельзя даже ручаться в том, чтобы развратнейший и презреннейший не сделался лучше и светлее всех.
Нигде нет столько грязи, как вокруг откупов. Вот и появится в «Мертвых душах» откупщик, наделенный божескими доблестями. Воочию увидят соотечественники великую силу нравственного возрождения души в мыслях о боге.
Пусть повторят дорогие соотечественники вместе с богоугодным откупщиком Афанасием Васильевичем Муразовым: бог велел переносить несчастья безропотно и молиться, а не буйствовать и не распоряжаться самому. Пусть откупщик Муразов пошлет странствовать разорившегося помещика Хлобуева, чтобы тот, беседуя с мужиками, всех примирял!..
Оторванный от родины, трагически одинокий, если не считать скучающих великосветских дам, гонимый страхом черного недуга, страждущий нестроениями русской жизни и готовый отдать жизнь на благо соотечественников, Гоголь рисует совершенно фантастическую картину… и свято в нее верит.
Пусть явятся на Руси десятки, сотни Муразовых, пусть поедут по городам и весям сотни, тысячи Хлобуевых! Исполинскими кажутся автору «Мертвых душ» дела, которые совершит на благо людям откупщик Муразов.
…Из Франкфурта пошли новые признания Гоголя друзьям. Одно из первых таких признаний получила Анна Виельгорская: напрасно искать истину в его прежних сочинениях. Анна Михайловна Виельгорская жила с матерью в Париже и, забыв предсказания Гоголя о своем духовном поприще, закружилась в вихре парижских удовольствий. Не было у нее времени, чтобы разгадывать туманные мысли Николая Васильевича.
А автор «Мертвых душ» все резче высказывался о прежних своих сочинениях. В них все неточно, неполно, поспешно; над тем, что похвалили одни, другие справедливо посмеялись. Если бы вовремя он мог взглянуть на эти сочинения теперешними глазами!
Уединившись в верхних комнатах франкфуртского дома и от Василия Андреевича Жуковского и от его рассеянно-равнодушной жены, Гоголь сидел над раскрытой тетрадью. Все сомнения и тревоги отлетали, едва возникал перед ним желанный гость – все тот же Афанасий Васильевич Муразов.
Глава четырнадцатая
Промозглый, сырой чулан с запахом сапог и онучей гарнизонных солдат. Некрашеный стол, два скверных стула; дряхлая печь, сквозь щели которой идет дым, не давая тепла. С железной решеткой окно.
Сюда, в тьфуславльский острог, ввергнут Чичиков. Он был взят сразу после вызова к генерал-губернатору, недавно назначенному в Тьфуславль; можно сказать, схвачен по приказанию его высокопревосходительства в самом губернаторском доме. На Чичикове новый фрак из того самого сукна цвета наваринского дыма с пламенем, которое он приобрел в лавке заезжего купца и в котором поспешил явиться к генерал-губернатору.
Ему не дали ничем распорядиться. Все теперь у чиновников: и бумаги, и купчие крепости на мертвые души, которые ему удалось заключить, и деньги, перешедшие в его шкатулку из сундуков умершей старухи миллионщицы, – все погибло!
Павел Иванович повалился на пол, и безнадежная грусть плотоядным червем обвилась вокруг сердца.
Спокойно взирал автор «Мертвых душ» на страдания героя, которые только что описал. Уже занесена в тетрадь утешительная фраза: «Но и над Чичиковым не дремотствовала чья-то всеспасающая рука». Но, прежде чем снова обратиться к рукописи, Николай Васильевич задает своему герою укоризненный вопрос:
– А чем же занимались вы, почтенный Павел Иванович, до того, как грянул гром?
Когда по Тьфуславлю пошли первые смутные слухи о подложном завещании, состряпанном Чичиковым, он бросился за помощью к юрисконсульту. Этот колдун, будучи пятнадцать лет под судом, так умел распорядиться, что нельзя было отрешить его от должности. Все знали, что за подвиги его не один раз следовало послать на поселение, но нельзя было подобрать против него явных улик. Тут было что-то загадочное.
Юрисконсульт поразил Чичикова холодностью своего вида. Павел Иванович объяснил затруднительные пункты своего дела и обещал последующую благодарность. Юрисконсульт, вздохнув о неверности всего земного, отвечал общеизвестной пословицей, по которой журавль в небе ничего не значит, а нужна синица в руки.
Едва синица была дана, вся скептическая холодность юрисконсульта вдруг исчезла. Оказалось, что это был наидобродушнейший человек, наиприятнейший и наиразговорчивый, не уступавший в ловкости самому Чичикову.
– Будьте спокойны и не смущайтесь ничем. Старайтесь, чтобы производство дела было основано на бумагах, – наставлял колдун-юрисконсульт Чичикова, как учитель объясняет грамматику ученику. – И как только увидите, что дело идет к развязке, старайтесь не то чтобы оправдать или защищать себя, нет, старайтесь спутать дело новыми, посторонними статьями. Спутать, спутать! – повторял юрисконсульт, как маг, приступивший к заклинаниям. – Я почему спокоен? Пусть только дела мои пойдут похуже, я всех впутаю: и губернатора, и вице-губернатора, и полицмейстера, и казначея. А там пусть их выпутываются. А пока они выпутываются, другие успеют нажиться. Ведь только в мутной воде ловятся раки.
Еще раз посмотрел маг юрисконсульт в глаза Чичикову:
– Первое дело спутать. Так можно спутать, так все перепутать, что никто ничего не поймет. Прежде всего, помните, – пообещал наконец юрисконсульт, задобренный синицей: – вам будут помогать.
Гоголь часто перечитывал черновики, отмечая места, где требовалась дальнейшая обработка. Юрисконсульт приводил его в содрогание. Будто не он его изобразил, а сам по себе заявился в поэму этот слуга сатаны.
Между тем в Тьфуславле по судам пошли просьбы за просьбой. У старухи миллионщицы, завещание за которую составил Чичиков, нашлись родственники. Как птицы слетаются на мертвечину, так налетели они на несметное имущество. Явились улики на Чичикова не только в покупке мертвых душ, но и в провозе контрабанды в бытность его еще при таможне. Выкопали все, разузнали его прежнюю историю.
Но едва появились в поэме ободряющие слова: «И над Чичиковым не дремотствовала чья-то всеспасающая рука», – двери тюрьмы растворились, вошел старик Муразов.
Он глядел на Чичикова скорбным взглядом:
– Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! Что вы сделали!..
Начиналось борение светлых и адских сил за душу достопочтенного Павла Ивановича Чичикова. Правда, адские силы еще ничем не обнаруживали своих намерений. Говорил пока только Афанасий Васильевич Муразов:
– Как вас ослепило это имущество! Из-за него вы и бедной души своей не слышите.
– Подумаю и о душе, но спасите! – Чичиков громко рыдал от нестерпимой боли сердца; оторвал в отчаянии полу фрака и, запустивши обе руки себе в волосы, безжалостно их рвал.
– Что вся жизнь моя? Лютая борьба, судно среди волн. И потерять, Афанасий Васильевич, то, что приобрел такой борьбой! Ах, если бы удалось мне освободиться, возвратить имущество! Клянусь, повел бы совсем другую жизнь… Спасите, благодетель!
– Спасти вас не в моей власти. Но приложу старание, чтобы облегчить вашу участь и освободить вас.
Тут Чичиков, наверное, повел глазом, хотя и не отметил этого Гоголь. Муразов продолжал:
– Если, паче чаяния, мне удастся, то попрошу вас, Павел Иванович, награды за мои труды: бросьте все поползновения на эти приобретения. Говорю по чести: если бы я лишился всего моего имущества, а у меня его больше, чем у вас, я бы не заплакал.
Чичиков, памятуя о миллионах Афанасия Васильевича, наверняка еще больше усомнился, но снова не отметил этого Гоголь.
– Поселитесь в тихом уголке, – продолжал Муразов, – поближе к церкви и простым людям, или, если знобит сильное желание оставить по себе потомков, женитесь на небогатой, доброй девушке, привыкшей к умеренности. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти. Пусть и он вас забудет. В нем нет успокоения.
В советах Афанасия Васильевича была бросающаяся в глаза черта. Подобные наставления печатались в каждой нравственно-поучительной книге и украшали любую церковную проповедь. Непременно должен был заскучать Чичиков, как только посетитель отвлекался от существенности, каковой была для Павла Ивановича знаменитая шкатулка, попавшая в руки чиновников.
Произошло, однако, другое.
«Чичиков задумался, – писал Гоголь. – Что-то странное, какие-то неведомые дотоле, незнаемые чувства пришли к нему. Как будто хотело в нем что-то пробудиться…»
Но едва подтвердил Павел Иванович обещание начать другую жизнь, едва удалился Муразов, чтобы ходатайствовать перед генерал-губернатором, вмешались бездействовавшие доселе адские силы. Двери темницы растворились. Появился чиновник, посланный от юрисконсульта.
– Знаем все об вашем положении. Не робейте. Все будем работать на вас… Тридцать тысяч на всех. Тридцать тысяч на всех и ничего больше.
– Будто? – воскликнул Чичиков. – И я буду совершенно оправдан?
– Кругом! Еще вознаграждение получите за убытки.
– И за труд?.. – еще раз переспросил Чичиков.
– Тридцать тысяч. Тут уж всем вместе – и нашим, и генерал-губернаторским, и секретарям.
– – Но позвольте, как же я могу? Все мои вещи, шкатулка, все запечатано!
– Через час получите все. По рукам?
И Чичиков дал руку…
Не прошло и часа, как была принесена шкатулка, – бумаги, деньги, – все в наилучшем порядке. И уж начали грезиться Чичикову кое-какие приманки: и театры, и плясунья, за которой он волочился. Деревня и тишина стали казаться бледней, город и шум – ярче, яснее оживать!
А в судах и палатах завязалось дело размера беспредельного. Юрисконсульт незримо ворочал всем. Путаница увеличивалась. Вместо бабы, которая подписывала подложное завещание старухи, схватили первую бабу, попавшуюся под руку. Прежнюю же бабу запрятали так, что и потом не узнали, куда она девалась.
Юрисконсульт творил чудеса: губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику – что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживающего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит, – и всех привел в такое положение, что к нему же должны были обратиться за советами. Донос сел верхом на донос, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видывало, и даже такие, которых и не было…
Не тьфуславльского юрисконсульта, а всесильного дьявола видел перед собой Гоголь. Гигантская тень сатаны простерлась на всю Россию. Повсюду сеялось зло, и всюду давали ядовитые всходы ябеда, клевета и неправда. Страшно жить, страшно писать, страшно глянуть в черную бездну жизни…
Когда пришло письмо от Смирновой, Гоголь безучастно вскрыл конверт. Александра Осиповна, вернувшаяся в Петербург, писала автору «Мертвых душ»: «Молитесь за Россию, за всех тех, кому нужны ваши молитвы, и за меня, грешную, вас много, много и с живой благодарностью любящую».
А разве он, Гоголь, не молился? Разве не тратил бессонных ночей, не проливал кровавых слез, прося вразумить его на подвиг? Разве не лишил он себя даже права на желанное свидание с родиной, прежде чем не завершит дело, предпринятое во имя ее?
Работа над «Мертвыми душами» шла трудно, неровно, рывками. Правда, участь Чичикова разрешилась неожиданно просто.
– Вот ваш Чичиков, – в раздражении сказал Муразову генерал-губернатор, – вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится. Подлог завещания, и еще какой!.. Публичное наказание плетьми за это дело!
Прав был взыскательный генерал-губернатор князь Однозоров. И он же, уступая просьбам Муразова, вдруг смилостивился:
– Скажите этому Чичикову, чтобы убирался как можно поскорее, и чем дальше, тем лучше. Его-то уж я бы никогда не простил…
Тут генерал-губернатор, освобождая Чичикова без суда, сам совершал вопиющее нарушение закона, но как-то не обратил на это внимания автор «Мертвых душ». Нелегко было, в самом деле, положение князя Однозорова. Нашлись в губернии дела, куда более важные, чем те, которыми занимался Чичиков.
«В одной части губернии, – писал Гоголь, – оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии зашевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними слух, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили, и под видом изловить антихриста укокошили не-антихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики, и целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать: нужно было прибегнуть к насильственным мерам».
Словом, генерал-губернатору было не до Чичикова. И Чичиков, выбравшись из острога, послал кучера Селифана к каретнику, чтобы поставил коляску на полозки, и снова купил себе на фрак сукна цвета наваринского пламени с дымом…
Выполнил ли автор обещание, данное читателям: «И может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека перед мудростью небес»?
Пока размышлял об этом автор «Мертвых душ», снова поехал Чичиков невесть куда. Вот уже и колокольчик замолк вдали.
«Это был не прежний Чичиков, – уверял Гоголь, расставаясь со своим героем. – Это была какая-то развалина прежнего Чичикова». А так ли? Как приобретателя ни наставляй, непременно ухватится за свою шкатулку. Какая же тут мудрость небес?
Один только откупщик Муразов победно шествует в поэме по стезе добродетели.
Афанасий Васильевич тоже собирался уезжать из Тьфуславля. Перед отъездом он опять побывал у генерал-губернатора. Афанасий Васильевич ехал для того, чтобы обеспечить хлебом места, где был голод. Это дело он лучше знал, чем чиновники, и обещал самолично рассмотреть, где и что кому нужно. И денег от казны Афанасий Васильевич решительно не хотел, потому что стыдно думать о прибыли, когда люди умирают с голода. Был у него в запасе и готовый хлеб, и посланы были им люди в Сибирь, чтобы подвезти новые запасы к будущему лету.
– Вас может только наградить один бог за такую службу, Афанасий Васильевич, – повторял генерал-губернатор.
Откупщик-миллионщик сел в кибитку (разумеется, самую простую, рогожную) и отправился совершать святые дела на пользу людям.
Отъезжая из города, Муразов дал генерал-губернатору мудрый совет. Когда в судах и присутствиях завязалась кутерьма (поднятая незримо юрисконсультом), когда сам генерал-губернатор ничего не мог понять в поступающих к нему бумагах, а назначенный для разбора этих бумаг молодой чиновник чуть не сошел с ума, – в это трудное время посоветовал Муразов князю Однозорову, вызванному в Петербург, собрать всех чиновников, от мала до велика, и обратить к ним такое правдивое слово, как если бы не перед подчиненными, а сам перед собой произносил исповедь генерал-губернатор.
В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновничье сословие города, начиная от губернатора и до титулярного советника, правители канцелярий и дел, советники, асессоры, – словом, все: и бравшие, и небравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие.
Все стояли потупив глаза; многие были бледны. Генерал-губернатор заговорил о соблазнительных делах, завязавшихся в городе.
Кто-то вздрогнул среди чиновников, а некоторые из боязливейших смутились, когда сообщил генерал-губернатор, что производство пойдет не по бумагам, а истцом и челобитчиком будет он сам.
– Знаю, – говорил князь Однозоров, – что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды; она слишком глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными…
– Дело в том, – продолжал генерал-губернатор, – что пришло время спасать нашу землю, что гибнет земля наша не от нашествия иноплеменных языков, а от нас самих; мимо законного управления, образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, все оценено и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах исправить зла…
Конечно, ни один генерал-губернатор не мог произнести подобной речи. Никто из сановников не мог произнести смертный приговор ни себе, ни системе государственного управления, которой служит.
Недаром, сколько ни писал Гоголь генерал-губернаторскую речь, она каждый раз обрывалась на полуслове. Да разве думал автор «Мертвых душ» о каком-то генерал-губернаторе? Это была его речь, обращенная к соотечественникам. Это он взывал к ним, содрогаясь от ужаса. Гибнет наша земля! Гибнет потому, что за прогнившими формами законного управления образовалось другое; гибнет наша земля потому, что торгуют незримые, но действительные управители и честью, и совестью, и участью людей, и нет спасения от многоликого, торжествующего зла.
А Россия по-прежнему далека. Что думают соотечественники? Гоголь пишет на родину:
«Мне хочется только знать, какого рода вообще дух общества и в каком состоянии его испорченность и чем оно болеет, какого рода люди теперь наиболее его наполняют, какие классы преимуществуют и какие мнения торжествуют?»
Письмо идет в Петербург, к ее превосходительству Александре Осиповне Смирновой. Все тот же тесный заколдованный круг! Не долетают до автора «Мертвых душ» отголоски освежительного вихря новых идей, который поднимается в России. И сколько бы ни спрашивал он Александру Осиповну, никогда не сообщит она, какими мыслями живет в Петербурге Виссарион Белинский или Александр Герцен в Москве…
Стоя один против всех мнений века, хочет возвестить истину людям Николай Гоголь. Но горе пророку, мысли все дальше и дальше уводят его в сторону от жизни. Силы снова иссякают.
«Нервическое тревожное беспокойство и разные признаки совершенного расклеения во всем теле пугают меня самого. Еду, а куда – и сам не знаю…»
Гоголь отослал это письмо по приезде в Париж. На письме стоял штамп французской почты: «14 января 1845 года».
Часть пятая
Глава первая
Прижимиста и медлительна в Петербурге весна: когда-то сметет с неба зимнюю паутину; когда унесет по Неве последний талый ледок?
Но веселее позванивает по крышам мимолетный дождь, задористее дерутся воробьи; лопаются от нетерпения почки на деревьях, и глядь – в чуть видимой дымке зеленеют бульвары. Какая ни есть, все-таки весна!
Может быть, и не хватает ей солнечной лазури или каких-нибудь легкокрылых зефиров, так что ж? Искусный сочинитель прибавит красоты щедрой рукой:
«Пелена мрака исчезла с эфирного небосклона, и утро во всем блеске ниспадало на окрестности Петербурга. Было слышно пение птиц, и до чувства обоняния доходило благоухание цветов…»
Велика власть поэта! Что ему стоит развеять любую пелену мрака? Если же не поверят современники, пусть знают потомки, что именно такой благоуханной идиллией выглядел Петербург в 1845 году. Не писать же о геморроидальных чиновниках или о черных лестницах, умащенных помоями, да еще, к примеру, о фабричных трубах, грязнящих столичное небо.
– А Гоголь? – с негодованием спросит строгий блюститель законов изящного. – Чего только не писал Гоголь о Петербурге, роясь, как ветошник, на столичных задворках! И в «Мертвых душах», даже походя, не пощадил царствующий град: «Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен; сначала все серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом…» Мало, значит, показалось Гоголю дегтя, которым измазал он отечество, еще фабричной копоти в чернила добавил!
Прошло, однако, три года с тех пор, как Гоголь, выдав в свет «Мертвые души», покинул отечество и ныне странствует неведомо где. Добропорядочные писатели снова пишут об эфирном небосклоне, и критики рассуждают о прекрасном.
Ан нет! Есть в Петербурге такой критик – Виссарион Белинский! О чем бы ни писал, непременно сведет речь на Гоголя. Гоголь, мол, открыл новую эпоху в русской литературе. И пойдет долбить: Гоголь, Гоголь, Гоголь!
Порядочные люди статей Белинского, конечно, не читают. На то есть цензоры и высшая полиция. Но все больше и больше шатаются незрелые умы. Можно сказать, появилась какая-то безудержная страсть к осуждению порядков жизни; решительно всё видят безумцы в черном цвете. И за примерами недалеко ходить.
На набережную Екатерининского канала вышел молодой человек, собою невзрачный, хотя и господского обличья. Глянул молодой человек на каменные громады, тускло отражающиеся в неподвижных водах, посмотрел на одинокое деревцо, робко трепещущее ветвями, и уподобил петербургскую весну… чахлой деве! Будто нет в Петербурге девиц, цветущих как розы.
Еще постоял, еще поразмыслил о чем-то молодой человек и пошел своей дорогой. Нет ему отрады на шумных улицах столицы, где промышленность и торговля являют свои дары в зеркальных витринах. Влекут молодого человека пустыри да лачуги. Бывает, и ничего не увидишь здесь сквозь немытое стекло, переклеенное для прочности бумажным лоскутом. А где вдруг заспесивится на подоконнике герань, и над геранью обозначится клетка, в которой сидит, нахохлившись, узник чиж. Давным-давно, поди, позабыл о былом приволье. А может быть, и нет нигде никакого приволья?
Скрылось из виду оконце с чижом, скрылись из глаз последние лачуги, потянулись серые заборы и за ними фабричные здания, уродливые, почерневшие, с дымящими трубами. Над трубами клубится черный дым, слагаясь в причудливые и загадочные письмена, словно кто-то неведомый пишет царствующему граду книгу судеб. Кто, однако, ту вещую книгу прочтет?
Долго стоял молодой человек, избравший для прогулки такие места, куда отроду не заглядывают благоденствующие жители столицы. Наконец оторвался от своих видений и повернул восвояси. Но везде случаются с ним удивительные происшествия. Встречные дома, как добрые знакомые, расспрашивают о здоровье, рассказывают новости; какой-нибудь щеголь-особняк, загородив дорогу, и жалобу заявит:
– А меня, сударь, красят в желтую краску! Ни колонн, ни карнизов не пощадили… Да вы сами гляньте, Федор Михайлович!
Странные истории происходят на петербургских улицах с отставным инженерным поручиком Федором Михайловичем Достоевским. То примет он клубы фабричного дыма за какие-то вещие письмена; то услышит такую несуразную жалобу, что впору только посмеяться над ним здравомыслящему человеку. Но Федору Достоевскому все в руку: дома, мол, и те жалуются! Камни-де и те вопиют!
Гуляючи по городу, еще непременно заглянет Федор Михайлович в попутную подворотню и будет долго слушать, изменясь в лице, как несется из подвала между пьяными песнями истошный детский плач.
Что же это за занятие для инженерного поручика, хотя бы и отставного? И кто выходит в отставку в расцвете двадцати трех юных лет?
Но поручик Достоевский решительно объявил: надоела ему служба, как… картофель. Престранное, конечно, о службе выражение. Зато придется теперь Федору Михайловичу и картофель, пожалуй, не каждый день досыта вкушать: поживи-ка в столице без жалованья, когда нет за душой ни гроша!
А ему и горя мало. Еще в инженерном училище товарищи не видали его иначе, как с книгой в руках. Годы идут – у него знакомцы все те же: Гомер и Пушкин, Гоголь и Вальтер Скотт, а там пойдут Гёте, Шатобриан, Гюго, Жорж Санд и, само собою, Шиллер. Компания совсем неподходящая для инженерного поручика, хотя, может быть, и свойская какому-нибудь сочинителю. Но какой же он, Федор Достоевский, сочинитель? Впрочем, если заглянуть в журнал «Репертуар и Пантеон» за прошлый 1844 год, там действительно можно прочесть роман Бальзака «Евгения Гранде» в переводе Ф. Достоевского.
По неопытности казалось молодому человеку, что перевод принесет ему не меньше денег, чем скопил их папаша Гранде, оставивший дочери миллионы. Ага! Стало быть, не чурается господин Достоевский мыслей о презренном металле и, даст бог, еще придет в ум? Куда там! Со всей горячностью объявил отставной поручик, что деньги нужны ему единственно для независимого положения и работы для искусства, работы святой, чистой, в простоте сердца! Вот когда отозвалось знакомство Федора Достоевского с Фридрихом Шиллером. Недаром же и собирался он перевести на русский язык все, что написал этот беспокойный немец. Правда, до Шиллера дело так и не дошло. Дорогу перебил не менее беспокойный француз – Бальзак.
Жестоко обманула, однако, Федора Достоевского «Евгения Гранде». Еще не видя своего труда в печати, он должен был уплатить целых тридцать пять рублей за переписку рукописи. От всех хлопот с переводом «Евгении Гранде» только и достались ему затрепанные номера «Репертуара и Пантеона», выданные в вознаграждение за труд, Да утешение, что почтил он гений Бальзака.
А в памяти предстает петербургский театр, блистающий парадными огнями и переполненный зрителями. Занавес еще не открывали, но могучим шквалом нарастают аплодисменты. Сам господин Оноре Бальзак, путешествующий по России, приветливо раскланивается из ложи с русскими почитателями. Знаменитый гость вряд ли обратил внимание в тот вечер на юного офицера, аплодировавшего ему в полном неистовстве.
Теперь потреплет Федор Михайлович заветные книжки «Репертуара и Пантеона» и спутешествует к знакомому ростовщику – спасибо, не гнушается тот самым ничтожным закладом. Вот когда можно трудиться для святого искусства сколько душе угодно!
Однако чем больше трудится отставной поручик, тем чаще гостит к благодетелю ростовщику. А деньги тотчас расползаются в разные стороны, как раки. Если же выйдет Федор Михайлович из комнаты на кухню, там шуршат голодные тараканы.
Достоевский снимает квартиру в складчину с бывшим товарищем по инженерному училищу, но некому вздуть у них огонь в печи. По стесненным обстоятельствам молодые люди не держат домашнего стола и питаются как птицы небесные – где бог пошлет.
Вернувшись домой, пишет Федор Михайлович долгими часами, пишет и переписывает, и непременно повторит шепотом чуть не каждое слово. Восторгом светится его лицо, и на глазах слезы. Восторг будущему сочинителю, может быть, по званию положен, но слезы откуда? Не от любви ли к какой-нибудь жестокой красавице? Впрочем, во всем свете нет красавицы, с которой осмелился бы завести знакомство нелюдимый отставной поручик.
Среди столичного великолепия ютятся в Петербурге многие молодые люди, обойденные судьбой. Они не держат рысаков, не ездят в балет и не блистают на балах. Некоторые из них, кормясь несбыточным завтрашним днем, все еще хлопочут о должности, ищут переписки и домашних уроков; иные примутся рассуждать о переустройстве несправедливой жизни. А есть и такие, которые ничего не ждут, кроме неприятностей от квартирной хозяйки, неумолимой как рок.
– Либо платите, сударь, либо съезжайте с богом!
– В следующий понедельник, сударыня!.. Будьте совершенно уверены, непременно в понедельник…
А сам весь вспотеет, бедняга, от унижения – и шасть на улицу, благо пришла весна.
Громко цокают кони подковами, неся по торцовой мостовой Невского проспекта щегольские экипажи. В кофейнях – полно посетителей. Расторопные лакеи разносят заказанные яства. А в дальнем углу залы примостится какой-нибудь посетитель из тех, кто закажет за весь вечер стакан чая и потребует «Отечественные записки».
Молодому человеку, вошедшему в кофейню на Невском, повезло. Как раз освободился свежий майский номер журнала. Хватит, стало быть, чтения на весь вечер. Виссарион Белинский умеет вместить важнейшие мысли в разбор самой пустяковой книжки. Это он,. конечно, пишет о каком-то альманахе «Метеор» и заносит в статью горячие строки в ограждение русской литературы от пустопорожних метеоров:
«Быть поэтом теперь значит – мыслить поэтическими образами, а не щебетать по-птичьи мелодическими звуками. Чтобы быть поэтом, нужно не мелочное желание высказаться, не грезы праздношатающейся фантазии, не выписные чувства, не нарядная печаль: нужно могучее сочувствие с вопросами современной действительности».
– Так! – соглашается посетитель кофейни. – Вся наша действительность есть один мучительный вопрос. – Прихлебывая остывший чай, он погружается в чтение статьи.
«Всякая поэзия, которой корни не в современной действительности, и всякая поэзия, которая не бросает света на действительность, объясняя ее, есть дело от безделья, невинное, но пустое препровождение времени, игра в куклы и бирюльки, занятие пустых людей».
Совсем было зачитался молодой человек, но в кофейне стали гасить огни. Нехотя оторвался он от журнала и ушел в белую ночь, – может быть, на Васильевский остров или в Коломну, а может быть, на Петербургскую сторону.
Давно спят люди на окраинах столицы. Что им вешняя, напоенная светом ночь, когда завтра нужно сызнова гнуть спину от зари до зари?
Только Невский проспект, Морская улица да набережные Невы живут привычной жизнью. Ночью подолгу бродят здесь одинокие молодые люди в странном одеянии: у одного совсем расползается плед, у другого широкополая шляпа потеряла от ветхости и форму и цвет. Днем не увидишь на аристократических улицах этих неведомых людей; ночью, кажется, им принадлежит город. Иногда их называют мечтателями. Но о чем мечтают они? Или эта мечтательность развивается тогда, когда убедится человек, полный сил, что нет ему места в шумном кипении столичной жизни?
Мечтатели? Пусть так! Но им ли, обездоленным, не знать могучего сочувствия к вопросам современной действительности? В печати об этих вопросах иначе, как обиняком, слова не скажешь. Кто не знает, однако, о чем идет речь? Пока тяготеет над народом рабство, пока властвуют над ним мертвые души, нет и не будет жизни России. Сколько сказано об этом потаенных слов, сколько взлелеяно надежд, сколько накопилось ненависти! А порядок жизни все тот же.
Еще разъезжают из ресторанов загулявшие компании, а следом за запоздавшим прохожим медленно движутся женские тени. То пугливо спрячется тень в подворотню, то, выждав время, опять выйдет на панель. Так и кружат они в поисках добычи, усталые, голодные, хмельные, с испитыми лицами, с размазанными румянами на дряблых щеках. Ковыляют почти старухи, на которых никто не смотрит, шмыгают девчонки, дрожащие от страха.
Федор Михайлович Достоевский, возвращаясь после поздней прогулки, миновал Невский проспект, а у Пяти углов свернул в узкий Графский переулок. Поднялся по темной лестнице, вставил ощупью ключ и открыл входную дверь. Прислушался – тишина. Слава богу, сожителя нет дома. Прошел к себе, зажег свечу, сел к столу, вынул тетрадь, исписанную бисерным почерком, протянул было руку к перу – и задумался.
Привиделся ему мелкий петербургский чиновник, титулярный советник Макар Алексеевич Девушкин, да так явственно привиделся, будто прожил он с Девушкиным всю жизнь, будто вместе с ним ходил в должность, а по вечерам сидит с Макаром Алексеевичем в его убогой каморке, отделенной тонкой перегородкой от чадной кухни.
На кухне и в коридоре шумят и бранятся многочисленные жильцы. Макар Алексеевич Девушкин по кротости характера избегает столкновений. Он запаривает щепоть чая, а отчаевав, раскладывает на столе казенные бумаги и, склонив лысеющую голову, старательно списывает копии.
Что же может случиться с титулярным советником, который, прослужив в петербургских канцеляриях чуть не тридцать лет, дальше должности переписчика-копииста не пошел и стал робок так, что каждая пролетающая муха может перешибить его своим крылом. А вот – случилось же!
Однажды по весне пробудился Макар Алексеевич ясным соколом. Может быть, впервые в это утро, даром что вошел в почтенные лета, услышал, как чирикают птицы. А дальше – больше: вся жизнь вдруг представилась титулярному советнику в розовом свете.
Все произошло в то время, когда стал писать Макар Алексеевич фигурные, по его выражению, письма соседней девице Вареньке, с приведением в этих письмах, правда, не совсем к месту, таких, к примеру, стихов: «Зачем я не птица, не хищная птица!»
Насчет стихов можно с уверенностью сказать, что такой грех случился с титулярным советником тоже в первый раз со дня рождения на свет.
Но кто же та девица Варенька, из-за которой начались такие невероятные события в каморке при кухне, снимаемой от хозяйки Макаром Алексеевичем Девушкиным?
Варенька – девица-сирота, попавшая в беду. Если же говорить фигурально, претерпела Варенька жестокий ущерб в девичьей чести по собственной беззащитности и людскому коварству. Мало ли подобных историй случается в Петербурге с неимущими девицами, прежде чем выпьет несчастная настой из серных спичек или выйдет к ночи на Невский проспект…
На помощь обиженной сироте, пока не случилось с ней горшее, и ринулся, как лев, титулярный советник Девушкин. А фигурные письма родились сами собой. Всяко ведь бывает, когда увидит человек жизнь в необыкновенном, розовом свете.
Все это, может быть, и действительно привиделось Федору Михайловичу Достоевскому, коли с детства живет человек фантазиями. Но зачем же повесть-то писать?
Мало ли повестей и романов выходит на Руси, однако же, конечно, не о канцелярских копиистах и уж во всяком случае не о претерпевших девицах. Книгами, одобренными начальством, торгуют в книжных лавках и с ларей в Апраксином рынке; их продают на развале россыпью, а книгоноши тащат добрым людям целыми мешками. Хочешь – покупай «Могилу инока» или обзаведись «Дежурством демона на Васильевском острове»; хочешь – вникай по дешевке в «Тайну жизни» или наслаждайся «Одой в честь прекрасного пола».
Виссарион Белинский пишет, будто Гоголь отвернул читателей от писателей, которые не знают запросов жизни и не хотят знать. Но не покидают поприща своего служители высоких муз. И везде, в стихах и в прозе, нравственные у них мысли, изящество слога и пример. Пример и поучение: взявшись за перо, не иди пагубным путем Николая Гоголя. Не марай грязных на отечество карикатур!
Можно описать и сердечные чувства достойных героев. Для этого тоже есть образцы у добропорядочных писателей. Взять хотя бы повесть «Пинна».
«Пинна, – повествует автор, – была одной из тех женщин, у которых волосы трещат от электричества и сыплют огонь». Где же сравниться с такой гальванической особой зауряд-девице Вареньке, которую избрал в героини отставной поручик Достоевский! К тому же имеются у графини Пинны многие другие магнетические преимущества: «Одного плеча ее довольно, чтобы самые холодные глаза подернулись влагой удовольствия». А доставлять удовольствие читателю – первая заповедь для сочинителя. Думает ли об этом Федор Достоевский, снабдивший Вареньку швейной иглой, пяльцами да изнурительным кашлем?
Но вот дошел сочинитель «Пинны» до самой сути: «Знала ли сама Пинна, эта веселая жрица любви, неисчерпаемое наслаждение обоюдной страсти? Нет! И, может быть, потому нет, что не нашла предмета, который бы сотлел в ее жгучих объятиях, который бы сам дыхнул бурей Везувия на эту клокочущую Этну».
Этна все еще клокочет. Только Везувия для нее нет как нет. А книга куплена, прочитана, и в награду любознательному читателю остается приятно щекочущая мыслишка: «Черт возьми! Почему бы не стать и мне этим – как бишь его – Везувием?»
Это уже не прохудившиеся подметки Макара Девушкина. Это не чахоточный кашель девицы Вареньки. Кто же пустит их на Олимп изящной словесности?
Но ничего не хочет знать упрямый поручик Достоевский. Посидел подумал, перечитал кое-что в своей тетради.
На повесть снова легла зловещая тень помещика Быкова. Раньше он купил ничего не подозревавшую Вареньку у гнусной ее тетки для приятного препровождения времени в столице; ныне, вернувшись в Петербург, опять ее разыскал.
– С моей стороны и я в этом случае подлецом оказался, – спокойно объяснил свое прежнее поведение господин Быков, – да ведь это дело житейское.
Теперь он хочет вернуть Вареньке потерянную честь, а главное – желает иметь собственных наследников, чтобы имение его ни в коем случае не досталось негодяю племяннику. Господин Быков еще раз хочет купить Вареньку, однако теперь в законные жены.
В ужасе затрепетала несчастная. Но тут явился на сцену титулярный советник Девушкин. Не сам, конечно. Где же дерзать ему против господина Быкова! К этому времени Макар Алексеевич, забрав вперед жалование и израсходовавшись до последней копейки на неотложные нужды и болезни ангельчика Вареньки, испытал многие горести и даже не раз впадал в известную слабость, свойственную русскому человеку. Страшно сказать, – теперь и он пользовался, случалось, милостыней от Варенькиной нищеты.
Итак, вовсе не сам титулярный советник Девушкин явился перед помещиком Быковым. Варенька рассказала незваному гостю о бескорыстных заботах и попечениях Макара Алексеевича. Выслушал ее господин Быков, прикинул в уме:
– Довольно ли будет этому чиновнику за всё пятьсот рублей?..
Дочитал до этого места свою рукопись Федор Достоевский, вскочил со стула и давай расхаживать от стола к дивану (который служил ему и спальным местом), а от дивана – опять к столу. Эх, попадись бы ему сейчас под руку помещик Быков! Но что может сделать сочинитель повести?
Вареньку сломили невзгоды, надорвалась она от приступов изнурительного кашля – идет замуж за Быкова, положительно идет! И увезет ее господин Быков в дальнее степное имение.
Опять метнулся к столу Федор Михайлович, быстро перекинул страницу: титулярный советник Девушкин усердно выполняет предсвадебные поручения ненаглядной Вареньки. Труси́т Макар Алексеевич к мадам Шифон, чтобы мадам непременно переменила блонды; да еще раздумала Варенька насчет канзу, а воротник на пелеринке пусть обошьет мадам кружевом или широкой фальбалой. О господи!..
Кроме того, непременно надо успеть Макару Алексеевичу к бриллиантщику, передать заказ господина Быкова на серьги для Вареньки с жемчугом и изумрудом.
Но хорошо знает повадки господ Быковых сочинитель повести: извольте, Макар Алексеевич, получить новую записку от Вареньки. «Господин Быков сердится, говорит, что ему и так в карман стало, и что мы его грабим». А потому бегите, Макар Алексеевич, к бриллиантщику с отказом от серег с жемчугом и изумрудом.
Еще быстрее труси́т с новым поручением титулярный советник Девушкин.
Глава вторая
Чем дальше читает собственную повесть Федор Достоевский, тем больше бледнеет от волнения, а губы поводит судорога. Вот и последнее, прощальное письмо титулярного советника Девушкина к Вареньке Доброселовой, ныне по мужу госпоже Быковой:
«Маточка Варенька, голубчик мой, бесценная моя! Вас увозят, вы едете! Вы там умрете, вас там в сыру землю положат; об вас и поплакать будет некому там!.. И я-то где был, чего я тут, дурак, глазел?..»
– Достоевский! – раздается за стеной знакомый голос.
Федор Михайлович едва успевает закрыть тетрадку и поставить на нее пресс-папье. В комнату входит его бывший товарищ по инженерному училищу, а ныне сожитель по квартире Дмитрий Васильевич Григорович.
– Признаюсь, брат, – говорит он с покаянным вздохом, – едва до дому добрался. Даже на извощика двугривенного не осталось. Я не помешал?
Не дожидаясь ответа, Григорович расположился на свободном стуле. Федор Михайлович молча на него покосился: авось сейчас уйдет.
– А все началось с того, – предался воспоминаниям Григорович, – что днем заглянул я в театр на репетицию. Ну, наяды там пляшут и прочие сюжеты. Представляешь? Есть, доложу тебе, очень соблазнительные. А что проку? Там, брат, кавалергарды да гусары пеночки снимают. Объясни ты мне, если можешь: почему же жрицы Терпсихоры нас, драматических писателей, в грош не ставят?
– Полно тебе, драматический писатель! – Достоевский терпеливо улыбнулся. В театре действительно шла пьеса, переведенная Григоровичем с французского, но титул драматического писателя в устах скромного переводчика показался Федору Михайловичу несколько превыспренним. – Презри легкомысленных жриц Терпсихоры, – продолжал он добродушно, – и утешься в надежных объятиях Морфея.
– Спать?! – возмутился Григорович. – Да кто же спит в белую ночь? Ты глянь, какое благоуханье и нега! Нет в тебе воображения, Достоевский! – Он присмотрелся к бледному, утомленному лицу приятеля. – Никак ты и со двора не выходил? – На глаза Дмитрию Васильевичу попалась тетрадка, прикрытая пресс-папье. – Понимаю, все, брат, понимаю! Строчишь, стало быть, с утра до ночи, от всех затаившись? А что строчишь? Легче от стены ответа добиться. Впрочем, будет время – сам ко мне придешь: сделай, мол, одолжение, изволь и мое рукописание послушать. От этого еще ни один сочинитель с сотворения мира не удержался. По собственному опыту знаю… – Новая мысль овладела Григоровичем: – Пользуйся моим расположением, читай сейчас!
Дмитрий Васильевич с неожиданной легкостью приподнялся со стула и протянул руку к тетради. Достоевский ревниво ее отодвинул. Еще никто не видел ни строки из повести о титулярном советнике Девушкине и Вареньке Доброселовой.
– Читай, немедля читай! – настаивал, воодушевившись, Григорович. – Что там у тебя? Поэма? Повесть? Роман? Вот она, тетрадочка-то, ох толстущая! Но по дружбе, изволь, готов слушать! – Дмитрий Васильевич воодушевлялся все более. – А потом, вообрази, потомки напишут: однажды в белую петербургскую ночь начинающий литератор Достоевский прочел своему другу, писателю Григоровичу… Да говори же, наконец, что там у тебя – роман?
Принесла же нелегкая Григоровича не вовремя! И надо было случиться такой промашке – забыл Федор Михайлович закрыть дверь на ключ!
– Молчишь? – укорял Григорович. – Да еще тетрадку пресс-папье накрыл? Эх ты, Сфинкс египетский!
– Прошу тебя, – Достоевский все больше расстраивался, – иди спать! И мне дай, наконец, покой. Целый день неможется… Пойми, Христа ради!
– Я тебе только главное расскажу. Дай бог припомнить, где я сегодня побывал… А, помню! С репетиции – прав старик Шекспир: «О женщины, ничтожество вам имя!» – отправился я прямехонько к Некрасову. Ты Николая Алексеевича не знаешь? А жаль! Вот человек! Коли захочет, у самого черта кредит добудет! Околдовывает и типографщиков и бумажных фабрикантов. Диву даться! Однако сделай милость, Федор Михайлович, дай воды. Перемахнул я, надо думать, рейнвейна. Не у Некрасова, конечно. Да я тебе по порядку расскажу, коли сбивать не будешь.
Дмитрий Васильевич взял поданный ему стакан и пил воду с наслаждением, медленными глотками, изящно вытирая губы батистовым платком.
Достоевский изнемогал от нетерпения. Ему бы скорее вернуться к Макару Девушкину. Как он там? Закончил, бедняга, прощальное к Вареньке письмо, поставил под ним подпись с канцелярским завитком, отправил послание по назначению и ждет: может быть, услышит Варенька вопль его души, разрыдается сама, схватит свою мантильку и убежит от господина Быкова… Мало ли что может прийти в голову титулярному советнику, который, будучи в почтенных летах, впервые услышал пение весенних птиц.
– Теперь, надеюсь, все? – с надеждой спросил Достоевский, принимая от сожителя пустой стакан.
– Как все? – удивился Дмитрий Васильевич. – Теперь только и начинается главное. С Некрасовым завязался у нас прелюбопытный разговор. Вот человек! Слушай:
Кто у одра страдающего брата Не пролил слез, в ком состраданья нет, Кто продает себя за злато, Тот не поэт!..Святая истина, – подтвердил Дмитрий Васильевич. – Некрасов об этом еще в «Мечтах и звуках» писал. А ты, Федор Михайлович, трижды перед ним виноват.
– Я? – переспросил Достоевский в полном недоумении.
– Именно ты. Помнишь, как в училище сердобольный офицер стал продавать юнкерам книжицу «Мечты и звуки» – сочинение Н. Н.? Офицер истинным меценатом оказался, хотел помочь поэту, вступающему на тернистый путь. Помнишь? Помни и казнись! Ты оказался совершенно туп к «Мечтам и звукам», а я мигом побежал знакомиться с таинственным Н. Н.
– «Мечты и звуки» не стали оттого лучше. И Белинский, если не ошибаюсь, отозвался о них сурово.
– Напрасно берешь Белинского в заступники. Белинский был, как всегда, требователен, ты же по бесчувствию своему – просто равнодушен. Каково было в ту пору Некрасову! Ты теперь спроси Белинского, тогда узнаешь, кто такой Некрасов.
– Непременно последую твоему совету, если удостоюсь когда-нибудь чести знакомства с Белинским. А пока не дать ли тебе еще воды? Право, освежает.
– Так и пей сам во здравие! – отозвался Григорович. – Мне бы, пожалуй, опять впору бокал рейнвейна. Но легче добыть его в Аравийской пустыне, чем искать у тебя. А про Некрасова помни и казнись. Прихожу к нему сегодня – на столе картуз с табаком и гора рукописей, Монблан! Поверь, будет воротилой в словесности. Вот тебе и Н. Н.!
– Насчет будущего не знаю, – Достоевский с интересом прислушивался к рассказу о Некрасове, – вот «Петербургские углы» он отменно написал. Как Колумб открыл читателям новый мир.
– А чем мои «Петербургские шарманщики» плохи? Был я сегодня у живописцев в Академии, в ресторане с театральной братией ужинал, на острова в доброй компании ездил – «Шарманщиков» моих везде хвалят… А ну, дай-ка их сюда!
Дмитрий Васильевич взял со стола сборник «Физиология Петербурга», подаренный им Достоевскому с прочувствованной авторской надписью. В этом сборнике, вышедшем под редакцией Некрасова, были напечатаны и «Петербургские углы» и «Петербургские шарманщики».
– В книжных лавках, – сказал Григорович, поглаживая корешок книги, – «Физиологию» с боя берут. А я говорю: «Подождите, на днях выйдет вторая часть». Держитесь, литературные староверы, защищайся, кто может! – и Дмитрий Васильевич сделал ловкий выпад воображаемой шпагой.
Чем больше он шумел, тем досадливее хмурился Достоевский. Пообещал было еще раз воинствующий сожитель удалиться, и совсем поверил Федор Михайлович в скорое освобождение, но Григорович раскрыл «Физиологию» и углубился в нее так, будто в первый раз увидел своих «Шарманщиков».
Достоевский неотступно думал о Макаре Девушкине. На долю Макара Алексеевича выпало еще одно испытание, – может быть, тягчайшее. Не удержался он, пошел взглянуть на опустевшую после свадьбы Варенькину комнату, стал посередь этой комнаты и от умиления едва дышит. Бережно, как святыню, взял в руки какой-то забытый Варенькой бумажный лоскуток. Оказалось, собственное его письмо. На него начала было наматывать нитки рассеянная Варенька. Впрочем, надобна же бумажка для намотки ниток. Можно сказать, даже совершенно необходима. Как иначе? А в комоде у Федоры, которая прислуживала Вареньке до свадьбы, нашел Макар Алексеевич все остальные свои письма, писанные с таким воодушевлением. Ни одного не увезла с собой на память!
Неужто ни в чем не упрекнет Макар Алексеевич забывчивую Вареньку? А он, горемыка, стоит посередь комнаты и шепчет: «Голубчик вы мой, маточка!» И то сказать: ей, Вареньке, куда хуже. Повезет ее господин Быков на долгую и лютую казнь. Где же Макару Алексеевичу о себе думать?
Так ничего больше и не случилось в жизни титулярного советника Девушкина.
– Решительно ничего! – Достоевский не заметил, что говорит вслух.
– Ты о чем, Федор Михайлович? – Григорович смотрит на сожителя: лицо Достоевского было искажено болью.
– Ничего не случилось, – говорил он сам с собой, – и не могло ничего доброго случиться!
Федор Михайлович захлебывался словами и как-то странно размахивал руками. Григорович, разумеется, ничего не понял. А Достоевский вдруг впал в страшную ярость.
– Если ты сейчас же не уйдешь, – наступал он на сожителя, – я погашу свечу и лягу… С меня довольно… Слышишь?
– Странный ты человек, Федор Михайлович! – Григорович с опаской посторонился. – В кои-то веки к тебе зайдешь, радоваться бы тебе в твоем одиночестве, а ты только и ждешь, чтобы наглухо захлопнуть дверь: нет, мол, тебя дома. Все твои хитрости знаю. А когда же и поговорить с тобой по душам?
Достоевский в изнеможении опустился на диван, стараясь овладеть собой.
– Почему же души норовят раскрываться непременно ночью? Или тоже бессонницей страдают? Коли неотложно надо, начинай, мучитель, душевный разговор.
– Признаюсь, Федор Михайлович, – начал Григорович, – с некоторых пор я определенно тебя подозреваю. Просто сгораю от любопытства: что ты сам-то сочиняешь?!
– Завтра, завтра! – перебил Достоевский.
– Что назначаешь ты на завтра? – Дмитрий Васильевич был снова полон сил и бодрости. – К черту завтра! Давай еще сегодня махнем на Гутуевский остров. Встретим солнце и… закусим жареными миногами. А?
– Когда уйдешь ты, нечестивец? – Достоевский почти кричал, будучи вне себя от бессильного гнева. – Или не видишь, куриная слепота, что солнце, не спросясь тебя, давно встало?
Оспаривать эту очевидную истину было бесполезно. Первые лучи раннего солнца уже играли на мрачных, закоптелых стенах комнаты. Но Дмитрий Васильевич и тут нашелся.
– Так я и знал, – с укоризной объявил он, – никуда с тобой вовремя не поспеешь. Никогда и ничего не напишут о тебе потомки. Все вздор!
Вскоре из комнаты Григоровича послышался мотив модной французской шансонетки. Звуки шансонетки наконец умолкли. Безвестный отставной поручик Достоевский, сняв пресс-папье с тетради, открыл последние страницы повести. Все еще пишет Макар Алексеевич Девушкин, путая и запинаясь, прощальное к Вареньке письмо.
«Да что он вам-то, маточка, Быков-то? Чем он для вас вдруг мил сделался? Все, может быть, от того, что он вам фальбалу-то все закупает, вы, может быть, от этого? Да ведь что же фальбала? Зачем фальбала? Ведь она, маточка, вздор!..»
Что-то бормочет Макар Алексеевич, от которого отняли единственную за всю жизнь отраду. И помочь ему так, чтобы не уклониться от жестокой действительности, решительно нечем. Всесильны в жизни господа Быковы!
Достоевский перечитывал рукопись, не выпуская пера из рук: вот тут, пожалуй, можно вычеркнуть лишнее слово, и здесь тоже.
– А фальбала, – вслух размышляет сочинитель повести, – очень ловко пришлась. Прямо сказать – к месту.
Но каков нюх у Григоровича! Ведь роман-то, пожалуй, действительно завершен. Только бы еще раз по нему пройтись, еще бы раз кое-что переписать и опять почистить.
– Достоевский! – неожиданно раздалось из комнаты Григоровича. – Чем же «Петербургские углы» лучше моих «Шарманщиков»?
Федор Михайлович сидел не шевелясь, затаив дыхание.
– А пожалуй, можешь и не отвечать, – великодушно согласился Григорович. – Сам знаю: у Некрасова идея пошире будет. Прав Белинский. Недаром «Петербургские углы» цензура едва пропустила. А как пропустила – ей-богу, чудо!
Глава третья
Виссарион Белинский, готовя вместе с Некрасовым сборник «Физиология Петербурга», хотел собрать произведения молодых писателей гоголевского направления. Главную надежду возлагал Виссарион Григорьевич на Некрасова.
Хоть все еще не кончен был роман о Тихоне Тросникове, Некрасов решился опубликовать отрывок «Петербургские углы». Цензор перечеркнул рукопись начисто – «за оскорбление добрых нравов и благоприйстойности». Воистину чудом удалось вырвать позднее цензурное разрешение. Но еще до того мечтал Белинский:
– Перво-наперво, Николай Алексеевич, вы прочтете «Петербургские углы» у Панаевых. А мы послушаем, что скажут эстеты.
– Не буду я, Виссарион Григорьевич, читать у Панаевых…
– Будете! Коли явились перед очами Авдотьи Яковлевны, негоже вам у Панаевых молчать, забираясь в дальний угол. Или вас до сих пор магнетизируют ослепительные штаны Ивана Ивановича? Имейте в виду – никакие отговорки не помогут!
Так оно и произошло. Правда, Панаевы готовились к заграничному путешествию. Иван Иванович составлял будущий маршрут, постепенно занося в него кроме Франции многие европейские страны. Маршрут составлялся с размахом, но без оглядки на средства. Авдотья Яковлевна, слушая Ивана Ивановича, снисходительно улыбалась. Но и она была занята предотъездными хлопотами.
Однако в назначенный день в гостиной у Панаевых собралось привычное общество.
Бедный автор «Петербургских углов», как он волновался! По счастью, именно ему уделила участливое внимание Авдотья Яковлевна. Может быть, их сблизила молодость – оба они были очень молоды! Может быть, их сблизили невеселые воспоминания юности: Некрасов скитался по петербургским трущобам; Авдотья Яковлевна провела несколько лет в театральной школе, откуда выходят девицы с большим опытом по части закулисных интриг и с малыми знаниями того, как живет внетеатральный мир. Некрасова ничто не могло отвратить от занятий литературой; литературные знакомства, сделанные через Панаева, стали школой жизни для Авдотьи Яковлевны.
Начав бывать у Панаевых, Некрасов дичился элегантной хозяйки дома. Но и ему, нелюдиму, она иногда казалась шаловливой девчонкой, которой вдруг надоела роль светской дамы. Впрочем, в вечер, назначенный для чтения «Петербургских углов», она была неприступно серьезна.
Время было приступить к чтению. Белинский давно об этом напоминал. Некрасов раскрыл рукопись. Поднял было руку к едва пробивавшимся усам и, не завершив привычного жеста, стал читать тихим голосом:
– «Ат даеца, внаймы угал, на втаром дваре, впадвале, а о цене спрасить квартернай хозяйке Акулины Федотовны».
С этого ярлыка, красовавшегося на воротах большого петербургского дома, и начинался очерк Некрасова, посвященный владениям Акулины Федотовны.
Едва молодой человек, разыскивавший ее, вступил на первый двор, его обдало нестерпимым запахом и оглушило разнохарактерными криками и стуком: дом был наполнен мастеровыми, которые работали у растворенных окон и пели. В глазах запестрели надписи вывесок: «Делают траур и гробы и на прокат отпускают»; «Русская привилегированная экзаменованная повивальная бабка Катерина Бригадини»; «Из иностранцев Трофимов». Вывески, непонятные по их краткости, пояснялись изображениями портновских ножниц, сапога или самовара с изломанной ручкой.
На дворе была непролазная грязь. В самых воротах стояла лужа, которая, вливаясь во двор, принимала в себя лужи, стоявшие у каждого подъезда, а потом с шумом и журчанием величественно впадала в помойную яму; в яме копались две свиньи, собака и четыре ветошника, громко распевавшие:
Полно, барыня, не сердись, Вымой рожу, не ленись…Некрасов не торопясь перевернул страницу.
Посетитель, разыскивавший Акулину Федотовну, вступил во второй, дальний двор. Тут открылись целые моря зловонных потоков. Казалось, не было и аршина земли, на которую можно было бы ступить, не рискуя завязнуть по уши.
Интерес к очерку нарастал. Незнакомец, забравшийся на дальние задворки, куда редко кто попадал, казался Колумбом.
Но на то и существуют отважные Колумбы, чтобы подчинять себе грозные стихии. Молодой человек достиг окраины двора, нащупал лестницу, ведущую в подвал, поскользнулся, съехал по мокрым, покрытым плесенью ступеням и очутился наконец в квартире, в которой сдавала углы Акулина Федотовна.
На потолке над развалившейся печью густо роились мухи; стены со следами отпавшей штукатурки были покрыты кровавыми пятнами с тощими остовами погибших жертв. Пыль свисала гирляндами, на веревках сушилось белье. Какой-то расторопный жилец снял с петель дверь и, положив ее на два полена, превратил в кровать.
– Кто он такой? – заинтересовался посетитель, только что завершивший схождение в преисподнюю.
– А кто его знает? – отвечала Акулина Федотовна, – хороший человек, с паспортом. Без паспорта у меня никого… Да вот одним нехорош – за эту дрянь не люблю. – Старуха указала на небольшую собачонку, которая выползла из-под нар. – Добро бы одну держал, а то иной раз вдруг пяток соберется. Ну, и найдется из жильцов выжига забубённая: «Стану я, говорит, вместе с собаками в собачьей конуре жить!» А квартирка – чем не квартирка? Летом прохладно, а зимой уж такое тепло, что можно даже чиновнику жить, – простор!
Слушали Некрасова молча. Но и в молчании бывают разные оттенки. Михаил Александрович Языков первый стал нетерпеливо постукивать пальцами о стол: зачем растравлять душу такой беспросветной картиной? Иван Иванович Панаев, словно отвечая на этот безмолвный вопрос, недоуменно развел руками.
…К вечеру новый жилец Акулины Федотовны перевез вещи. Вместе с ним снова вступили в неведомый мир слушатели очерка «Петербургские углы». Открытие Америки продолжалось.
Когда спутники Колумба с величайшим изумлением взирали на туземцев, они ничего не знали об этих людях, дивились их обычаям и не понимали у них ни слова. В подземном царстве Акулины Федотовны обитатели его говорили на русском языке, но жизнь их оставалась такой же загадочной, как существование жителей какого-нибудь таинственного архипелага, неизвестного географической науке.
Первым вернулся на квартиру постоялец из бывших дворовых людей. Никогда бы не видеть ему столицы, если бы у его барыни не состоялся в деревне деловой разговор с супругом.
– Собаки и люди, душенька, нас разоряют, – объявила мужу молодая помещица, – не ждите от меня любви, пока в доме будут собаки.
Долго спорили, наконец вышло решение: собак перевешать, а дворовых людей распустить по оброку – валяй в разные города и селения Российской империи сроком от нижеписанного числа на один год.
Теперь бывший дворовый без устали ходил по Петербургу в напрасных поисках работы. За душой у него остался последний полтинник.
Некрасов читал, не меняя голоса, может быть, даже монотонно, но казалось – душно становится в гостиной.
– А что вы, то есть, здешние? – обратился дворовый к новому жильцу.
– Здешний.
– Так-с! А чья фамилия?
– Тросников.
– Знаю. Он меня бивал. С нашим барином, бывало, каждый день на охоту. Промаха по зайцу дашь, собак опоздаешь со своры спустить – подскачет, да так – прямо с лошади!.. Евстафий Фомич Тросников… как не знать. Задорный такой. От него, чай, и вам доставалось?
– Я не знаю никакого Тросникова; я сам Тросников.
– Так-с! Извините-с… А я думал, что и вы тоже господский человек.
Разговор перекинулся на помещика, который уволил дворового по оброку.
– Барин – что барин? – рассуждал дворовый. – Оброк отдал, да я и знать-то его не хочу. А и не отдал, так бог с ним. Побьет, да не воз навьет.
Некрасов придвинул к себе стакан холодного чая и с жадностью сделал несколько глотков.
– Замечательно!.. – шепотом сказал Иван Иванович, а сам нетерпеливо прикинул, много ли осталось до конца рукописи.
В квартиру Акулины Федотовны вернулся жилец, промышлявший собаками. Бросил новую собачонку под нары: «Молчи, пришибу!» Потом улегся, зевая и приговаривая протяжно:
– Господи, помилуй, господи, помилуй!
– А что, Кирьяныч, – обратился к нему дворовый, – кабы тебе вдруг… десять тысяч! Что бы ты сделал?
– А ты?
– Десять тысяч! – Дворовый человек был ошеломлен собственной фантазией. – Много десять тысяч – обопьешься! Известно наше богатство: кошеля не на что сшить – по миру ходить! Четвертачок бы теперь, и то знатно: на полштофика, разогнать грусть-тоску.
Разговор нечувствительно повернул на тот счастливый день, когда дворовый, прибыв из деревни, снял угол у Акулины Федотовны. Тот день был вполне торжественный: на новоселье было выпито семь штофов.
– Ан пять! – поправил Кирьяныч.
– Семь, ежовая голова!
– Пять, едят те мухи с комарами! – упорствовал собачий промышленник.
Завязался жестокий спор. Ни штофа не хотел уступить дворовый из события, едва ли не самого памятного в его жизни.
А новый штоф, по милости Тросникова, тотчас явился на столе. К удивлению дворового, мигом слетавшего в кабак, хозяин угощения наотрез отказался от водки.
– Вона! – воскликнул дворовый человек в каком-то странном испуге. – Гусь и тот нынче пьет… Ну, Кирьяныч!
Когда было выпито по второму стакану, дворовый взял балалайку, заиграл трепака и запел.
В сенях послышались чьи-то нетвердые шаги.
– Ну, будет потеха, – объявил Тросникову дворовый. – Учитель идет.
Еще один туземец явился.
То был, казалось, покачивающийся из стороны в сторону зеленый полуштоф, заткнутый вместо пробки человеческой головой. На явившемся была драная светло-зеленая шинель, из-под которой выглядывало вместо белья что-то грязно-серое. На рыжих сапогах сидели в три ряда заплаты. Новоприбывшему было лет шестьдесят.
– Здравствуй, Егорушка! – обратился он ласково к дворовому, сделав быстрое движение к штофу. – Налей-ка рюмочку!
Жестокая потеха началась. Егор тайком налил в стакан воды и поднес старику; старик выпил с одного маху и, ничего не понимая, опешил.
Старик то ругался, то униженно выпрашивал, то вдруг просыпались в нем остатки оскорбленной гордости. Тогда начинал он вспоминать о знатных знакомых, говорил, будто был принимаем когда-то самим Гаврилом Романовичем Державиным, что вряд ли могло произвести эффект у постояльцев Акулины Федотовны, будь то хоть сама святая правда.
– У, какой туз! – бормотал зеленый господин, вспоминая недавний визит к какому-то знатному питомцу: – «Я, говорит, потому и в люди вышел, что вы меня за всякую малость пороли» (зеленый господин действительно когда-то, где-то был учителем), да и сует мне в руку четвертак.
Зеленый господин все больше входил в кураж. Он вытащил из-за голенища две тощие брошюрки; одна из них содержала вирши на высокорадостный день тезоименитства какой-то важной особы, другая была писана по случаю бракосочетания той же персоны.
– Видишь, – говорил зеленый господин дворовому, водя указательным пальцем по заглавному листу, – видишь?
– Ты мне не тычь! – оттолкнул его Егор. – Я, брат, не дворянин, какая грамота нашему брату? Охота вам руки марать, – обратился он к Тросникову, заинтересовавшемуся брошюрами. – Ерунда-с!
– Ерунда? – возмутился сочинитель брошюр. – Когда я подносил их превосходительству, их превосходительство посадил меня рядом с собой и табакерку раскрыли. «Нюхай, – говорят, – ученому человеку нельзя не нюхать».
Что-то похожее на чувство промелькнуло в глазах зеленого господина:
– Налей, Егорушка, рюмочку!
– Пляши – поднесу!
. И зеленый господин пустился в пляс. В подвале сделалось шумно.
По мере того как Некрасов читал сцену с зеленым господином, описывая его жалкую и страшную пляску, в гостиной Панаевых нарастала давящая тишина.
Александр Александрович Комаров тихо склонился к хозяйке дома:
– Голубушка, Авдотья Яковлевна! Я, кажется, больше не выдержу, задыхаюсь!
– Да откуда он берет такое? – шепотом спросил Панаев.
…Зеленый господин все еще плясал. Пронзительный, нечеловечески дикий крик послышался из смежной комнаты, в которой обитали жилицы Акулины Федотовны.
– Напилась, ей-богу, напилась: пена у рта, – причитала хозяйка, прибежавшая звать на помощь. – Схватила нож: «Зарежусь, говорит, и всех перережу». Батюшка, Егор Харитоныч, – обратилась она к дворовому, – помоги!
Все, кроме зеленого господина, бросились на женскую половину. Там в исступлении каталась по полу молодая женщина.
– Ох, батюшки, тошно! – кричала она. – Отпустите душу на покаяние…
Акулина Федотовна продолжала причитать:
– Деньги все пропила. На саван себе ничего не оставит.
В общую суматоху престранно ворвалась песенка, которую пела как ни в чем не бывало сидевшая за ширмой у своей кровати жилица из благородных немок.
Но уже приступил к решительным действиям Егор Харитоныч. Устремив на женщину, распростертую на полу, свирепый взгляд, он произнес одно только слово:
– Вязать! – и стал не торопясь развязывать поясной ремень.
Женщина замерла.
– На место! – закричал грозный укротитель. – Цыц! Только пикни у меня – свяжу да так в помойную яму и брошу!
Несчастная, как сноп, повалилась к ногам Егора. Трудно было понять этот эффект новому постояльцу. Ему бросилось в глаза и другое, не совсем понятное обстоятельство: все жилицы Акулины Федотовны были беременны.
– Ну, хоть бы и у вас жила кухарка, горничная или мамзель какая-нибудь, – объяснил Егор, – сами знаете, держать господа не станут. А Федотовна баба добрая: «Поживи у меня, голубушка!» Намедни умерла тут роженица – Федотовна в слезы, охает, ахает и до ниточки все прибрала в свой сундук. «Нищим, говорит, надо отдать, пусть помолятся за покойницу, себе ничего не возьму». Нищих она позвала, даже поднесла им, да у них же платок украла.
Когда Некрасов свернул рукопись, едва ли не донесся до него общий вздох облегчения. Будто освободились люди от кошмара.
– Я не смогу жить без мысли о том, – сказала Авдотья Яковлевна, – что где-то рядом с нами разверзнут ад. Хоть закрой уши, а услышишь вопли несчастной жилицы. Хоть закрой глаза, все равно увидишь, как пляшет зеленый старик. А старая ведьма, обирающая покойниц!.. – Авдотья Яковлевна содрогнулась.
– Послушаешь этакое, – вмешался Михаил Александрович Языков, – и думаешь: одно утешение – прибегнуть и самому к зеленому змию. Надо отдать справедливость автору: ощущение безысходности он сумел передать. Благодарю за путешествие на дно жизни, если только нужно за такое путешествие благодарить…
– Благодарить? – переспросил Александр Александрович Комаров. – Пусть все взятые автором факты существуют, допускаю. Но соединение их в одной картине не нарушает ли меры возможного? Дайте же хоть каплю освежительного воздуха, иначе при всех добрых намерениях вы внушите читателям самое страшное чувство – безнадежность.
В разговор вмешался любитель словесности из числа светских знакомых Панаева:
– Не мне судить о таланте уважаемого автора. Да и не о таланте, но о том, куда направлен талант, должна идти речь. Наша литература приобретает, с легкой руки господина Гоголя, обличительный характер. Эта страсть к обличению стала, я бы сказал, нездоровой модой. И я неустанно повторяю: обличайте, но помните мудрое правило – ничего слишком. Иначе вы превратите искусство в тенденцию, и искусство как таковое умрет.
– А! – вступил в спор Белинский. – Вы хотите, стало быть, чистого искусства, без тенденции, которого не было и нет на свете? Хотите, чтобы мы поверили сказке о том, что искусство должно стоять над жизнью, вне жизни, проповедуя какие-то святые идеалы? Помилуйте! Да каждый бездарный писака, клянущийся в том, что он чужд всякой тенденции, – с тем большей бесцеремонностью служит утверждению темных сторон жизни. Не было и не может быть пресловутого чистого искусства, а мы, грешные, прямо говорим: мы не чураемся тенденции. И цель художника – до конца показать ужасы нашей действительности, обличить ее до того самого дна, куда не по своей воле, но по обстоятельствам попадают люди и теряют все присущее человеку.
Белинский обратился к Комарову:
– Вы, Александр Александрович, взываете – дайте хоть каплю освежительного воздуха! Да откуда его взять? Но тот, кто поставит этот вопрос, тот сам придет к целительной мысли: чтобы дать доступ освежительному воздуху, надо прежде всего разрушить наглухо замурованные стены…
Речь Виссариона Григорьевича становилась опасной.
– Господа! – перебил его Панаев. – Хозяйка просит перейти от споров к примирительной беседе за столом. Ужин ждет нас, господа!
…Давно все это было. Уже и Панаевы возвратились из-за границы. Все, что можно было, быстро спустил Иван Иванович в Париже, и пришлось повернуть стопы вспять, в любезное отечество.
Снова собираются у Панаевых по субботам близкие друзья. Только о тех сходках, на которых Иван Иванович читал свои переводы из истории французской революции, теперь нет и помину. Теперь спорят о вышедшей в свет «Физиологии Петербурга». На днях выйдет вторая часть. Пусть воочию убедятся читатели, что уже существуют и действуют писатели гоголевского направления. Когда думает об этом Виссарион Белинский, всегда повторит: «Самую сильную вещь дал Некрасов».
А вот Тургенев ничего для «Физиологии Петербурга» не написал. «Ах он мальчишка, ах он гуляка праздный! – корит Тургенева Виссарион Григорьевич и тотчас опровергнет сам себя: – Нечего сказать – гуляка! Ведь это благодаря ему выйдут в Париже повести Гоголя. Французы смогут прочитать и «Тараса Бульбу», и «Записки сумасшедшего», и «Коляску», и «Старосветских помещиков», и «Вия».
На все находит время Тургенев. Это он сумел увлечь Луи Виардо поэзией Гоголя и усердно готовил ему подстрочные переводы. Благодаря ему с Гоголем познакомится Европа!
Глава четвертая
Из Петербурга переезжал обратно в Москву Николай Христофорович Кетчер. До смерти надоела ему служба в медицинском департаменте, где переводил он вместо Шекспира руководство для фармацевтов.
Кроме того, в Петербург явилась Серафима. Кетчер долго не верил глазам: как нашла его эта несуразная девчонка? Но тут же понял: его бегство было совершенно бесполезно. Следовательно, забрав Серафиму, можно возвращаться в любимую Москву.
Николай Христофорович начал готовиться к отъезду. Пошумел на постылых берегах Невы, теперь будет шуметь в родной Москве.
Когда, явившись к Белинскому, он объявил о предстоящем отъезде, Виссарион Григорьевич достал с полки книгу: «Немецко-французский ежегодник, издаваемый Арнольдом Руге и Карлом Марксом».
– Представь, Кетчер, и наш Мишель Бакунин здесь участвует. Но не силен я в немецком. С твоей помощью, надеюсь, скорее справлюсь с переводом.
– Изволь, – охотно отозвался Кетчер. – Хоть одно путное дело сделаю в Петербурге. Есть в этой книге такие статьи, что дух захватывает.
– Как же ты ничего мне не говорил? – возмутился Белинский. – О, Кетчер, Кетчер!
– Случая не было, – спокойно отвечал Николай Христофорович. – Я уж и в Москву нашим писал: читайте и вразумляйтесь! А тебе, Виссарион Григорьевич, действительно ничего не говорил. Самому удивительно.
Кетчер приходил ежедневно и занимался переводом с необычной аккуратностью.
– Все нами читанное только цветочки, а ягодки впереди. Вот они! – и открыл в «Ежегоднике» статью Маркса «К критике гегелевской философии права. Введение». – Тут-то, брат, и зарыта собака!
– А у меня к господину Гегелю давний счет. Переводи!
– Не могу!
– То есть как это не можешь? – удивился Белинский.
– Время позднее, Виссарион Григорьевич, сам видишь!
– Впервые от тебя такое слышу! Откуда у тебя столько пошлости, Кетчер? – спросил Белинский.
Но, сколько ни настаивал он, Николай Христофорович был неумолим. Вчерашнего бездомника ждала Серафима.
– Значит, не будешь переводить? – выходил из себя Белинский.
Кетчер раскатисто смеялся и смущенно повторял:
– Да приду же я завтра, ей-богу, приду!
На следующий день Белинский только и ждал Кетчера. Сидел с «Ежегодником» в руках, нетерпеливо поглядывая на часы. В статье Маркса его внимание приковала первая же фраза: «Для Германии критика религии по существу окончена, а критика религии – предпосылка всякой другой критики».
Кетчер стал переводить далее то, что писал Маркс о борьбе с религией:
– «Эта борьба есть косвенно борьба против мира, духовным ароматом которого является религия… Упразднение религии, как призрачного счастья народа, есть требование его действительного счастья… Критика неба обращается таким образом в критику земли, критика религии – в критику права, критика теологии – в критику политики…»
Белинский следил по тексту, не раз возвращая переводчика к уже переведенному.
– «Критика религии, – переводил Кетчер, – завершается учением, что человек есть высшее существо для человека; завершается, следовательно, категорическим императивом ниспровергать все отношения, в которых человек является униженным, порабощенным, беспомощным, презренным существом».
– Хотел бы я знать, – спросил Кетчер, – какие отношения сохранятся, если следовать этому императиву? Все к черту! – Переводчик все больше вдохновлялся. – «Ни минуты для самообмана и покорности, – читал он далее. – Надо сделать действительный гнет еще более гнетущим, присоединяя к нему сознание гнета, позор еще более позорным, разглашая его… Надо заставить народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу…»
– А где сказано, Николай Христофорович, о кнуте? – Белинский нашел нужное место: – А, вот! – и еще раз повторил запомнившиеся строки: – «Историческая школа права объявляет мятежным всякий крик крепостных против кнута, если только этот кнут – старый, унаследованный, исторический кнут…» Лучше не скажешь! – подтвердил Белинский. – Давно пора понять людям, что кнут освящен и историей, и религией, и правом, и философией.
– А ты заметь, Виссарион Григорьевич, как размахнулся автор в заключение: «…никакое рабство не может быть уничтожено без того, чтобы не было уничтожено всякое рабство». Вот этак бы и у нас писать!
Белинский вдруг задумался и взгрустнул:
– А что проку в истине, если нельзя ее обнародовать?
«Немецко-французский ежегодник» занял место на книжной полке. Белинского. В статье Маркса «К критике гегелевской философии права. Введение» отдельные места были подчеркнуты им. Но что проку в истине, если нельзя ее обнародовать?
Русская действительность напоминала о себе изо дня в день. Булгарин вещал в «Северной пчеле»: мы сперва досадовали, а теперь смеемся при мысли, что осуждали у нас в последнее время Державина, Карамзина, Дмитриева и выше всех их ставили автора «Мертвых душ».
Это была одна из новых шутовских выходок. Старые авторитеты незыблемо, мол, стоят на пьедесталах! Ничего-де в мире не изменилось!
Но почему же так боятся Гоголя? Не потому ли, что великий художник ниспровергает те самые отношения, в которых человек является униженным, порабощенным, беспомощным и презренным существом?
Борьба за гоголевское направление, начатая в «Физиологии Петербурга», продолжалась. Некрасов был занят выше головы выпуском второй части «Физиологии». Николай Алексеевич вел переговоры с издателем как нельзя лучше, умел добиться наивыгоднейших условий.
Он был одновременно автором нашумевших «Петербургских углов» и автором романа, в котором нашлось бы для печати немало готовых глав. А Николай Алексеевич дал во вторую часть «Физиологии» только стихи. Это была небольшая пьеса «Чиновник». Признаться, Белинский стал читать ее с некоторым недоумением: не ожидал он такого поворота от автора романа «Жизнь и похождения Тихона Тросникова». Прочитав, долго молчал.
– Дай бог, – наконец сказал он, – чтобы поэзия наша так же пропиталась гоголевским духом. Надоел птичий щебет!
И снова стал читать «Чиновника». Кроме гоголевского направления, форма этих стихов многим отличалась от той, в которой были написаны когда-то «Мечты и звуки».
Это не значило, конечно, что расстался Некрасов с Тихоном Тросниковым. Все больше вглядывается автор в жизнь пришлых людей, которые стекаются в столицу из деревень необъятной России. В петербургский роман входят новые персонажи. А цель у автора все та же: обличать устои, которые унижают и порабощают человека.
Но занят по горло редактор сборников «Физиология Петербурга». Нет у него времени для романа о Тихоне Тросникове. Только стихотворения возникают одно за другим.
Глава пятая
– Идем, познакомлю тебя с Некрасовым, – не раз предлагал Достоевскому Дмитрий Васильевич Григорович, – а там и к Белинскому попадешь. Без него Некрасов шага не ступит. Коли ты сам что-то строчишь – не отпирайся, все равно не поверю, – да имеешь верный взгляд на жизнь, через эти знакомства на прямую дорогу в словесность выйдешь… Ну, когда же к Некрасову пойдем?
Федор Михайлович, по стеснительности характера, от предложения уклонялся. А «Физиологию Петербурга» перечитывал не раз.
Кто из петербуржцев не видел на дворе шарманщика, иногда с целой бродячей труппой? Мальчишка-акробат выделывает на рваном коврике свои сальто-мортале, ученая собака ходит на задних лапах с картузом в зубах, а девчонка с накрашенными щеками распевает хриплым, застуженным голосом чувствительные романсы. Что тут нового?
Но стоило внимательно приглядеться к этим людям, как сделал это Григорович, – и открылся все тот же порядок жизни: кто имеет капитала на пятак, тот может купить душу живую. Так и попадает к хозяину бродячей труппы малолетнее дитя какой-нибудь горничной, соблазненной барчуком-ловеласом, или подросток, отданный для обучения в мастерскую. Сбежит из мастерской мальчишка, спасаясь от колотушек, и, оголодав, становится артистом, наживает вместо прежних колотушек новые синяки.
А хозяин труппы знай вертит ручку своей шарманки да поглядывает, как бы не утаил от него новоиспеченный артист брошенный в форточку медяк. Но чаще шарманщик, не приобретя ни капитала, ни труппы, один кормит целое семейство.
Григорович не зря гордится своим очерком: никто до него не заглядывал в жизнь столичных шарманщиков. Но понятия не имеет сам Дмитрий Васильевич о том, что еще один шарманщик давно живет на страницах повести, которую пишет его квартирный сожитель, отставной поручик Достоевский.
В ненастный осенний вечер, когда мокрый туман висит над головой и стелется под ногами, встретил этого шарманщика титулярный советник Девушкин. Остановился Макар Алексеевич для рассеяния от своих несчастий. Прошел какой-то господин, бросил шарманщику монетку. Монетка прямо упала в тот ящик, в котором представлен француз, танцующий с дамами. А рядом с шарманщиком оказался мальчишка лет десяти, на вид больной, чахленький, в одной рубашонке, чуть не босой. Стоит мальчишка и, разиня рот, слушает музыку; понятно – детский возраст. И только звякнула монетка в ящике с французом, мальчишка робко осмотрелся и, видно, подумал, что бросил монету Девушкин. Подбежал к нему мальчишка и сует в руку бумажку. А там – известное дело: «Благодетели, мать у детей умирает, трое детей без хлеба, так вы нам теперь помогите, а я, как умру, так на том свете вас, благодетелей, не забуду».
В то время Макар Алексеевич сам дошел до последней крайности: по ветхости своего платья даже швейцара на службе стыдился. Прочитал он записку и ничего мальчишке не дал. А только взял назад записку мальчишка – слышит Макар Алексеевич еще голос рядом: «Дай, барин, грош, Христа ради». И опять не подал титулярный советник: у самого гроша не было.
Потом, пережив двойное унижение от бедности, отписал Макар Алексеевич Вареньке:
«А еще люди богатые не любят, чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались: дескать, они беспокоят, они-де назойливы. Да и всегда бедность назойлива, спать, что ли, мешают их стоны голодные?»
Вон куда повернул титулярный советник Девушкин, конечно не без помощи отставного поручика Достоевского.
Казалось Федору Михайловичу, что он глубже проникает в души обездоленных, в оскорбленное человеческое сердце. А тут и есть главная тайна искусства. Если удалось ему, Федору Достоевскому, показать это в истории титулярного советника Девушкина, значит, отпущен ему истинный талант.
При такой мысли даже наедине с собой смущается Федор Михайлович, хотя думать об этом сладостно до мурашек, бегающих по коже.
Однако и несомненные достоинства авторов «Физиологии Петербурга» он тоже признавал.
Представить, к примеру, изящную словесность… и дворников. Дворники, известно, охраняют покой жильцов, блюдут чистоту и порядок и часом для того же порядка гонят в шею со двора шарманщиков. Если же верить «Физиологии Петербурга», некоторые из этих дворников, первых блюстителей порядка и помощников полиции, сами скупают при случае краденое, только чтоб было все – сохрани бог! – шито-крыто. А иной дворник, собирая от жильцов чаевые пятаки и гривенники, уже подумывает о том, чтобы открыть в деревне лавчонку. Сначала в деревне, – продолжит эту биографию умудренный жизнью читатель, – а потом, если бог поможет, и в столице. Тогда другой дворник, поселясь в каморке под воротами, будет охранять благополучие нового хозяина.
А то обратят еще внимание сочинители «Физиологии» на старика, переправляющегося через Неву к Сенату. Старик как старик, только в руках у него полено, тщательно завернутое в платок. Это – тяжебщик. Когда-то где-то поставлял он дрова в казенное место. А ему не заплатили: может, начальник казенного места в то время дочку замуж выдавал или покупал домишко на женино имя, – известно, деньги всегда надобны. Вот и придрались к тому, будто поленья короче, чем положено по закону. Тогда поставщик взял для доказательства своей правоты первое попавшееся полено: извольте, мол, господа начальство, измерить. Одним словом, не уважил начальство. Вот и завели на него вместо платежа судное дело. Дело спутешествовало за долгие годы до самого Сената и давно уже значится сданным в архив. А тяжебщик, вконец разорившись, все еще ищет правды и каждый день, отправляясь в Сенат, берет с собой «доказательное» полено.
– Берегите его, Иван Иванович, – смеются молодые чиновники, перебирающиеся со стариком через Неву.
Когда же пристанет лодка к берегу, чиновники разбегутся по своим делам, а Иван Иванович бредет к Сенату, хотя туда его давным-давно не пускают.
Конечно, описан смешной случай со стариком, выжившим из ума. Но почему же именно о нем, а не о правосудной Фемиде пишут в «Физиологии Петербурга»? Почему не пишут здесь, по примеру других книг, о том, как в убежище нищеты смиренной, разумеется, вдруг является ливрейный лакей с кульками от неизвестного благодетеля, и, боже ты мой, чего только нет в тех кульках! Почему не пишут о том, как образованную девицу из бедного семейства непременно прижмет к сердцу благодетельная княгиня или женится на ней ангелоподобный граф? Мало ли о чем могут писать писатели, пекущиеся о том, чтобы не беспокоили богатых стоны голодных…
Не искать же нищете утешения, скажем, в «Петербургских углах». Николай Некрасов, дворянский, говорят, сын, хоть и беглый от родителя, всех превзошел. Смотрите, мол, люди, на человеческие лохмотья; вдыхайте отравленный воздух помойных ям. Знайте, что рядом с вашими домами существуют непроходимые катакомбы, куда не заглядывает ни один светлый луч. Хорошо, что надежно загнаны сюда бывшие люди, лишенные человеческого обличья. А если настежь распахнутся когда-нибудь врата преисподней? Каково будет почивать тогда тем, кого наградил бог родовым или благоприобретенным имением?
А Виссарион Белинский в той же «Физиологии» объяснял читателям, что у так называемых благонамеренных писателей нет верного взгляда на общество, которое они взялись изображать. Не будь цензуры, попросту сказал бы Виссарион Григорьевич: врут те писатели как сивые мерины и пуще всего боятся правды жизни. Белинский требует, чтобы у писателя был определенный взгляд, который обнаруживал бы, что автор умеет не только наблюдать, но и судить.
Судить? А стало быть, и осудить? И непременно заговорит при этом Белинский о Гоголе, хотя, казалось бы, что проку писать о Гоголе, когда нет о нем ни слуху ни духу.
Ну, вышла в свет какая-то книжица под мудреным названием «Физиология Петербурга». Экая, подумаешь, беда! Однако произвела эта книжица изрядное смятение умов, надзирающих за словесностью. О ней пишут так, будто в самом деле явился новый Гоголь:
«Грязь… Карикатуры!.. Клевета!..»
В одном, впрочем, не ошиблись всполошившиеся критики: весь сборник «Физиология Петербурга» был пропитан гоголевским духом.
А еще говорят, будто выходит вторая часть той же книги…
– Сегодня я к тебе с надежным щитом, – объявил Достоевскому квартирный сожитель Григорович, вручая ему только что вышедшую новинку. – О статьях Белинского не буду говорить. Сам до дыр зачитаешь и «Петербургскую словесность» и «Александрийский театр». Обрати внимание на стихи Некрасова «Чиновник». Поэт, истинный поэт и обличитель! Ну, и на мой «Лотерейный бал» еще раз взгляни. Авось сменишь гнев на милость.
– Говорил и повторю, Дмитрий Васильевич: пересолил ты изрядно. Ну зачем, к примеру, у франта чиновника лопаются на бале панталоны?
– Да разве я за те панталоны ответчик? – отшучивается Григорович. – Вини, коли хочешь, портного.
– А надобно ли подражать тем портным, кто, не уважая мастерства, шьет на скорую или гнилую нитку? – серьезно спросил Достоевский. – Поверь, о многом, важном должно писать, коли берешься за наших чиновников.
– Уж не о них ли ты сам пишешь? Угадал, ей-богу, угадал! Не зря ты глаза опустил.
– Не обо мне речь, – перебил, смутившись, Достоевский.
Григорович молчал, собираясь с духом.
– Мне бы до твоей тетрадки добраться. Веришь, даже спать перестал.
– Употребляй в таком случае сонные капли и, сделай одолжение, не храпи! За свежую «Физиологию» душой тебе благодарен, а сейчас, извини, мне, право, недосуг.
– А у меня, думаешь, дела нет? Мне давно пора к Белинскому. Ох и философию же там разводят, когда соберутся посвященные! Учености им, конечно, не занимать стать. А мне, признаюсь, многое темно. Как пойдут разговоры о буржуазии да о пролетарстве, о социализме и коммунизме, – голова идет кругом! А они по всей Европе спутешествуют, все ученые журналы переберут. Тут я, признаюсь, пас! Не вникаю я ни в Сен-Симона ихнего, ни в Фурье с Прудоном.
Достоевский не перебивал, однако слушал без особого интереса. Он тоже весьма смутно, только понаслышке, знал имена, которые называл Григорович.
– А я, – продолжал Дмитрий Васильевич, – не ученостью, а изящной словесностью интересуюсь. Вот и оживаю только тогда, когда заговорит о ней Белинский. Очень оригинально он нас, молодых писателей, хвалит. Далеко вам, говорит, до Гоголя, недосягаемо далеко. Гоголю суждено открывать новые пути, а вам вслед за ним идти, но высоты его никогда не достигнуть. Пока, мол, не явится на Руси новый гений. Ну, сделай милость, Федор Михайлович, скажи мне хоть ты: где этого гения искать?
…Григорович убежал. Федору Михайловичу не работалось. Ходил и размышлял. Когда совсем смерклось, зажег свечу.
– Господи боже! Может быть, судил ты Федору Достоевскому приблизиться хоть на малый шаг к величию Гоголя!
И тотчас привиделось недалекое будущее: «Вы читали роман Достоевского?.. Неужто не читали?» – «Да кто он такой, этот Достоевский?» – «Помилуйте, о нем сейчас только все и говорят, необыкновенный талант!»
А горделивые мысли сейчас же сменились знакомыми сомнениями. Даже руки дрожат и на лбу выступил холодный пот, как у игрока, который поставил на карту все достояние.
«Что-то будет, когда явятся в свет «Бедные люди»?..»
Глава шестая
– Да почему же, сударь, люди-то у вас непременно бедные?
Достоевский, застигнутый врасплох, оторвался от рукописи.
– Чему обязан честью? – растерянно лепечет Федор Михайлович, приглядываясь к незнакомцу: словно бы и никогда не встречал он этого господина с солидной полнотой стана, а может быть, и видел где-то эту крупную голову, будто вырубленную кое-как топором. – Осмелюсь спросить об имени и цели вашего посещения, милостивый государь?
– Обойдемся без церемоний! – Незнакомец неожиданно подмигивает. – Какие могут быть церемонии в литературных делах? Впрочем, сами с этим согласитесь, коль скоро объявите себя литератором.
Незваный гость был чужд всякой деликатности. Вошел, не спросясь, словно к себе домой. Раздражение Федора Михайловича нарастало. Вместо ответа он стал зажигать новую свечу.
– Так я и знал! – Тучный господин самодовольно кивал головой. – На стеариновую-то свечечку капитала не хватает? А по мне – так и сальной обойдемся. Надеюсь, я еще не опоздал? – посетитель указал на рукопись «Бедных людей». Его короткий пухлый палец был украшен массивным золотым перстнем. Блеск этого перстня еще больше раздражил Федора Михайловича. Что, в самом деле, за невероятное происшествие? Уж не мерещится ли ему в бессонный ночной час?
– Только не сочтите меня за призрак, – словно угадал его мысли таинственный гость. Он засмеялся отрывистым, лающим смехом, сел к столу и, слюнявя жирные пальцы, стал листать заветную тетрадь.
– Милостивый государь! – Достоевский был совершенно ошеломлен неслыханной дерзостью. – Извольте объяснить, наконец, свое поведение!
Сердце Федора Михайловича билось отрывисто, неровно, сильно. А рукопись, так тщательно охраняемую от посторонних глаз, быстро листала бесцеремонная рука. От движения воздуха пламя свечи дрожало и колебалось. На стене, где привычным пятном растекалась плесень, теперь шарахались какие-то уродливые тени.
– А! – воскликнул тучный господин, бросив взгляд на книжную полку. – И Гоголь здесь в полном составе своих сочинений! Как евангелие, стало быть, – прости мне, господи, это кощунство, – держите перед собой? Можно сказать, образец и основатель новой школы? Погудки эти не хуже вас знаю. Да школа-то какова? Грязнее Поль де Кока и во сто крат пагубнее для россиян.
– Гоголь, – резко перебил Достоевский, – поднимает коренные и мучительные вопросы нашей жизни. Вопросы эти подавляют ум и терзают сердце.
– Так! – кивала голова, вырубленная топором. – Насчет вопросов жизни с завидной горячностью судить изволите. По молодости ваших лет не буду упрекать в преувеличениях, но не обинуясь выскажу горькую истину: подражая господину Гоголю, избираете незавидный жребий. Вы, конечно, лучше меня знаете, что Гоголь описал жизнь некоего чиновника Башмачкина и, по бедности воображения, свел весь рассказ к построению чиновником новой шинели. Пустейшая, выходит, история, лишенная всякой нравственно-поучительной идеи. Да что я вам рассказываю! Именно в эту повесть вы с особым усердием заглядывали и, равняясь на чиновника Башмачкина, произвели ныне титулярного советника Девушкина. Позвольте же спросить, сударь: если о каждом ничтожном чиновнике будем повести писать, сменяя им шинели и башмаки, как же спасутся от этих повестей многострадальные читатели?
– По какому праву, милостивый государь, вы отнимаете у меня время и зачем?
– Зачем? – переспросил, щурясь, незнакомец. – Да ведь тетрадочка-то ваша вся исписана и последняя точка в ней поставлена. Следственно, стоите вы на пороге, сударь, и завтра опоздает всякое предупредительное слово. Не спорю, в повести вашей нет привидений, которые разбойничают у Гоголя на петербургских улицах, срывая шинели с уважаемых особ. Да ведь привидения что ж? В них, пожалуй, ныне и младенцы не верят… А признайтесь, – вдруг перебил себя гость, – вы ведь и меня вначале за привидение сочли? Хе-хе!.. Нервы, стало быть, шалят? Сочувствую душевно и все-таки не умолчу правды ради: вы в своем сочинении даже Гоголя в дерзости превзошли. У Гоголя призрак разбойничает, сам же чиновник Башмачкин за всю жизнь вольного слова не сказал. Ни-ни! А у вас что? Что вы своему Девушкину суфлируете? Ропот? Либеральные мысли? А сентенцию-то насчет стонов голодных, надеюсь, помните? Что же выходит, сударь? Или и последнему из титулярных советников, по вашему разумению, все дозволено?
Тучный господин умолк, устремив на автора «Бедных людей» негодующий взгляд.
Достоевский сидел как околдованный злыми чарами. Откуда знает бесцеремонный гость всю его повесть из строки в строку? Федор Михайлович незаметно для себя заинтересовался разговором. Кто же останется равнодушен к первому, пусть и пристрастному, разбору своего первого произведения?
– Не говорю уже о том, – снова начал незнакомец, – что чиновник ваш предается губительному пороку пьянства, но и здесь нет у вас обличения порока.
– Помилуйте, – возмутился Федор Михайлович, – в повести моей неустанно корит беднягу за слабость Варенька.
– Ах, Варенька! Претерпевшая девица! – с какой-то озорной веселостью откликнулся посетитель. – Очень трогательно вы описали: и птичек, и весенний аромат, и даже поцелуй, который запечатлел титулярный советник, правда, единожды, на ланитах падшего ангела. Ну пусть бы случилось такое неприличие с разнежившимся чиновником. Седина, дескать, в голову, ревматизмы в поясницу, а бес в ребро. Всяко бывает, коли нет у человека твердых правил. Но зачем претерпевшую-то девицу возводить на пьедестал? Что после этого достойные люди скажут? У нас, слава богу, не французские нравы. Или принимаете словесность нашу за выгребную яму? Так ведь тем уже занимаются с похвальным усердием и Гоголь и следующие его примеру сочинители всяких новейших «Физиологий». Стыд и срам!
Тучный господин в негодовании воздел руки, и тени, метавшиеся по стене, приняли обличье огромных, злобно дерущихся пауков. Достоевский почувствовал приступ головокружения, во рту пересохло.
– К слову, – бубнил над ним отрывистый, лающий голос, – не была бы ваша претерпевшая Варенька в столь бедственном положении, если бы усерднее работала иглой или мыла бы белье добрым людям. А вы заставляете ее, будто благородную, какие-то дневники писать. Когда же ей работать? Думаете, благоразумный читатель о том не спросит? – Таинственный гость сделал многозначительную паузу. – Что же после этого сказать о письмах самого чиновника? Сущий вздор и лишенная всякого правдоподобия нелепость. Все титулярные советники, существующие в России, за всю жизнь столько писем не напишут. Где вы такого чиновника нашли? В каком, смею спросить, департаменте такое чудо узрели?
Федору Михайловичу стало трудно дышать, – должно быть, от чадного воздуха, пропитанного свечным угаром. Он молча переменил свечу. Что-то больно его кольнуло. Незнакомец издевался над формой романа в письмах, которую автор «Бедных людей» долго обдумывал, прежде чем на ней остановился.
– Для смеху, что ли, – продолжал тучный господин, – придумали вы в повести то место, где канцелярский копиист взывает к претерпевшей девице: «Займемся литературой!» Смех и курьез! Где ж тут правда жизни, за которую ратуете? Один адрес для сих литераторов вижу – «Отечественные записки». Там господин Белинский с распростертыми объятиями примет и титулярного советника с сивушным перегаром и девицу с изъянцем. – Гость захохотал нестерпимо громко. – Известно, господин Белинский из всего слепит какой-нибудь вопросик современности. Из мухи слона смастерит, а из титулярного советника под мухой – гражданскую идею! – Отрывистый смех тучного господина стал уже совсем похож на собачий дай.
Федор Михайлович глянул на гостя – тот утирал слезившиеся глаза. Нет! Это не был ночной морок, готовый исчезнуть каждую минуту. Тучный господин так и сидел за столом, только еще больше развалился.
– Однако же, – снова оживился он, – все эти курьезы вашей повести можно было бы счесть за игру незрелого ума, если бы не пришли вы на край бездны. Остерегитесь, сударь! – Он еще раз утер платком следы слез. – Населили вы повесть пропойцами и всякими сомнительными личностями. Впрочем, после «Петербургских углов», описанных господином Некрасовым, кого этим удивишь? Так вы притащили студента Покровского, умирающего от чахотки. Для чего же вам чахотка понадобилась, которой вы и студента и Вареньку наградили? Извольте, сам за вас отвечу: единственно для сгущения колеру.
Незнакомец наклонился ближе к Достоевскому и спросил доверительно:
– Стало быть, направления придерживаетесь? На потребу легкомыслию, осуждающему все и вся?
У Достоевского разболелась голова. Перед глазами ходили сизые волны. Медленно, но верно обозначались признаки нервического припадка.
– А к чахоточному студенту, – будто издали услышал он лающий голос, – вы прибавили новый эффект: чиновника-страстотерпца Горшкова, отстраненного от должности из-за какого-то разбойного купца.
Федор Михайлович с трудом разбирал слова. Присмотрелся – голова, рубленная топором, опять подмигивает с отвратительной ужимкой.
– Сами пишете, – за столом с прежней ясностью обозначилась тучная фигура незнакомца, – что начальство, разобравшись, невиновного Горшкова к должности вернуло. Но какой же в том для обличителя эффект? Так вы еще до оправдания Горшкова единым росчерком пера умертвили младенца в его семействе, а в торжественный момент оправдания чиновника – едва бы мог сорваться с уст читателя вздох облегчения – вы и самого Горшкова казните скоропостижной смертью. Нет, мол, меры страданиям беззащитного человека и надежды ему нет! Одним словом, выпустили коготки! А ежели те коготки возьмут да обстригут? Чик-чик!
Чик-чик! Чик-чик! – раздалось по комнате, по всем углам, словно затрещали тысячи сверчков.
– Но кто же в смерти Горшкова виноват? Вы, сударь, умертвив невинного Горшкова, опять на начальство киваете. Будто мимоходом, справочку ввернули: Горшков-де из службы семь лет назад исключенный. Семь лет, стало быть, потребовалось начальству, чтобы оправдать невинного! Прочитают этакое горячие головы – и что же? Бунт объявят или баррикады станут строить? А то еще лучше: всех начальствующих на гильотину, как в свое время в Париже было. Про то вам, вероятно, тоже известно?
– Не понимаю, какая тут связь с историей петербургского чиновника?
– О, святая простота! Да кто же подстрекал в Париже чернь? Кто и ныне повсеместно ее подстрекает?
Федор Михайлович не мог больше вытерпеть. Подошел вплотную к собственному столу, за которым сидел незнакомец, по-хозяйски положив руки на «Бедных людей».
– Милостивый государь!.. – начал Достоевский и задохнулся. Нестерпимая боль заставила его приложить руку к груди.
– Страдаете грудной болезнью? – Посетитель присмотрелся. – Откуда же черпаете, сударь, неуемные силы в обличении? Мало вам чиновника Горшкова показалось – вы опять за помещика Быкова взялись. Оклеветал наше поместное дворянство Гоголь в своей поэме, а вам и этого мало? Не все, мол, в «Мертвых душах» сказано, так я прибавлю? У вас помещик Быков изображает всевластную и будто бы безжалостную силу рубля. Хочет – купит господин Быков себе жену, хочет – сведет ее в могилу. Чего же ждать от такого злодея мужикам? – Тучный господин опасливо оглянулся и перешел на шепот: – Понимаете ли вы, сударь, куда читателей зовете, если самый рубль с изображением священной особы государя императора показан у вас человекоубийцей?! До этого и Гоголь не договаривался. За это вас разве что Белинский похвалит, а его похвала – бубновый на спину туз! Белинский, за правду вам скажу, социалист, коммунист, санкюлот и будущий каторжник. О баррикаднике Белинском начальству все известно, все его писания по рубрикам разложены: противу бога, противу государя, противу закона христианского и человеческого. До времени все эти обвинения втайне множатся. До времени, сударь! Коли не образумитесь, и с вами то же будет. Ясно ли я говорю?
– Столько же ясно, сколько и бесцельно, милостивый государь, – Федор Михайлович сам не узнал своего срывающегося голоса. – И потому покорно вас прошу… – он указал на дверь.
Гость не обратил на этот недвусмысленный жест никакого внимания.
– Намедни, – сказал он озабоченно, – один обличитель тоже разразился. Может быть, изволили читать в «Петербургских вершинах» господина Буткова: есть, мол, в мире предметы благоговения всеобщего, есть, мол, величие совершенное, есть сила своенравная, деспотически располагающая жребием человеческим. Те предметы – рубли, то величие – рубль, та сила – в рублях!
Достоевский не слушал. Распахнул окно и вдыхал предутреннюю свежесть.
– И представьте, – продолжал незнакомец, – дура цензура пропустила! Должно быть, олухи цензоры приняли эти поджигательные строки за похвальную оду рублю. А Белинский, конечно, одобрит да еще выписку приведет в своей статье. Долой, мол, деспотическую власть рубля! Тут, извините, уже международный заговор коммунизма! Коли не исправите повесть, очистив ее от вредомыслия, и вашу фамилию запишут, для начала, разумеется. А печатно что вам скажем? – Тучный господин пожевал губами, собираясь с мыслями. – А печатно вот что о вас скажем: скучный-де роман, прескучнейший. Положения неестественные, чувствительность ложная. По незрелости воображения и неопытности пера склонность к карикатурам Гоголя, правда, в бледной копии. А читатели сами смекнут: нет нужды читать, а тем более покупать такую скучную книгу… Да вы не слушаете меня, сударь! – – таинственный незнакомец стучал по столу кулаком.
Стук повторился в дверях. Должно быть, Федору Михайловичу суждено было сойти с ума в эту ночь. Дверь отворилась, и в ней появился, шатаясь и приплясывая, зеленый господин, похожий на штоф, заткнутый пробкой вместо человеческой головы. Едва войдя, он протянул засаленные брошюрки ночному гостю Достоевского.
– Нюхай, – повторял он, – ученому человеку нельзя не нюхать. У, какой туз!..
– Эй, берегись! – раздался зычный клич на улице. Достоевский выглянул в окно. По переулку громыхала карета. Да ведь это господин Быков увозит Вареньку! А за каретой трусит Макар Алексеевич Девушкин и надрывно кричит. Может быть, забыл передать Вареньке, что наказывала мадам Шифон, а может быть, сулит купить ей, ангельчику, фальбалы?
Карета громыхала все громче. Грохот стал так нестерпим, что Достоевский через силу поднял голову, склоненную на стол, и, придя в себя, огляделся.
Свеча давно оплыла и погасла. На стене обозначалась плесень, расползающаяся уродливым пятном. Пятно смутно напоминало фигуру ночного гостя. Достоевский еще раз глянул на стол, за которым приснился ему посетитель.
– В обличении многоликого зла ни слова не переменится в повести!
Солнце золотило маковки соседней церкви. По переулку тянулся восвояси ночной извощик. Выползала на свет божий салопница, похожая на майского жука; ленты на ее чепце, как усы у жука, тревожно шевелились. А старуху чуть не сбил с ног мальчишка с чайником, стрелой вылетевший из соседней мастерской. Подобрав полы полосатого халата, он мчался за кипятком в ближний трактир. Появился спозаранку и чиновник; то ли брел он к дому, прогулявши ночь за картами, то ли был самым усердным к службе среди чиновничьей мелкоты. И странное дело – походил на титулярного советника Девушкина, как вылитый его двойник.
Глава седьмая
– Как? Неужто вы и до сих пор не читали?
– Да что за чудо объявилось?
– Именно чудо! Можно сказать, сама жизнь трепещет на каждой странице. Смелость кисти необыкновенная!
Такие разговоры шли в Петербурге. Называли при этом повесть графа Соллогуба «Тарантас».
Откроет повесть читатель – и начнет увлекательное путешествие из Москвы в дальнее поместье Мордасы вместе с рачительным владетелем Мордас, почтенным Василием Ивановичем.
В надежный, хотя и громоздкий, тарантас, отчасти похожий на ноев ковчег, укладывают матрацы, перины, кульки, свертки, всякие домашности, а также обновки для мордасовских дам – тюрбаны и чепчики, купленные на Кузнецком мосту, у прославленной мадам Лебур.
Кроме клади Василий Иванович прихватил с собой еще молодого дворянина Ивана Васильевича.
– Ну, с богом! Трогай!..
…Вынырнув из облака дорожной пыли, тарантас въезжает в попутный город Владимир. Безлюдны сонные улицы. Чего тут ждать? А молодому дворянину Ивану Васильевичу, выглядывающему из тарантаса меж перин, повезло. Не чаял, не гадал – встретил давнего знакомца, который после многих коловращений жизни был вынужден покинуть Петербург. Приятелям, может быть, и любопытно побеседовать после долгой разлуки, а какой интерес читателю? Но горе ему, если пренебрежет он начавшимся разговором! Тут-то и берет размах смелая до дерзости кисть автора «Тарантаса».
– Жить в Петербурге и не служить, – объясняет Ивану Васильевичу бывший житель столицы, – все равно, что быть в воде и не плавать. Не многие думают об общей пользе, но каждый о себе. Каждый промышляет, как бы схватить крестик, чтобы поважничать перед друзьями, да как бы набить карман потуже.
Произнеся едкую тираду, господин приятной наружности, со следами усталости в чертах лица, опасливо оглянулся: нет ли на улице чересчур любопытных ушей?
А читатель – что греха таить – навострил уши: такова ныне страсть к осуждению порядков жизни.
Петербургский либерал, все еще держа Ивана Васильевича за пуговицу дорожного пальто, продолжал речь, хотя и понизив голос:
– Не думай, впрочем, что петербургские чиновники берут взятки. Сохрани бог! Не смешивай их с губернскими. Взятка, братец, дело подлое, опасное и притом не совсем прибыльное. Но мало ли есть проселочных дорог к той же цели: займы, аферы, акции, облигации, спекуляции. Этим способом, при некотором служебном влиянии, состояния также наживаются.
Вот новое обличение всемогущей силы денег! Только рубль облачен в модный наряд акций и облигаций. Даже вековечная российская взятка шествует в ногу с прогрессом.
Бывший петербургский вольнодумец рад отвести душу от провинциальной скуки.
– Скажи-ка, – спрашивает он у Ивана Васильевича, – ты что теперь поделываешь?
– Я был четыре года за границей.
– Счастливый человек! А, чай, скучно было возвращаться?
– Совсем нет. Мне совестно было шататься по белу свету, не зная собственного отечества.
– Как? Неужто ты собственного отечества не знаешь?
– Не знаю. А хочу знать. Во-первых, я хочу видеть губернские наши города.
– Все губернские города похожи друг на друга. Посмотри на один – все будешь знать.
И пошел чесать! Везде, говорит, в любом губернском городе, найдется большая улица да каланча, площадь с гостиным двором да два-три фонаря. А про жителей губернского города отозвался еще чище: живет здесь несметное количество служащих в разных присутствиях; жены их ссорятся между собой на словах, а мужья – на бумаге. Председатели с большими крестами на шее высовываются только в табельные дни для поздравления начальства. Прокурор большей частью холост и завидный жених; жандармский штаб-офицер – добрый малый (говорится, конечно, о жандармском штаб-офицере с улыбочкой: знаем, мол, мы эту доброту!); дворянский предводитель – охотник до собак. И все отъявленные картежники – «пички да бубендросы». Одни-де губернские барышни в карты не играют. Да и тех не пощадил для красного словца: девицы, мол, если говорить правду, тоже играют: «в дурачки» на орехи.
Выслушал все это молодой дворянин, вернувшийся из-за границы, и, когда выехал из Владимира в дальние Мордасы, предался горьким размышлениям: «Где же искать Россию? Еду четвертый день и гляжу и вглядываюсь, и хоть что хочешь делай – ничего отметить не могу. Окрестность мертвая, дорога скверная, по дороге идут обозы, мужики ругаются… А на станциях то смотритель пьян, то тараканы по стенам ползают, то щи сальными свечами пахнут. Можно ли порядочному человеку заниматься подобной дрянью?..»
Все те же привычные россиянину картины встречались путешественникам: то, глядь, какой-нибудь заседатель пустится спьяна вприсядку, то встречный мещанин объявит главной достопримечательностью своего города острог, да и тот, оказывается, сгорел еще в прошлом году… О Русь!
Посмеется читатель «Тарантаса» и то ли от удивления, то ли от радости в затылке почешет. Никак объявился новый Гоголь?
Впрочем, повесть графа Соллогуба ввела в смущение не только простодушных читателей. В самом деле: вывел на посмеяние автор «Тарантаса» столичных и губернских чиновников, дерзнул поднять голос против взяток и взяточников, не пощадил даже жандармского штаб-офицера; станционных тараканов и тех в покое не оставил.
Сам Фаддей Венедиктович Булгарин объявил в «Северной пчеле» со вздохом укоризны:
«Автор «Тарантаса» чувствует так же, как Гоголь – образец и основатель новой школы».
Не зря же катят Василий Иванович с Иваном Васильевичем по немереным российским просторам. Вот-вот привернет тарантас в какую-нибудь помещичью вотчину. Кто их там встретит? Сладчайший ли господин Манилов или дубинноголовая Коробочка, а может быть, и Плюшкин, заплесневевший, как прошлогодний сухарь? Ведь и Василий Иванович, возвращающийся в свои Мордасы, очень похож на медведя. Может быть, новый Собакевич пустился в странствия?
Далеко от Москвы отъехал тарантас. О многом переговорили путешественники. И вспомнилась Василию Ивановичу молодость. В те времена он, женясь, возвращался с молодой супругой в родные Мордасы. На границе имения мордасовские мужики ожидали господ с хлебом-солью и как один стояли на коленях. Вот как встречают господ добронравные мужики!
Высказался Василий Иванович и умолк. Ничего не ответил ему Иван Васильевич. А читатель затаив дыхание ждет: теперь-то и обрушится автор «Тарантаса» на тех, кто свято верует, что мужики только на то и существуют, чтобы стоять перед господами на коленях с хлебом-солью!
И впрямь возвысил голос граф Соллогуб, только не отличишь его речей от речей Василия Ивановича.
«Любовь мужика к барину есть любовь врожденная и почти неизъяснимая, – поясняет, воодушевившись, автор «Тарантаса». – Русские мужики не кричат виватов, не выходят из себя от восторга, но тихо и трогательно выражают свою преданность…»
– Кто это говорит? – переспрашивает в растерянности читатель и снова слышит вдохновенную авторскую речь:
«Жалок тот, кто видит в них только лукавых бессловесных рабов и не верит их искренности». Одним словом, сами мужики держатся за свои цепи по искреннему к ним влечению.
Теперь пусть себе тарахтит тарантас, отъезжая в дальние Мордасы. Самое заветное граф Владимир Александрович Соллогуб сказал.
Но как же Булгарин укорил автора «Тарантаса» именем Гоголя? Что делать! Говорят, Александр Македонский и тот ошибался. Только у Фаддея Венедиктовича осечка получилась, пожалуй, хуже. Впопыхах облаял он писателя, грудью восставшего на защиту коренного отечественного установления, благодетельного не столько для помещиков, сколько для крестьян.
А еще забыл, должно быть, Фаддей Венедиктович, что граф Соллогуб приходится зятем могущественному царедворцу, графу Виельгорскому. Ударил, значит, Булгарин в колокола, не глянув в придворные святцы. Теперь придется ему клонить повинную голову:
– Виноват, ваше сиятельство, точно, виноват! Клюнул, как пескарь, на обличительную наживку, а последних глав повести не досмотрел.
Впрочем, ничего нового не придумал автор «Тарантаса». В Москве, например, откуда началось путешествие Василия Ивановича и Ивана Васильевича, досужие баре, именующие себя славянофилами, тоже твердят о прирожденной любви мужика к помещику. И ссылаются не на мордасовского владетеля Василия Ивановича и даже не на графа Соллогуба, а на самого господа бога. Вот, оказывается, какая премудрость путешествует в тарантасе вместе с московскими чепчиками от мадам Лебур.
Не менее важные мысли вложил граф Соллогуб в уста молодого дворянина Ивана Васильевича.
– Все старинные имена наши исчезают, – плачется Иван Васильевич, подпрыгивая на ухабах. – Гербы княжеских домов развалились в прах, потому что не на что их восстанавливать, а русское дворянство, зажиточное, радушное, хлебосольное, отдало свои родовые вотчины оборотливым купцам, которые в роскошных палатах поделали фабрики.
Что-то очень часто стали поговаривать на Руси об этих фабриках. И в городах и в дворянских усадьбах устремляют они трубы в задымленное небо. Но опять же не новость – причет Ивана Васильевича. В Москве, в которой он только что побывал, ученые славянофилы выбиваются из сил, чтобы вернуть дворянство под сень дедовых дубрав. Пора очистить воздух любезного отечества от фабричной скверны. А скверна эта проникает на Русь с Запада вместе с лжеучениями и неустройством жизни. Иван Васильевич только что видел это неустройство собственными глазами.
– В Германии, – рассказывает он Василию Ивановичу, – меня удивила глупость ученых (еще бы: не оторвешь немцев от философии!). Во Франции опротивела мне безнравственность и нечистота (пожалуй, даже мягко сказано: что может быть нравственного в стране, которая прославилась революцией?). Везде, – продолжает Иван Васильевич, – нашел я алчность к деньгам, грубое самодовольство, все признаки испорченности и смешное притязание на совершенство.
Знакомые речи! В журнале «Москвитянин», куда несут свою лепту и правоверные славянофилы и славянофильствующие доброхоты, из номера в номер печатаются вариации на ту же тему. Похоже, что типографщики просто перепутали листы «Москвитянина» со страницами повести графа Соллогуба.
– Я не один, – утверждает, расходившись, Иван Васильевич, – нас много! Мы хотим выпутаться из гнусного просвещения Запада и выдумать своебытное просвещение Востока.
Кое-что из этого своебытного просвещения уже изобретено в Москве. Наиболее пылкие из славянофилов в уважение к народу облекаются в диковинные кафтаны стрелецкого покроя, а ученые головы свои накрывают, тоже из любви к народным обычаям, столь же своебытными, хотя и неведомыми народу, мурмолками.
Но сколько ни путешествовал граф Соллогуб вместе со своими героями, ни в одну помещичью вотчину не привернул, нигде мертвых душ не обнаружил. Вот в этом единственно и разошелся он с Гоголем.
Хитер оказался автор «Тарантаса»! Полно в «Тарантасе», как у коробейника-краснобая, всякого товара: есть обличительная приманка, есть славянофильская премудрость, есть и утешительный бальзам для каждого помещика. Как не обрадоваться, читая, что зиждется господская власть на прирожденной любви ревизских душ! Спасибо, утешил граф!
А граф Соллогуб нет-нет – опять на Гоголя оглянется. Когда заснул, утонув в дорожных перинах, молодой дворянин Иван Васильевич, тогда даже тарантас, похожий на ноев ковчег, вдруг превратился в его сновидении в летящую птицу.
Но есть в русской словесности другая птица-тройка. Снарядил ее в дальний путь Николай Гоголь, сумевший заглянуть в будущее сквозь непроглядный мрак.
Эх, тройка! Птица-тройка! И вот она уже понеслась, понеслась, понеслась…
Глава восьмая
В Париже, куда бежал Гоголь из Франкфурта, его ждали Луиза Карловна и Анна Михайловна Виельгорские. Но вместо сладостно-душевных с ними бесед ему привелось видеть их только в редкие минуты. Графини предались светской жизни. Даже Анна Михайловна, торопливо приветствовав Гоголя, устремлялась в театры и на балы.
Николай Васильевич проводил одинокие часы в шумном городе, которого никогда не любил. Освежение сил, полученное в дороге, улетучивалось. Он боялся выйти на улицу, содрогаясь от мысли, что его поглотит бесконечный людской поток.
Гоголь жил у графа Александра Петровича Толстого. Черной тенью будет стоять он рядом с автором «Мертвых душ». Как великий знаток, раскрывал он Гоголю чудотворную силу молитв и заклятий, которыми отбивались от дьявола святые отцы-пустынники. Против каждого бесовского чина было свое заклятие.
– «Егда приблизитесь вы, беси мнозие…» – нараспев читал граф Толстой.
А разве не испробовал Гоголь всякие молитвы?
– Наложите на себя вериги! Вериги! – шептал, закрыв глаза, граф-фанатик. – Истязуя тело, спасете душу!
На лице Гоголя отражались смятение и боль. Разум сопротивлялся средству спасения, изобретенному изуверами.
Трудно представить, что эти разговоры происходили не в средневековом монастыре, а в центре Парижа, в фешенебельной гостинице, в которой жил русский сановник.
Впрочем, Гоголь вовсе не видел Парижа. Когда он выходил на улицу, путь его был один: в православную церковь. Здесь он свел знакомство со священником. Из богослужебных книг сделал новую выписку. Оказывается, он до сих пор не знал чудотворной силы ладана.
Николай Васильевич пробыл в Париже немногим больше месяца. Так и не удалось ему согреть душу в беседах с графинями Виельгорскими. На прощание он послал короткую записку: «Моя добрейшая, любезнейшая и прекрасная Анна Михайловна!» А в конце написал: «Обнимаю Вас еще раз – – и тут же объяснил: – то есть Вас и маменьку». Такое объяснение исключало возможность интимного истолкования его чувств к дочери графа Виельгорского.
Николай Васильевич уложил чемодан. Раскрыл портфель. Там лежали тетради «Мертвых душ», к которым он даже не прикоснулся в Париже. Зачем же он сюда заехал?..
Когда во Франкфурте Гоголь снова постучался в двери к Жуковскому, Василий Андреевич не мог скрыть испуга – до того изменился, исхудал Николай Васильевич.
– Сам вижу, – отшутился Гоголь, – что добрался до Франкфурта только нос мой да несколько костей, связанных на живую нитку жиденькими мускулами.
Василий Андреевич даже не улыбнулся. Все смотрел на гостя, словно бы явился он не из Парижа, а с того света. Глубоко запали и погасли глаза, болезненной желтизной отливают щеки.
Гостя водворили на старом месте, в верхних комнатах. Но Василий Андреевич не переставал тревожиться. Тревога была тем более понятна, что Елизавета Алексеевна пестовала новорожденного сына и ее было необходимо оберегать от всяких волнений. Но как это сделать, если один вид Гоголя может привести в смущение даже здорового человека? А молодая жена беспокоится за мужа: у Василия Андреевича такая чувствительная душа!
Счастлив Жуковский в своем семействе. Счастлив Василий Андреевич в трудах. С юношеским вдохновением переводит он певучие строки «Одиссеи».
Задумается порой поэт, повествуя о странствиях Одиссея, – и тогда предстает перед ним покинутая Россия. Василий Андреевич непременно туда поедет вместе с семьей. Раньше думалось: пусть только подрастет дочь – и в путь! Теперь надо ждать, чтобы окреп малютка сын. Тогда непременно поднимется в дальнюю дорогу Василий Андреевич и, завидев родную землю, отдаст ей земной поклон: «Здравствуй, любезное отечество, вскормившее меня!»
При одной мысли об этой сцене слезы навертываются на глаза. Но поэтическое воображение Василия Андреевича снова обращалось к странствиям и подвигам Одиссея. Россия отступала в туманную даль.
Гоголь, устроившись наверху, перебирал свои тетради. Так и оборвалась на полуслове речь генерал-губернатора Тьфуславля к чиновникам. Автор перечитывает набросанное ранее и цепенеет от мысли: чтобы звать к высокому, надобно ясно показать каждому путь от зла к добру. А он не справился даже с Чичиковым. Улизнул Павел Иванович вместе со своей шкатулкой!
Перо выпадает из рук, и руки холодеют. Очень часто стали холодеть руки, и холод пронизывает все тело: что ни делает Гоголь – не может побороть мертвящий холод.
Когда-то, в роковую для себя минуту, автор «Мертвых душ» пришел к убеждению, что причины добра и зла кроются в самом человеке. Чем больше в это верил, тем решительнее отмахивался от тех, кто утверждал, что зло таится не в природе человека, а в условиях, в которых он живет. Коренной ломки этих условий требовали передовые люди России. А автор «Мертвых душ» уверовал в возможность нравственного возрождения и Чичикова и Плюшкина. Так и не мог вырваться из порочного круга.
После возвращения из Парижа Гоголю стало совсем плохо. Мало того, что холодеет тело и мучают нестерпимые боли. Мало того, что пожелтело лицо, распухли и почернели руки. Какую новую душевную муку предвещают эти неведомые ранее телесные недуги?
Болезнь развивалась так явственно, что уже приходилось скрывать свое состояние от Жуковского.
Гоголь никуда не выходит. Он один как перст, когда простое слово участия показалось бы ему милостью небес.
Он много пишет в эти черные дни. Только не в тетрадях, предназначенных для «Мертвых душ». Он пишет друзьям. Собранные вместе, его письма могли бы составить скорбный лист, в который заносят медики наблюдения над больным: «…Меня мучает плохое состояние моего здоровья, которое, признаюсь, никогда еще не было так плохо… Не говоря уже о том, что исхудал весь, как щепка, чувствую истощение сил и опасаюсь очень, чтобы мне не умереть прежде путешествия в обетованную землю…»
Вернулась старая мысль о путешествии в Иерусалим, мелькнувшая в Москве. Но Гоголь готов ехать и просто на курорт, если это будет угодно богу. Впрочем, не о физических недугах сокрушается он: «Я думал о лечении своем только в этом значении, чтобы не недуги уменьшились, а возвратились бы душе животворные минуты творить…»
Творить? Если бы хоть один новый листок был готов для «Мертвых душ»!
«Я мучил себя, – признается автор, – насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие, и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением и ничего не мог сделать, и все выходило принужденно и дурно. И много, много раз тоска и даже чуть-чуть не отчаяние овладевало мною от этой причины».
Кому бы ни писал Гоголь, ко всем обращена мольба о помощи: «Молитесь обо мне, молитесь сильно!»
А молельщики все те же: графини Виельгорские, Александра Осиповна Смирнова; к ним присоединился юродствующий граф Толстой. Но, должно быть, никто не знает молитвы, которая может спасти автора «Мертвых душ». Как ни тяжелы его физические страдания, может случиться еще худшее: «Тягостнее всего беспокойство духа, с которым труднее всего воевать», – жалуется Гоголь. Его смятение дошло до того, что он послал записку священнику:
. «Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю…»
Николай Васильевич очнулся, сидя в кресле, и долго прислушивался к себе. На столе лежала раскрытая тетрадка «Мертвых душ», но отчужденными, осуждающими глазами смотрит Гоголь на свое создание.
Конечно, он мог бы вывести еще целую вереницу «коптителей неба», подобных Тентетникову, Петуху, полковнику Кошкареву или генералу Бетрищеву. Но разве в них дело? Ему нужна другая, грозная вьюга вдохновения, которая, как верил он раньше, подымется из облаченной в святый ужас главы его, – тогда почуют люди величавый гром других речей.
Автор «Мертвых душ» возвращается мыслями и поместье Скудронжогло. Нет нужды поднимать вопрос о государственных перестройках в России, если помещики создадут изобильные хозяйства на благо и себе и подопечным крестьянам. Но сколько ни присматривается автор к почтенному Константину Федоровичу Скудронжогло, сколько ни беседует с ним, одна мысль терзает Гоголя: его покинула способность творить! Ему не приходит в голову, что никакой художник не может создать то, чего нет в жизни.
Жизнь говорит о другом. Написано ведь и в продолжении «Мертвых душ», что в Тьфуславльской губернии голодает народ; сказано, что взбунтовались мужики против помещиков и капитанов-исправников; сказано, что весь город отдан в незримую власть юрисконсульту и паучьей его сетью решительно все оплетено… Все сказано, но не показан путь спасения.
А смерть, может быть, опять стоит у него за спиной, и ничего из сочинений его, нынешнего, не останется России. Новая, еще неясная мысль рождается у Гоголя: может быть, его письма, писанные к разным лицам, окажутся полезны всем русским людям?
Гоголь метался между Франкфуртом и Гомбургом, где открылись целебные воды. Гомбургские воды не помогали.
В сумерках, сменивших теплый июньский день, Гоголь, вернувшись во Франкфурт, неслышно проскользнул наверх, чтобы не тревожить ни Василия Андреевича, ни его супругу. Не зажигая огня, оглянул свое жилище и с отрадой убедился, что сумрак овевает привычные вещи, никакие призраки не дерзают нарушить его одиночество. Но в ту же минуту возникла перед глазами полузабытая картина.
Юноша сидит подле печки. В отсветах пламени все яснее рисуются черты лица сидящего. Он развертывает какие-то тоненькие книжки и, едва заглянув в них, одну за другой бросает в огонь. Потом сумрак окутал смутно знакомую комнату, и все исчезло.
На столе у него лежало произведение, за пороки которого должен держать ответ перед богом и людьми не наивный автор «Ганца Кюхельгартена», бросившийся в литературу с опрометчивостью молодости, но умудренный жизнью писатель, слова которого ждет Россия. Нет ему прощения, если ложно или обманчиво будет это слово.
Но работать не мог. Он писал Смирновой:
«Всякое занятие умственное невозможно и усиливает хандру, а всякое другое занятие – не занятие, а потому также усиливает хандру. Изнурение сил совершенное».
Но в этом же письме Александра Осиповна прочитала среди многих поручений еще одну просьбу Гоголя. Ему понадобилась книга, на днях вышедшая, – что-то вроде «Петербургских сцен» Некрасова, которую очень хвалят и которую Гоголю хотелось бы прочесть.
Речь шла о сборниках «Физиология Петербурга». Автор «Мертвых душ», одолеваемый болезнью, измученный мыслью о творческом бесплодии, с прежней жадностью хотел «слышать всю жизнь».
Глава девятая
Достоевский шел по Невскому проспекту то со стремительной быстротой, то резко замедляя шаг. Подошел к большому дому купца Лопатина и несколько минут стоял у ворот. Прохожие и толкали его и оглядывали с недоумением: «Вроде бы не хмельной, а вовсе не в себе».
Федор Михайлович ничего не видел, ничего не слышал. Должно быть, от жары на лбу выступила испарина. Наконец он свернул в подворотню, отыскал нужную квартиру и взялся за ручку звонка. Когда за дверью послышались шаги, едва удержался, чтобы не броситься прочь. Он бы непременно так и сделал, если бы не обмякли ноги.
Дверь открыла кухарка, только что отошедшая от плиты. Не обращая на посетителя внимания, она провела его в кабинет хозяина. Идти пришлось недолго. Квартира была из тех, что снимают обычно мелкие чиновники. Да и узкая комнатушка, хоть и заставленная книгами, едва ли заслуживала названия кабинета.
– С нетерпением жду вас!
Белинский отложил рукопись. Взгляд его показался Достоевскому несколько суровым, лицо было изборождено резкими морщинами.
– Так вот вы какой! – Виссарион Григорьевич, подойдя к гостю, сделал движение, чтобы обнять его, но вместо того крепко пожал руку. – Понимаете ли вы сами, батенька, что вы написали? – Улыбка озарила его лицо. – Прочитал ваш роман – всю ночь не спал и не стыжусь в том признаться. Выстраданная у вас вещь, в каждом слове выстраданная. Как же могло такое произойти при вашей молодости? Ну, перво-наперво и рассказывайте о себе.
Они сели друг против друга за небольшой стол, и Федор Михайлович с радостью почувствовал, что ни следа не осталось у него от недавней робости.
Рассказывать пришлось недолго. Белинский знал историю «Бедных людей» и от Григоровича и от Некрасова. Прав оказался Дмитрий Васильевич Григорович. Только на днях Достоевский позвал его в свою комнату и, бледный, дрожащим, плохо слушающимся голосом прочел роман от начала до конца. Григорович слушал, сначала удивленный, потом потрясенный до слез, потом бросился автору на шею. Что в ту минуту говорилось, Федор Михайлович, конечно, не помнил. Помнил только, что заветная тетрадь исчезла вместе с Григоровичем. В тот же вечер чтение повторилось у Некрасова. А в четыре часа утра они оба явились к Достоевскому.
– Знаю, знаю! – откликнулся, смеясь, Белинский. – Если судить по характеру Григоровича, не приходится удивляться подобному нашествию. Но как Некрасову не пришло в голову, что для литературных визитов выбирают более подходящее время? Впрочем, будь я на их месте, тоже не стал бы ждать, грешный человек. Не каждый день выпадает на нашу долю праздновать рождение таланта, – Белинский на минуту приостановился, – да еще выдающегося таланта, Федор Михайлович. Дай бог всем писателям начинать так, как начали вы!
Достоевский почувствовал, что на щеках выступает предательская краска. Он выпытал и у Григоровича и у Некрасова каждое слово, которое сказал о нем Белинский, прочитав «Бедных людей». Теперь сам слышит лестные слова из уст прославленного критика.
– Однако же, – прервал его размышления Белинский, – вы так ничего и не рассказали о себе. Почему стали писать? Откуда наблюдения ваши?
Оглянул Федор Михайлович всю свою жизнь. Детские годы в Москве, в неуютном отчем доме, унылые годы учения в Петербурге, короткая офицерская служба, отставка. Что тут примечательного? А наблюдения? Тут и вовсе ничего интересного нет. Мыкался по разным квартирам, видывал разных людей, особенно ту бедноту, что несет в заклад последнее; обошел все петербургские закоулки. Так и возникла повесть. Должно быть, от знакомства с сочинениями Гоголя родилось желание писать.
– Гоголь и всегда пребудет вашим отцом, – подтвердил Белинский, – но только злопыхатели назовут вас подражателем Гоголя. И намека нет в вашем романе на подражательность, но тем сильнее утверждаете вы направление Гоголя. Теперь-то и явиться талантам, чтобы служить истине. Вам истина открыта как художнику. Не часто я так говорю, но порукой мне «Бедные люди». А подражатели Гоголя еще будут, конечно, – как же не отдать дань гоголевскому направлению, когда требуют того читатели?! Иные, изловчившись, станут писать под Гоголя, но поднесут читателям бесстыдную ложь или какую-нибудь допотопную ахинею. Вы «Тарантас» Соллогуба читали?
– Читал, – ответил Достоевский. – Повесть многие хвалят.
– В том и суть! – отвечал, нахмурившись, Белинский. – Многие оказались в западне. Вот и написал я о «Тарантасе» целую статью. – Виссарион Григорьевич указал на свежую, июньскую книжку «Отечественных записок», лежащую на столе. – А когда писал, то и во рту и в горле все пересохло от возмущения. Помилуйте, как же это так? Писатель с несомненными способностями, не чуждый в прошлом верных и даже смелых мыслей, что же он нынче проповедует вместе со своими Василием Ивановичем и Иваном Васильевичем? Ну пусть бы пришел автор в умиление от воспоминаний Василия Ивановича о коленопреклоненных мужиках и по этому поводу сам высказал мысли о неизъяснимой любви рабов к господам. Когда читаешь такую вопиющую ложь, тут одной презрительной насмешки хватило бы. А кто таков в повести Иван Васильевич? Проповедует он оголтелое российское невежество и презрение к науке и походя судит обо всем на свете. Литература наша, не угодная Ивану Васильевичу, приравнена к торговле и спекуляции. Оттого-де благородные писатели умолкли, а другие, бездарные и, конечно, пошлые, кричат на всех перекрестках. Тут и критике досталось, беда как досталось! В конце концов договорился Иван Васильевич: мерещится ему та Русь, в которой щеголяли господа дворяне в желтых сафьяновых сапожках. В одном прав автор «Тарантаса»: немало развелось сейчас таких Иванов Васильевичей на святой Руси. Полно их в славянофильских говорильнях. Так что же, сочувствует этим бредням автор «Тарантаса»?
Виссарион Григорьевич по привычке давно расхаживал по комнате и снова остановился перед гостем.
– А нам с вами и дела до того нет! Полезнее взглянуть, что вышло из-под пера графа Соллогуба независимо от его намерений. А вышла жестокая сатира, бьющая насмерть всех наших Иванов Васильевичей. Вышла язвительная карикатура на всех наших Дон-Кихотов, ломающих копья перед новой Дульцинеей Тобосской. Жизнь идет вперед, не замечая ни их бумажных шлемов, ни деревянных копий, ни их желтосафьяновых сапожек. Вот это я старался показать читателям, и в этом смысле признаю «Тарантас» книгой дельной. Как не поблагодарить за нее графа Соллогуба, если давно настало время высмеять славянофильские бредни. Не знаю, правда, как примет он мою благодарность. Впрочем, до этого мне опять нет дела.
Белинский засмеялся, но смех вызвал приступ тяжелого кашля.
– Ну вот, – сказал он, вытирая влажный лоб, – далеко отъехали мы от ваших «Бедных людей», хотя и не случайно было это путешествие. Ведь и про «Тарантас», читая многие сцены, может подумать наивный человек, что написана повесть в духе Гоголя. А какой там Гоголь! Другое дело, когда читаешь о злоключениях Макара Девушкина. Вы до самой сути унижения человека коснулись. Пусть ограниченный у Девушкина ум и часом смешон он, а как человеческое-то в нем раскрыто! Тут уж… – Белинский, не найдя нужного слова, только развел руками. – Истинно владеете вы великим искусством смеха сквозь слезы!
Достоевскому казалось, что время давно остановилось. А Виссарион Григорьевич, по-видимому, только начинал разговор.
– Хочу высказать вам еще одну мысль, – продолжал он. – Страшен вышел у вас помещик Быков…
– Быков? – переспросил автор «Бедных людей». – Мне уже приходилось, представьте, слышать резкое за него осуждение. То есть я хочу сказать, что, вероятно, придется выслушать, – поправился, смутившись, Федор Михайлович: нельзя же рассказывать Белинскому всякие приснившиеся сны.
– Именно помещик Быков, – повторил Белинский, не совсем ясно понимая, что смутило молодого сочинителя. – Тут вы прямо коснулись прав и преимуществ меньшинства. Важнейший вопрос, и не только для России, разумеется. Можно сказать, вопрос вопросов! Есть такая мера, которая заключает в себе все другие, – это деньги. Конечно, в Европе любой пролетарий равен перед законом с самым богатым собственником. Но от этого равенства ему не легче. Собственник смотрит на него как на негра и назначает ему произвольную плату. Хорошо равенство! Если бы рабочий и умер с голоду – буржуа прав перед законом. Хорош закон! Неутомимая жажда к приобретению, волчий голод к золоту составляют единственный пафос философии богачей. Отсюда можно сделать вывод и о нравственности тех, кто управляет миром. Не думайте, что я отвлекся. Конечно, господину Быкову далеко до европейской просвещенной буржуазии, а суть, что у наших владетелей, что у европейской буржуазии, одна: каждый господин Быков спокойно принесет в жертву и честь, и достояние, и самую жизнь тех, кто встретится ему на пути. Судьбу вашей Вареньки должно толковать распространительно. Где же выход?
– Не знаю, Виссарион Григорьевич. Но знаю другое: нельзя жить и не изойти кровавыми слезами. Везде слышу я стоны несчастных. Может быть, когда-нибудь и заткнул бы уши, да, видит бог, не помогает. Эти стоны впиваются и в мозг, и в сердце.
– А путь в будущее есть, – сказал Белинский. – Вы с учением социализма знакомы?
Не ожидая ответа, Белинский заговорил о тех идеях, которые вошли ему в плоть и в кровь. Даже голос его стал неожиданно звонким. Он взмахивал рукой, словно нанося удары ненавистному миру страданий и угнетения.
Поистине, сегодня был знаменательный день в жизни отставного поручика Достоевского. Перелом совершался не только в его судьбе. Белинский открывал ему новый мир.
– Все дело в системе, – заключил Виссарион Григорьевич. – Золотой телец покупает все, начиная с талантов. На службу капиталу поставлены и бог и служители его, обязанные утешать обездоленных на земле обещанием вечного блаженства после смерти. А может быть, – Белинский недоверчиво покосился на гостя, – вы и сами не расстались еще с верой в бога?
– Верую! – твердо сказал Достоевский. – Верую в милосердие божие и думаю, что всеблагое учение Христа способствует нашему нравственному возрождению.
– А?! – без всякого увлечения откликнулся Белинский. – Был как-то у меня здесь, в Петербурге, впрочем, давно, разговор на эту тему. Человек, может быть больше всех нас страждущий за Россию, уверовал, что нравственным перевоспитанием душ спасемся от всех наших бед.
– И что же? – – нетерпеливо спросил Достоевский.
– Не знаю, понял ли он свою беду. – Имени Гоголя Белинский не назвал. – Боюсь одного: как бы не стал он мучеником идеи, основания которой так очевидно ложны. Какое может быть нравственное самовоспитание, если все условия, все отношения жизни порождают безнравственность ежедневно и ежечасно? Нет, батенька, тут нет места самообману. Тут надо прямо сказать: надо ниспровергнуть все отношения, которые калечат человека. Ниспровергнуть! – еще раз повторил Виссарион Григорьевич. – К сожалению, этого не понимают признанные учители социализма. Но об этом открыто пишут в Европе люди, видящие будущее. Ну, мы поговорим об этом в свое время. Надеюсь, теперь мы часто будем встречаться?
Достоевский, вспыхнув, благодарно поклонился, а сам торопился защитить свою веру, сохраняемую с детских лет.
– Страдания Христа, – говорил он в каком-то непонятном волнении, – наше искупление. Именем Христовым живет всякая душа.
– Бессмертная, конечно? – перебил, улыбаясь, Белинский, а спорить не стал. Надо было поберечь гостя: даже голос его дрожал и срывался.
И снова с тоской вспомнил Виссарион Григорьевич о Гоголе. И сейчас же с бодростью подумал: но живет великое дело Гоголя. И перед ним сидит молодой, необыкновенный талант, смело ступивший на поле, вспаханное его, Гоголя, гением.
– Итак, – сказал Виссарион Григорьевич, весело поглядывая на Достоевского, – обратимся пока что к «Бедным людям». – Он раскрыл рукопись. – Многое хотелось мне вам сказать…
Когда Федор Михайлович снова вышел на Невский проспект, дневной жар давно спал. В прозрачном воздухе ярко блестела адмиралтейская игла, устремленная в небо. Чуть трепетали в вечерней истоме деревья, высаженные стройными рядами вдоль тротуаров. На Невском заметно прибавилось экипажей и гуляющей публики. В магазинах теснились покупатели. Если бы присмотреться повнимательнее, сразу бы бросилось в глаза: среди экипажей редко попадались аристократические ландо с пышными гербами. По летнему времени высшее общество покинуло столицу. Зато объявились на столичном проспекте допотопные брички, похожие на разрезанный пополам арбуз или дыню, и никто бы не сказал, из какой глуши, по какой надобности притащились они в столицу.
Покупатели в лавках тоже большей частью походили на провинциалов. По наивности, они торговались даже в тех роскошных магазинах, где и последний прикащик выглядел парижским маркизом. Страшно сказать – на Невском проспекте почти не было слышно изящной французской речи. То и дело раздавалось кондовое словцо, перелетевшее с какой-нибудь тихой дворянской улицы губернского или заштатного городишка.
Ничего этого не видел Федор Достоевский. Свернув с Невского на Загородный, он чуть не попал в объятия какого-то толстяка и услышал себе вдогонку:
– Экий телепень!
Федор Михайлович крепче прижал к груди заветную тетрадку и побежал еще быстрее. Давно ли вышел он, никому не известный, из своей комнаты с плесенью на стенах и вернется в ту же комнату, но как признанный, необыкновенный талант…
Белинский, проводив гостя, пошел к жене.
– Ну, вот, Мари, познакомился я с этим удивительным молодым человеком. Он написал роман вполне зрелый, созданный рукой большого художника. По мне, художественность всегда будет великим качеством литературных произведений, но если при этом нет духа современности, то нет нам нужды и в художественности. Пусть будет даже посредственно художественное произведение, но если оно дает толчок сознанию, выдвигает вопросы и решает их, – это гораздо нужнее нам, чем художественное произведение, которое ничего не дает сознанию.
О, как бы возмутился каждый эстетик, слыша такую ересь! Белинский продолжал:
– В том и сила Достоевского, что он, еще только вступая в литературу, сочетал и то и другое.
Дамы слушали Виссариона Григорьевича молча, с укоризненными улыбками. Пора было ему обратить внимание на этот мягкий упрек.
– Винюсь, винюсь, – спохватился Белинский, – участвуя в празднике нашей словесности, я действительно припоздал к обеду, за что и прошу покорно меня простить.
Ему ответила вместо Мари свояченица:
– Вы скорее перестанете опаздывать к обеду, Виссарион Григорьевич, чем откажетесь пророчествовать. Кто поручится, что вы окажетесь пророком с Достоевским? Вовсе даже не похож он на писателя. Так себе, замухрышка!
– Не знаю, каков будет путь Достоевского, – Виссарион Григорьевич не обратил внимания на слова Аграфены, – но за талант его, огромный и своеобразный, ручаюсь.
– А когда же мы будем читать его необыкновенный роман?
– Очень скоро. Сейчас автор забрал рукопись, чтобы, как он выразился, еще раз ее почистить, а там – в переписку и в печать.
– В «Отечественные записки»? – спросила Мари, до сих пор молчавшая.
– Э нет! Хватит кормить коршуна Краевского!
– Ты опять поссорился с ним? – встревожилась Марья Васильевна.
– Помилуй! Какие еще ссоры могут быть у меня с этим разбойником? Давно нет у нас общего языка. Он меня терпит, потому что мною держится журнал и растут его доходы. А я тяну лямку в надежде, что авось освобожусь когда-нибудь из петли.
– Вы бы присмотрелись пока что к Мари, – посоветовала Аграфена, – Мари опять чувствует себя плохо.
– Правда, Мари? – встревожился Виссарион Григорьевич. – Так немедленно пошлем за доктором!
– Полно, полно, – отвечала Мари, – в моем положении плохое самочувствие вполне естественно. Просто приближается срок. Или ты об этом забыл?
– Бог с тобой! – вырвалось у Белинского. – Неужто не видишь ты нетерпения, с которым жду рождения сына?
– Сына! Всевышний, конечно, выполнит ваш заказ, – съязвила Аграфена. – Кто же смеет перечить Виссариону Белинскому?
– Тебе нужно прилечь, Мари! – Белинский подошел к жене. – Я бы в твоем положении…
– Что ты понимаешь в моем положении! – с раздражением перебила мужа Марья Васильевна.
– Не нужно тревожить Мари, – вступилась Аграфена. – Ваш обед, превратившись в ужин, все еще вас ждет.
Вернувшись в кабинет, крепко задумался Виссарион Григорьевич. Вскоре в доме появится ребенок. Начнется настоящая семейная жизнь. Может быть, тогда улягутся вечные тревоги Мари? Как на грех, его одолел зловещий кашель. Кашлял долго, уткнувшись в подушку: нельзя тревожить Мари.
Каждый раз, когда она слышит его кашель, глаза ее наполняются страхом. И чудится Виссариону Григорьевичу все тот же вопрос: «Как будем жить?»
Глава десятая
«В 1842 году я желала, чтобы все страницы твоего дневника были светлы и безмятежны; прошло три года с тех пор, и, оглянувшись назад, я не жалею, что желание мое не исполнилось: и наслаждение и страдание необходимо для полной жизни, а успокоение ты найдешь в моей любви к тебе, любви, которой исполнено все существо мое, вся жизнь моя. Мир прошедшему и благословение грядущему».
Наталья Александровна Герцен сделала эту надпись 25 марта 1845 года, даря мужу новый альбом для дневника.
Настал новый памятный день их любви. День, которому никогда, казалось, не будет конца. Разве теперь может пасть сумрак на светлое Наташино лицо? Мир прошедшему и благословение грядущему!..
Герцен, как в юности, вернулся в университет. Его можно было видеть на лекциях медицинского факультета и в анатомическом театре. Это было связано с его новой философской работой: «Письма об изучении природы». По существу, то была история философии с древних времен. Но автор, еще ранее указавший, что место философии на площади, что ее назначение – служить массам, не мог, конечно, стать спокойным летописцем блужданий человечества в поисках истины. В самом начале «Писем об изучении природы» была выставлена важнейшая мысль: «Философия без естествоведения так же невозможна, как естествоведение без философии».
Для познания этого единства наук Герцен стал посещать лекции по медицине и анатомический театр.
В университетских аудиториях Герцен присматривался к новому поколению. Там, где появлялся Герцен, не мог не завязаться живой разговор, не мог не вспыхнуть горячий спор. К тому же студенты узнали в нем автора запомнившихся статей «Дилетантизм в науке».
Александр Иванович, вернувшись из университета, с оживлением рассказывал Наташе:
– Представь, наша молодежь с пылом отдается идеям реализма в науке. И самое удивительное: она разгадала невесть как, в чем мы расходимся с Грановским.
– С Грановским? Как будто вы не идете с ним плечо к плечу!
– Однако же… – Герцен задумывается. – Студенты считают Белинского и меня представителями их философских мнений. А в Грановском, страстно любя его, чуют некий романтизм, вернее говоря – приверженность к идеализму. Вот и хотят непременно, чтобы я склонил Грановского на нашу сторону. Тебе ясно, в чем суть?
Наташа еще больше удивилась:
– Разве оба вы не служите одному и тому же делу?
– Да, конечно, – отвечал в какой-то нерешительности Александр Иванович.
Он не раз возвращался к этому разговору.
– Ты помнишь, Наташа, как оживлял Грановский нашу сонную Москву своими публичными лекциями? С каким наслаждением я писал тогда об этих лекциях! И надо было писать, потому что скорпионы выползали со всех сторон, норовя ужалить смельчака. Но тебе, Наташа, признаюсь: когда я слушал эти лекции, я не мог отделаться от одной беспокойной мысли: трактуя историю, Грановский не ушел от идеалистических представлений. Есть, стало быть, между нами межа. Как же ее переступить?
– Вы и стоя у этой воображаемой межи протянете друг другу руки, – откликнулась Наташа.
Герцен посмотрел на нее в раздумье.
В доме на Сивцевом Вражке неумолчно звенели детские голоса.
Первенец Сашка давно не был единственным. Подрастал Николенька, – о нем объявила когда-то мужу Наталья Александровна на концерте Листа. Наконец, явилась совсем еще крохотная дочка Тата.
Летом Герцены сняли дачу неподалеку от Москвы, в старинном имении Соколове. Александр Иванович много работал. Шутка ли – оказаться в безбрежном океане философии и, сражаясь с окостенелыми предрассудками, прокладывать свой путь к познанию мира!
А рядом, так тесно рядом, что Александр Иванович ощущает ее присутствие даже тогда, когда ее нет в его летнем кабинете, заваленном книгами, живет Наташа. Вернее, оба они всегда живут в неразрывном единстве.
Здесь же, в Соколове, поселились Грановские. Наташа все теснее дружит с женой Грановского. У одной из них затаенная сила страстей подчинена несгибаемой воле, у другой – еще не тронуты жизнью почти девичьи мысли; они нашли друг друга, чтобы составить из диссонанса гармонию.
Даже Кетчер, который сбежал обратно в Москву из постылого Петербурга, казалось, мирно отдыхал в привычной среде друзей. Впрочем, это никого не обманывало, все хорошо знали, что неумолимый Кетчер вот-вот обвинит кого-нибудь в себялюбии или в иных смертных грехах. Ничуть не изменился Николай Христофорович после жизни в Петербурге. Все тот же у него знаменитый летний плащ на огненной подкладке, известный всей Москве. Только тайна Серафимы наконец открылась. И Наталья Герцен первая приветила подругу Кетчера, страшно дичившуюся в непривычной для нее среде.
Радостно началось это лето в Соколове. В парке, под любимой раскидистой липой, чуть не до рассвета идут дружеские беседы.
– О какой меже ты, помнится, как-то говорил мне? – спросила у мужа Наташа после ухода Грановских.
– Я слишком люблю шепелявого, – Герцен редко называл Грановского этим дружеским прозвищем, – чтобы мучить и тебя и себя смутными предчувствиями. Так, к случаю, должно быть, сказал.
– Его нельзя не любить, – подтвердила Наташа. – В нем есть какой-то неугасимый свет.
– Пока тьма не объяла нас после отхода оного светильника, идем гулять, Наташа. Только, чур, пойдем далеко-далеко…
Наташа и работа. Работа и Наташа. Иногда он выходил, усталый, из кабинета и спрашивал у жены:
– Что ты знаешь о Гераклите? А между тем этот древний философ был материалистом и, если хочешь, основателем истинной диалектики. Послушай, как поэтична и величественна его главная мысль: мир, единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим. Мир – это извечная борьба бытия и небытия. Недаром и произнес Гераклит свое гениальное: «Все течет!»
Так опять вступила Наталья Александровна Герцен на необъятное поле философии, и хоть называл Герцен новые имена, заглядывал в далекие века, Наташа нисколько не удивлялась. Не первый раз философия становилась спутницей их жизни. Вслед за Гераклитом перед ней явился Анаксагор.
– А софисты! – вдруг объявил Герцен, найдя Наташу в саду. – Они оклеветаны и не поняты. Что за роскошь в их диалектике! Какая беспощадность! Сократ и Платон отреклись от них по праву, потому что повели мысль к более глубокому сознанию. А порицатели софистов, ничего в их учении не уразумевшие, и доселе только повторяют плоские обвинения, достойные их собственной узости и ограниченности. Учиться надо у софистов великому искусству диалектики. Их мысль бесстрашно сокрушала общепринятое и казнила мнимое.
Они опять шли рука об руку, и как-то раз, когда Герцен говорил уже об Аристотеле, Наташа сказала, улыбаясь:
– Каждый раз, когда ты говоришь о философии, мне хочется задать тебе старый вопрос. Угадай, какой?
– Никакой философ не сумеет угадать твоих вопросов.
– Неужели ты не помнишь, что я часто задавала тебе очень житейский, очень простой вопрос: что будет с Любонькой и Круциферским?
– А! Роман? – Герцен отвлекся от Аристотеля. – Но ты же знаешь, что я еще из Москвы отправил рукопись Краевскому. Уж теперь-то они непременно поженятся. Коли будет Краевский печатать, напишу продолжение.
– И философия не помешает?
– Не только не помешает, но окажет великую помощь. Без философской идеи нет и не будет проку искусству. Разумеется, я имею в виду не нашу казенную словесность, хотя и у нее тоже есть своя философия: самодержавие, православие, народность и, разумеется, мзда за усердие.
– А я очень хорошо помню, как некий автор, бросивший работу над романом, сурово отвечал своей единственной читательнице: «Роман подождет – философия меня никуда от себя не отпускает». – Наташа, смеясь, покачала головой. – Мир прошлому! – объявила она.
– И благословение грядущему! – продолжал Герцен, памятуя Наташину надпись в альбоме.
Продолжению разговора помешал Сашка, с криком устремившийся к родителям.
– Ну что ты кричишь каким-то рыбо-птичьим голосом? – обратился к нему отец. – Ты, раскаявшийся славянофил и несостоявшийся естествоиспытатель, где ты слышал рыбо-птичий голос? – Александр Иванович ласково обнял сына. – Признаюсь, Шушка, я и сам такой диковины не слышал. А тебе, чую, нужен новый сачок или ловушка? Ну что ж, давай обратимся к изучению природы. Хватит мне только писать о ней. Иначе тоже, пожалуй, рыбо-птичьим голосом заговорю. Философу тот голос никак не гож.
Смеясь, Александр Иванович взял сына за руку.
– Я пойду сама, – отвечал Сашка.
При почтенном своем шестилетнем возрасте он редко позволял себе вольности в обращении с грамматикой. Но если ставили ему в упрек такую вольность, Сашка резонно отвечал:
– А почему мама так говорит?
Плохо ли, в самом деле, если сын хочет следовать материнскому примеру?
Когда мужчины удалились, Наталья Александровна пошла в дом, к Тате.
Вот и другая Наташа явилась на свет, с такими большими глазами, с таким чудесным отцовским лбом.
Мать пытливо смотрит на Тату. Пусть больше будет похожа Тата на отца, чем на мать. Пусть никогда не повторит Тата ошибки матери, которая так долго жила горечью женской обиды, от всего удалясь.
А теперь жить стало так хорошо, что иногда становится и совестно и страшно. Нельзя раствориться только в семейном своем счастье. Общее, человеческое стучится со всех сторон. Пусть Тата с детства живет с открытыми глазами, пусть думает об общем. А в ее личном счастье пусть всегда живет беспокойная мысль о людях.
Еще только начиналась дачная жизнь в Соколове, как заявился гость из Петербурга – Николай Алексеевич Некрасов. С огромным интересом приглядывался к нему Герцен. Быстро, но прочно вошел в литературу этот молодой человек. Имя его уже стоит на обложке двух сборников «Физиология Петербурга». С горячностью рекомендует его Герцену Белинский.
Николай Алексеевич привез короб известий о Белинском, о новых замыслах, которые вынашивает он вместе с Некрасовым.
– Какие люди растут, – сказал после отъезда петербургского гостя Герцен Наташе, – удивительные люди! Кстати, возникла у меня новая мысль: если не станет печатать мой роман Краевский, отдам его в альманах Белинскому. У них с Некрасовым такие замыслы!
На смену Некрасову в Соколово приехал новый гость – Павел Васильевич Анненков. Павла Васильевича интересовало все: и работа Герцена, и замыслы Грановского, и переводы Шекспира, которыми занят Кетчер. Как не погостить ему в Соколове?
Анненкову показалось, что между единомышленниками москвичами нарастает какой-то диссонанс. Это можно было уловить в иронических шутках Герцена, в неспокойном состоянии духа Грановского. При Анненкове и произошло событие, чреватое многими последствиями. Разговор на прогулке (а в Соколове не вели пустопорожних разговоров) свернул на Белинского. Поводом была только что вышедшая его статья о «Тарантасе» Соллогуба. Разговор шел своим чередом. Вдруг Грановский остановился и, волнуясь, заявил:
– Я должен сказать прямо – по многим литературным и нравственным вопросам я сочувствую гораздо более славянофилам, чем Белинскому.
Казалось бы, грянул гром среди ясного неба. Но никто не удивился. Видимо, гроза давно собиралась.
Только Кетчер обрушился на Грановского с обычным громогласием. Он утверждал, что Белинский прав в своей ярости ко всякой неправде, к гнусной несправедливости по отношению к народу. Но читатели не знают полностью взглядов Белинского, которого душит цензура.
Грановский еще раз всех удивил.
– Об уме, таланте и чести Белинского, – сказал он, – не может быть спора. Но Белинский если сделался у нас силой, то обязан этим не только себе, но и цензуре. С его нервным, раздражительным характером, резким словом и увлечениями он никогда бы не справился с собой, не будь цензуры. Цензура заставила его обдумывать планы своих критик и способы выражения. Белинский не имеет права жаловаться на цензуру, хотя и благодарить ее не за что: она тоже не знала, что делает.
Кто-то заметил, что резкие выходки Белинского происходят из горячего чувства, возмущенного положением, до которого доведен народ. Грановский присоединился к этому мнению. Впрочем, он снова находил излишества критика явлением ненормальным и печальным и на это особенно упирал.
Спор, казалось, иссяк.
Когда вернулись с прогулки, Анненков уединился, чтобы записать важный разговор. В одном ошибся летописец. Ему показалось, что каждый из спорящих очистил свою совесть и все вернулись к прежним дружеским отношениям.
В тот же день, совсем поздно, Наталья Александровна Герцен нашла мужа на веранде.
– Я ничего не понимаю, – сказала она, – что случилось с Грановским?
– А я, Наташа, к великому сожалению, очень хорошо понимаю.
– И ты молчал?
– Может быть, потому и молчал, что поздно разубеждать.
– Даже тогда, когда твой друг открыто говорит об измене?
– Он остается верен самому себе. Он верует в свою науку, в свои лекции, он будет звать к добру и к просвещению, но до смерти пугает его мысль о том, что насквозь гнилые, порядки жизни подлежат насильственному уничтожению.
– И страха ради будет приписывать даже цензуре благотворное воздействие на Белинского и осуждать его за резкость и крайности?
– В том и видит Грановский утешение для собственной совести.
– А потом и в самом деле объявит себя славянофилом?
– Тут и ты, милая, впадаешь в крайность. Тот, кто хочет сидеть между двух стульев, никогда не примкнет ни к одному из враждующих лагерей. Есть средний путь – умеренность. Вместе с Грановским так думают многие.
– Как мне тяжело.! – Наташа была в чрезвычайном волнении. – Ты должен говорить с Грановским. Я сама буду с ним говорить. Ведь это измена всему святому – и друзьям и будущему.
– Попробуем лучше, – отвечал Герцен, – сохранить нашу дружбу, не касаясь того, что нас разъединяет. Покаюсь тебе, у меня нет силы оторвать Грановского от сердца, хотя и знаю, что есть человек, который бы поступил иначе.
– Белинский? – спросила Наташа.
– Он…
О многом переговорили они в тот поздний час. Герцен не заблуждался: чем дальше, тем больше будет потерь. Но все возместят новые союзники. Они растут, они уже подходят.
– Дай руку, Наташа! – с чувством закончил Александр Иванович. – Счастлив наш с тобой союз единством и мысли и чувства!
Работы у Герцена в то лето было так много, что он забросил свой дневник. Но как бы ни был он занят философией или мыслями о романе, как ни воевал со славянофилами, – если бы раскрыл дневник, все его существо отлилось бы, пожалуй, в одном слове: Наташа! В Наташе все для него: и общее и личная жизнь.
Глава одиннадцатая
Девочку назвали Ольгой. С того июньского дня, когда она появилась на свет, на ней сосредоточилась вся жизнь в квартире Белинского. У колыбели несли недреманное дежурство Марья Васильевна и Аграфена. Если же подходил поглядеть на дочь счастливый отец, на него махали руками и смотрели с таким ужасом, будто от одного его приближения возникала для Оленьки смертельная опасность.
Впрочем, Виссарион Григорьевич и сам сознавал свою полную беспомощность. Когда нужно было подать чистую пеленку, он с усердием метался по комнате, однако редко достигал успеха. Он мог перепутать пеленку со свивальником! И его, конечно, прогоняли.
Белинский уходил к себе и прислушивался. Оленька часто плакала. Юные особы при первых столкновениях с жизнью часто плачут. Но Марья Васильевна не могла этого переносить. Мысль о том, что Оленька может заболеть, преследовала ее и днем и ночью. Медики стали частыми посетителями дома. Только в их присутствии успокаивалась встревоженная мать.
Непредвиденные расходы увеличивались. Счастливый отец забирал деньги у Краевского вперед. Андрей Александрович не отказывал, но давал чувствовать свое благодеяние то сочувственно-снисходительной интонацией, то встречной просьбой: разобрать для журнала еще какую-нибудь чепуховую книгу.
Ольга Виссарионовна Белинская, меньше чем кто-либо другой, была повинна в тех трудных обстоятельствах, которые изо дня в день должен был преодолевать ее отец. Несмотря на сумятицу в доме, именно теперь работал Белинский в полную силу.
Так писалась и рецензия на сборник стихотворений Петра Штавера. Под этим псевдонимом укрылся поэт, сотрудничавший и в «Библиотеке для чтения» и в «Маяке» – в этом удивительном журнале, который по мракобесию своему стоял вне минимальных литературных приличий.
Петр Штавер ничем не отличался от прочих щебечущих стихотворцев. Они охотно приглашали читателей на кладбище, чтобы убедиться в тщете всего земного, взывали к ангелоподобным девам и прочее и прочее. Этого было совершенно достаточно для того, чтобы поделки Штавера были названы в плетневском «Современнике» замечательным явлением русской литературы. Не унимаются жрецы «чистого искусства»!
Вначале вроде бы добродушно посмеялся Виссарион Григорьевич над «замечательным явлением». Стихотворец Штавер объявлял читателям: «Я понесусь на небо вольной птицей», – Белинский деловито заметил: в небе, то есть в верхних слоях атмосферы, пусто и холодно, а человеку хорошо только с людьми.
Петр Штавер собирался совершить свой путь к небу на победной колеснице. Критик спокойно объяснил: ездить на победной колеснице, конечно, приятно, но только тогда, когда вместе с вами торжествует правое дело. Иначе… Что ж тут приятного?
В соседней комнате, где пребывала Оленька, стояла невозмутимая тишина. Белинский приступил к главной теме рецензии, поводом для которой была книжка Штавера.
«Вообще, люди, – писал критик, – по своей натуре более хороши, нежели дурны, и не натура, а воспитание, нужда, ложная общественная жизнь делают их дурными».
Тишина в соседней комнате вдруг взорвалась. Оттуда прибежала Аграфена:
– Оленька закашлялась! Идите к ней, ведь вы как-никак отец!
Отец бросился на помощь дочери. Но Оленька не собиралась больше кашлять. Она взглянула на родителя с любопытством. Хотела улыбнуться, но вместо того приветливо пустила слюни.
Рядом с колыбелью стояла Мари. В ее глазах застыл ужас. Бедняжка! Она умела отравить даже материнское свое счастье.
Так и не ушел бы от дочери Виссарион Григорьевич, благо его никто не гнал. Но истекали последние дни сдачи материалов в журнальную книжку. Пришлось вернуться в кабинет. Виссарион Григорьевич продолжал развивать мысль о назначении поэта:
«Ему принадлежит по праву оправдание благородной человеческой природы так же, как ему принадлежит по праву преследование ложных и неразумных основ общественности, искажающей человека…»
Ясно ли сказано о ложных и неразумных основах общественности? Лучше бы, конечно, прямо сказать: тот поэт будет служить вам, люди-братья, кто кликнет: разрушайте неразумные отношения, которые мешают вашему братству и искажают натуру человека. Прибегая к иносказанию, Виссарион Белинский зовет читателей к спасению от душевного застоя и спячки.
В кабинет пришла Мари:
– Оленька не спит.
– А какой прок в спячке? – отвечал Виссарион Григорьевич, не отрываясь от статьи.
– Ты понимаешь, что говоришь? А если Оленька больна?
– Полно, Мари! – не выдержал Белинский. – Прошу тебя, освобождайся от беспочвенных страхов. Иначе вконец себя замучаешь. Не для себя, для дочери прошу!
Марья Васильевна безнадежно вздохнула и ушла. Виссарион Григорьевич пошел за ней.
– Ну чего же ты не спишь, негодница? Вот я тебя… – начал было он, подходя к колыбели, но тут стеной встали перед ним жена и свояченица.
– Тише! Оленька засыпает! Есть ли на свете еще такой несуразный отец?!
Несуразный отец сконфуженно убрался восвояси.
Статья о стихотворениях Петра Штавера шла к концу. Да и бог с ним! Пустяковая книжка была поводом для Белинского, чтобы поговорить с читателями о первопричинах социального зла. А на столе лежал, ожидая очереди, пухлый «Славянский сборник» Савельева-Ростиславича, вышедший в Петербурге. Автор принадлежал к славянофилам и издавна появлялся на страницах петербургского «Маяка». Но одно дело – «Маяк», даже о существовании которого не знают многие жители столицы, другое дело – целая книга в семьсот страниц, в тексте которой уместилось полторы тысячи наукообразных примечаний. У Белинского чесались руки, чтобы разобрать новые славянофильские бредни, доведенные в сборнике Савельева-Ростиславича до абсурда. Даже Ахилла, героя древней «Илиады», автор считал не эллином, а скифом, скифы же были причислены к славянству. Фанатик готов был представить всю историю мира не иначе, как историей славян.
Еще непременно надо Белинскому ответить профессору Погодину, который сделал открытие не менее удивительное. Профессор Погодин утверждал: родимая почва была упитана не кровью, но слезами наших предков, претерпевших и варягов, и татар, и нашествие Наполеона. «Выходит, – заметил себе для будущей статьи Белинский, – мы не дрались, а только плакали!»
В свободную минуту Виссарион Григорьевич отдыхал у дочерней колыбели. Растет, цветет красавица дочь! Правда, не ахти как растет: все еще не может ухватиться за отцовский палец.
Медики дружно советовали везти ребенка на дачу. Дача! Легко сказать, а как такой переезд осуществить? Есть, конечно, прекрасные места под Петербургом, даже воспетые поэтами. Но дачи в тех местах недоступны для журнального труженика. Другое дело – какое-нибудь Парголово, куда выезжают семейства мелких чиновников. Пусть дача будет напоминать неказистую хибарку, зато сходна по цене.
В Парголово и переехали Белинские. Гуляют дачники по берегу озера, любуются природой, считают дни летнего отдохновения. У Виссариона Григорьевича свой счет: кончил работу для июльского номера «Отечественных записок» – начал для августовской книжки; еще не покончил с августом – думай о сентябре.
В самый разгар работы Виссарион Григорьевич вздумал выкупаться в озере. Ночью спал при открытом окне. Под утро он горел в жару и бредил. Открылось сильное воспаление легких. Больного пришлось везти в Петербург.
Но сентябрьский номер «Отечественных записок» вышел с капитальной статьей Белинского о сборнике «Сто русских литераторов» – издании известного книгопродавца Смирдина.
Пушкин соседствовал в этом издании с бульварным романистом Зотовым. Рядом с Крыловым красовался Фаддей Булгарин. Без всякого на то права в галерее «ста» заняли место справедливо забытые или никому не известные авторы назидательных повестей и даже представители откровенно рыночной литературы. Не случайно же этим изданием фактически заправляли бывшие триумвиры – Сенковский, Булгарин, Греч.
Было о чем поговорить в рецензии на «Сто литераторов» Виссариону Белинскому.
Когда читатели «Отечественных записок» читали статью Белинского, никому и в голову не могло прийти, что он, душа журнала, вынужден был писать в той же журнальной книжке и о «Французской азбуке», и о «Наставлении о шелководстве», и даже о «Расчетах по 5 и 6 процентов в таблицах». Андрей Александрович Краевский принимал своего главного сотрудника за вола, с которого можно драть семь шкур и более.
Белинский был между жизнью и смертью. Марья Васильевна, сдав Оленьку на руки Аграфене, превратилась в преданную сиделку.
– Не беспокойся, Мари, выдюжу, – сказал Виссарион Григорьевич, едва выйдя из беспамятства. – Да и как не выдюжить, видишь, сколько за мной работы, – Белинский указывал на новые книги, присланные для рецензий из редакции «Отечественных записок».
Начали приходить и записки от Краевского. Должен же многоуважаемый Виссарион Григорьевич войти и в его положение: октябрьский номер журнала никак не может опоздать, а с другой стороны, он не может выйти без статей и рецензий Белинского.
– Вот я и выдюжил, – говорил Виссарион Григорьевич жене. А сам ходил по кабинету непривычно медленными шагами.
Он, пожалуй, и совсем выздоровел в тот день, когда Мари застала его за чтением биографии Державина, только что выпущенной Николаем Полевым. Полевой был старый знакомец. Когда-то он издавал лучший для своего времени журнал «Московский телеграф». Закрыли власти «Телеграф», и Полевой страха ради перебежал в лагерь булгариных. Теперь од поставляет на петербургскую сцену квасно-патриотические пьесы вроде «Войны Федосьи Сидоровны с китайцами» и пишет столь же квасные и доносительные статьи.
– Что с тобой? – встревожилась Мари, видя необычайное волнение мужа.
– Пойди к Оленьке, – отвечал Виссарион Григорьевич, – я буду неотложно занят. – И шагнул, не оглядываясь, к конторке.
На этот раз Полевой сделал в статье о Державине неожиданное отступление. Не упоминая имен, Полевой говорил о критике, который осудил Державина за недостаток художественности, а сам стоял на коленях перед жалкими произведениями новейших романтиков и с восторгом рассматривал вонючую грязь малограмотного романиста.
Под именем малограмотного романиста подразумевался Гоголь. Как же Белинскому молчать? Когда ему болеть?
Глава двенадцатая
Пожалуй, читатели «Отечественных записок» так и не заметили беды, приключившейся с Белинским. Издатель же журнала, аккуратно получавший от него статьи и рецензии, почувствовал даже некоторое освобождение от надоевшей опеки. Краевский стал подыскивать вполне приличных авторов для журнала. Но стоило встать на ноги Белинскому, Андрей Александрович снова услышал знакомый голос:
– Этакая дрянь лезет в «Отечественные записки»!
Белинский писал очередную статью о Пушкине. Надо было готовить обзор литературы за оканчивающийся 1845 год. Да если бы только журнальные дела были на руках!
Уже три года прошло с тех пор, как умер Алексей Кольцов, но если и вспоминают о Кольцове в благонамеренных журналах, то только для того, чтобы презрительно назвать его прасолом, вздумавшим сесть не в свои сани. Кто же, как не Виссарион Белинский, скажет правду о поэте-самородке?
«Кольцов родился для поэзии, которую он создал, – писал критик. – Он был сыном народа в полном значении этого слова».
Белинский создает биографию поэта, впервые публикует его письма.
…Когда выдавался редкий у петербургской осени день без дождя, Виссарион Григорьевич выходил с женой для недальней прогулки – и кашлял. Возвращался домой – душил новый приступ сухого, надрывного кашля.
Дожди вскоре прекратили даже эти короткие прогулки. Слава богу, стало больше времени для работы. Если Марья Васильевна старалась отвлечь его от рукописи, Виссарион Григорьевич отвечал ей:
– Если я не буду работать, как тогда будем жить?
Что могла ответить Мари?
Он отсылал жену и брался за перо. А то пойдет к дочери. Мать и тетка стоят на страже у колыбели. Поглядит на них счастливый отец и зальется долгим смехом: растет, вопреки всем страхам, ненаглядная дочь, Олюшка-собачка. Вот ведь какую несуразную ласку придумал для дочери несуразный человек!
В Петербурге не было никого из друзей. Все еще с лета разъехались в разные стороны. И тревожится Виссарион Григорьевич. Задуман новый литературный сборник, который намного превзойдет «Физиологию Петербурга». Цензура уже разрешила к печати «Бедных людей». А автор застрял в Ревеле, у родных. Тургенев дал повесть «Три портрета» и поэму в стихах «Помещик». Очень хорошо! Но сам упорхнул за границу.
– Италомания, сиречь итальянобесие! – иронически улыбается Виссарион Григорьевич. – Но, сдается, у этой неожиданно разгоревшейся страсти все то же имя: Полина Виардо. Вот и вытащи теперь Тургенева из Парижа!
Рукописи для будущего сборника прибывают. Даже Иван Иванович Панаев дал любопытную картинку нравов – «Парижские увеселения».
– А коли заподозрят читатели, что автор «увеселений» сам немало погрешил в парижских притонах? – допытывался, прочтя очерк, Белинский.
– Представьте, – отвечал Панаев, – Языков мне покоя не дает: с читателей, мол, и рассказанного хватит, а ты напиши особое продолжение для избранных друзей. «Поезжай, отвечаю, сам в Париж, а я, коли хочешь, услужу тебе кое-какими адресами». Да бог с ним, с Языковым! Я, Виссарион Григорьевич, к увеселениям контрасты представил. Обратите внимание на эти страницы.
Панаев описывал камеру исправительной полиции. Судят женщину. Отчаяние и голод привели ее к столкновению с законом: преступление ее состоит в том, что она просила милостыню. Парижский блузник берет на поруки и мать и дитя, хотя скуден его достаток для пропитания даже собственного семейства.
– Надо было мне поближе присмотреться в Париже к этим блузникам, которых именуют ныне пролетариатом, да как-то руки не дошли, – заключил Иван Иванович.
Он уехал с Авдотьей Яковлевной в Москву, а оттуда – в казанскую вотчину.
Пусть бы Иван Иванович Панаев развлекался после Парижа в Тетюшах, сменив французских лореток на отечественных пейзанок. Но вслед за Панаевым отправился в Москву Некрасов. Непростительное легкомыслие! «Давно бы пора ему вернуться», – размышлял Виссарион Григорьевич.
Но первым вернулся из странствий Достоевский.
– А, душа бессмертная! – Белинский страшно ему обрадовался. – Что новенького привезли?
Федор Михайлович был бодр и полон замыслов. Нет, не праздно провел он время в Ревеле. Начата новая повесть. Только трудно рассказать ее содержание. Живет в Петербурге ничем не примечательный чиновник, скажем, господин Голядкин. Ну, и случаются с ним всякие приключения. Правда, caм Голядкин, если признаться, плохо дается в руки автору. Однако Федор Михайлович надеется скоро закончить повесть.
– А мы еще раньше почитаем, коли найдутся готовые главы, – не терпится Белинскому.
И пошли у них разговоры изо дня в день, благо не мешал никто из посетителей. Теперь не упустил возможности Виссарион Григорьевич наставить на путь истины «душу бессмертную». Достоевский только бледнел от волнения, но результат превзошел все ожидания. Может быть, Федор Михайлович и не вникал толком в суть социализма и еще меньше вслушивался в слова Белинского о том, что только революция может к социализму привести, но весь горел при мысли об избавлении человечества от извечных страданий.
В кабинете Белинского погружался Федор Михайлович в мир волнующих идей, а стоило перейти из кабинета в соседнюю комнату, он сразу чувствовал душевное успокоение. Из всех посетителей, кто засиживался в кабинете с Виссарионом Григорьевичем, один Достоевский легко и быстро подружился с Марьей Васильевной. Никто другой не умел так внимательно слушать ее жалобы на недомогания Оленьки и с опытом, удивительным в молодом человеке, развеять материнские тревоги. Федор Михайлович никогда не путал пеленки со свивальником и даже знал чудодейственную силу настоя из ромашки. Марья Васильевна могла вступить с ним в наисерьезнейший разговор о воспитании дочери. Ольга Виссарионовна в свою очередь охотно дарила этому молодому человеку первые в своей жизни улыбки.
– Ах ты собака моя неверная! – только и мог воскликнуть обойденный вниманием отец.
Федор Михайлович несколько опешил, услышав такую странную ласку.
Все складывалось для Достоевского как нельзя лучше до тех пор, пока в Петербург не вернулись Панаевы. При первой же встрече Авдотья Яковлевна проявила понятный интерес к автору романа, о котором восторженно отзывался Белинский. Достоевский глядел на нее с восхищением, которого не думал скрывать, и отвечал невпопад. Он нелепо взмахивал руками, будто собирался взлететь на невидимых крыльях, а потом как убитый молчал весь вечер.
«Кажется, я влюбился», – с ужасом догадался Федор Михайлович и, как все влюбленные, был свято убежден, что никто не знает его тайны.
Но странное поведение будущей знаменитости все больше бросалось в глаза. Над ним уже подсмеивались. Только Авдотья Яковлевна была полна сочувствия к молодому человеку, попавшему в беду без всякого ее намерения.
– Он, должно быть, очень одинок, – объясняла Авдотья Яковлевна тем, кто не прочь был подшутить над ее незадачливым поклонником.
Может быть, в эти минуты она думала и о себе. Авдотья Яковлевна тоже чувствовала себя одинокой. Она вышла замуж раньше, чем проснулись ее чувства. Да и легкомысленный Иван Иванович мог бы без нее построить свою жизнь. Но именно теперь, когда горькая истина раскрылась, ей встретился человек, который… А может быть, именно потому, что явился этот человек, и родились мысли об одиночестве? В этой путанице было совершенно невозможно разобраться. Одно было ясно: Федор Михайлович Достоевский не имеет никакого отношения к волнениям Авдотьи Яковлевны…
– Наконец-то! – встретил Некрасова Белинский. – Каково нагулялись? – Виссарион Григорьевич прикрыл радость от встречи неожиданным как будто вопросом: – А за каким чертом носило вас в Москву? – И, не ожидая ответа, указал на рукописи: – Жду вас, государь мой, многое давно пора сдавать в типографию. Эх вы, путешественник! – Виссарион Григорьевич еще долго корил беглеца не то в шутку, не то всерьез.
Работа по выпуску нового литературного сборника закипела. Некрасов взял на себя все хлопоты по изданию и, ведя переговоры с бумажными фабрикантами и типографией, чувствовал себя как рыба в воде.
Уже было избрано название будущей книги: «Петербургский сборник», – только сам издатель Некрасов ничего еще в сборник не давал.
– Ужели и теперь останется в нетях Тихон Тросников? – спрашивал Белинский.
– Повременим, – отвечал Николай Алексеевич. – Куда же печататься ему рядом с романом Достоевского? Да и не готов Тросников, вовсе не готов…
– Ну, разумеется! – еще раз кольнул Белинский. – Беда герою, коли автор пустился в странствия, к тому же совершенно беспредметные. – Белинский гнал от себя смутную мысль, а она настойчиво возвращалась: кажется, Некрасов подпадает под чары Авдотьи Яковлевны куда сильнее, чем об этом в шутку пророчествовал он сам.
Некрасов отмалчивался. Как-то вынул из кармана тонкую стопку исписанных листов.
– Прочтите на досуге, Виссарион Григорьевич, подойдет ли для «Петербургского сборника». – И страшно заторопился с уходом: непременно надо быть ему в типографии.
Когда Некрасов пришел на следующий день, Белинский, вместо приветствия, встретил его стихами, которые прочел наизусть:
– Скучно! Скучно! Ямщик удалой, Разгони чем-нибудь мою скуку! Песню, что ли, приятель, запой Про рекрутский набор и разлуку; Небылицей какой посмеши, Или что ты видал, расскажи — Буду, братец, за все благодарен…– Охотно вам признаюсь, Некрасов: по этой пьесе удостоверился я, что вы истинный поэт!
Кроме стихотворения «В дороге» Некрасов дал в «Петербургский сборник» «Колыбельную песню», «Отрадно видеть, что находит порой хандра и на глупца…» и «Пьяницу». Все вместе и каждое в отдельности, эти стихотворения были суровым приговором миру сытых и благоденствующих.
– Прав был некий критик, – снова заговорил Белинский, – когда в свое время осудил ваши «Мечты и звуки» и за посредственность и за подражательность. Ныне тот же критик говорит вам: все будет у вас в поэзии свое, незанятое. И самое главное: грозной будет ваша поэзия для всех и всяческих мертвых душ!.. Ну, хватит пророчествовать, – перебил себя Виссарион Григорьевич. – Как подвигаются дела в типографии?
Кажется, Белинский снова хотел спросить, за каким чертом носило Некрасова в Москву, но вместо того он глубоко задумался.
Глава тринадцатая
Плохо было со здоровьем у Белинского. Марья Васильевна охраняла покой больного. Только приходам Достоевского она никак не препятствовала. А Виссарион Григорьевич, заслышав знакомый голос, сейчас же выйдет из кабинета:
– Как идет повесть, Федор Михайлович?
– Представьте, идет, хоть и не так быстро, – отвечал Достоевский, кажется, сам удивляясь. Несмотря на страдания автора от безнадежной любви к Авдотье Яковлевне Панаевой, повесть шла как ни в чем не бывало.
– Вот и отлично! – радовался Белинский. – Все остальное, поверьте мне, пройдет, и даже скоро.
Федор Михайлович саркастически улыбался.
Марья Васильевна и Аграфена проявляли к безответно влюбленному молодому человеку гораздо больше сочувствия. Ведь это был настоящий трагический роман, протекавший на их глазах.
– Как его спасти? – спрашивала Аграфена.
– Насчет Федора Михайловича могу вас утешить, – – смеялся Белинский, – вся его дурь скоро пройдет.
– Он не похож на некоторых других мужчин. – Аграфена Васильевна бросила на бесчувственного человека взгляд, полный укоризны.
Виссарион Григорьевич, кажется, не заметил камешка, пущенного в его огород.
– Если и влюблен в кого-нибудь Достоевский, – продолжал он, – то только в своего нового героя – Голядкина. Все остальное он просто вбил себе в голову.
Хорошо, что после этого Виссарион Григорьевич сразу ушел к себе. Ни Мари, ни Аграфена не успели вступиться за влюбленного.
В кабинете – полно рукописей. От статьи о Пушкине Белинский переходит к статье о Кольцове. Пишет о Кольцове и думает о Некрасове. Что будет, если безрассудно и безнадежно влюбится одинокий человек? По собственному опыту знал Виссарион Григорьевич, какие наваждения бывают в жизни. Стоит вспомнить о Прямухине.
Он прислушался к разговору в соседней комнате: дамы все еще говорили о Достоевском. История, приключившаяся с автором «Бедных людей», занимала всех.
Достоевский стал частым гостем у Панаевых. Он забыл, казалось, о гордости и о самолюбии. Он не замечал ни иронических улыбок, ни того участливого внимания Авдотьи Яковлевны, которое дарится только от великодушия. Он не видел и того, какие долгие, оживленные разговоры вела Авдотья Яковлевна с Некрасовым.
Что-то новое чудилось в этих разговорах Белинскому, но в это время с ним сурово поступили доктора: снова запретили выходить из дома.
– Опять запоздали? – придирчиво встречал он Некрасова. – Где изволили пропадать?
– Я только на минуту привернул к Панаевым. Авдотья Яковлевна непременно собирается вас навестить.
– Спасибо ей, – отвечал Белинский, присматриваясь к гостю: как-то изменился в последнее время Николай Алексеевич – словно стал выше ростом, словно шире стала грудь.
– Вот гранки герценовской статьи, Виссарион Григорьевич.
В «Петербургский сборник» шла статья Герцена «Капризы и раздумье». Белинский взял гранки. Посмотрел на них, ласково разглаживая.
– Сделайте милость, прочтите мне любимое место. – Он сел на диван, откинулся на подушки и, приготовившись слушать, закрыл глаза.
– «Когда я хожу по улицам, – читал Некрасов, – особенно поздно вечером, когда все тихо, мрачно и только кое-где светится ночник, тухнущая лампа, догорающая свеча, – на меня находит ужас…»
Некрасов взглянул на Белинского: не задремал ли от слабости Виссарион Григорьевич? Белинский открыл глаза:
– Продолжайте!
– «За каждой стеной мне мерещится драма, за каждой стеной виднеются горячие слезы, – слезы, о которых никто не сведает, слезы обманутых надежд, – слезы, с которыми утекают не одни юношеские верования, но все верования человеческие, а иногда и самая жизнь. Есть, конечно, дома, в которых благоденственно едят и пьют целый день, тучнеют и спят беспробудно целую ночь, да и в таком доме найдется хоть какая-нибудь племянница, притесненная, задавленная, хоть горничная или дворник, а уж непременно кому-нибудь да солоно жить. Отчего все это?..»
– И кто в этом виноват? – продолжил Белинский. – Эх, напечатать бы нам в сборнике роман Герцена… Да разве вырвешь рукопись у Краевского! Очень опасался он, пока Герцен живописал жизнь господ Негровых, а как заверил автор, что Негровы сходят со сцены, так и осмелел: обязательно, мол, закончим этим романом текущий год. Одного не понимает: что бы ни писал Герцен, не будет пощады мертвым душам.
Белинский встал было с дивана и опять прилег.
– Кстати, Николай Алексеевич, – продолжал он без всякого перехода, – помните ли вы, что именно я усиленно рекомендовал вам познакомиться с Панаевыми?
Некрасов очень хорошо это помнил.
– Да, сударь! Прошу не забывать… Впрочем, это я так, к слову. К тому я вспомнил о Панаевых, – продолжал Белинский, – что на днях собираюсь прочесть у них свои «Мысли и заметки о русской литературе», которые приготовил для сборника.
«Заметки» были готовы, но чтение у Панаевых не состоялось.
Иван Сергеевич Тургенев, вернувшись из-за границы, застал Белинского в приступе злой лихорадки. Лицо его пылало жаром, он менял освежительные компрессы.
– В бреду или наяву вижу вас? – Белинский подал руку, рука была горячая, рукопожатие слабое. Но Белинский сел и сбросил компресс. – Очень я соскучился. Все съезжаются, а вас нет.
Тургенев начал было рассказывать о своих странствиях. За полгода отлучки успел побывать и в Париже, и на юге Франции, и в Пиренеях.
– А насчет итальянобесия как? Исцелились? – перебил Белинский.
– Нет, – не колеблясь отвечал Иван Сергеевич. – Что бы ни случилось со мной, каковы бы ни были горести, – а я их предвижу, – я умру, благословляя ниспосланное мне чувство.
За окнами лил осенний дождь, вперемежку сыпался с невидимого неба мокрый снег. Петербург был окутан непроглядной тьмой. А Иван Сергеевич и сейчас видел солнце, солнце светило ему там, где пребывала Полина Виардо.
Слушал Тургенева Виссарион Григорьевич и вдруг улыбнулся.
– Надо бы поучить вас уму-разуму, да ладно, будет на то время. Скажите, что дадите для нашего сборника?
– Могу, Виссарион Григорьевич, коли есть надобность, подбросить кое-какие переводы из Байрона или Гёте.
– А у нас им славная компания найдется. Даем перевод пьесы Шекспира. Если бы ругать вас почаще, право, вышел бы из вас толк. – А сам смотрел на Тургенева ласковыми глазами.
Как же было не околдовать Тургеневу автора «Бедных людей»!
– Что за человек! – восхищался Достоевский. – Поэт, талант, аристократ, богач, умен, образован, двадцать пять лет, – я не знаю, в чем природа отказала ему.
Тургенев в свою очередь заинтересовался Достоевским: недаром так щедр в похвалах ему Виссарион Григорьевич.
Белинский, глядя на съехавшихся друзей, не раз впадал в глубокое размышление. Странная выдалась осень. Безумствует от мнимой любви Достоевский. Тургенев тоже готов на безумства, но тут Виссарион Григорьевич не находит слова для осуждения. А что творится с Некрасовым?
Авдотья Яковлевна Панаева, частенько заходившая к Белинскому, принесла важные новости.
– В Петербург приехал интересный человек – Григорий Михайлович Толстой, – рассказывала гостья. – Мы познакомились с ним еще в нашу бытность в Париже. Мне привелось нередко слушать беседы нового знакомца с Бакуниным. Они сулили пришествие революции в Европу если не сегодня, так непременно завтра.
– Оба, стало быть, охочи до революционной фразы?
– Не мне о том судить. Помню только, что Толстой был неразлучен с Бакуниным и везде объявлял о единомыслии с ним. Меня, признаться, вот что удивляло в Толстом: из всех своих парижских знакомых он предпочитал встречи с теми, кто вращался среди блузников.
– А вот Иван Иванович, – вспомнил Белинский, – говорит, что до блузников у него руки не дошли. Эх, взять бы вам его в руки, голубушка Авдотья Яковлевна! – неожиданно вырвалось у Белинского. – Ну, рассказывайте дальше о Толстом.
– Да, пожалуй, и нечего долго рассказывать. Теперь Григорий Михайлович едет в свое имение и горит добрыми намерениями радикально улучшить жизнь крестьян. А я, Виссарион Григорьевич, простите за женскую слабость, думаю: в казанскую глушь едет человек прекрасного воспитания, умница, европеец, богач и, представьте, холостяк: какой же переполох поднимется среди тамошних помещиц с взрослыми дочерями на руках!
Авдотья Яковлевна смеялась так заразительно, что Виссарион Григорьевич начал ей вторить. Редко о ком-нибудь отзывалась Авдотья Яковлевна с таким воодушевлением. Должно быть, действительно необыкновенный человек этот Толстой.
Новые вести принес Панаев:
– Скорее поправляйтесь, Виссарион Григорьевич, готовлю вам интереснейшую встречу. А с кем – секрет.
– Вовсе не секрет, – отвечал Белинский. – О необыкновенном казанском помещике Толстом я уже наслышан.
– Откуда? – огорчился Панаев.
– От умнейшей и прекраснейшей Авдотьи Яковлевны, – объяснил Белинский. – Горе вам, Панаев, коли не умеете ее ценить!
Иван Иванович не обратил внимания на эту горячую аттестацию.
– Да где же знать Авдотье Яковлевне о том, что представляет собой Толстой? А вот не угодно ли? Казанский помещик выезжает за границу, знакомится с выдающимися журналистами Парижа, участвует в заседаниях социалистических комитетов и становится, прямо скажу, видной фигурой на европейском горизонте. Если мне не верите, спросите Бакунина или Боткина.
– О, Боткин! – с укоризной отозвался Белинский.
Василий Петрович Боткин, уехав в давнее время за границу, очень быстро расстался с Арманс, предавшись новой рефлексии. Потом он долго путешествовал по Испании, а теперь засел в Париже.
– А что Боткин? – переспросил Панаев. – Боткин готовит описание своего путешествия в Испанию, послушать его – пальчики оближешь. Очень увлекательно рассказывает об испанках… Кроме того, изучает сейчас Василий Петрович в Париже модную философию Огюста Конта. «Надо, говорит, иметь положительные основы для миросозерцания». Впрочем, я ведь не о Боткине начал речь…
Кто ни приходил, все рассказывали о Толстом. Но наиболее интересные сведения получил Виссарион Григорьевич от Анненкова.
– Очень замечательный человек этот Толстой, – рассказывал Павел Васильевич. – Конечно, сильна в нем барская закваска. К тому же широкая душа. Сдается, он и к цыганам при случае закатится и сам под гитару зальется, – опасный для женщин человек. Но суть не в том. Будучи за границей, стал он вхож в социалистические круги и даже принимал участие в важнейшем интернациональном совещании. Из русских участвовали в том совещании Бакунин, Боткин, вам хорошо ведомые, и Толстой, от французов и немцев – разные нынешние знаменитости, и, между прочим, молодой ученый Карл Маркс.
– Тот самый, что выпустил в Париже «Немецко-французский ежегодник»?
– Именно о Марксе больше всего рассказывает Толстой. Послушать его – диву даться! Ученый, но весь ушел в политику. Впрочем, и политика, по мнению Маркса, тоже должна стать наукой. И ему же суждена будто бы какая-то новая роль в рабочем движении. Но тут у Толстого вышел спор с Бакуниным. Бакунин остается единомышленником Прудона, а о Марксе говорит, что тот портит рабочих и делает их резонерами. Трудно издали разобраться во всех этих спорах, Виссарион Григорьевич, но столь же трудно отрицать, что пролетариат приобретает все больше сторонников. Поеду, – продолжал Павел Васильевич, – за границу, сам посмотрю: какой он такой, этот Маркс? Если верить Григорию Михайловичу Толстому – выдающаяся фигура.
Белинскому познакомиться с Толстым так и не удалось. Все еще не отпускала его тяжелая лихорадка, когда снова забежал Панаев.
– Просил низко кланяться вам Григорий Михайлович Толстой и твердо надеется на личное знакомство. По неотложным делам он отправился сейчас в свое имение. Усиленно звал и меня в следующее лето на охоту. Говорит, заповедные у него угодья. Если склонится на поездку Авдотья Яковлевна, непременно поедем.
Глава четырнадцатая
Белинский устроил у себя заправский литературный вечер. Квартира парадно освещена. Хозяин дома, облаченный в теплый домашний сюртук, приветливо встречает гостей. Морозы сделали то, чего не могли добиться медики, – Виссарион Григорьевич только изредка покашливает и полон новых сил. Хозяйка дома, испуганная непривычным многолюдством, возглавляет чайный стол. Собираются участники «Петербургского сборника», хотя сборник еще и не вышел в свет.
Тургенев состязался в рассказах с Иваном Ивановичем Панаевым, когда в скромную столовую Белинских вошел запыхавшийся Анненков.
Федор Михайлович Достоевский заметно волнуется. Он ищет сочувствия у Белинского, но Белинский занят разговором. Спасибо, Марья Васильевна, разливая чай, посылает ему дружескую улыбку. Единственная улыбка Мари в этом собрании чуждых ей людей…
Он обводит глазами собравшихся. Сколько знакомых и малознакомых лиц! Но что же волноваться писателю, имя которого повторяют все единомышленники Белинского?
– «Двойник. Приключения господина Голядкина», – огласил название повести Федор Михайлович; голос его предательски дрогнул.
Приключения титулярного советника Якова Петровича Голядкина начались с утра того дня, когда он проснулся в своей квартире, на четвертом этаже большого дома в Шестилавочной улице. Серый осенний день, мутный и грязный, заглянул в тусклое окно. Если не считать каких-то рассеянных мыслей Якова Петровича, все шло обычным порядком, пока не явился к барину лакей Петрушка.
– Ливрею принесли, сударь.
– Надень и пошел сюда!
Петрушка вернулся в ливрее,
– Ну, а карета?
– И карета приехала на весь день, двадцать пять ассигнациями!
Поскольку титулярные советники не имеют обыкновения ездить в каретах да еще с ливрейным лакеем на запятках, приключения Голядкина должны быть действительно необыкновенны. Но Достоевский не торопился. Он описал, как извощичья карета с громом подкатила к крыльцу; как Петрушка посадил барина и, сдерживая дурацкий смех, крикнул: «Пошел!» И сам господин Голядкин, сидя в карете, залился тихим, неслышным смехом, как человек веселого характера, которому удалось сыграть славную шутку. Впрочем, лицо Якова Петровича вскоре стало беспокойно озабоченным, и он со страхом прижался в угол кареты.
Повесть взяла круто в сторону. Голядкин вдруг подумал о докторе Крестьяне Ивановиче, у которого он побывал на прошлой неделе. К нему и приказал ехать Яков Петрович.
В кабинете Крестьяна Ивановича начался престранный разговор. В путаных речах Голядкина как-то удивительно связывалось несвязуемое, а положительное и достоверное тонуло в конфузливых бормотаниях. Так, мелькнула какая-то Клара Олсуфьевна и даже ее родитель Олсуфий Иванович. Все это не имело как будто никакого отношения к титулярному советнику Голядкину и в то же время было полно для него тайного смысла.
Сцена в кабинете Крестьяна Ивановича достигла кульминации, когда Голядкин заявил, что у него есть злые враги, которые поклялись его погубить; при этом Яков Петрович неожиданно заплакал.
Автор «Бедных людей», описавший жизнь и злоключения титулярного советника Девушкина, опять избрал в герои титулярного советника, – на том и кончалось, однако, все сходство. Если в «Бедных людях» Достоевский пошел от гоголевской «Шинели», то, слушая «Приключения Голядкина», можно было подумать, что автору крепко запомнился другой гоголевский персонаж – Аксентий Иванович Поприщин. Описывая душевное смятение титулярного советника Голядкина, Достоевский рисовал многие подробности, может быть и утомительные, но складывавшиеся в неожиданную по новизне и полноте картину: автор повести углубился в таинственные недра больной души.
После посещения доктора Крестьяна Ивановича Голядкин приказал кучеру:
– К Измайловскому мосту!..
– Олсуфий Иванович? – спросил он человека, открывшего ему дверь.
Настало время появиться в повести Олсуфию Ивановичу, о котором рассказывал Голядкин доктору Крестьяну Ивановичу.
– Не велено принимать-с, – отвечал человек Олсуфия Ивановича, стоя в дверях. А по лестнице уже поднимались приглашенные…
Достоевский попросил перерыва. Марья Васильевна налила ему стакан свежего чая, чего Федор Михайлович, кажется, и не заметил. Он сызнова переживал унижение несчастного Голядкина. В следующую минуту положение автора повести еще больше осложнилось.
«Да когда же появилась Авдотья Яковлевна? – удивился Достоевский. – Ведь ее положительно не было».
Но Авдотья Яковлевна Панаева сидела невдалеке от него и, видя растерянность Федора Михайловича, приветствовала его одобрительной улыбкой. Теперь катастрофа могла произойти с автором повести раньше, чем с незадачливым его героем. Достоевский едва справился с собой.
В повести описывалось торжество, происходившее в доме статского советника Олсуфия Ивановича Берендеева в честь дня рождения единственной его дочери Клары Олсуфьевны. Кончился парадный обед. Статский советник Берендеев расхаживал среди гостей, поддерживаемый с одной стороны Кларой Олсуфьевной, с другой – молодым человеком Владимиром Семеновичем. Роль этого молодого человека объявилась теперь гораздо определеннее, чем утром говорил об этом Голядкин доктору Крестьяну Ивановичу.
А несчастный Голядкин, не допущенный на торжество людьми статского советника Берендеева, все это время простоял в сенях на черной лестнице, ведущей в квартиру Олсуфия Ивановича.
Но уже разгорался бал в честь Клары Олсуфьевны. Автор повести не мог более медлить, и Голядкин как снег на голову явился в танцевальной зале. Его толкал какой-то человек с подносом, потом он сам отдавил ногу какому-то советнику, наступил на платье почтенной старушки… Боже! Сколько раз случались подобные истории в гостиной Панаевых с отставным поручиком Достоевским! Он не смел на Авдотью Яковлевну взглянуть.
Между тем Яков Петрович Голядкин пробирался все дальше и очутился перед Кларой Олсуфьевной. Все, кто ходил, говорил, шумел, смеялся, вдруг затихли и мало-помалу столпились вокруг Якова Петровича.
Волнение охватило Достоевского. Для героя повести настала решительная минута. Поздравления, которые Голядкин принес Кларе Олсуфьевне, еще кое-как прошли, а на пожеланиях он окончательно сконфузился.
Кажется, Якову Петровичу Голядкину суждено было испытать многое из того, что пережил автор повести. Сколько раз, потерявшись в присутствии Авдотьи Яковлевны, он тщетно искал точки опоры, бормотал несуразное и встречал в ответ убийственные улыбки… Пусть и расплатится за все господин Голядкин.
Как раз в это время музыканты грянули польку. Все в зале заволновалось. Владимир Семенович несся в первой паре с Кларой Олсуфьевной.
Голядкин был бледен и крайне расстроен.
Когда же Клара Олсуфьевна, утомленная танцем, упала в кресло и все сердца устремились к прелестной очаровательнице, Яков Петрович, незаметно приблизившись, протянул к ней руку. Клара Олсуфьевна в рассеянности встала, даже не взглянув, кто приглашает ее к танцу. Голядкин покачнулся вперед, потом как-то пришаркнул, притопнул и споткнулся.
Очаровательница вскрикнула. Все бросились ее освобождать. Голядкин оказался опять один, словно отчужденный от всех неведомой стеной.
Достоевский достиг вершины совершенства, изображая бормотания погибающего героя и жалкую улыбку, кривившую его губы.
Между тем прямо на Голядкина, при всеобщем внимании, шел камердинер статского советника Берендеева. Яков Петрович попробовал было отвести его внимание на свечу в канделябре, которая могла упасть.
– Свечка-с? – переспросил камердинер. – Нет-с, свечка прямо стоит, а вот вас кто-то спрашивает. «Вызовите, говорит, Якова Петровича по весьма нужному и спешному делу…»
Голядкин неожиданно почувствовал, что чья-то рука упала на его руку, что другая рука оперлась на спину его, что с какой-то особенной заботливостью его куда-то направляют. Вскоре Голядкин оказался в сенях, на лестнице и, наконец, во дворе…
Сцена посрамления несчастного героя повести произвела впечатление. Одобрительно кивал головой Белинский. Иван Сергеевич Тургенев взглянул на автора с каким-то новым выражением и, не удержавшись, что-то шепнул Некрасову. Иван Иванович Панаев впал в непривычную задумчивость.
Автор начал следующую главу.
Голядкин брел к себе на Шестилавочную улицу. Ночь была ужасная, ноябрьская, мокрая, туманная. Ветер выл в опустелых улицах. Ни души не было ни вблизи, ни вдали, да казалось, что иначе и быть не могло в такую пору и в такую погоду.
Подавленный своим недавним и страшным падением, Яков Петрович останавливался, как столб, посреди тротуара, потом вдруг срывался, как бешеный, и бежал без оглядки, будто спасался от погони.
Повесть слушали люди, знакомые с тайной литературных изобретений. Какую участь готовит автор повергнутому в прах герою?
Голядкин остановился на набережной Фонтанки. С неизъяснимым беспокойством он стал озираться кругом, но ничего особенного не случилось. Ему показалось только, что кто-то сейчас, сию минуту, стоял рядом с ним и – чудное дело – даже что-то сказал не совсем понятно, но о чем-то весьма ему близком. Голос Достоевского стал напряженным в предчувствии тайны.
Ночные блуждания Голядкина продолжались. Наконец он увидел прохожего, идущего навстречу. Неизвестно почему Голядкин смутился и даже струсил.
«Ага, – хитро прищурился Иван Иванович Панаев, – автор «Бедных людей», кажется, снова возвращается к гоголевской «Шинели» и готовит Голядкину такую же встречу с недобрыми людьми, какую испытал Акакий Акакиевич Башмачкин. Готов биться об заклад…»
Но прохожий, появившись в повести, снова исчез в снежной метелице. Голядкин стоял и глядел ему вслед. «Да что же это такое, – подумал он с досадою, – с ума я, что ли, в самом деле сошел?»
Иван Иванович Панаев не пытался больше угадать намерения автора и стал слушать с возросшим интересом.
– «Странная была эта ночь!» – читал автор повести, словно готовя слушателей к событиям еще более странным.
Голядкин знал встретившегося ему человека, даже знал, как зовут его, как его фамилия, но ни за что не согласился бы его назвать. Он пустился бежать без оглядки. Он снова встретил того же прохожего на Итальянской улице; они вместе вошли в Шестилавочную. Незнакомец мелькнул при входе на ту лестницу, которая вела в квартиру Голядкина.
Когда Яков Петрович вбежал в свое жилище, он остановился, словно пораженный громом. Все предчувствия его сбылись. Все, чего опасался он, совершилось наяву. Незнакомец в шинели и в шляпе сидел на его постели и, прищурясь, дружески кивал ему головой: Голядкин захотел закричать и не мог. Волосы встали на голове его дыбом. Ночной посетитель был не кто иной, как он сам, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как Яков Петрович, – одним словом, это был двойник его во всех отношениях…
Чтение повести кончилось. Федор Михайлович, пожалуй, даже не слушал, о чем пошел разговор между собравшимися.
Он твердо знал, что займется жизнью двух Голядкиных, которые будут существовать в больном сознании Якова Петровича. Автор будет следить за их отчаянной борьбой и заглянет в самые глубины душевного недуга.
Может быть, при этом и удалится автор «Двойника» от действительного мира статских советников Берендеевых, в котором гибнут титулярные советники Голядкины. Но трудно было проникнуть в намерения автора, поскольку повесть далеко еще не была закончена.
Белинский заговорил о том, что снова проявилась великая творческая сила Достоевского, что поставлена оригинально-странная тема.
Анненкову показалось, что Виссарион Григорьевич имеет еще какие-то мысли, которые сейчас не считает нужным высказать. И еще одно наблюдение сделал Павел Васильевич. Когда Белинский настойчиво рекомендовал автору отказаться от утомительных повторений и расплывчатости изложения, Достоевский слушал эти советы с равнодушной благосклонностью.
Он так и не дерзнул подойти к Авдотье Яковлевне Панаевой. А потом Авдотья Яковлевна ушла раньше других. И тогда еще раз вдруг почувствовал автор, что близится час его освобождения от мучений неразделенной любви, которые он с такой охотой передал своему странному герою.
Глава пятнадцатая
Некрасов затевает альманах «Зубоскал». Никак нельзя обойтись ему без Достоевского. После выхода «Бедных людей» за ним будут гоняться издатели.
Федор Михайлович только подивился размаху Некрасова: издает «Петербургский сборник», издает сочинения Кольцова и хлопочет еще о «Зубоскале».
Подумал-подумал Достоевский и в одну ночь написал «Роман в девяти письмах» – уморительную переписку шулеров. На следующий день пришлось читать новинку у Тургенева. Иван Сергеевич Тургенев тоже ищет дружбы нового светила. На чтение собралось человек двадцать. И что же? Прочитал Достоевский пустяковую шутку, а произвел всеобщий фурор.
Но Федора Михайловича больше всего интересуют суждения о Голядкине. Достоевский безошибочно угадывает: вряд ли Белинского увлекут отношения Голядкина с собственным двойником, отношения, которые, кстати сказать, затрудняют самого автора повести. Федор Михайлович избегает говорить с Белинским о Голядкине и искренне радуется, когда в кабинет Виссариона Григорьевича заглядывает Марья Васильевна.
– Смею ли я вас задерживать, – говорит гостю Белинский, – когда ждет вас дамское общество?
Достоевский дружит и с Марьей Васильевной, и с Аграфеной Васильевной, и с Ольгой Виссарионовной. Дожив до шести месяцев, Ольга Виссарионовна понимает его с полуслова и не скупится на улыбки.
– Вы истинное чудо, Федор Михайлович! – говорит в восхищении Мари.
– Чудо из чудес! – присоединяется Аграфена. Она давно не называет Достоевского замухрышкой. «Если бы на свете не было Авдотьи Яковлевны!» – вздыхает она.
«Если бы только справиться с Голядкиным!» – в свою очередь думает Достоевский, ловко подбрасывая Ольгу Виссарионовну.
– Ах вы, душа бессмертная! – смеется, наблюдая, Белинский. – Говорил я вам и опять повторю, что вся ваша фантазия насчет Авдотьи Яковлевны будет короче, чем ваш собственный «Роман в девяти письмах». Хотите пари?
Дамы смотрят на Достоевского выжидательно. Он не отвергает чудовищного предложения, он малодушно молчит! Аграфену Васильевну раздирают противоположные чувства. Она готова сызнова назвать замухрышкой человека, неспособного отстаивать свою любовь. Но кому какое дело до мыслей одинокой девушки, пришедшей в лета? Нет к ней интереса ни у одного из посетителей Белинского. Кто ни придет, все стремятся поскорее укрыться в кабинете.
Чаще стал заходить Анненков. Павел Васильевич пришел к Белинскому перед отъездом за границу. А Виссарион Григорьевич увлеченно рассказывает ему о новых замыслах.
– Издадим «Петербургский сборник», а там – еще и еще! Есть теперь, слава богу, кому двигать русскую литературу! Достоевский, Тургенев, Некрасов, Герцен. А может быть, уже пишут новые таланты, сегодня никому не известные?
– Вы совершенно правы, Виссарион Григорьевич, говоря уже не об отдельных молодых писателях, а о целой плеяде дарований, спаянных общим направлением. Вполне разделяю ваши надежды на Достоевского. Но скажите, сделайте милость: когда Федор Михайлович читал у вас повесть о Голядкине, высказали ли вы в тот вечер все свои мысли?
Белинский помолчал, припоминая, но ответил как-то вкось:
– Вряд ли затмится имя Достоевского, каков бы ни был его путь… Вы когда уезжаете, Павел Васильевич?
– Рассчитываю сразу после Нового года.
– Везет вам, счастливцам! Если бы выпала такая возможность нашему брату поденщику! Повидать бы просвещенную Европу собственными глазами, посмотреть бы на умное и доброе, вложить собственные персты в тамошние язвы, а потом – домой, да с новыми силами за наши российские дела. Но что проку говорить о несбыточном… Вы в своих скитаниях, может быть, и Гоголя встретите?
– Вы знаете о нем что-нибудь новое, Виссарион Григорьевич?
– Увы! Толком ничего не знаю. Питаюсь, можно сказать, иждивением Ивана Ивановича Панаева. Вернувшись из Москвы, он много рассказывал о письмах, которые получают от Гоголя его московские друзья. А сюда – кому же пишет Гоголь? Его превосходительству Плетневу да превосходительной госпоже Смирновой! Но Плетнев давно смотрит на меня волком, а госпожу Смирнову я и вовсе не имею чести знать. Если встретите Гоголя, обязательно скажите: нельзя ему быть без России, как и России не след оставаться без Гоголя.
– Думаю, что к этому присоединились бы все истинные друзья Николая Васильевича… Помните, Виссарион Григорьевич, вернувшись в Россию, я говорил вам о первых моих впечатлениях? Теперь еще с большей уверенностью могу повторить: страсть к чтению экономических и политических новинок, выходящих на Западе, растет. Да ладно бы только читали. Не знаю, что сулит нам будущее, но ощущаю повседневно: повсюду кипят споры.
– А вы уезжаете!
– Не опоздаю вернуться. Сейчас же меня очень интересует развитие новых идей в Европе. Все больше шумят там о пролетариате и с ним связывают будущее. А теоретики этого будущего кроят его каждый на свой лад. Когда здесь был проездом Григорий Михайлович Толстой, взял я у него рекомендательное письмо к доктору Марксу. К нему, по уверению Толстого, тянутся сейчас многие нити.
– Неутомимый вы искатель, Павел Васильевич. Множите и будете множить знакомства. А как используете этот капитал?
– Об этом, признаюсь, всерьез не думал. К новому действительно меня тянет, хотя далеко не всегда сочувствую открывающейся нови. Хотелось бы мне и к Толстому поближе присмотреться. Кто его знает, что он натворит в своих казанских имениях. Впрочем, пока что достоверно знаю одно: пригласил он к себе на лето Панаевых и Некрасова.
– Вы что-то путаете, многоуважаемый Павел Васильевич! Панаев, точно, трубил, что из дружбы к Толстому готов обречь себя на утомительное путешествие. Но при чем тут Некрасов?
– Ничего не путаю, Виссарион Григорьевич. При мне и было дело. Как начал рассказывать Толстой о своих охотничьих угодьях, у Николая Алексеевича глаза разгорелись.
– Чепуха! – перебил Белинский. – Какой Некрасов охотник?
– Не скажите. Он еще с юности к ружьишку пристрастился, когда бродил с ним в ярославских лесах. А как зашел разговор с Толстым, он не колеблясь принял приглашение. Спросите у Ивана Ивановича или у Авдотьи Яковлевны.
– Некогда Некрасову пустяками заниматься! – решительно заявил Белинский. – Если он сам этого не понимает, я ему скажу. Пусть себе едет Иван Иванович – скатертью ему дорога – да тащит в казанскую глушь Авдотью Яковлевну, коли до того не надоест ей за долгую зиму. А Некрасов тут при чем? Несусветная, сударь, чепуха! Нашли, прости господи, охотника!
При первой встрече Белинский спросил Тургенева:
– Вам, Иван Сергеевич, по охотничьим делам и книги в руки. Скажите на милость: в Некрасове вы что-нибудь подобное примечали?
– Водится за Николаем Алексеевичем такая страстишка. Но помилуйте, какой же он охотник, если годами ружья в руки не берет? Не пойму, однако, что вас интересует, Виссарион Григорьевич?
– А может быть, и я собираюсь на тягу или заведу собачью свору?
Вопрос об охотничьих пристрастиях Некрасова остался невыясненным. Странным казалось Белинскому и другое обстоятельство: ни словом не обмолвился Николай Алексеевич о задуманном путешествии. Правда, до лета было еще далеко.
В декабрьской книжке «Отечественных записок» был только что опубликован роман Герцена «Кто виноват?». Это была первая часть романа, остановившегося на свадьбе Круциферского и Любоньки. Краевский начал печатать роман Герцена как раз вовремя: шла подписка на «Отечественные записки» на новый год. Но сам ужасно трусил.
Первый ударил в набат Булгарин. Он писал о романе Герцена в Третье отделение: «Дворяне изображены подлецами и скотами, а учитель, сын лекаря, и прижитая с крепостной девкой дочь – образцы добродетели!»
Не знал издатель «Северной пчелы», что другой лекарский сын, лицо вовсе не вымышленное, в самом Петербурге собирает у себя молодых людей и раздаются на этих собраниях речи, не подвластные ни цензуре, ни даже вездесущему Третьему отделению!
Глава шестнадцатая
На окраине столицы, в Коломне, стоит церковь Покрова. Сюда хаживал в послелицейские годы Пушкин, чтобы полюбоваться набожной, но высокомерной красавицей. А потом попала церковь Покрова в поэму Пушкина «Домик в Коломне». Коломну же описал и Гоголь в повести «Портрет»: «Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движения».
Ничто, кажется, не изменилось в здешней патриархальной жизни. На площади вокруг церкви Покрова сгрудились неказистые домишки. Разве что одинокий каменный дом с флигелем будет повиднее. До недавнего времени принадлежало это владение доктору медицины и хирургии Василию Михайловичу Буташевичу-Петрашевскому.
Потрудился лекарь Петрашевский с честью, а в 1845 году опочил. Владение в Коломне перешло к вдове и детям. Федора Дмитриевна Буташевич-Петрашевская живет с дочерями в деревянном флигеле, а единственному сыну Михаилу Васильевичу отведена квартира в каменном доме. Не ахти какая квартира. В зале, если так можно назвать эту комнату, стоит диван, обитый ситцем, старый стол да несколько стульев; далее находится комната, служащая одновременно кабинетом и спальней. Вот и вся квартира. Другие, получше, идут внаем. Федора Дмитриевна, родом из купеческой фамилии Фалеевых, живет мудростью отцов и дедов: всякую копейку – в кубышку. Дочерей она держала в черном теле. А сын – известное дело, отрезанный ломоть. Кто его знает, куда смотрит?
Так и живут мать с сыном: рядом, но далече. Сына редко и дома видят. Михаил Васильевич подойдет к окну и смотрит: к церкви Покрова тянутся богомольцы. Задумается Михаил Васильевич и, прежде чем сесть за стол, долго ходит по залу.
По заслугам отца был в свое время принят Михаил Петрашевский в императорский Царскосельский лицей, где и начались у него неприятности с начальством. Гувернеры аттестовали его как воспитанника дерзкого образа мыслей. При выпуске из лицея с ним и рассчитались сполна за все дерзости. Окончив привилегированное учебное заведение, Петрашевский получил право всего на чин коллежского регистратора. Этим чином награждали мелких канцеляристов и даже почтовых станционных смотрителей.
В министерстве иностранных дел, в департаменте внутренних сношений, появился чиновник, назначенный третьим переводчиком, с жалованием 114 рублей 29 копеек серебром в год.
Такое начало не предвещало славного поприща, открытого для титулованных счастливцев. Скромный переводчик департамента внутренних сношений не бывал ни на дипломатических раутах, ни на балах в посольских особняках. Его переводческие обязанности ограничивались тем, что он участвовал в делах, которые имели иностранцы с русской полицией. Правда, это обстоятельство немало способствовало ознакомлению недавнего лицеиста с порядками и нравами некоторых отечественных учреждений.
Молодой человек не хотел этим удовольствоваться и поступил вольнослушателем в университет.
В университете еще процветали ученые мужи, заканчивавшие историю Франции на счастливом воцарении Людовика XVI и умолкавшие перед грозными событиями революции. Профессоры русской словесности не шли далее Державина, Карамзина и Жуковского.
Казалось бы, и профессору политической экономии Порошину, по щекотливости его предмета, не следовало касаться новейших теорий. В лекциях же этого чудака социалистические учения были представлены как системы, имеющие многих сторонников.
Профессор не разделял идей социализма, но в меру своих знаний старался добросовестно изложить учения Сен-Симона и Фурье и их последователей и называл сочинения и журналы, в которых эти учения обсуждались на Западе.
Студенты стекались на лекции по политэкономии со всех факультетов. Постоянно бывал на них и вольнослушатель Петрашевский. В его библиотеке давно накапливались те самые книги и журналы, которые называл Порошин, а также и те, о которых не знал профессор. У переводчика министерства иностранных дел были свои преимущества: он был знаком с иностранцами, державшими книжные лавки в Петербурге, и легко получал через них даже строжайше запрещенные издания.
Михаил Петрашевский поддерживал тесные связи с лицеистами и был особенно дружен с младшим по курсу товарищем Михаилом Салтыковым. Ему и доверил заветную мечту об издании журнала:
– Наша задача – возбудить, разбудить, вызвать через журнал чувство народности. Главным предметом будет, конечно, Русь.
Перед глазами молодого чиновника был пример «Отечественных записок» и деятельность Белинского. Ему не терпелось начать действовать самому.
Михаил Салтыков занимался преимущественно сочинением лирических стихов, но не был чужд житейского практицизма.
– А где силы для журнала? Где средства? – спросил он.
Журнал не состоялся. Бывший лицеист и кандидат университета, Петрашевский садится за сочинение, которому дает название «Мои афоризмы». Это наброски статей, может быть, конспекты докладов, которые автор сделает неведомо когда и неизвестно где.
Автор имеет свой взгляд на существующие так называемые законные правительства: тысячами тайных инструкций и инквизиционных учреждений они всячески стараются остановить умственное развитие народа. «Презрение и ненависть к ним!» – пишет Петрашевский. Он делает и непосредственный вывод для себя: где только возможно – поражать власть.
Все настойчивее ищет он людей, с которыми можно было бы поделиться мыслями. Он присматривается к молодым сослуживцам в министерстве, поддерживает связь с товарищами по университету и с особенным удовольствием возвращается в лицейскую семью. Михаил Васильевич готов заводить новые знакомства в библиотеках и кофейнях. Везде могут найтись люди, не потерявшие человеческого достоинства.
Поиски идут от случая к случаю. У Петрашевского нет времени. Он продолжает вникать в литературу о социализме и останавливается предпочтительно на системе Фурье. А в дополнение к «Афоризмам» появляется новая рукопись – «Запас общеполезного». Неужели человечество обречено на вечность застоя и умственного оцепенения? Нет ничего труднее, утверждает автор рукописи, как освободиться от вредоносного влияния предубеждений, предрассудков и суеверий всякого рода. К тому же разряду суеверий отнесена религия.
Все так же звонили колокола Покровской церкви, когда Михаил Петрашевский, отрываясь от работы, подходил к окну. В церковь все так же тянулись богомольцы. Может быть, и в самом деле в Коломну не заглядывает будущее?
Нет, и в Коломне появились люди, захваченные вихрем новых идей. У Петрашевского нет личной жизни. Он будет служить человечеству. И отчетливо видит, что может ожидать его на избранном пути: нет ничего опаснее, чем смелое, открытое восстание против предрассудков, освященных давностью. Горька бывает судьба того, кто осмелится убеждать нравственных язычников, кто осмелится назвать их богов не богами, а идолами. Миллионы рук на него поднимутся, дождь камней польется на него.
Все это знает Михаил Васильевич Петрашевский, и чем отчетливее видит опасности, тем решительнее ополчается против многоликих идолов, воздвигнутых правителями для устрашения народа.
Готовясь к избранному поприщу и неустанно думая о законах будущего устройства человеческого общества, он пытается наметить и тысячи практических, вопросов. В «Запас общеполезного» занесены размышления о дешевой системе пароходства и паровозства в России, о заведении бумажных фабрик и типографий, о прядении льна машинами, о фаянсовых и фарфоровых заводах, о заведении фабрик для азиатских и пограничных с Россией народов. Автор уделяет большое внимание естествознанию, в особенности физике.
Ему видится новая Россия, подъем всех свободных ее сил. Само собой разумеется, давно записан и важнейший вопрос: «Об устройстве освобождаемых крестьян». Самая необходимость освобождения не вызывает сомнений.
Человек непоколебимой воли, сказавший, что надо смотреть в самый корень зла и уничтожать правительства и учреждения, которые препятствуют человеку сделаться достойным имени человека; мыслитель, призвавший к открытому восстанию против гидры предрассудков, освященных только давностью и невежеством; политик, который провозгласил: презрение и ненависть им, правительствам, – хорошо понимал, что к коренному перевороту в общественных отношениях можно прийти, если избрать верный путь. Такой путь – действенная пропаганда словом, делом, примером.
Но невелики возможности для этого у переводчика, служащего по министерству иностранных дел. Михаил Васильевич Петрашевский решил искать прочных связей с юношеством. Как только лицей был переведен в 1844 году из Царского Села в Петербург, он подал прошение о назначении его преподавателем юридических наук. Генерал, возглавлявший лицей, не отличал задач воспитания от воинского маневра. Он навел справки о бывшем воспитаннике, покинувшем лицей с аттестацией вольнодумца. Директор, естественно, не нашел в Петрашевском надлежащих свойств, необходимых для занятия преподавательской должности. Последовал отказ, и как раз вовремя.
В недрах императорского лицея был обнаружен вскоре возмутительный памфлет против высших властей. На допросе выяснилось, что автор памфлета и другие лицеисты бывали у Петрашевского.
С этого дня в повесть жизни мелкого чиновника Петрашевского включились такие особы, что сама повесть перестает быть похожей на все существующие повести о петербургских чиновниках.
Попечитель лицея принц Ольденбургский сообщил генерал-губернатору столицы, что считает дальнейшее пребывание в Петербурге этого чиновника опасным для воспитанников учебных заведений. Кроме того, принц уведомил шефа жандармов: Петрашевского необходимо унять.
Возглавляемое шефом жандармов, Третье отделение приступило к делу. В Коломне, у дома на Покровской площади, появились тайные агенты. Они маячат у ворот, заводят разговор с дворником и с мальчуганом, который жил у Петрашевского для услуг. К начальству идут скудные рапорты: живет чиновник Петрашевский в отцовском доме, а время более проводит среди знакомых. Что же еще писать? Да, спорил-де оный Петрашевский с покойным отцом: «У нас законы плохи, нужны новые».
А больше ничего не могли проведать незадачливые шпионы.
Михаил Васильевич заметил, конечно, что подле ворот его дома появились подозрительные личности, уныло оглядывавшие прохожих. Знал он и о расспросах, которые о нем шли. А в квартире у него так и лежали на виду «Мои афоризмы» и «Запас общеполезного».
Когда шпионы исчезли, Михаил Васильевич сделал вывод, может быть, и поспешный: нет у властей оснований, чтобы нанести ему ночной визит. Так и не прибрал Петрашевский ни книг, ни рукописей: стоит ли хлопотать, если прошел проверку и теперь находишься вне подозрений у правительства? Можно, стало быть, действовать.
Осенью 1845 года он объявил знакомым, у которых видел интерес к обсуждению общественных дел, что назначает у себя приемные дни по пятницам.
В этот день на лестнице, обычно темной, зажигался ночник, чтобы указывать путь посетителям.
Глава семнадцатая
Михаил Евграфович Салтыков, тот самый лицеист, с которым вел когда-то разговоры Петрашевский об издании журнала, кончил курс и поступил на службу в канцелярию военного министерства. Среди других чиновников слыл он примерным аккуратистом, несмотря на то что не достиг и двадцати лет. Но трудно было узнать начальству, чем, кроме службы, занят малоразговорчивый аккуратист.
Поэзия владеет его душой. Лицейские товарищи называли Салтыкова наследником Пушкина. Юный лицеист не обольщался почетным титулом. Однако писал стихи запоем. Пушкину и было посвящено стихотворение Михаила Салтыкова «Лира», опубликованное в «Библиотеке для чтения» в то время, когда автор его еще сидел за учебниками.
Он расстался с лицеем раньше, чем пришла к победному концу начатая им поэма «Кориолан». Зато на страницах «Современника», при полном сочувствии редактора Плетнева, нередко появляются его стихотворения. Раньше Михаил Салтыков увлекался описанием чувств влюбленных и даже сочинил стихи «К даме, очаровавшей меня своими глазами». Теперь его влекут философские размышления.
Когда лицей был переведен в Петербург, Салтыков стал искать знакомств в литературной среде. Михаил Александрович Языков, который ударял по «Смесям» в «Отечественных записках», не принадлежал к числу первоклассных литераторов. Но у него бывает Белинский. Этого было достаточно, чтобы поэт-лицеист зачастил к Языкову. Встреча с Белинским состоялась. Впечатление было так сильно, что Салтыков назвал этот вечер одним из самых счастливых в своей жизни.
Знаменитый критик, гонитель мракобесия и борец за будущее, оказался милым, душевно-простым человеком. Он словно бы прямо отвечал на вопросы, которых не решался задать ему застенчивый юноша в лицейском мундире. Михаил Салтыков не сказал даже, что он постоянный читатель «Отечественных записок». А если бы и решился заговорить, то непременно бы сказал: «Ваши статьи, Виссарион Григорьевич, наполняют сердце и скорбью и негодованием, но указывают цель для стремлений».
У Михаила Евграфовича Салтыкова была своя причина носить в сердце скорбь и негодование и искать цели для стремлений. Он вырос в семье, жизнь которой вселила в него ужас и отвращение. В помещичьем доме Салтыковых в селе Спас-Угол, Тверской губернии, все подчинялось матери семейства, ненасытной приобретательнице земель и крепостных людишек. В доме царствовали жажда наживы, взаимная ненависть и угодничество, лицемерие и невежество, откровенный деспотизм и показная набожность. В жертву кубышке, которую неустанно пополняла алчная помещица, приносили и человеческие жизни, и честь, и справедливость.
Литературно-критические статьи Белинского не имели, казалось, прямого отношения к помещичьему дому в тверском селе Спас-Угол. Но недаром же Гоголь стал одной из важнейших тем Белинского. Гоголь и Белинский открыли молодому человеку неопровержимую истину: старый мир со всеми владетелями Спас-Углов обречен. Михаил Салтыков не был склонен, однако, довольствоваться только теоретическими, хотя и бесспорными, истинами. Ему важно было знать, куда и как направить свои силы,
Каждую пятницу молодой человек, презрев увеселения столичной жизни, еще дотемна направлялся в Коломну.
Он поднимался по лестнице, освещенной ночником, и вступал в давно знакомую ему квартиру. Главное – застать хозяина наедине, до того часа, когда собирается здесь шумное общество. Больше всего интересуют Салтыкова книжные и журнальные новинки, которые попадают к Петрашевскому с такой легкостью, будто не существует в России бдительной цензуры.
Михаил Салтыков чувствовал себя неоперившимся птенцом в мире идей, с которым он знакомился у Петрашевского. Но птенец не спешил с выводами. Ему нужно было самому проверить жизненность социалистических учений. После Сен-Симона он взялся за Фурье. В знаменитом сочинении последователя Фурье, Консидерана, учение Фурье сочеталось с последовательной и беспощадной критикой моральной нищеты собственнического мира.
Мысль о моральной нищете собственнического мира была особенно близка Михаилу Салтыкову. Он хорошо знал это по родному дому. Однако многое смущало в новых учениях его практический ум. Неясны и фантастичны картины будущего, беспочвенны надежды на разум и совесть тех, кто владеет богатством.
– Хорошо, если бы можно было по французским брошюрам переделать нашу русскую жизнь, – говорил Салтыков. – Но с идеализмом и фантазиями, даже святыми, далеко не уедешь. У нас надобно с деревни, с мужиков начинать, их поднять против помещиков. Не так ли, Михаил Васильевич?
Разговор переходил на неотложные нужды русской жизни. Они беседовали часами, пока не услышат голоса в передней.
Гости собирались один за другим. Сюда бежали люди от безысходной тоски и одиночества, от карточной игры и пошлых сплетен.
«Пятницы» проходили шумно, без всякого порядка. «О чем говорили? – старается вспомнить участник сходки. – Обо всем». Сломлена печать молчания, лежавшая на устах. Гость, побывавший на «пятнице», смотришь, ведет в следующий раз приятеля. Впрочем, не очень людно было на этих вечерах.
Михаил Васильевич Петрашевский принимал меры, чтобы направить сходки к желанной цели.
На одной из первых «пятниц» доклад об учреждении книжного склада с библиотекой и типографией сделал Александр Пантелеймонович Баласогло, сослуживец Петрашевского по министерству иностранных дел. С детства пробудилась в нем страсть к наукам, к изучению восточных языков, к путешествиям. А на долю ему досталась военная муштра.
Долгие годы трудов и лишений привели Александра Пантелеймоновича к осознанию бесспорной истины: в невообразимо страдающей России все идет вверх дном.
Как же было не сойтись архивариусу министерства иностранных дел Баласогло с переводчиком того же министерства Петрашевским!
– Сегодня, господа, мы послушаем Александра Пантелеймоновича, – говорил Петрашевский, когда собрались обычные посетители «пятниц». – Вы оцените всю важность проекта об издании и распространении полезных книг.
Баласогло взглянул на свои записи.
– Общедоступность человеческих мыслей для каждого грамотного – есть истина неоспоримая. Обнародовать труд ученого, писателя, казалось бы, простое дело, но сколько невежественных и алчных торговцев стоит на этом пути!
Баласогло предлагал учредить общество, которое заведет свою типографию и литографию. Доклад был принят с сочувствием. Но что могли сделать незначительные чиновники и начинающие литераторы, хотя бы из числа образованных людей?
Александр Баласогло был полон надежд.
– Разве в России нет людей? – спрашивал он. – А Ломоносов? А Пушкин? А прасол Кольцов? Сравните Гоголя с всеевропейским гением Сю! А музыка Глинки? А живописец Брюллов?
Докладчик закончил горячим призывом:
– Пора увидеть нам первенцев юного поколения России. Они всюду, они рождаются сотнями, они растут не по дням, а по часам. Пора выходить России из долгой умственной дремоты, настала пора учить учась…
– Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, – дополняет докладчика Петрашевский. – Не будем же бояться начать наше образование с азбуки. А азбука нового мира – социализм.
Беседы, происходившие у Петрашевского, стали получать определенное направление. Едва ли не самым юным из посетителей «пятниц» был Владимир Алексеевич Милютин, сын петербургского фабриканта средней руки. Любознательный молодой человек задался вопросом: что несут фабрики рабочим? Но он начал свои исследования не с России, где еще только зарождался рабочий класс, а с Англии и Франции.
– Под внешним блеском и богатством Западной Европы, – говорил Милютин, – кроется язва нищеты и страданий. Эта нищета и страдания постоянно тяготеют над рабочим классом. У капитализма нет средств для самоизлечения.
– Значит, вы вступаете в ряд сен-симонистов или фурьеристов? – спрашивали Милютина.
– Нимало, – отвечал он. – Их учения должны быть освобождены от мистического и мечтательного характера. Это утопии, а человечеству нужна наука, построенная на законах, которые управляют жизнью общества.
К речам Милютина с особенным интересом прислушивался Михаил Салтыков. Часто они уходили вместе от Петрашевского и, бродя по петербургским улицам, продолжали задушевный разговор.
– К какой же деятельности готовите вы себя, Владимир Алексеевич?
– К ученой, – отвечал Милютин. – Нет более почетной задачи для экономической науки, как открыть человечеству обетованную землю благосостояния и счастья. Не подумайте, однако, что я хочу затвориться от жизни. Наука и жизнь неотделимы. Предвижу для себя и поприще журнальное. У нас еще не уделяют внимания тем вопросам, которыми заняты лучшие умы на Западе… А вы, Михаил Евграфович, куда себя определяете?
– Право, не знаю, что вам сказать… В следующую пятницу свидимся?
– Непременно, – отвечал Милютин. – Я так свыкся с этими сходками, что даже не представляю, как бы стал без них жить.
Салтыков шел один по пустынным улицам. После шумных разговоров у Петрашевского казалось, что город спит непробудным сном. Черным-черны окна. Чего же ждут люди от завтрашнего дня?
Мысли чиновника-аккуратиста, который завтра одним из первых придет в канцелярию, были смутны. Одно, кажется, становится для него более или менее ясным: вряд ли будет закончена когда-нибудь поэма «Кориолан». У русской литературы есть куда более важные задачи.
Глава восемнадцатая
На одной из «пятниц» собравшиеся вплотную приступили к Милютину:
– Итак, язвы капитализма неизлечимы?
– И рабочий класс неминуемо обречен на нищету?
– А где же, по-вашему, выход?
Владимир Алексеевич развел руками:
– Если бы кто-нибудь это знал!
Он возлагал надежды на просвещенные правительства, говорил о постепенном усовершенствовании жизни… и впадал в неустранимое противоречие с собственной критикой неизлечимых язв капитализма.
Спор вспыхнул с новой силой.
Петрашевский воспользовался этим, чтобы отозвать в кабинет молодого литератора Валериана Николаевича Майкова.
– Что же будет со «Словарем»? – спросил Михаил Васильевич. – Неужто так и не последует продолжения?
– Не знаю, – отвечал Майков, бывший главным и самым энергичным сотрудником «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка». – «Словарь» застрял на полуслове, и ничего утешительного для него я, признаться, не вижу.
Петрашевский посмотрел на него с укоризной: откуда такое равнодушие к важному делу?
Словарь, о котором шла речь, вздумал издавать некий штабс-капитан артиллерии Кириллов, служивший в кадетском корпусе по учебной части. Одновременно он был и мелким литературным промышленником. Издание «Словаря» было торжественно посвящено ловким штабс-капитаном младшему брату царя, великому князю Михаилу Павловичу. Это посвящение могло стать надежным щитом в случае каких-нибудь осложнений в цензуре. Впрочем, первый выпуск «Словаря» прошел цензуру без сучка без задоринки, хотя некоторые статьи и могли насторожить.
Надо бы цензуре присмотреться повнимательнее к этому «Словарю». А читатели возьми да и раскупи первый выпуск с молниеносной быстротой. Немедля откликнулся в «Отечественных записках» Виссарион Белинский: он советовал запастись словарем всем и каждому, да еще обещал поговорить о нем, когда издание будет закончено.
Об этом словаре и заговорил Петрашевский с Валерианом Майковым: как можно выпустить из рук дело, которое может принести великую пользу просвещению?
– Что касается меня, – отвечал Майков, – я очень занят, Михаил Васильевич, соредактированием «Финского вестника». Пока журнал не завоюет себе положения, у меня не будет свободной минуты.
«Финский вестник» мог занять видное место среди петербургских журналов. В объявлениях редакции было обещано участие Белинского, Панаева, Некрасова. Сам Петрашевский намеревался принять участие в новом издании.
– Журнал журналом, – отвечал Петрашевский, – но почему должен погибнуть «Словарь»? Тут свои огромные возможности. Не зря и Белинский одобрил.
– Уважаю мнения Белинского, – отвечал молодой, едва вступивший на литературное поприще Валериан Майков, – однако не думаю, что каждый его отзыв – я не говорю о «Словаре» – должно считать бесспорным. В последнее время Белинский обнаруживает опасное намерение диктаторствовать в критике, а это приведет к еще большей односторонности его взглядов. Нельзя только отрицать! Нужны идеалы, на которых будет воспитываться общественное мнение.
– А где вы эти идеалы найдете? – перебил Петрашевский. – С каких облаков снизойдут они в нашу действительность? Прав Белинский – мы должны расчистить почву для будущего безусловным отрицанием всех установлений, всех порядков, всех законов, порожденных деспотизмом под скипетром царя-фельдфебеля.
– Предмет не для короткого спора, – уклонился Майков. – Кстати сказать, ходят слухи, что издатель «Отечественных записок» подумывает о привлечении в журнал людей, не во всем согласных с Белинским.
– Так вот почему нет-нет да и промелькнет ныне в «Отечественных записках» статейка, проповедующая умеренность и в политике, и в науке, и в литературе…
«Пятницы» шли своим чередом, а Петрашевский вплотную занялся «Словарем». Михаил Васильевич отправился к штабс-капитану Кириллову. Кириллов тщетно разыскивал сотрудников для продолжения издания, которое, судя по первому выпуску, сулило барыш. Штабс-капитан был в восторге от предложения Петрашевского. Новый сотрудник предлагал расширить список слов, он брал на себя всю авторскую работу. «Словарь» станет энциклопедией социально-политических знаний для русских людей.
Свои мысли о России Петрашевский изложил в статье «Нация». «Россию и русских ждет высокая и великая будущность, – писал он. – Но когда это будет? Народ может внести лепту в сокровищницу человеческих знаний, может дать толчок общечеловеческому развитию, когда будет усвоена им вся предыдущая образованность и пережиты им все страдания путем собственного тяжелого опыта».
Михаил Васильевич Петрашевский ходил на службу, а дома до ночи писал статьи для «Словаря». Только в пятницу отрывался от рукописей.
Первым приезжал на сходки Салтыков.
– Кто это был в прошлую пятницу, – однажды спросил он, – молчаливый мужчина в очках?
– Мой сосед по дому, сенатский чиновник Барановский. Вполне порядочный человек.
– Надобно соблюдать осторожность, Михаил Васильевич. А то, смотрю, приходят люди и исчезают. Как бы не раздразнить гусей.
– Только заяц всего боится, – отвечал смеясь Петрашевский. – Побольше бы собрать людей – вот о чем следует думать. К тому же даже в Российской империи нет закона, запрещающего заниматься философией.
– Стало быть, я до сих пор не знал, какова она, философия, – усмехнулся Салтыков. – Вполне согласен, что надобно привлекать на наши сходки как можно больше людей, но об одном думаю: чтобы между надежных людей не просочилась, прости господи, какая-нибудь нечисть.
О такой опасности никто не думал. Не было ни одной отрасли управления в России, которая бы не подверглась на «пятницах» резкому осуждению. Чаще всего говорили о бедственном положении закрепощенного крестьянства.
Может быть, можно разрешить этот наболевший вопрос при помощи тех фаланг – хозяйств в складчину, – которые рекомендовал Фурье? Ведь в этих объединениях капитала, труда и таланта не было ничего противозаконного. Не требовалось насильственного переворота. Сам Петрашевский, первый пропагандист учения Фурье, еще верил в возможность насаждения фаланг в России…
А в реальной жизни России существовали рабовладельцы и рабы. Тут нетерпеливая мысль участников «пятниц» обращалась к решительным мерам.
Однажды, когда шел об этом долгий разговор, Михаил Васильевич бросил короткую реплику:
– Никакая революция не разрешит задач социальных, прежде чем не решит задач политических.
Это противоречило учениям признанных учителей социализма на Западе, чуравшихся политики. Но именно эта мысль прокладывала единственный верный путь в будущее.
Петрашевский все больше уходил в работу для словаря. «Пятницы» продолжались. По скрипучей лестнице, освещенной ночником, поднимались новые люди.
Глава девятнадцатая
В министерствах заседали комиссии. Работа кипела.
По воле императора, в России, идущей в ногу с просвещением, должно было быть введено в 1845 году новое уложение о наказаниях уголовных и исправительных.
Проект закона был представлен на благоусмотрение его величества. Император Николай Павлович, рассмотрев проект, одобрил все кары, вводимые новым законом, но пожелал заменить наказание кнутом наказанием плетьми. Плети больше соответствовали, конечно, духу просвещения.
Министерские комиссии снова заработали. Перерасчет ударов кнутом на удары плетьми был произведен таким образом, чтобы не пострадали ни справедливость, ни человеколюбие. Члены комиссии действовали с полным беспристрастием, поскольку принадлежали к дворянскому сословию, освобожденному от телесных наказаний. Зато высочайшей милостью, утвердившей плети на место кнута, мог воспользоваться теперь каждый простолюдин.
Издавая новый закон, правительство значительно расширило попечение о фабричных рабочих. В перечень преступлений были занесены стачки, и каторга была обещана непокорным. Дух прогресса сказался и в том, что кары за стачки были заимствованы из иностранных законодательств. Одновременно было объявлено для всеобщего сведения, что «язвы пролетарства чужды России».
Впрочем, смуты и бунты на фабриках уже доставляли немало хлопот даже высшей полиции.
Кстати сказать, в высшей полиции тоже произошли важные перемены, хотя и не зависевшие от воли императора. Всевышнему было угодно прекратить жизнь и многополезную деятельность бессменного шефа жандармов графа Александра Христофоровича Бенкендорфа. Освободившийся пост занял граф Алексей Федорович Орлов. Преуспел при этом и испытанный помощник покойного графа Бенкендорфа, генерал Дубельт. Дубельт стал непосредственным руководителем Третьего отделения и полномочным хозяином секретных казематов Петропавловской крепости. Златокрылый ангел по-прежнему охранял твердыню самодержавия с высоты крепостной колокольни.
Кто же, глядя на эту величественную картину, мог усомниться в благоденствии России? Тем более что для сомневающихся и были предназначены крепостные казематы.
Правда, из года в год в разных губерниях и уездах бунтовали мужики. Закон грозил им суровой расправой. Иногда помещики довольствовались мерами отеческого вразумления. В Курской губернии, например, некий владетель ревизских душ, увещевая строптивого мужика, израсходовал сорок два пучка розог. Мужик же, не оценив господской заботы, отдал богу многогрешную душу. Курская уголовная палата не признала помещика виновным в убийстве: люди одних лет с засеченным мужиком выносят несравненно сильнейшие наказания.
На том бы и кончить дело. Но курским судьям ответил пензенский мужик, хотя и понятия не имел он о том, что произошло в далеком Курске. Пензенский мужик, вызвавшись избавить своих односельчан от помещика-злодея, подстерег барина на плотине, взял его вперехват – и вместе с ним в омут. Пензенской уголовной палате уже не было нужды ни оправдывать помещика, ни судить мужика: оба утонули.
Мстители вставали один за другим. Все чаще действовали они скопом. В Тамбовской губернии возмутились против поборов государственные крестьяне. Наделали кистеней и пик и вооруженной рукой прогнали полицию.
Министр государственных имуществ доложил императору, что тамбовский случай произошел единственно по непривычке крестьян к порядку; благосостояние их растет, и порядок управления следует не переменять, но только развивать на основании оправдавшего себя опыта.
Император слушал доклад, одобрительно кивая головой. Потом нахмурился: мало ли сообщений стекалось к нему со всей России о помещиках, теснимых мужиками… Отошли в вечность блаженные времена, когда мужики стояли перед господами на коленях и, по обычаю, с хлебом-солью. Теперь вместо хлеба-соли пики да кистени!
Министр внутренних дел получил от императора важнейшее поручение: представить проект улучшения быта помещичьих крестьян. Это было похоже на сказку про белого бычка, начало которой терялось в запыленных архивах, а конца, как и в сказке, не предвиделось. Суть неразрешимой задачи сводилась к одному: как сохранить священные права помещиков при беспрекословном повиновении мужиков?
Вновь заработали в министерствах комиссии. Разумеется, обсуждение нового варианта сказки про белого бычка шло секретно. Крепостное право по-прежнему именовалось коренным установлением Российской империи.
А в какой-нибудь дальней губернии запрется помещик на ночь в собственном доме, как в крепости. Но снится все равно черт знает что: то мужик с пикой или с кистенем, то старый знакомец – красный петух.
Ох страшно, господа дворяне!
Можно бы, конечно, там, где заводятся фабрики, сдавать беспокойных мужиков купцам-промышленникам за хорошую цену. Выгодно и спокойно. Но что вышло на подмосковной фабрике купца Лепешкина? Сдали туда господа Дубровины семьсот собственных мужиков и, поди, уже подсчитывали барыши. А кабальные мужики – шасть в Москву, к генерал-губернатору. Генерал-губернатор вернул холопов на фабрику, а там угостили их ружейным свинцом. Купчишке – помощь, а каково господам Дубровиным? Ревизские души, какие ни есть, всегда в цене.
Благонамеренная словесность выбивается из сил, описывая процветание отечества, а злоумышленники, подстрекаемые Виссарионом Белинским, все выше поднимают головы. И странное дело: будто прибывает у них сил тем больше, чем чаще гуляет в помещичьих усадьбах красный петух, да еще от того, что стали кое-где ковать мужики самодельные пики да кистени…
Благонамеренные писатели в один голос указывают на статьи Виссариона Белинского. От этого зелья теряет голову молодежь. Нечего скрывать, сторонники Белинского находились и в императорском лицее, и в университетах, и даже в духовных семинариях! Или нет на Белинского управы? Неужто не найдется для него секретного каземата у генерала Дубельта? Или ждать, пока чахотка одолеет изменника богу и государю? А нечестивец тем временем собирает и собирает единомышленников. Хозяевам толкучего литературного рынка приходилось говорить не только о Гоголе, но обо всем гоголевском направлении.
Виссарион Белинский видел успехи нового направления в том, что литература обратилась к так называемой «толпе», избрала ее своим героем, изучает ее с глубоким вниманием и знакомит ее с нею же самой. В этом видел критик выполнение основного стремления литературы стать вполне национальной, русской, оригинальной и самобытной. Уничтожение всего фальшивого, ложного, неестественного было необходимым результатом нового направления.
Белинский напоминал читателям, что это направление обнаружилось вполне еще в то время, когда публика прочла «Миргород» и увидела на сцене «Ревизора». С тех пор, утверждал Белинский, весь ход литературы, вся сущность ее развития, весь интерес ее истории заключались в успехах новой школы.
По праву мог оглянуться Виссарион Григорьевич на собственные труды. Если отцом новой школы был Гоголь, то именно он, Белинский, был ее провозвестником, глашатаем, вдохновителем и неутомимым за нее борцом.
Часть шестая
Глава первая
Дом Жуковского мирно спал. Гоголь долго прислушивался: мерещились чьи-то шаги, скрип ступенек на лестнице. Впрочем, никто из хозяев никогда не приходил в покои, отведенные гостю. Никто и сегодня не придет.
Николай Васильевич растопил камин. Положил перед собой тетради, в которых было набросано продолжение «Мертвых душ». Когда камин разгорелся, стал медленно рвать лист за листом и бросал их в огонь.
Нелегко предать огню труд нескольких лет, где каждая строка давалась ценой мучительного напряжения. Но чем сильнее разгоралось пламя, тем ощутимее нарастало чувство освобождения.
Сгорели последние листы. Гоголь поднял склоненную голову: как феникс из пепла возродится обновленная поэма!
Тщательно прибрал следы содеянного. Встретил утро, сидя у раскрытого окна.
– Надо умереть для того, чтобы воскреснуть! – шептал он, а сам искоса поглядывал на камин, словно боялся, что сызнова окружат его герои поэмы, преданной очистительному пламени.
Ничто не напоминало о жертве, принесенной ночью. Комната полнилась солнечным светом. В доме просыпались слуги. Гоголь взял шляпу и пальто. Еще минуту постоял, словно все еще не веря совершенному, и незаметно ушел из дому.
Когда Николай Васильевич вернулся, Жуковскому показалось, что дорогой гость как-то успокоился душой.
Но чуда воскресения поэмы не произошло. Может быть, дьявол-искуситель зажег огонь в камине в злополучную ночь? Может быть, тьфуславльский юрисконсульт, невредимо вышедши из пламени, корчит рожи?
Спасительная мысль приходит Гоголю: он поедет в Берлин, к знаменитому медику Шенлейну. Когда-нибудь надо узнать правду, какова бы правда ни была.
– В Берлин, к Шенлейну!
Но тут ему представилось необходимым заехать в Веймар. В Веймаре снова встал рядом, как зловещая тень, граф Толстой. Толстой советует ехать в Галле. Там живет опытнейший медик Кругенберг.
– В Галле так в Галле, – соглашается Гоголь, – только ехать скорее!
Доктор Кругенберг подтвердил: все дело в нервах. Он рекомендует длительные купания в Северном море, на острове Гельголанд.
Пациент смотрел на него с тоскливым недоумением. Доктор Копп, тоже упиравший на нервы, советовал лечиться в Гастейне… Кто же прав? Пусть решает прославленный Шенлейн.
А Шенлейна в Берлине не оказалось. Спасибо, кто-то посоветовал ехать в Дрезден, к тамошнему доктору Карусу.
Снова скачет Гоголь по Германии в поисках спасения.
Доктор Карус оказался очень внимательным. Расстройство нервов, увы, не вызывает сомнения. Конечно, доктор Карус не имел понятия, что на свете существуют какие-то «Мертвые души» и что произошло недавно во Франкфурте с какой-то рукописью.
Доктор Карус нашел непорядки в печени и направил больного в Карлсбад.
Николай Васильевич ринулся в Карлсбад. А если главная причина его страданий все-таки нервы? Он знал, что значат нервы, может быть, лучше, чем медики. Вместо нервического расстройства готово сорваться другое, страшное слово…
Бог знает, как жили люди, съехавшиеся в Карлсбад. Гоголь давно и всюду был один, наедине со своими мыслями.
«Друг мой, – признался он в письме к Александре Осиповне Смирновой, – я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и, особенно, «Мертвых душ»… Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ»…»
Гоголь повторял, что тайна, к изумлению всех, раскроется в будущих частях поэмы.
А тьфуславльский генерал-губернатор и сатана юрисконсульт снова предстали перед автором «Мертвых душ». Намереваясь достать какую-то бумагу, Николай Васильевич обнаружил в портфеле знакомую тетрадку, испещренную вставками и карандашными поправками. Каким чудом уцелела последняя из тетрадок, в которых писалось продолжение «Мертвых душ»? Долго смотрел Гоголь на свою находку. Автор и обрадовался встрече с героями и еще больше смутился духом. Вот он, тьфуславльский генерал-губернатор, покинутый Гоголем на полуслове; ухмыляется сатана юрисконсульт, запахивая засаленный халат; знает, поди, что обессилел автор, живущий одним желанием: забыться!
Впрочем, все это происходило уже не в Карлсбаде, а в Греффенберге. Слава богу, в Греффенберге у него не было свободной минуты. Пациента обвертывали в мокрые простыни, сажали в холодные ванны, обливали, обтирали, потом заставляли бегать, чтобы согреться.
Гоголь, не веря сам себе, чувствовал живительное освежение. Может быть, этому освежению содействовала новая встреча в Греффенберге с графом Толстым?
Толстой не расставался с чудотворными амулетами. Это было и масло, взятое из лампадки на могиле угодника, и частица от мощей великомученика, наглухо закованная в серебро, и святая вода, добытая через божьего человека из Иерусалима.
Иерусалим! Еще один невыполненный обет. А о чудесах, творящихся там на гробе господнем, граф Толстой имел самые достоверные известия.
Но ничто не могло спасти скитальца от черной тоски. Гоголь просил мать отслужить молебен о его здравии не только у себя в Васильевке, но если можно, то и в Диканьке, в церкви святого Николая. Именно здесь лучше всего было замолить тяжкий грех опрометчивого автора книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Тогда, по неразумию, он легкомысленно посмеялся над нечистой силой, не ведая в гордыне, на кого замахнулся. Пусть мать замолит его грех.
Впрочем, Николай Васильевич твердо помнил и о знаменитом берлинском медике Шенлейне.
Осенью Гоголь появился на тихой берлинской улице. Шаг, который он делал, мог унести последнюю надежду.
Рассказ пациента показался доктору Шенлейну несколько сбивчивым. Пациент готов был терпеть все недомогания; он хотел одного: спокойствия духа, которое утратил.
Доктор произвел осмотр и, жуя сигару, задумался.
– Несомненное нервическое расстройство, – объявил он. Гоголь вздрогнул: сейчас объявит медик самое страшное…
– Но, – продолжал Шенлейн, – все ваше расстройство кроется, по счастью для вас, в нервах брюшной полости.
Пациент снова вздрогнул, теперь от возрожденной надежды.
– И только в нервах брюшной полости? – переспросил он. Сомнение еще раз овладело им. – Не ошибаетесь ли вы, господин Шенлейн?
– Наука не имеет права ошибаться. Впрочем, ваше недоверие понятно, – и знаменитый медик посмеялся над всеми своими предшественниками, в руках у которых побывал незадачливый пациент. – Отнюдь не наука, но люди, недостаточно сведущие в науке, не поняли очевидной причины ваших страданий. Nervoso fascoloso – вот все, что я могу у вас установить.
А Николаю Васильевичу думалось бог знает о чем!
Средства лечения, предложенные знаменитым Шенлейном, оказались удивительно просты. Медик рекомендовал путешествие на зиму в Рим, потом летние купания в Неаполе и, наконец, переезд осенью к Северному морю. Шенлейн угадал наивернейшее средство, благотворно действовавшее на пациента. Диета, какие-то капли и пилюли, уверенно предложенные врачом, свидетельствовали о том, что волшебник Шенлейн нашел истинную причину недуга, который снедал душу больного.
Полный бодрости, Гоголь переехал в Рим. Снята новая квартира. Перед его глазами – вечный Петр. Никаких воспоминаний о недавних горестях.
«Я приказываю вам не грустить! Во имя бога повелеваю вам это!» – пишет он Смирновой.
Здоровье Николая Васильевича крепнет. Сообщения о помощи, полученной от Шенлейна, перемешиваются в письмах к друзьям с рассуждениями о божьей милости, оказанной ему.
Ему верится: все, что должно сказать миру, будет сказано, хотя бы смерть и унесла того, кто должен возвестить истину.
Откуда же выглянула смерть? Разве может угрожать она человеку, у которого нет никаких других болезней, кроме nervoso fascoloso? Разве не посмеялся доктор Шенлейн над невежественными медиками?..
Но как давно это было! Гоголь не вспоминал больше о том счастливом дне, когда ушел от доктора Шенлейна, исцеленный надеждой. Он худеет и слабеет.
За окном его квартиры по-прежнему высится вечный Петр, а к нему – только оторвись от молитвы – заглядывает курносая старуха смерть. Николай Васильевич снова зовет на помощь тех, чьи молитвы могут быть сильнее перед богом.
«Ваши молитвы, именно ваши мне нужны», – взывает он к графу Толстому. Толстой уехал в Париж. Может быть, и ему, Гоголю, перебраться туда же?
Неожиданное известие очень его встревожило: в Лейпциге вышел перевод «Мертвых душ». В предисловии переводчик называл поэму Гоголя народной русской книгой. Нечего сказать, одолжил немец! Не знает, что сам автор отказался от этой незрелой, односторонней и опрометчивой книги. А что, если и в Германии примут ее за портрет России? Ведь впали в такую ошибку даже многие соотечественники.
Ладно бы перевели повести Гоголя в Париже. Лестные для автора суждения французов скоро канут в Лету забвения вместе с газетными объявлениями о слабительных пилюлях и помадах для волос. Но «Мертвые души»! Нигде не должны они появиться раньше, чем автор не исправит все промахи. Если начинают переводить «Мертвые души», тем более надо спешить автору с продолжением.
А что делается в России, где живут герои поэмы? Гоголь пишет Александре Осиповне Смирновой, переехавшей в Калугу. Александра Осиповна должна сообщить о всех толках, которые занимают город, о всех распоряжениях и о всех злоупотреблениях, которые открываются.
Николай Васильевич, пожалуй, сам не верит, что такая просьба когда-нибудь кем-нибудь будет выполнена. Однако еще одно важное письмо летит в родную Васильевку. Гоголь повторяет давнюю просьбу: пусть сестры его обойдут избы и доставят ему сведения о каждом мужике. Если же до сих пор не понимают беспечные сестры, как это важно, если не хотят потрудиться, пусть хотя опросят прикащика. Только бы не медлили!
Призвав прикащика, помещицы Васильевки должны сказать, что ему поручена власть, а всякая власть установлена от бога. Поэтому прикащик должен смотреть за мужиками во все глаза, заставлять хорошо делать всякое дело. Мужикам в свою очередь барышни Гоголь должны сказать, чтобы они слушали прикащика и умели бы ему повиноваться; нужно так говорить с мужиками, чтобы они видели, что, трудясь для помещиков, они исполняют божье дело.
Подобные мысли вряд ли могли родиться у автора «Мертвых душ» в то время, когда описывал он маниловых, ноздревых, собакевичей, коробочек и Плюшкиных. Так неужто же работа на какого-нибудь Петуха или полковника Кошкарева стала теперь божьим делом?
Правда, почтеннейший Константин Федорович Скудронжогло говорил мужику: «Я над тобой за тем и поставлен, чтобы ты трудился». А где он, Скудронжогло?..
Тягостная тишина стояла в римском жилище Гоголя. Ни одной светлой минуты вдохновения. Но и ждать с помощью людям тоже нельзя. Гоголь сообщил друзьям в Россию:
«Я как рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждавшимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям, страждущим на разных поприщах…»
Глава вторая
Когда Павел Васильевич Анненков приехал в Париж, он с радостью узнал, что Гоголь тоже здесь. Не стоило труда разыскать его в фешенебельной гостинице, где приютился Николай Васильевич в семействе графа Толстого.
Павел Васильевич застал Гоголя на выходе. Гоголь заметно постарел, лицо осунулось и побледнело. Но те же были у него пышные волосы до плеч. Несмотря на явное истощение и усталость, глаза его, как показалось Анненкову, не только не потеряли блеска, но еще больше полнились огнем. Видно было, что он озабочен какой-то неотступной мыслью.
Николай Васильевич стал расспрашивать, нет ли новых литературных дарований на Руси, и тут же добавил, что только молодые таланты и привлекают его внимание.
– Старые всё уже выболтали, хотя и продолжают болтать, – заключил он.
Павлу Васильевичу было о чем порассказать. Взять хотя бы «Петербургский сборник», который еще в начале 1846 года вышел в свет. В сборнике полно именно тех новых талантов, о которых говорил Николай Васильевич. Когда Анненков назвал роман «Бедные люди», Гоголь оживился.
– В Достоевском виден талант. Выбор предметов говорит в пользу его душевных качеств. Однако же и молод он, судя по всему: если бы меньше говорливости и более сосредоточенности, все бы оказалось гораздо сильнее и живее.
– Вы читали весь сборник, Николай Васильевич?
– К сожалению, нет. Мне вырвали и прислали только «Бедных людей». А как бы хотелось прочесть весь сборник! Очень нужны мне современные повести, – в них хотя и вскользь, однако проглядывает наша жизнь. Но я уже устал просить, чтобы слали новинки.
Анненков хотел сказать, что, должно быть, обращался Гоголь не по тем адресам, где сочтут за честь исполнить его просьбу.
– Если бы написать вам, Николай Васильевич, Белинскому?
– На днях я еду на купанья в Остенде, – вместо ответа многозначительно объявил Гоголь и, назначив встречу на ближайший день, распрощался.
При следующем свидании Анненков нашел Гоголя в обществе графа Толстого и светских его знакомых. Николай Васильевич сидел на диване в дальнем углу комнаты, не участвуя в общем разговоре.
– Я сообщу вам приятную новость, полученную мною с почты, – вдруг объявил Гоголь.
Он вышел, вернулся, сел на тот же диван и торжественно прочел какую-то речь церковного проповедника. Речь не имела отношения к предмету разговора, но, видимо, это не заботило Николая Васильевича. Он кончил чтение и снова погрузился в глубокое молчание.
Анненков ушел.
На следующий день Николай Васильевич уехал из Парижа.
Через короткое время Анненков опять встретил его на перепутье. Павел Васильевич думал, что Гоголь давно добрался до Остенде, и вдруг в старинном городке Южной Германии увидел человека в коротком пальто, как две капли воды похожего на Гоголя.
– Николай Васильевич?! – с удивлением воскликнул он. Гоголь объяснил, что он едет в Остенде, только взял дорогу через Австрию и Дунай.
Кружной маршрут, избранный Гоголем, не меньше удивил Анненкова, чем сама неожиданная встреча.
– У нас мало времени, – продолжал Гоголь, когда они возвращались к стоянке дилижансов. – Знаете что? – неожиданно сказал он. – Приезжайте на зиму в Неаполь, я тоже там буду. – Он минуту помолчал. – Вы услышите в Неаполе вещи, которых и не ожидаете.
Как ни странно было это предложение, сделанное с какой-то затаенной мыслью, Анненков обещал его обдумать. А Гоголь уже заговорил о другом:
– В России боятся европейских неурядиц и опасаются появления пролетариев. Но можно ли разделить нашего мужика с землею? Наш мужик плачет от радости, увидев свою землю, а некоторые целуют ее, как любовницу. Это что-нибудь да значит? Об этом-то и надо поразмыслить.
Собеседники уже приближались к стоянке дилижансов. Оставалось напомнить Гоголю об обеде, о котором он, очевидно, забыл. Тогда в соседней кондитерской Гоголь внимательно отобрал десяток сладких пирожков и с пакетом в руках занял место в карете.
– Прощайте еще раз. Помните мои слова: подумайте о Неаполе!
Карета тронулась…
Глава третья
Виссарион Белинский писал в «Петербургском сборнике»: в России нарождается новая сила. Эта сила – общественное мнение.
Создавали это общественное мнение в первую очередь писатели гоголевского направления. Недаром, едва вышел в свет «Петербургский сборник», раздался боевой клич в охранительной словесности: в штыки их, самоновейших писателей и поэтов!
К «партии», возглавляемой Белинским, гласно причисляли не только Некрасова, но и Достоевского, Герцена, Тургенева.
К прозе, напечатанной в «Петербургском сборнике», присоединилась поэзия. Стихотворение Некрасова «Колыбельная» вызвало переполох. Автора было приказано взять под особое наблюдение.
В «Отечественных записках» появилось продолжение романа «Кто виноват?». Перед читателями предстал новый герой. Герцен рисовал уже не чудовищное семейство Негровых, а молодого образованного помещика Владимира Бельтова. Он хочет противопоставить себя рабовладельческой среде, но неспособен к действиям. Почвой, взрастившей лишнего человека, была все та же крепостническая усадьба. Каждой новой строкой Герцен отвечал на вопрос, поставленный в заглавии романа.
Рука об руку с прозой и поэзией шла новая философия. Герцен опубликовал в «Отечественных записках» еще одну статью из цикла «Писем об изучении природы». Статья называлась «Реализм» и всем острием своим была направлена против идеализма, мистики и схоластики.
В центре всех разговоров оставался роман Достоевского «Бедные люди». Именно это произведение обеспечило небывалый успех «Петербургскому сборнику».
– Если бы я не поддался уговорам, – сетовал Некрасов, – публика раскупила бы и вдвое больше.
Но круг читателей «Петербургского сборника» был и без того широк. Не кто другой, как графиня Анна Михайловна Виельгорская, послала Гоголю листы «Бедных людей». А ведь принадлежала Анна Михайловна к самому высшему обществу.
Но, разумеется, не в аристократических гостиных рождалось общественное мнение, о котором говорил Белинский. Суровые судьи коренных российских устоев появлялись всюду, где росли читатели новой словесности.
Фаддей Булгарин уничижительно назвал гоголевское направление «натуральной школой». Белинский ответил «Северной пчеле»: господин Булгарин очень основательно назвал новую школу натуральной, в отличие от старой, риторической или не натуральной, то есть искусственной, другими словами, ложной школы.
Булгарину снова пришлось разъяснять: никакой новой натуральной школы в русской словесности нет и не было. Была-де отпущена в «Северной пчеле» просто шутка.
Очень хотелось Фаддею Венедиктовичу посмеяться, но смех вышел невеселый. Натуральная школа занимала командные высоты И в журналах и в изящной словесности. За ней стояла новая сила – общественное мнение.
«Явилась целая толпа новых писателей, – сообщал брату Федор Михайлович Достоевский, – иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. Первый печатался, второй начинающий и не печатавшийся нигде. Их ужасно хвалят».
Иван Александрович Гончаров, мелкий чиновник департамента таможни, встретился Достоевскому там, куда шли все молодые последователи Гоголя.
Впрочем, Гончаров пришел к Белинскому окольным путем. Написав повесть «Обыкновенная история», вернее, еще не вполне ее закончив, автор по знакомству отдал ее на суд Михаилу Александровичу Языкову, – пусть Михаил Александрович определит: если стоящая вещь, тогда, может быть, он передаст ее Белинскому.
Языкову поначалу повесть показалась скучноватой. На том и остановилось дело. Гончаров терпеливо ждал. Может быть, это был единственный из молодых авторов, ожидавший решения своей участи с невозмутимым спокойствием.
Наконец Языков вспомнил об «Обыкновенной истории» и передал ее Белинскому с тем же приговором:
– По-моему, скучновато.
У Белинского сомнений не оказалось. В литературу пришел еще один талант, сформировавшийся под могучим влиянием гоголевского направления. Гончаров разоблачал мечтательно-слезливый и бездейственный романтизм, который выращивался в провинциальных дворянских усадьбах. В повести был и другой характерный персонаж – преуспевающий петербургский чиновник-делец. Столкновение этих двух фигур, типичных для русской жизни, давало возможность молодому автору насытить повесть духом современности.
Гончарову пришлось читать свою повесть на сходках у Белинского несколько вечеров, и каждый раз Белинский хвалил автора от души.
– Я буду безмерно рад, Виссарион Григорьевич, – отвечал Гончаров, – если вы повторите драгоценные для меня слова лет этак через пять.
Несмотря на явное внимание, которое оказывали Гончарову молодые писатели, собиравшиеся у Белинского, он держался от всех и стороне, будто боялся завести дружественные отношения с кем бы то ни было. Но в точно назначенный час появлялся у Белинского, развертывал рукопись «Обыкновенной истории» и читал не торопясь, без всякого авторского воодушевления.
– Эх, побольше бы вам злости, Иван Александрович, – не выдерживал Белинский, – да поменьше бы этой объективности! Впрочем, кончайте повесть, и будем печатать ее в «Левиафане».
«Левиафаном» назывался новый сборник, который задумал издать Белинский во славу натуральной школы. Приглашение участвовать в «Левиафане» означало причисление начинающего писателя к кругу избранных.
Всей душой будет участвовать в «Левиафане» и Федор Михайлович Достоевский, хотя и прячет сердечную обиду. У Белинского все меньше и меньше говорят о Голядкине. Некрасов вместе с Тургеневым даже сочинили на автора «Двойника» язвительную эпиграмму.
Ладно, если бы эпиграмму сочинил колючий человек Некрасов. Но Тургенев! Тургенев, к которому так привязался Федор Михайлович! А может быть, и Белинский от него отвернулся? Но совсем недавно Достоевский прочитал в «Отечественных записках» лестные строки и о «Бедных людях» и о «Двойнике». Защита «Двойника», появившегося в журнале, тем дороже автору, что эта повесть вызвала поток грубых издевательств критики. По «Двойнику» критики-пророки торопились предсказать бесславный и недалекий конец натуральной школы. Вспомнит об этом Федор Михайлович – и тут же мучает его новая мысль: не из-за этих ли яростных нападок и взял Белинский под защиту Голядкина?
А на собраниях у Белинского о Голядкине молчат. Или вплотную занялся Виссарион Григорьевич «Левиафаном»?
Белинский был поглощен новым изданием. «Левиафан» должен стать невиданным в русской словесности альманахом. Кроме того, Белинский связывает с «Левиафаном» прозаические надежды на кусок хлеба.
Белинский уходит, вернее, уже ушел из «Отечественных записок».
Краевский, привлекая новых, угодных ему авторов, все более подрывал направление журнала, созданное Белинским. Доходили до Виссариона Григорьевича слухи и о том, что Краевский не прочь освободиться от сотрудника, становившегося опасным для будущих видов редактора-издателя.
Белинский послал Краевскому короткое письмо: с 1 апреля (отработав жалование, взятое вперед) он будет считать себя свободным от всяких обязательств по журналу.
Взгляд его на Краевского давно определился. Краевский – приобретатель, следовательно, вампир, готовый высосать у человека кровь и душу, чтобы потом выбросить его, как выжатый лимон. Либерализм его – только путь к приобретению капитала. Когда в журнал, покинутый Белинским, ни строки не станут давать порядочные люди, тогда бесславно кончится вся литературная деятельность коршуна Краевского. Пора!
Была у Виссариона Григорьевича еще одна горестная причина для ухода из журнала. Переутомление его было таково, что написание каждой строки становилось пыткой. Пока не поздно, нужна хотя бы самая короткая передышка от журнальной работы.
Получив от Белинского письмо, которое свидетельствовало о том, что уходящий сотрудник не хочет никаких личных объяснений, Краевский выразил настоятельное желание обо всем потолковать.
– Да ведь надо же работать-то! – встретил он Белинского, поглядывая на него выжидательно.
– Буду делать, что мне приятно и не стесняясь срочностью работы, – отвечал сотрудник, лишавший себя верного куска хлеба.
– Пусть так, почтеннейший Виссарион Григорьевич. Но надо подумать и об «Отечественных записках».
Тут бы и начать редактору-издателю разговор о судьбе журнала. Вместо того Андрей Александрович сухо спросил:
– Не знаете ли кого взамен себя? Что делает Некрасов?
Никаких уговоров не последовало.
«Он не понимает опасности своего положения», – думал по дороге домой Белинский. В самом деле, Краевский многого не понимал, если надеялся вбить клин между Белинским и Некрасовым. Зато он твердо знал другое: журналу, обеспеченному устойчивой подпиской и капиталом, можно расстаться наконец с опасным сотрудником.
Редактор-издатель «Отечественных записок» понятия не имел о том, что в Третьем отделении лежала секретная записка Булгарина под заглавием: «Социализм, коммунизм и пантеизм в России в последнее двадцатипятилетие».
Не от хорошей жизни пустился Фаддей Венедиктович в исторические изыскания. Главная мысль секретного трактата касалась, конечно, сегодняшнего дня.
«Все направление «Отечественных записок», – писал Булгарин, – клонится к тому, чтобы возбуждать жажду к переворотам и революции, – и это проводится в каждой книжке. Огромный класс, ежедневно умножающийся, людей, которым нечего терять, а в перевороте есть надежда все получить, – кантонисты, семинаристы, дети бедных чиновников и прочие, – почитают «Отечественные записки» своим евангелием, а Краевского и первого его министра Белинского (выгнанного московского студента) апостолами».
Вот как рисковал из-за Белинского Андрей Александрович Краевский!
Ошибся кое в чем и Виссарион Белинский. Ему верилось, что по его примеру покинут «Отечественные записки» все порядочные люди. А порядочные люди вовсе об этом не думали. По склонности к либерализму всегда предпочтут они сидеть между двух стульев. Не многие из участников «Отечественных записок» последуют за Белинским. На стороне Краевского окажется даже большинство, с Белинским – те, кому принадлежит будущее.
Итак, Белинский освободился от журнала. Тем больше мог он заняться «Левиафаном». «Левиафан» должен выйти непременно к осени. Иначе чем жить семье? Мари права в своих тревогах. Но и он не легкомысленный мальчишка. Щедрым присылом откликнулись москвичи. Герцен прислал удивительную повесть «Записки доктора Крупова». С железной логикой доктор Крупов убеждает читателей, что большинство человечества, мирясь с нелепыми порядками жизни, имеет все права на зачисление в душевнобольные. Михаил Семенович Щепкин прислал отрывок из воспоминаний – живые страницы летописи крепостного театра.
Виссарион Григорьевич показывает рукописи Мари: какое блестящее начало для «Левиафана»! Друзья поддержат его в трудную минуту. Белинский берет новую рукопись:
– Если бы ты знала, Мари, какую умную статью прислал мой старый приятель и молодой ученый Кавелин! Эта статья, ей-богу, может стать эпохой в изучении русской истории. Один взгляд его на Ивана Грозного чего стоит! Послушай, Мари!
– Слушаю, мой друг… Но какое нам с тобой дело до Ивана Грозного? Пусть твой «Левиафан» выйдет непременно осенью. Но деньги-то нужны сейчас – и сегодня и завтра.
Бедная Мари! Ей в самом деле нелегко. Она мужественно мирится с лишениями. Она хочет только одного: чтобы хоть как-нибудь была обеспечена скромная жизнь семьи. Будущий «Левиафан» казался ей далеко не таким надежным, как ежемесячное жалованье. Но стоило лишь упомянуть о Краевском, как Виссарион Григорьевич приходил в ярость.
– Завтра же побегу к нему на поклон! Буду писать рецензии о немецкой грамматике, о византийской архитектуре, о медиумах! Пусть Ванька Каин делает из меня враля, шарлатана и осла, на котором он въедет в Иерусалим своих успехов!
Мари приходилось давать ему успокоительную микстуру.
– Доконали меня «Отечественные записки», – едва мог закончить разговор Белинский. Начинался кашель и удушье.
Если бы кто-нибудь знал, как он устал! А ему не исполнилось еще и тридцати пяти лет!
В невеселую минуту он написал Боткину, собиравшемуся вернуться из Парижа на родину:
«При мысли о свидании с тобой мне все кажется, будто мы расстались молодыми, а свидимся стариками; и от этой мысли мне и грустно, и больно, и почти что страшно…»
Страшно было оставаться наедине с этими мыслями. Если бы только вздохнуть полной грудью, ни о чем не думать, ни о чем не писать! Иначе… Виссарион Григорьевич понимал, что иначе болезнь не даст ему отсрочки.
Возможность выехать из Петербурга представилась совершенно неожиданно. Михаил Семенович Щепкин звал его в поездку на юг, где знаменитый московский артист предполагал гастролировать в театрах разных городов. Этакое счастье!.. А на что будет существовать семья?
– Не везет мне, Николай Алексеевич! – Белинский встретил Некрасова с грустной улыбкой.
Но что это? Некрасов вынимает ассигнации, много ассигнаций и, положив их на стол, говорит бесстрастным голосом, как будто ему в привычку отваливать такие куши:
– Здесь чистый доход от «Петербургского сборника», Виссарион Григорьевич. Две тысячи рублей. Вам на поездку как раз пригодятся, а мне ни к чему. Во благовремении сочтемся.
Белинский может двинуться на юг. Семья поедет на лето в Ревель, на. купания в Гапсаль. Все хлопоты по путешествию берет на себя Федор Михайлович Достоевский, который едет в Ревель к брату.
Виссарион Григорьевич совсем повеселел.
– Хороший муж никогда не оставит жену и ребенка без уважительной причины. Не правда ли, Мари? – спросила за вечерним чаем Аграфена Васильевна.
Белинский уставился на свояченицу.
– То есть как это без причины? – переспросил он. – Это я-то, по-вашему, еду без причины? Что же ты молчишь, Мари?
– Я так боюсь твоей поездки, – присоединилась Мари. – Ты будешь в компаниях. Не удержишься от вина, нарушишь диету…
Белинский встал из-за стола. В груди у него клокотало. Голос стал едва слышен.
– Поймите! В последний раз прошу понять: я еду не только за здоровьем, но и за жизнью…
Он ушел в кабинет. Начался припадок надрывного кашля. Не помогла и успокоительная микстура, с которой немедленно пришла Мари.
Белинский прилег на диван на высоких подушках. Явилась робкая мысль: может быть, его поездка освежит и семейные отношения?
Глава четвертая
В московском почтамте нетерпеливо ожидали прибытия дилижанса из Петербурга. Дилижанс опаздывал на несколько часов. Лил непрерывный дождь. Но никто из встречающих Белинского не расходился. Здесь были и Герцен, и Кетчер, и Щепкин, и другие москвичи, близкие к «Отечественным запискам».
Когда дилижанс наконец прибыл, на Белинского обрушились поцелуи, объятия, приветствия. Встреча была душевная и, пожалуй, даже торжественная.
Следом за Белинским из почтовой кареты вышел Некрасов. Это никого не удивило. Московские друзья Белинского хорошо знали, какого близкого единомышленника и неутомимого помощника нашел в нем Виссарион Григорьевич.
Михаилу Семеновичу Щепкину хотелось как можно скорее посадить Белинского в свой тарантас и увезти желанного спутника в дальнюю поездку. Но то ли Белинский поторопился выехать из Петербурга, то ли Михаил Семенович плохо расчел свои театральные дела – Виссариону Григорьевичу пришлось задержаться в Москве больше чем на две недели.
Предполагалось, что он будет просто отдыхать среди друзей. Но в его честь устроили торжественный обед. В речах главенствовала одна мысль: он, Белинский, – создатель общественного мнения на Руси.
Бокалы дружно осушались и наполнялись вновь. Только бокал виновника торжества оставался едва пригубленным.
Готовились почтить петербургского гостя и славянофилы. В типографии печатался «Московский литературный сборник». Сам Алексей Степанович Хомяков выступал со статьей «Мнение русских об иностранцах». Касаясь социалистических учений, возникших на Западе, Хомяков признавал, что эти учения исторически неизбежны, но вместе с тем и ложны, поскольку в них проявилась та же односторонность понятий, которая характерна для западных народов.
Итак, даже славянофилы заговорили о социализме! Все это было еще далеко от прямых нападений на Белинского. Да он и не был назван по имени в программно-воинствующей статье. Вместо того Хомяков говорил о тридцатилетних социалистах, шаткость и бессилие убеждений которых сопровождается величайшей самоуверенностью.
Вот кого чествовали в Москве торжественным обедом! А потом в честь Белинского состоялся еще многолюдный завтрак у Щепкина.
Один за другим шли к Белинскому посетители. Чаще всего Виссарион Григорьевич бывал у Герценов. По собственному признанию, он питал какое-то восторженно-идеальное чувство к Наталье Александровне. Как мечтал он когда-то познакомить с ней Мари, как верил в их будущую дружбу! Теперь, по многим причинам, он мог отнести эти мечты к беспочвенному романтизму.
Наталья Александровна Герцен, увидев Белинского, едва нашла в себе силы, чтобы сдержать крик: так он исхудал, так страшны стали припадки его кашля.
Наталья Александровна заботливо укутывала гостя шалями, усаживала подальше от окна, предупреждала каждое его желание.
– После ваших нечеловеческих трудов, Виссарион Григорьевич, – говорила она, – право, не грех воспользоваться заслуженным отдыхом.
– Стало быть, – отвечал Белинский, – вы присуждаете мне те привилегии, которыми награждается старость?
Он смотрел на нее подозрительно, но Наташа встретила его слова спокойной, уверенной улыбкой.
– С вашим характером вы никогда не узнаете старости. А отдохнув, еще дальше отгоните от себя эту отвратительную ведьму.
Наталья Александровна переводила разговор на предстоящую поездку. Белинского ждет на юге солнце, купания в теплом море и целительный виноград.
Виссарион Григорьевич слушал и улыбался.
Но когда же Белинскому отдыхать? Едва вырвался свободный вечер, он заставил Герцена читать начальные главы второй части романа «Кто виноват?». Теперь сошлись все герои – и Бельтов, и Любонька, и Круциферский. Любонька полюбила Владимира Бельтова. Трагический конец этой любви нетрудно было предугадать.
– И все это будет печатать разбойник Краевский! – воскликнул Белинский, когда закончилось чтение. – Еще раз прошу тебя – отдай вторую часть в мой «Левиафан».
– Ты знаешь, с какой радостью я бы это сделал. Но пойми, надо сохранять порядочность в отношениях даже с такими личностями, как Краевский. Что я могу сделать, если у него напечатано начало романа? Что ты скажешь о новых главах?
– Еще решительнее повторю то, что ранее писал: быть тебе большим человеком в литературе. Есть такие умы, Александр Иванович, для которых мышление – чистая математика. Когда они берутся за поэзию, выходят сухие и темные аллегории. Ты тоже не поэт. Но у тебя, при живом уме, есть свой особый талант в изящной словесности: идеи находят у тебя живое воплощение. Этим ты силен.
– Я всей душой полюбила Любоньку, – вмешалась Наталья Александровна. – Так ясно ее вижу, что кажется, вступила бы с ней в разговор.
– А коли придется вам иметь такую беседу, – с живостью подхватил Белинский, – то обязательно передайте Любови Александровне: если не досталось счастье ей, то завоюют это счастье ее дочери и внучки. Характер Любоньки – твоя большая удача, Герцен!
– Правда, правда! – обрадовалась Наталья Александровна. – Только зачем судьба столкнула ее с таким безвольным существом, как Бельтов?
– Не мне быть адвокатом Владимира Бельтова, – отвечал жене Герцен, – но будь справедлива, Наташа. Бельтов сам вершит суд над собой, когда малодушно отказывается от собственного счастья. Впрочем, не в нем суть романа.
– Но и не в Круциферском же? – перебил Белинский. – Ты сочувствуешь ему и при всем снисхождении обрекаешь на гибель. Но если говорить о разночинцах, то разве не растут среди них другие люди?
– Пусть Любонька искупит мои грехи и будет заступницей перед читателями, – сказал Герцен. – Знаю, что растут люди, не похожие на смиренного и мечтательного Круциферского, и первый буду приветствовать их появление в словесности, когда словесность наша научится схватывать новое в жизни и отличать в этом новом важнейшее для завтрашнего дня…
Среди этих разговоров для Герцена наступили тревожные дни. Умер Иван Алексеевич Яковлев. Ушел из жизни человек, который мог бы быть самым близким другом сыну, но который никогда его не понимал. Чувство грусти сменилось у Герцена раздумьями над жизнью людей, обреченных эгоизму и праздности.
Иван Алексеевич оставил состояние «воспитаннику» Александру Герцену и «иностранке» Луизе Гааг, как значилось в завещании. Документ как нельзя лучше отражал фальшивую мораль общества, к которому принадлежал покойник.
Из-за траурных церемоний Герцены временно отошли от дружеского кружка.
Белинского тревожило молчание Мари. Спасибо, из Петербурга приехал Тургенев и привез первое известие. Семья Виссариона Григорьевича благополучна.
Пришло, наконец, и письмо от Мари, вслед за ним – второе. У Мари полно хлопот и огорчений. Управляющий домом взял с нее лишних два рубля, она израсходовалась на покупку какого-то шкафа и клеенки, у Оленьки идет седьмой зуб, а сама Марья Васильевна чувствует боль в груди и вот-вот сляжет в постель…
Виссарион Григорьевич долго старался уразуметь, о каком шкафе, о какой клеенке идет речь, но так ничего и не придумал. А Мари может слечь в постель!
Белинский ждал новых писем от Мари и боялся их. Но тут приехали в Москву Панаевы. Семейство Белинского собирается в Ревель, Достоевский взял на себя все заботы о путешественницах.
Когда Иван Иванович Панаев изображал, как Достоевский укачивает Ольгу Виссарионовну, Виссарион Григорьевич смеялся и требовал повторения. Оторвавшись от дома, он начинал сильно скучать без дочери.
На смену Панаеву являлся, как признанный артист, завершающий программу, Тургенев. Героями сцены, которую он разыгрывал, были те же Достоевский и Ольга Белинская. Кульминацией был монолог Достоевского о своем теперешнем и будущем величии. Но едва Федор Михайлович вдохновенно объявлял, что сочинения его будут печататься не иначе, как с золотой рамкой на каждой странице, – тут сцена переходила в пантомиму: Достоевский начинал беспощадно вертеть Ольгу Виссарионовну во все стороны, стараясь разгадать тайну вдруг промокших пеленок.
– Да успеете вы попасть в свое Спасское, – говорил, отсмеявшись, Белинский. – Побудьте в Москве. Вон сколько наших собралось!
Тургенев откладывал отъезд со дня на день. Шумные сборища продолжались. Белинский заставлял Некрасова читать стихи, чаще всего «Родину». Некрасов читал медленно, слегка нараспев:
И вот они опять, знакомые места, Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста, Текла среди пиров, бессмысленного чванства, Разврата грязного и мелкого тиранства; Где рой подавленных и трепетных рабов Завидовал житью последних барских псов, Где было суждено мне божий свет увидеть, Где научился я терпеть и ненавидеть…– Святители! – только и мог воскликнуть Белинский. Он давно знал «Родину» наизусть.
Чтение «Родины» близилось к концу:
Нет! В юности моей, мятежной и суровой, Отрадного душе воспоминанья нет; Но все, что жизнь мою опутав с первых лет, Проклятьем на меня легло неотразимым — Всему начало здесь, в краю моем родимом!..Едва смолк Некрасов, заговорил Белинский:
– Помните, господа, у Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странною любовью…»? А теперь Некрасов! Только тот может любить отчизну, кто умеет ненавидеть ее страдания. Прочитают ваши стихи, Николай Алексеевич, и верю: исцелятся люди от яда нашего российского прекраснодушия.
– Только в большом сердце могли родиться такие гневные, такие выстраданные стихи! – говорила Наталья Александровна Герцен.
Белинский выбрал удобную минуту для откровенной беседы с Некрасовым.
– А с чего же, винюсь в любопытстве, потащитесь вы, Николай Алексеевич, в казанскую глушь? Какие там невиданные чудеса?
– Толстой, если помните…
– Очень хорошо помню!
– Так вот, обещал Толстой богатейшую охоту. Как от такого соблазна удержаться?
– Охота! – Виссарион Григорьевич становился все более язвительным. – Далось вам с Тургеневым это непутевое препровождение времени! Тургеневу по молодости лет простится, – Виссарион Григорьевич, кажется, забыл, что Некрасов был моложе, чем Тургенев, – а с вас другой спрос. Дай бог с «Левиафаном» управиться, а вам, выходит, только бы с собаками гоняться!
– У меня, Виссарион Григорьевич, не выходит из головы одна, может быть, и несообразная мысль. Толстой всей душой нам сочувствует. Говорят, он собирается продать имение, а средства употребить на благородные цели.
– Первый за него порадуюсь, но вы-то здесь при чем?
– А что, если Толстой уделит капитал для издания журнала? Не так уж много надо для начала…
– Вот на! – удивился Белинский. – Толстому такое дело, поди, и во сне не снится…
– Попытка не беда. Дело стоит того, чтобы спутешествовать в любую даль. С уходом нашим из «Отечественных записок» не стало последнего порядочного журнала. А долго ли может продолжаться такое положение?
Белинский задумался. Нестерпимой казалась ему мысль о журнальной работе, пока хоть сколько-нибудь не восстановятся силы. А если авось восстановятся?
– Думаете, так и отвалит вам Толстой капитал ни с того ни с сего? – спросил он.
– Не поручусь, конечно. Но если бы упустил такую возможность, всю жизнь бы себе не простил. В деревне обо всем и переговорим с Григорием Михайловичем.
– Вот оно какое дело! – медленно сказал Виссарион Григорьевич, поглядывая на Некрасова. И сам отдался мыслям, связанным с журналом. – Как вы смотрите на участие Герцена, Николай Алексеевич?
– Герцен – самый замечательный человек в Москве. Но, несмотря на блестящие способности, он все еще работает только в четверть силы. Представьте себе Герцена в нашем журнале…
– Ну и искуситель вы, Некрасов! А что скажете о Грановском?
– Думаю, что и убеждения и занятия его вполне определились. Грановский не будет искать журнальных бурь, подобно Герцену.
– Славно мы делим шкуру неубитого медведя! – рассмеялся Белинский. – Послушаешь вас – так впрямь поверишь в ваши казанские сказки. Помечтали – и будет… Вам, Николай Алексеевич, более чем кому-либо следует знать: мечты часто бывают обманчивы, особенно в молодости. Ну, с богом! Поезжайте в Казань…
Этим напутствием подытожил Виссарион Григорьевич многие мысли. Неожиданный журнальный проект Некрасова при всей фантастичности вполне объяснял предстоящую поездку Некрасова к Толстому. Правда, Некрасов ехал вместе с Панаевыми. Но в Москве развеялись прежние опасения Белинского. Авдотья Яковлевна и Некрасов как будто избегали встреч. Когда читал стихи Некрасов, Авдотья Яковлевна молчала. Когда Авдотья Яковлевна завладевала беседой, угрюмо молчал Некрасов. Очень хорошо!
Отъезд в Казань приближался. Иван Иванович Панаев ждал этого с нетерпением, он уже обдумал малейшие подробности охотничьего костюма.
А тут и Щепкин явился к Белинскому:
– Едем, Виссарион Григорьевич! Для начала – в Калугу.
И снова провожали друзья Белинского до первой станции и горячо желали ему здоровья.
Тарантас знаменитого актера Щепкина уплыл в ночную темь. На путешественников обрушились дождь и холод. На станциях подолгу ожидали лошадей. Наконец измученные непогодой путешественники остановились в калужской гостинице, в номере с прокислым, застоявшимся воздухом.
Глава пятая
На улицах Калуги расклеены афиши о гастролях знаменитого московского актера. Вместе с Щепкиным Виссарион Григорьевич отправился на репетицию. Он оказался за кулисами провинциального театра и дивился, с какой неуемной энергией, терпением и добродушием учил Михаил Семенович калужских актеров. Они плохо понимали, чего он хочет. Декламировали свои роли неестественными, завывающими голосами и смотрели на Щепкина с затаенным страхом, как смотрят оробевшие провинциальные чиновники на заезжего столичного сановника.
Михаил Семенович останавливал репетицию и читал роли за партнеров. В пыльные кулисы тотчас врывалась жизнь. Репетиция затягивалась.
Белинский бродил по незнакомым улицам, потом, усталый, возвращался в холодный номер и не мог согреться.
– Сегодня мы ужинаем у губернатора, – объявил, вернувшись из театра, Щепкин. – А на ближайших днях вы сделаете знакомство с дамой, в которой сам Пушкин – свидетельствую о том достоверно – видел образец красоты и кладезь ума.
– По сведениям моим, – отвечал Белинский, – нынешнюю калужскую губернаторшу Александру Осиповну Смирнову когда-то действительно воспевали поэты. Могу еще дополнить, Михаил Семенович! Сия превосходительная дама, по точным справкам петербургских и московских вестовщиков, состоит в тесной дружбе с Гоголем.
– Сирена! – сказал Щепкин, зажмурившись, и как-то ловко растопырил руки, будто пытался удержать уплывающую сирену. – Однако же, – вдруг сказал он строгим тоном, – хотя Александры Осиповны в Калуге еще нет, нам надлежит вовремя прибыть на ужин к губернатору, куда приглашены вы вместе со мной.
– Небывалое происшествие! – Белинский рассмеялся. – Даже во сне не предполагал ужинать у губернатора! Но поскольку видят во мне хвост славной кометы, именуемой Щепкиным…
– Хвост?! – перебил Щепкин. – Послушали бы вы, батенька, как приставали ко мне здешние чиновники, сбежавшиеся в театр! «Неужто; говорят, приехал с вами тот самый Белинский?» Кто же из нас комета, а кто хвост? Впрочем, сами увидите, как станут наставлять на вас в театре лорнеты и зрительные трубки. Калуга нынче тоже кое-что читает!
У губернатора состоялся ужин, а на следующий день – обед. Только Александра Осиповна все еще была в отъезде. Спасибо Щепкину – он разговаривал за губернаторским столом и за себя и за Белинского.
А в театре, на первом же спектакле, заметил Виссарион Григорьевич многие взоры, обращенные на него и из партера, и из лож, и особенно из верхних ярусов. В антракте Виссарион Григорьевич не хотел мешать Щепкину и не пошел за кулисы. Бродил один по тесному фойе. И снова повторились сцены удивительные: то встречный чиновник или учитель уставится на него, то за спиной услышит Виссарион Григорьевич громкий шепот…
Между тем в Калугу вернулась супруга губернатора, и заезжие гости получили любезное приглашение на вечерний прием к ее превосходительству. В гостиной было много привычных посетителей и посетительниц. Александра Осиповна радушно приветствовала Щепкина и, предоставив знаменитого актера любопытству дам, обратилась к Белинскому:
– Мы с вами давно знакомы, Виссарион Григорьевич, хотя, конечно, вы и не знаете меня. В ваших редакциях, вероятно, имеют смутное представление о читательницах. Но они существуют не только в столицах, но и в скромной Калуге.
Александра Осиповна с первых слов привлекла гостя простотой обращения. Она с чарующей улыбкой указала Белинскому на кресло рядом с собой.
– Я очень рада нашему знакомству, – начала Александра Осиповна, – хотя далеко не согласна с тем, что вы пишете. Нет нужды льстить вам комплиментами. Охотно уступаю это право молодежи. Говорят, в наших университетах ваше имя звучит гораздо чаще, чем фамилия любого из профессоров. Кстати сказать, разрушая авторитеты, вы не пощадили всеми любимого, кроткого наставника юности Петра Александровича Плетнева. Ну, скажите, когда и кого он обидел?
– По мне, – отвечал Белинский, – было бы куда лучше, если бы господин Плетнев, издавая «Современник», честно нападал на мыслящих несогласно с ним. В журналах, Александра Осиповна, должны действовать бойцы, а не люди, отпросившиеся в отставку от жизни.
Александра Осиповна покосилась на Белинского. Может быть, гость не знал, что Плетнев был в свое время любимым ее учителем, а потом стал близким другом?
Белинскому не хотелось продолжать малоинтересный разговор.
– У вас, Александра Осиповна, насколько я знаю, много других, куда более важных литературных знакомств.
– Тем внимательнее я читала многие ваши статьи, – откликнулась Смирнова. – Недавно прочла о Пушкине. Помню, что вы писали о Лермонтове. Оба они для меня живые и незабвенные собеседники. Но прежде мне хочется поговорить о Гоголе. По праву давней дружбы с Николаем Васильевичем спрошу вас: за что вы на него напали?
– На Гоголя?
– Как же можно было, – вскипела Александра Осиповна, – наговорить Николаю Васильевичу столько неприятного и о «Риме», и о «Портрете», да еще упрекать автора «Мертвых душ» в том, что он не следует каким-то идеям века?!
Белинский в свою очередь разгорячился. Разговор стал настолько шумным, что Михаил Семенович Щепкин не раз бросал тревожные взгляды туда, где шел ожесточенный спор.
Александра Осиповна, на беду, вспомнила еще о Жорж Санд, которая проповедует в своих сочинениях эти модно-скороспелые идеи века, и отозвалась о Жорж Санд презрительно и резко. После этого разговор Виссариона Белинского с ее превосходительством стал и вовсе не похож на те беседы, которые мирно текут в губернаторских гостиных.
По счастью, вечер близился к концу, и Щепкин увел своего спутника в гостиницу.
– Поговорили? – с ироническим вздохом спрашивал Михаил Семенович.
– Поговорили! – смеялся Белинский.
– А я хотел бежать за квартальным, да вовремя вспомнил: как же ему разнимать драку в губернаторском доме? Срамота!
Щепкин отыграл последний раз городничего в «Ревизоре». Надо было трогаться в путь.
В ненастную погоду путешественники добрались до Воронежа, потом поехали в Курск.
Под Курском встретили крестный ход, направлявшийся в ближний монастырь. Многотысячная толпа волочилась по колено в грязи. Виссарион Григорьевич долго прислушивался к нестройному пению.
– Придут в монастырь, – хмуро сказал он, – так и лягут спать под открытым небом, под дождем. А народолюбцы наши будут сызнова славить смиренномудрие народа-богоносца.
Процессия шла и шла. Отставшие догоняли ее из последних сил. Дождь лил как из ведра.
– Помните, – оживился Белинский, снова обратившись к Щепкину, – у Гоголя в «Мертвых душах» полицмейстер хвалится: если капитан-исправник пошлет вместо себя один картуз свой, то и картуз погонит мужиков куда надо. Стало быть, и исторического кнута не нужно, одного картуза капитана-исправника хватит.
Михаил Семенович Щепкин опасливо повел глазом на ямщика, но Виссарион Григорьевич даже не заметил предостережения.
– А потом возьми да и опиши Гоголь, как мужики снесли с лица земли земскую полицию… Помните участь заседателя Дробяжкина?
– Да ведь не одобрил, помнится, Николай Васильевич того самоуправства, – отвечал Щепкин.
– Однако же внес в поэму для полноты картины… – Виссарион Григорьевич ушел в свои думы.
Давно прошел крестный ход, давно добрались путешественники до Курска и обогрелись в гостинице.
– Да-с, милостивый государь, – заговорил за чаем Белинский, – сколько мы с вами губерний ни проехали, везде распоряжается всевластное рабство. А дума повсюду одна: как скинуть с шеи барский хомут?
Михаил Семенович Щепкин подливал горячий чай и слушал сочувственно. Ему ли, выбившемуся из крепостных, не знать дум народных? Сколько сам он мог порассказать!
Белинскому снова вспомнился крестный ход и толпа людей, влачащаяся по грязи.
– Все тот же исторический кнут, – сказал он, – только освященный религией. Придет время – возьмутся люди не за иконы и хоругви… А пока не свершится будущее, кто же, как не литература наша, должна отразить чаяния народа? Нет у нее другой, более важной цели!
Путешественники засиделись за чаем допоздна…
Летнее солнце улыбнулось им только перед въездом в Харьков. В Харькове Белинский выпил бокал за здоровье дочери: Оленьке исполнился год.
А потом грустно размышлял над письмом от Мари, которое пришло наконец из Ревеля. Мари, по обыкновению, раздражалась от всяких мелочей и жаловалась на болезненное состояние.
Белинский ни на что не жаловался. Путешествие, в которое он пустился, еще только началось, но он уже подозревал, что ничего, кроме утомления, оно ему не принесет.
Глава шестая
Петербургская полиция ходила по книжным лавкам и отбирала только что вышедший второй выпуск «Словаря иностранных слов», издаваемого штабс-капитаном Кирилловым. Приказ министра народного просвещения был короткий: отобрать все отпечатанные экземпляры «Словаря», а дальнейшее издание прекратить.
Происшествие было чрезвычайное: в свет вышла книга, насквозь пропитанная духом социализма и материализма, исполненная ненависти к деспотизму, подробно излагавшая идеи и опыт Французской революции 1789 года. Невинная форма словаря, избранная злоумышленниками, свидетельствовала об их дьявольской хитрости.
Но как могла выйти такая книга в самом Петербурге, где трудились десятки опытных цензоров, набивших руку в истреблении крамолы? По-видимому, прав был профессор Плетнев, председательствовавший в то время в цензурном комитете: даже в цензуре дело дошло до анархии.
Издатель «Словаря» штабс-капитан Кириллов уже не думал о понесенных убытках. Дело могло обернуться куда хуже. Тогда виновник разразившейся бури Михаил Васильевич Петрашевский предложил издателю открыть властям имя главного автора статей и тем снять ответственность с себя.
К удивлению, автором не заинтересовались. Власти всячески старались замять скандальное дело. Иначе несдобровать бы, пожалуй, самому министру просвещения Уварову, ведавшему цензурой.
Полиции приказано было действовать с энергией и быстротой, однако без огласки, дабы не привлекать к происшествию внимания.
У Петрашевского по-прежнему происходили сходки по пятницам. Это был политический клуб, куда мог прийти каждый. Кое-кто появлялся и исчезал. На смену приходили новые участники.
Петрашевский искусно направлял разговоры на неотложные нужды России. На сходках медленно, неощутимо складывалось ядро людей, которые к пропаганде присоединят волю к действию. Но еще далеко было время, когда скажет Петрашевский: «Мы осудили на смерть настоящий быт общественный, надо приговор наш исполнить!»
Еще далек был и тот черный день, когда по лестнице, освещенной ночником, поднимется в квартиру Петрашевского шпион новой формации, из образованных студентов. Бестрепетной рукой перепишет он имена, законспектирует речи и все это передаст в руки правительства за тридцать сребреников, трепеща только одной мысли: как бы имя его не стало известно…
Пока что к Петрашевскому тянулись новые люди.
Весной при выходе из кофейни, в которой Федор Михайлович Достоевский побывал вместе с молодым поэтом Алексеем Плещеевым, к Достоевскому подошел незнакомый человек, коренастый, с могучей черной бородой.
– О чем будет ваше новое сочинение? – спросил он.
Плещеев поспешил познакомить молодых людей. Так впервые увидел Федор Михайлович Достоевский Петрашевского, о котором Плещеев много ему рассказывал. Как же не попасть молодому писателю на сходки в Коломне?
Всюду тянутся нити, идущие от сходок в Коломне. Одни все больше сближаются с Петрашевским, другие, недовольные пестротой «пятниц», устраивают свои собрания.
Казалось бы, неприступный для вольномыслия оплот – казармы гвардейских полков. Надежны караулы при входе. Солдат, известно, всегда на службе. А господа офицеры, если свободны от занятий, ездят в театры и на балы или кутят напропалую.
Однако не все. Если заглянуть вечером в казармы лейб-гвардии Московского полка, в квартиру поручика Момбелли, там битком набито офицеров. Кроме своих ходят сюда гости из лейб-гвардии егерского полка. А на собрании ни карт, ни шампанского, ни легкомысленных красоток. Тут происходят литературные чтения. Каждый может читать сочинения на любую тему. Были читаны здесь: замечания на тексты евангелия, переводы из Вольтера, очерк о падении Новгорода. Сам поручик Момбелли приготовил, казалось, вполне добропорядочную статью – «Основание Рима и царствование Ромула». Но недолго задержался автор на древней истории. Немедля повернул на русскую жизнь.
– Император Николай не человек, а изверг, зверь! – заявил Момбелли и обосновал эту мысль на живом примере: – И теперь еще пробегает холодный трепет по жилам, – читал он, – при воспоминании о виденном мною кусочке хлеба, которым питаются крестьяне Витебской губернии. Мука вовсе не вошла в его состав, он состоит из мякины, соломы и еще какой-то травы и видом похож на высушенный навоз. Хотя я противник всякого физического наказания, – заключил Момбелли, – но желал бы посадить чадолюбивого императора в продолжение нескольких дней на пищу витебского крестьянина.
Такие статьи вполне могли быть читаны на сходках у Петрашевского. Кстати, поручик Момбелли и слыхал, что где-то на окраине Петербурга происходят собрания честных людей.
Собрания у поручика Момбелли были прекращены по приказу командира лейб-гвардии Московского полка. Что же удивительного, если Момбелли и некоторые участники его литературных вечеров окажутся участниками сходок в Коломне? Николай Александрович Момбелли будет среди тех, кто предложит учредить политическое общество, чтобы от слов перейти к делу.
С тою же мыслью вернулся из-за границы в 1846 году в Россию богатый помещик Курской губернии Николай Александрович Спешнев. За границей он собирался печатать русские книги, сам принимал участие в революционных событиях в Швейцарии. Теперь на родине он намерен использовать все средства «для распространения социализма, атеизма, терроризма, словом, всего, всего доброго на свете».
Спешнев знал Петрашевского еще по лицею. Потом их отношения надолго прекратились. Явившись в Петербург, Николай Александрович услышал о собраниях в Коломне. Как же ему было не разыскать школьного товарища?
В столице императора Николая Павловича бурлила мысль. Нарождалось общественное мнение.
Глава седьмая
Герцены снова поселились на лето в Соколове. Здесь же живут Грановские. Сюда ездят друзья. К прежнему дружескому кругу присоединился Николай Платонович Огарев, вернувшийся из-за границы.
Дружба Герцена и Огарева еще больше укрепилась. Прошло около четырех лет с тех пор, как Николай Платонович расстался с другом, томившимся в Новгороде. И вот он, Огарев, опять на родине, и как будто все тот же: прежняя застенчивая улыбка, прежняя живая речь, огромный запас наблюдений. И самое главное: выводы, к которым пришел Герцен о будущем России, столь же несомненны для Огарева.
Николай Платонович по-прежнему полон поэтических и литературных замыслов, но редко вспоминает о философском трактате, когда-то начатом в ссылке. Настало время не размышлять, а действовать. Существующие в России порядки обречены смерти, надо трудиться для будущего. Пусть скромной будет арена действий, Огарев поедет в свои пензенские имения и там послужит народу.
– Надобно добиться такого сознания в народе, – говорит Николай Платонович, – чтобы сами мужики научились бороться с помещиками. Для этого не пожалею средств и личного примера.
– Я тоже получаю немалое наследство после смерти отца, – сообщает Герцен. – Нелегкое дело решить, куда и как направить средства, чтобы использовать их для борьбы за будущее. Пока что мы ограничены одной деятельностью – сферой мышления и пропагандой наших убеждений; мыслить, конечно, нам запретить не могут, ну а насчет пропаганды – легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко. Однако сохрани нас бог, если будем думать об уступках. Не может быть уступок в убеждениях, никаких и никогда!
Наталья Александровна рассказала гостю о размолвке, которая произошла с Грановским здесь же, в Соколове, в прошлом году.
– С тех пор, – добавил Герцен, – мы усердно занимаемся игрой в прятки.
– Кто же остался с вами, кроме Белинского?
– Растут люди, Огарев. Расскажу тебе любопытный случай. Сын одного священника часто приходил ко мне за «Отечественными записками». Если дозволено будет похвастаться, он очень внимательно читал мои философские статьи. По его же рассказам, эти статьи произвели впечатление на многих его товарищей по семинарии. Впервые узнали бурсаки, как материализм боролся со всеми ухищрениями идеализма. Вот и поставил я перед этим семинаристом вопрос об его будущем. «Став священником, говорю, вы принуждены будете каждый день, всю жизнь громко, всенародно лгать, изменять истине, которая вам открылась. Как же шить с таким раздвоением?» На следующий день семинарист опять пришел ко мне. «Вы правы, говорит, духовное звание стало для меня невозможным: скорее я пойду в солдаты, чем стану священником». Вот так и спас я душу живую. Единичный, конечно, случай, но только тогда и оживаешь, когда думаешь о нашей молодежи…
Разговор пошел о ближайших делах. Герцен был озабочен уходом Белинского из «Отечественных записок». Правда, очень плох стал Виссарион здоровьем, да авось выправится на юге. Оставаться же без нового журнала невозможно. А Краевский уже шлет гонцов в Москву, старается удержать прежних сотрудников «Отечественных Записок» и клевещет на Белинского: выдохся, мол, он, совершенно выдохся.
– Огарев всегда будет с нами, – говорила Наталья Александровна, проводив гостя в Москву. – После тебя, Александр, нет никого, кого бы я так любила и уважала. Ни в ком нет столько человеческого.
– А Белинский? – спрашивал Герцен. – Непременно напишу ему, как изменчивы твои чувства.
Наташа смеялась. Она вовсе не собиралась изменять своей давней привязанности к Белинскому.
– Все вы разные, – объясняла она, – и ты, и Белинский, и Огарев, но все непоколебимы в убеждениях. Вот всех вас я и люблю. Каждого в отдельности и всех вместе.
– А Грановский? – серьезно спрашивал Герцен. – Поверь мне, Наташа, наша игра в молчанку скоро кончится.
Так оно и случилось. Грановский прочитал опубликованную в «Отечественных записках» статью Герцена «Реализм» из цикла «Писем об изучении природы». Тимофею Николаевичу особенно понравились мысли автора об энциклопедистах Франции.
– Что же тебе нравится? – нетерпеливо спросил Герцен. – Литературная форма, что ли? Ведь с внутренним смыслом статьи ты не можешь быть согласен?
Грановский на минуту задумался.
– В твоих статьях мне нравится то же, что привлекает у Вольтера или Дидро: они живо затрагивают вопросы, которые будят человека и толкают его вперед. А в твою односторонность я просто не хочу вдаваться.
Герцен придал спору неожиданную остроту.
– Неужели же, – сказал он, – мы будим людей только для того, чтобы сказать им пустяки? Ведь есть же истины неопровержимые, как Эвклидова теорема или, если хочешь, как единство духа и материи.
– Я никогда не приму, – Грановский начал заикаться от волнения, – вашей сухой, холодной мысли о единстве материи и духа: с ней исчезает вера в бессмертие души. Может быть, вам этого и не надобно, но я слишком много схоронил, чтобы поступиться этой верой. – Он приостановился, прежде чем закончил: – Личное бессмертие мне необходимо!
– Славно было бы жить на свете, – отвечал Герцен, – если бы все, что кому надобно, было бы тут как тут, как бывает в сказке.
– Подумай, Грановский, – вмешался Огарев. – ты бежишь от истины только потому, что пугаешься ее. Но душа твоя не станет оттого бессмертной.
Грановский встал, намереваясь кончить спор.
– Послушайте, – сказал он, – вы меня искренне обяжете, если никогда не будете говорить со мной об этих предметах.
– Изволь! – согласился Герцен.
Огарев промолчал. Разрыв становился непререкаемым фактом. «Мы опять одни», – словно бы сказали взгляды, которыми обменялись Герцен и Огарев.
Герцену было тяжело так, будто умер кто-то из близких. Впрочем, он еще раз убедился: в дружеских отношениях тождество основных убеждений необходимо. Этого тождества не могло быть между сторонниками материализма и идеалистом Грановским. Они неминуемо должны были столкнуться во всех оценках. Идея переворота в общественных отношениях не вызывала у Грановского ни малейших симпатий. Социализм он называл болезнью века, которая грозит гибелью культуры. Профессор-просветитель не понимал и боялся политической борьбы.
– Наши славяне, либералы, социалисты, – говорил он, – едва ли кому-нибудь принесут вред или пользу.
Грановский всходил на университетскую кафедру и свято верил, что семена добра, посеянные им, одолеют плевелы, которыми полнится русская жизнь. А плевелы поднимались все выше и выше…
– Нет, не мы виноваты в том, что не можем оставаться близкими, – говорила мужу Наташа Герцен. – Но мне дороже всего жажда истины, как бы ни было больно расставаться с призраками. Возраст для нас с тобой такой пришел, что ли?
– Дай бог и в старости ни в чем не уступать, если дело коснется истины.
До Александра Ивановича дошел слух из Петербурга, что редактор-издатель «Отечественных записок» нашел молодого критика, который будет не чета исписавшемуся Белинскому. Напрасно писал Герцен Краевскому, убеждая его вернуть Белинского. Краевский почувствовал себя хозяином в журнале. Ничего доброго ждать от этого не приходилось. Имя молодого критика, Валериана Николаевича Майкова, представляло полную загадку. Да и кто мог заменить Белинского?
В журналах воцарилось летнее затишье…
В это время и раздался на Руси голос Гоголя. Автор «Мертвых душ» пребывал в постоянных разъездах. Только бы сделать всю жизнь беспрерывной дорогой и нигде не останавливаться иначе как на ночлег или для минутного отдохновения…
Статья, присланная Гоголем из-за границы, называлась: «Об Одиссее», переводимой Жуковским. Статью немедленно напечатал в Петербурге Плетнев; в Москве она появилась и в «Москвитянине» и в «Московских ведомостях».
В торжественно-приподнятом стиле Гоголь объявлял, что появление русского перевода «Одиссеи» произведет эпоху. Именно в нынешнее время, когда повсюду стал слышаться голос неудовольствия человеческого на все, что ни есть на свете, – на порядок вещей, на время, на самого себя, именно в это время, утверждал Гоголь, в патриархальной «Одиссее» услышит сильный упрек себе девятнадцатый век.
Автор «Мертвых душ», от которого нетерпеливо ждали обещанного продолжения поэмы, звал соотечественников в патриархальные времена. Он советовал сделать чтение «Одиссеи» всеобщим и всенародным. Гоголь утверждал, что нынешние обстоятельства как будто нарочно сложились так, чтобы сделать появление «Одиссеи» в России почти необходимым.
В литературе, утверждал Гоголь, как и во всем, охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей школы литературы; критики с горя бросились в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесли дичь…
Автор «Мертвых душ» и спешил на помощь к соотечественникам… с «Одиссеей» в руках.
– Прочти, – сказал Герцен Наташе, вернувшись в Соколове из Москвы. – Прочти и скажи: я брежу или все так именно и напечатано в «Московских ведомостях»? Мне кажется, что под этой статьей должна бы стоять подпись Шевырева, а читаю: «Гоголь»! Кто же сошел с ума?
…Гоголь был опять в разъездах. Заехал к Жуковскому, послал письма на родину.
– Все твои дела в сторону! – властно объявил он Плетневу. Плетнев должен был заняться печатанием новой книги Гоголя под названием «Выбранные места из переписки с друзьями». Книгу эту Гоголь называл своей единственной дельной книгой, обещал присылать материалы для нее безостановочно и требовал сохранить замысел в строжайшей тайне.
Николай Васильевич пробыл у Жуковского всего несколько дней и стал прощаться.
– Помилуй! – удивился Жуковский. – Зачем и куда тебе ехать?
Гоголь задумался, словно вопрос застал его врасплох.
– Заеду в Эмс, потом в Остенде. Наверное, буду и в Париже: зовет меня туда Александр Петрович Толстой.
Как ни привык Жуковский к странностям Гоголя, ему показалось, что Николай Васильевич только сейчас придумал свой маршрут.
Глава восьмая
Когда к Григорию Михайловичу Толстому приехали Панаевы и Некрасов, они были приятно поражены. В селе Новоспасском, в глуши Казанской губернии, многое резко отличалось от нравов и обычаев, процветавших в большинстве дворянских гнезд. В барском доме не было заспанных дворовых, праздно толкущихся в передней. Немногочисленная прислуга получала жалование. Люди отличались бойкостью и жили, по-видимому, в довольстве.
Толстой не держал управляющего: сам вникал в крестьянские дела. Он показал гостям флигель, в котором в зимнее время открывалась школа для крестьянских детей. В усадьбе оказалась неплохо оборудованная аптека.
– – Предмет моих особых забот, – признался Григорий Михайлович. – Я держу фельдшера, но и сам занимаюсь медициной. Когда же завел аптеку – всполошились все окрестные помещики. Даже доносы на меня писали, обвиняя в колдовстве и в чародействе.
Григорий Михайлович посмеивался, вспоминая ябеды, сыпавшиеся на него по всякому поводу, но твердо вел свою линию.
– Вернувшись в Россию, – говорил он, – я стал, разумеется, очень осторожен и как нельзя лучше дружу с здешними властями. А берут они всем: и деньгами, и домашним припасом, и борзыми. После гоголевского «Ревизора» ничего на Руси не изменилось.
Петербургские гости были встречены с искренним радушием и размещены со всеми удобствами. Григорий Михайлович занялся обычными делами. Гостям была предоставлена полная свобода проводить время по своему вкусу.
Иван Иванович Панаев первый взялся за дело. Уже была приготовлена бумага и очинены перья для новой повести. Но как-то так случилось, что бумага оставалась девственно чистой. Автор будущей повести увлекся дальними прогулками. Возвращаясь, он рассказывал Некрасову:
– Натура здесь, батенька, прямо сказать, мифологическая! Идешь себе берегом кособокой речушки – и вдруг под кустом плещется наяда. Формы – будто изваял Фидий или Пракситель! А встретишь пугливую красотку в полях – так и кажется, что веет от нее ароматом спелой ржи…
Некрасову было мучительно слушать поэтические излияния Ивана Ивановича. Хоть бы пришла на выручку Авдотья Яковлевна! Но Авдотья Яковлевна приходила редко.
Она сидела с удочками на берегу реки. Рыба не ловилась. Впрочем, не о том и думалось гостье. Рассеянный ее взгляд блуждал далеко от неподвижных поплавков.
Иногда она брала верховую лошадь и мчалась неведомо куда. Не удавалось ускакать только от самой себя. Дорого бы дала Авдотья Яковлевна, чтобы вернуть то спокойное время, когда она оказала великодушное внимание неуклюжему, сутулому молодому человеку в сюртуке едва ли не рыночного шитья. Когда же все изменилось?
Авдотья Яковлевна старается вспомнить и ничего припомнить не может. Ей гораздо легче представить себе, как этот ярославский медведь начал приобретать приличную внешность, как он расстался с рыночным сюртуком. Она хорошо помнит, как он стал редактором и издателем литературных сборников, а имя его сделалось привычной мишенью для вражеских нападений.
– Чудеса! – обмолвился тогда Иван Иванович. – Чего доброго, этот юнец всех нас за пояс заткнет!
Авдотья Яковлевна не удивлялась. Она уже знала к тому времени, сколько горячности вносил этот человек в каждое дело, за которое брался. И все-таки она еще раз заново его узнала после того, как он прочел у нее в гостиной «Петербургские углы».
Некрасов пришел на следующий день и застал ее одну. Может быть, он нарочно выбрал те часы, когда Иван Иванович разъезжает по городу? Впрочем, какой может быть в этом умысел, если Иван Иванович никогда не бывает дома!
Они встретились с глазу на глаз. Ей хотелось говорить о «Петербургских углах», но Николай Алексеевич был молчалив, рассеян, грустен.
– Что с вами? – искренне удивилась Авдотья Яковлевна. Некрасов заговорил о своем одиночестве…
«Если бы знали вы, как одинока я!» – чуть было не вырвалось у Авдотьи Яковлевны, но она вовремя спохватилась.
В то время Панаевы собирались за границу. Разговор, похожий на недосказанные признания, почти позабылся.
Теперь Авдотья Яковлевна могла спокойно сидеть в Новоспасском у реки со своими удочками и вспоминать.
Главное, – хотя, может быть, опять вовсе не главное, – произошло в ту суматошную осень, когда в нее влюбился Достоевский. При одной мысли об этом Авдотья Яковлевна готова улыбаться,… Именно так же, с улыбкой, она хотела выслушать и Некрасова, когда он открылся ей в своих чувствах. А взглянула на него – было не до улыбки. Она испугалась и за него и за себя. Впрочем, если говорить откровенно, признание Некрасова не было для нее новостью. Она давно предчувствовала. А он просто сказал, что если может скрывать свое чувство от людей, то ей лгать не станет. Он не ждал ответа, ничего не требовал. Так чего же она испугалась? Или вдруг почувствовала, что может рушиться привычная жизнь? Но ведь она даже не вспомнила при этом об Иване Ивановиче.
Мысли о муже пришли позже. В этом Авдотья Яковлевна не хочет себе лгать. Но странно! Когда в тот день она увидела Ивана Ивановича, ей показалось, что он явился из какой-то другой, давно изжитой жизни.
Углубясь в воспоминания, Авдотья Яковлевна невольно улыбается. Как хорошо, что именно в то время выдумал свою любовь Федор Достоевский! Он даже не подозревал, какую услугу ей оказал. За трагикомическими сценами этого увлечения, которого не могли не видеть и самые невнимательные люди, можно было хоть как-нибудь укрыться. Она жила со странным ощущением. Она не придала, разумеется, значения объяснению Некрасова: она достаточно хорошо знала жизнь и те самообманы, которых ищет одинокая молодость…
Казалось, хоть теперь можно было спокойно заняться ужением рыбы. Правда, ни одна самая глупая рыбешка не обращала внимания на закинутые приманки. По-видимому, следовало терпеливо ждать. Удача всегда приходит невзначай. Но почему же Авдотья Яковлевна вдруг начинает выбирать удочки и снова закидывает их с таким ожесточением, будто хочет отхлестать ни в чем не повинную сонную реку?..
Бог знает что творилось в ту беспокойную осень! Сделав свое признание, Некрасов словно стал совсем другим. Сколько нежности открылось в его душе! Что-то неотвратимое надвигалось на Авдотью Яковлевну. Она принуждена была взять свои меры и стала реже оставаться дома. Но, может быть, это было слишком жестоко? Тогда она спрашивала мимоходом у Белинского: куда запропастился Некрасов?
Виссарион Григорьевич рассказывал ей, как занят, как умеет работать этот человек:
– У него несгибаемая воля, железный характер! Всевышний наверняка знал, кому можно отпустить талантов без счета и без меры.
Авдотья Яковлевна слушала и размышляла. Слава богу, Виссарион Григорьевич понятия не имел о том, что ее волновало. Но как-то случалось так, что после ее расспросов у Белинского Некрасов являлся сызнова. Он часто говорил о своем юношеском увлечении поэзией. Рассказывал, как сочинял стихи о любви, которой не знал, об измене друзей, которых у него не было; как звал на свидание свою милую, хотя не видывал ее даже во сне; как воспевал восторги сладострастья, о которых не имел понятия. Авдотья Яковлевна смеялась от всей души.
Она знала, что позднее Некрасов наградил своими юношескими поэтическими увлечениями некоего молодого человека – Тихона Тросникова. И еще знала Авдотья Яковлевна – Некрасов стал истинным поэтом. Он с такой живостью говорил о своих литературных замыслах, что однажды Авдотья Яковлевна неожиданно призналась: иногда ей самой хотелось бы взяться за перо, чтобы описать свою юность в отчем доме. У нее есть запас многих горьких наблюдений.
– Так почему же вы не пишете? – спросил Некрасов.
– Мало ли какие мысли приходят в голову, – отвечала Авдотья Яковлевна. – Не все следует исполнять…
Вот тут-то ей и пришлось выслушать суровую исповедь. Некрасов рассказывал о своих злоключениях – каждый раз она узнавала новое о его стойкости в испытаниях, а речь его звучала прямым укором ее нерешительности и лени, ее неверию в себя. Казалось, он сейчас положит перед ней бумагу и вложит в руку перо!
Странно любил этот человек! Может быть, он даже забывал о любви, когда звал любимую к делу. Николай Алексеевич редко говорил о своих чувствах, но если говорил, то Авдотье Яковлевне всегда казалось, что ее закружит и унесет стремительный поток. Она крепче сжимала ручки кресла, словно бы ей и в самом деле грозила опасность быть увлеченной в бездну.
Она ужасно испугалась, когда Иван Иванович загорелся мыслью ехать на лето к Толстому. Ведь такое же приглашение получил и Некрасов.
– Я не поеду, – с необычной резкостью объявила Авдотья Яковлевна. – Кому нужно это утомительное путешествие?
– Да почему же не поехать? – удивился Иван Иванович. У него были свои замыслы. Он собирался засесть в деревне за работу. В Петербурге нет возможности сосредоточиться. Кстати сказать, сюжет его нового произведения тоже связан с жизнью поместного дворянства.
О будущей своей работе в казанской глуши Иван Иванович стал говорить едва ли не каждый день. Тогда Авдотья Яковлевна потребовала самой пустяковой жертвы от Некрасова: пусть откажется от охотничьей эскапады; право, у него найдутся дела посерьезнее.
Некрасов пристально на нее поглядел.
– Я вынужден сделать важное признание, Авдотья Яковлевна. Если я поеду в Казань, то не для охоты.
Он рассказал о своих надеждах, которые связывал с Толстым. Мысли о будущем журнале были так дороги ему и так важны, что Авдотья Яковлевна растерялась еще больше.
А чего же, собственно говоря, было бояться Авдотье Яковлевне? Ведь знал Некрасов, что его чувство безнадежно. Именно об этом она говорила ему много раз. Правда, дружбу, большую человеческую дружбу, она обещала сохранить ему навсегда. После этого Некрасов и уехал с Белинским в Москву. Панаевы отправились следом.
В Москве все, казалось, шло хорошо… если бы все не началось сызнова. Авдотья Яковлевна еще нашла в себе силы сказать Некрасову:
– Вы не должны, вы не можете ехать к Толстому!..
Именно так сказала Авдотья Яковлевна и вдруг ощутила, что предательские слезы застилают ей глаза. Попалась, как глупая, взбалмошная девчонка! Ох как корила потом она себя за слабость, которой он стал невольным свидетелем.
Не кто другой, как Иван Иванович, принес после этого новость:
– Что случилось с Некрасовым? «Не поеду, говорит, к Толстому. Дела зовут в Петербург». Никак не ожидал таких капризов! Сделай милость, попробуй его уговорить.
Авдотья Яковлевна взглянула на мужа. Ничего не понимает Иван Иванович! Надо же было стать такими далекими друг другу! А еще страшнее мысль, что и всегда они были чужими. «Ты понимаешь, что может произойти!» – хотела закричать Авдотья Яковлевна, но вместо того сказала спокойно:
– Изволь, я сделаю, как ты хочешь.
Нелегко оказалось объяснить Некрасову, что было с ней во время их недавней встречи. Авдотья Яковлевна сослалась на нервы. Только о слабости своей, открывшейся ему, ничего не сказала. Еще истолкует как надежду для себя. А надежды нет и быть не может. Пусть еще раз поймет это Николай Алексеевич.
В Новоспасском Авдотья Яковлевна было и совсем успокоилась. Некрасов не искал ее общества, он, может быть, даже нарочито избегал ее и делал это с таким усердием, которого никто от него не требовал.
Николай Алексеевич занялся охотой. А по вечерам, когда освобождался от своих хлопот Толстой, подолгу ходил с ним по главной аллее парка, ведущей к дому. Разговор шел о журнальных делах. Некрасов рассказывал о положении, создавшемся после ухода Белинского из «Отечественных записок». Все благоприятствует рождению нового журнала, свободного от опеки торгаша-либерала, подобного Краевскому. Некрасов говорил о верных тысячах подписчиков, которые с восторгом встретят журнал, руководимый Белинским. Он подробно перечислял молодые литературные силы, выросшие в Петербурге и в Москве.
– А кто мог бы стать редактором? – спрашивал Толстой.
– Панаев.
– Иван Иванович?! – Григорий Михайлович так удивился, что даже остановился посреди аллеи.
– У Ивана Ивановича наиболее благоприятная репутация из всех наших в глазах властей, – объяснил Некрасов. – Но, разумеется, вдохновителем журнала будет Белинский. И мы бы впряглись всей артелью. Без похвальбы скажу: я приобрел опыт в издательском деле.
На следующий вечер хождение по главной аллее возобновилось. Григорий Михайлович узнавал любопытные подробности. Оказывается, нельзя получить разрешение на издание нового журнала. Уже много лет назад император начертал резолюцию: «И без того много». Долго не мог поверить этому Григорий Михайлович. А Некрасов рассказывал, как можно обойти царскую резолюцию: тому, кто хочет издавать новый журнал, можно перекупить какое-нибудь издание, едва влачащее существование.
– И много среди журналов таких мертвецов?
– Если поискать, найдутся, – отвечал Некрасов. – Ни подписчики их не беспокоят, ни им до подписчиков дела нет. Существуют, так сказать, для препровождения времени.
– Как же постигнуть иностранцам наши российские дела?! – воскликнул просвещенный казанский помещик. – Однако нам пора поспешить к ужину. Не будем заставлять ждать очаровательную Авдотью Яковлевну.
Собеседники пошли к дому.
– А сколько денег, к примеру, требуется для журнала? – спросил Григорий Михайлович. – Имею в виду – на первое время.
– Тысяч пятьдесят…
– Ой, многонько! – покачал головой Толстой.
Глава девятая
Авдотья Яковлевна сидела в беседке с книгой в руках, но не читала, смотрела на светлые просторы полей, убегавших к лесу. Неподалеку послышались шаги. Она хорошо знала, кто ходит так уверенно и быстро..
Когда в беседку вошел Некрасов, Авдотья Яковлевна была, по-видимому, увлечена чтением и с трудом оторвалась от книги.
– Как здесь хорошо! – сказала она, оглядывая дали.
– Идиллия в картинах, – коротко отвечал Некрасов.
– Но здесь не страдают те, кого жизнь обрекла неволе.
Авдотья Яковлевна не знала, зачем он нарушил ее уединение.
Во всяком случае будет лучше, если она возьмет разговор в свои руки.
– В давние годы, – продолжала Авдотья Яковлевна, – мне как-то привелось побывать с Иваном Ивановичем в здешней губернии при дележе имения, доставшегося Панаеву вместе с другими наследниками. Никогда не забуду, что я увидела. Семьи крестьян делились вразбивку между новыми хозяевами. Вопли несчастных раздавались с утра до ночи. Мне казалось, что я попала в ад. Как я была благодарна Ивану Ивановичу за то, что он, презрев свои выгоды, уклонился от участия в сборищах алчных наследников! Он умеет быть великодушным… – Панаева помолчала. – Вот и теперь я с удовольствием наблюдаю, как мудро печется о крестьянах Григорий Михайлович. Не правда ли?
– Мужики думают, вероятно, иначе. Рая и здесь нет, коли есть неволя. Вы загляните в соседние имения – там каково? Порядки, заведенные Толстым, ничего не изменили и не могут изменить на расстоянии даже десяти ближайших верст. Да и здесь непрочно крестьянское благополучие. Представьте, Толстой продаст имение. Кто придет на смену? Где бы я ни был, хорошо помню жизнь в отчем Грешневе. А грешневскими порядками полнится Россия.
Авдотье Яковлевне вспомнилась его «Родина». Она в задумчивости произнесла вслух:
Нет! В юности моей, мятежной и суровой, Отрадного душе воспоминанья нет…– Страшно жить с такими мыслями, Николай Алексеевич! Когда я впервые услышала строки, посвященные вашей матери, я ужаснулась: даже любовь ее была обречена проклятию. Я, оказывается, многого не знала…
– Не приходилось к слову, Авдотья Яковлевна! Я еще не знал вас в то время, когда умерла моя мать. Получив известие о ее болезни, я стал сейчас же собираться в дорогу. На выезд нужны были деньги, а какие деньги могут быть у литературного поденщика? Бегал, клянчил по мелочи. Когда же добрался до Грешнева, застал свежую могилу. У этой могилы мы и встретились с отцом. Говорить нам было не о чем. Каждый думал о своем…
Ветер, залетевший с реки, встревожил зеленый наряд беседки; улетел дальше, а листья плюща все еще не могли успокоиться. Некрасов долго молчал.
– Разве история моей матери, – спросил он, – не может повториться в каждом доме, где рабство пестует разнузданность и деспотизм? Я давно расстался с идиллиями, Авдотья Яковлевна. Лучше знать правду до конца. Всегда и во всем.
«Сейчас опять повернет разговор на сокровенное», – угадала Авдотья Яковлевна. Но еще можно было его остановить, можно было подняться и уйти. А она так и сидела не шелохнувшись. По счастью, ее лицо было в тени…
О чём он говорит? Почему они должны быть вместе? Почему нет другого выхода ни для него, ни для нее? Она подняла руки, защищаясь.
– Замолчите!.. – Едва слышно у нее сорвалось: – Кажется, нам надо молчать обоим.
Солнце заглянуло в беседку. Только свет его был неверный, колеблющийся, зыбкий…
В тот день Григорий Михайлович Толстой пришел к обеду первым. Стол накрывался в Новоспасском парадно. Хозяин любил красоту во всем – в звонком хрустале, в старинном фарфоре. Оглядывая изысканную сервировку, он любил пошутить над своей холостяцкой бесприютностью.
Сегодня пришлось долго ждать Авдотью Яковлевну. Наконец и она заняла место за столом. Толстой не скрывал своего восхищения ею: Авдотья Яковлевна рождена для того, чтобы доставлять радость людям. Глядя на ее мужа, Григорий Михайлович вздыхал с комической досадой, потом рассыпал перед гостьей новые комплименты.
Обед шел своим чередом, когда хозяин дома объявил:
– Завтра, господа, милости прошу на охоту. Любопытен знать, Авдотья Яковлевна, прикажете подать для вас дрожки или мы будем любоваться искусной амазонкой?
– Ни то, ни другое, Григорий Михайлович, – отвечала Панаева. – На охоте меньше всего нужно дамское общество. Благодарю за великодушие, но не хочу вашей рыцарской жертвы. Я удовольствуюсь рассказами, которые, надеюсь, вы привезете с охоты в изобилии.
На следующее утро Авдотья Яковлевна, проводив охотничий поезд, осталась в одиночестве. Разговор, происшедший с Некрасовым в беседке, требовал размышлений. А размышления начались с откровенного признания: что ей делать, если она тоже полюбила? «Когда?» – спросил чей-то голос, не раз докучавший ей в последнее время. Авдотья Яковлевна должна была дать чистосердечный ответ: во всяком случае, не со вчерашнего дня. Можно было скрываться от всех, можно было говорить Некрасову: «Замолчите!» – но нельзя было обмануть себя. Еще удивительнее было сознавать, что такая беда пришла к ней впервые в жизни.
Кто бы мог поверить, что случилось с ней такое не в те времена, когда она была мечтательной девчонкой, а теперь, когда жизнь прочно сложилась, когда она научилась управлять своими чувствами… Ошибка ее заключалась, несомненно, в том, что она слишком поверила в свои силы. Но разве одна ошибка должна вести за собой другую, еще большую? Она будет честной до конца: она не побоится сказать Некрасову, что он вызвал встречное волнение ее сердца, – все равно истину не спрячешь. Она будет нежна и бережна с ним, прежде чем сказать «прости».
Авдотья Яковлевна отправилась на прогулку. Гуляла долго, до изнеможения, потом решила отдохнуть в той беседке, где они встретились вчера. В беседке был все тот же зыбкий, рассеянный свет, все тот же тревожный шорох листьев.
И вдруг, припав на скамью, она поняла, что никогда не скажет ему «прости», и плакала, и улыбалась сквозь слезы. «Как же быть нам вместе, глупый, любимый, сумасшедший?! Как?.. И как можно жить иначе?..»
Охотники вернулись поздно вечером. Не было конца веселым рассказам о приключениях. Собственно, состязались в этих рассказах Толстой и Панаев, а Некрасова постоянно призывали в свидетели. Свидетель был немногоречив.
Искрилось вино, осушались и снова наполнялись бокалы.
– За здоровье Авдотьи Яковлевны! – то и дело провозглашал Толстой. – За нашу богиню Диану!
Он взял гитару и, ловко перебрав струны, запел старую цыганскую песню:
Ах, да и беда ей накачалась, Ах, разнесчастной, навязалась…Пел Григорий Михайлович с чувством и не подозревал, с какой болью в сердце слушала песню Авдотья Яковлевна.
Ужин продолжался бы еще долго, если бы Иван Иванович не встал, покачиваясь, со стула.
– Пойду один на медведя! – Вилка, которую он держал в руке, показалась ему грозной рогатиной.
Все разошлись по своим комнатам. Иван Иванович благополучно заснул. Авдотья Яковлевна просидела у окна до рассвета…
День шел за днем. Как-то за обедом Толстой сказал, обращаясь к Некрасову:
– Я бы дал, пожалуй, тысяч двадцать пять. Дал бы и больше за одно удовольствие досадить журналом правительству, да как ни считал, больше не смогу. Действуйте, Николай Алексеевич!
Это было первое деловое слово Григория Михайловича. Все взоры обратились к Некрасову.
– Спасибо за доброе намерение и доверие, – отвечал он: – Но и финансовый гений не начал бы журнал с такими малыми средствами. Придется отложить до лучших времен.
– У тебя тоже могут быть деньги, – вдруг сказала Авдотья Яковлевна, обращаясь к мужу.
– У меня? – Иван Иванович принял эти слова за шутку. – В одном я не повинен перед тобой, – продолжал он, целуя руку жене, – я не сделал тебя богатой.
Но Авдотья Яковлевна не отступилась. Она напомнила, что в казанском имении Панаева есть непроданный лес.
– Как я сам не додумался! – удивился Иван Иванович, пораженный деловитостью жены. И вдруг спохватился: – Этот лес – единственное, что у меня осталось для платежа процентов за заложенное имение.
В дело вмешался Толстой. Расспросил подробно о размерах и состоянии лесной дачи, о ее местоположении и, как местный человек, дал надежную справку: можно выручить больше двадцати пяти тысяч.
– А насчет платежа процентов, Иван Иванович, позвольте мне быть вашим советчиком: в этой хитрой науке я, поверьте, дока, – заключил Григорий Михайлович.
Панаев загорелся. Деловой разговор быстро пришел к благополучному концу.
– По рукам! – говорил Иван Иванович Толстому. – Будем первыми вкладчиками в дело!
– По рукам, Николай Алексеевич! – обратился он к Некрасову. – В ваших руках будущее журнала.
Пили вино и чокались за успех новорожденного детища.
А положение еще больше запуталось. Некрасов и Панаев начинали новое большое дело, и именно в это время Авдотье Яковлевне суждено встать между ними, разбить жизнь одного, чтобы дать счастье другому.
Иван Иванович торопился ехать продавать лес. Если бы хоть один раз в жизни он пригляделся к жене серьезно!
Встречи Авдотьи Яковлевны с Некрасовым были коротки. Измучившись, она мучила его:
– Что будет? Что будет?
– Прежде всего надо сказать Панаеву, – отвечал Николай Алексеевич. – Я уверен, он поймет, как благородный человек.
– Нет, нет, только не теперь! – отвечала Авдотья Яковлевна. Некрасов чувствовал, как ее руки дрожат в его руках. – И что ему сказать? Разве я уверена в тебе или в себе? – И тут же перебивала сама себя: – Помни, я потребую всего тебя, до последнего дыхания. Пока не поздно, ты еще можешь уйти… Слышишь, уходи!..
Но для этого прежде всего нужно бы было отвести ее сильные, горячие руки. А это были единственные в мире руки, в которые он отдавал жизнь.
Вскоре Панаев вернулся с запродажной на лес. Григорий Михайлович обещал выслать деньги осенью. Некрасов перебирал журналы, которые можно было бы перекупить. О программе будущего журнала много говорить не приходилось. Эту программу определяло имя Виссариона Белинского.
– Не пора ли ему написать? – спрашивал Иван Иванович.
– Рано! – отвечал Некрасов. – Не будем его тревожить понапрасну, пока дело не решится окончательно. Журнала-то у нас пока нет и не будет раньше, чем мы вернемся в Петербург.
Некрасова стали торопить с отъездом.
Связанный запрещением Авдотьи Яковлевны, он не мог сказать Панаеву о том, о чем должен был сказать прежде всего.
У Авдотьи Яковлевны появились новые тревоги. Она предвидела, жертвой каких пересудов ей суждено стать, едва пронесется в Петербурге весть о ее расходе с Панаевым. Еще страшнее была мысль об официальном разводе. Она знала, какой грязью сопровождается бракоразводный процесс в духовных консисториях. Но если и решиться пройти через всю эту грязь, развод вряд ли вырвешь! Духовные отцы сурово охраняют святость брака даже в тех случаях, когда ничего, кроме формы, не остается. Стало быть, суждено ей стать гражданской женой Некрасова, вернее, будут называть ее просто его любовницей. Ее будут провожать косые взгляды, презрительные усмешки и подчеркнутое отчуждение. Вот когда потребуется ей вся сила характера!
Она могла предвидеть все. Но стоило ей остаться наедине с Некрасовым – ею овладевал страх.
– Не торопи меня, ради бога, не торопи! – повторяла Авдотья Яковлевна.
Она снова обрекала его на унизительное молчание.
Видит бог, она его любила. Но она все еще просила у судьбы отсрочки, словно отсрочка могла что-нибудь изменить.
Перед отъездом Некрасова в Петербург им удалось увидеться без свидетелей, совсем накоротке.
– Как трудно ты любишь! – вырвалось у него.
Авдотья Яковлевна хотела отшутиться:
– Должно быть, потому, что люблю впервые. – И вся к нему приникла. – Если бы ты мог понять! Клянусь тебе, в Петербурге все решится, все и навсегда!
Глава десятая
" . -
– Итак, мы обсудили все стороны дела? – спрашивает Некрасов, собираясь покинуть кабинет профессора Плетнева.
– Только в общих чертах!..
– А время торопит и вас и нас, многоуважаемый Петр Александрович, – вмешивается Панаев. – Близятся сроки подписки на журнал.
– Мне ли о том не знать? – издатель «Современника» снисходительно улыбается. – Но не в моих правилах спешить. Я не замедлю назначить встречу, если в том будет надобность.
Проводив посетителей, Петр Александрович вернулся в кабинет. Вряд ли бы и сам он раньше поверил, что увидит у себя этих писак из враждебного лагеря. А между тем происходила уже не первая встреча, и разговор шел о передаче этим крикунам прав на издание «Современника»!
Это было похоже на измену своему знамени. Это означало печальную неизбежность в недалеком будущем видеть на страницах «Современника» статьи Белинского. Возможность появления на страницах «Современника» стихотворений Некрасова, подобных тем, которыми он украсил недавно «Петербургский сборник», в свою очередь исключала как будто почву для переговоров. А переговоры все-таки продолжались.
– Мы, кажется, только зря теряем время, – с досадой говорил Некрасову Иван Иванович Панаев, когда они возвращались от Плетнева.
– Это единственная наша надежда, – серьезно отвечал Некрасов. – Если искусно вести осаду, крепость будет взята!
Иван Иванович недоверчиво пожал плечами.
Прошло немало времени с тех пор, как Некрасов первый вернулся в Петербург. Чего только не делал он в поисках журнала! Но бесплодны оказались все попытки. Вот тогда-то и стал думать Некрасов об аренде «Современника». Это было, казалось, невероятно! Маститого ректора Петербургского университета, взласканного вниманием высшей власти, вряд ли можно соблазнить деньгами. Петр Александрович Плетнев издавал «Современник» во имя священных заветов, которые проповедовал с университетской кафедры и в журнале. Отсутствие доходов от «Современника», из года в год терявшего подписчиков, только подтверждало мысль о бескорыстных трудах издателя.
Когда Некрасов впервые встретился с Плетневым, ему казалось, что маститый профессор укажет ему на дверь.
Ничего подобного не произошло. Правда, Некрасов повел речь издалека, обнаружив изрядное знание материального положения «Современника»: журнал имел только двести тридцать три подписчика!
Тут последовал решительный удар: передав «Современник» в аренду, Петр Александрович мог бы получать не менее трех тысяч в год, не считая процентов с подписной платы.
Петр Александрович слушал по-прежнему молча и, по-видимому, без всякого сочувствия. Соблазнитель ловко воспользовался молчанием и начал высчитывать вероятные проценты с подписчиков. По расчетам выходило, что проценты удвоят арендную плату. Некрасов отчаянно волновался: карта была поставлена ва-банк!
Петр Александрович не придал значения цифрам, которыми искусно оперировал коварный гость. Но с какой-то душевной откровенностью признался, что журнал изрядно его тяготит… Где взять время для собственных, давно задуманных литературных трудов?
– Передача «Современника» в аренду освободит вас от всех обременительных занятий, связанных с журналом.
Петр Александрович еще раз осведомился мимоходом, какие именно условия аренды ему предлагают, – признаться, он как-то не обратил внимания на подробности.
Некрасов повторил. Условия была почти сказочные. Никто не мог предложить ничего подобного за аренду «Современника», растерявшего подписчиков после долголетнего управления Плетнева.
Петр Александрович не помнил, конечно, тех времен, когда к нему, как к ректору университета, не раз обращался молодой человек, стремившийся с редкой настойчивостью поступить в университет. Теперь это был издатель и редактор нескольких сборников, прочно вошедших в читательский обиход. Он сулил Петру Александровичу крупный барыш.
Плетнев нахмурился и поднял руку, как бы защищаясь от соблазна.
– Я издаю «Современник», руководствуясь не корыстью, – сказал он, – но единственно на благо России.
На том бы и кончиться разговору. Просто дерзостью был после этого вопрос Некрасова:
– Вы позволите мне побывать у вас в непродолжительном времени?
– Если угодно, в следующий четверг, – неожиданно для себя ответил Петр Александрович.
Встреча состоялась. Некрасов охотно уточнял выгоды, ожидающие Плетнева. А сам нетерпеливо ждал возвращения из Казани Панаева. Пока что в распоряжении будущей редакции не было ни копейки.
Панаев привез двадцать пять тысяч рублей, вырученные за лес, и обещание Толстого внести пай в ближайшее время.
Будущие арендаторы «Современника» стали ездить к Плетневу вместе. Плетнев каждый раз оговаривался: он обсуждает дело, ничего не предрешая. Но как-то так получилось, что было обговорено все: и арендная плата, и проценты с подписчиков, и сроки взноса денег Петру Александровичу.
– Нуте, а неустойка? – спросил Плетнев.
– Какая неустойка? – удивился Панаев.
– Имею в виду хотя бы тот случай, если журнал при новой редакции будет запрещен правительством.
– Вы совершенно правы, – вмешался Некрасов. – Мы должны оградить ваши интересы при всех условиях. Какую сумму неустойки вы хотели бы назвать?
Петр Александрович минуту помедлил и мягким голосом назвал сумму неустойки, небывалую в издательской практике.
– Мы согласны, – твердо заявил Некрасов, прежде чем Панаев пришел в себя. – Теперь можно, стало быть, наметить содержание будущего договора? – Кажется, первый раз Некрасов обнаружил нетерпение.
– Пожалуй, – нерешительно отвечал Плетнев, – если вы назовете имя будущего редактора «Современника», ответственного перед правительством. Доверительно могу сказать вам, господа: вряд ли кто-нибудь из вас может на это рассчитывать. Нет нужды говорить о причинах.
– Что бы вы сказали, Петр Александрович, если бы официальным редактором мы избрали, к примеру, профессора Никитенко? – уверенно спросил Некрасов.
– А! – Плетнев не скрывал своего удовольствия. – Блестящий выбор, свидетельствующий о деловом и разумном подходе к делу. С охотой вручу многоуважаемому профессору Никитенко будущие судьбы «Современника».
Совесть Плетнева была отныне спокойна. Он не отдаст свое детище врагам. Сходит с поля битвы профессор Плетнев – приходит профессор Никитенко. Пусть он грешит порой либеральным краснобайством, но, как искушенный цензор, сумеет охранить благомыслие в новом «Современнике».
– Зачем нам Никитенко? – горячился Панаев, когда снова встретился с Некрасовым. – Почему Никитенко? Мастер он делать гоголь-моголь из каждой мысли, а других достоинств в нем, извините, Николай Алексеевич, не вижу!
– Я бы с большим удовольствием предложил в редакторы Белинского, – спокойно отвечал Некрасов, – но думаю, что Плетнева хватил бы удар, раньше чем он успел бы подписать соглашение с нами.
– Кандидатуру Никитенко разрешите принять тоже за шутку, – Панаев все больше кипятился, – только вряд ли поймут эту шутку наши будущие подписчики!
– Я вовсе не шучу, Иван Иванович! Лучше журнал с Никитенко, чем остаться без журнала.
– Вы рассуждаете так, будто Никитенко только и ждет нашего приглашения. Да он за семь верст учует, чем пахнет для благомыслящего мужа даже формальное соприкосновение с нами!
– А Плетнев? – спросил Некрасов. – Как видите, твердыня пала без штурма. Неприступные ворота открыты золотым ключом. Предложим Никитенко тысяч пять, если не запросит больше.
– Откуда мы наберем такие тысячи? Еще не началось дело, а вы готовы платить направо и налево.
– Надо рисковать, Иван Иванович. Дельный журнал оправдывает все расходы… Журнал! – повторил Некрасов. – Да я и во сне и наяву вижу, каков будет наш «Современник»! Если бы вы знали, что я пережил за месяц канители с Плетневым!
Они подошли к дому на Фонтанке, в котором оба жили.
– Куда вы? – удивился Иван Иванович, видя, что Некрасов не собирается входить в подъезд.
– Мне нужно побыть одному. Буду бродить по улицам и повторять: «Современник» наш!»
– А вдруг сорвется?
– Скорее Нева потечет вспять! – Некрасов быстро пошел по набережной.
Иван Иванович вернулся к себе. Авдотьи Яковлевны дома не оказалось. С тех пор как Панаевы вернулись из Казани, так бывало часто. Авдотья Яковлевна приехала в Петербург похудевшая, почти больная, измученная тайной, которую она так и не решалась раскрыть мужу. Ее смятение, неожиданные слезы, лепет, обрывающийся на полуслове, ее отчуждение многое могли бы объяснить Ивану Ивановичу. Ах эти непостижимые женские нервы!.. Впрочем, сколько ни возвращался Иван Иванович к этой утешительной мысли, прежнего спокойствия не было.
– Я ничего не могу, – призналась Авдотья Яковлевна Некрасову в первую же встречу и горько плакала от сознания своей женской беспомощности.
Напрасно Некрасов говорил ей о невозможности жить в ложном для всех положении, напрасно говорил об унизительной роли, на которую обрекает она и себя и его.
– Неужели ты хочешь, – спрашивал он, – чтобы мне бросили упрек в том, что, деля с Панаевым общие труды, я краду чувства его жены? Если ты не хочешь подумать обо мне, подумай о себе: какой грязью будут в тебя бросать!
– Нам обоим не избежать клеветы. Видишь, как трудно тебе со мной, а будет еще труднее…
Он вырвал наконец ее согласие самому объясниться с Панаевым.
В избранный час, когда Авдотья Яковлевна уехала из дома, Некрасов пришел к Панаеву. Он едва находил нужные слова. Иван Иванович слушал молча, не глядя на собеседника. Некрасову стало еще труднее, когда Иван Иванович вдруг сник, а губы его неожиданно перекосила жалкая улыбка.
– Я, кажется, облегчу вам тяжкую задачу, – сказал торопливо Панаев, – если скажу, что я кое о чем догадывался. Впрочем, стоит ли об этом говорить?
А сам говорил и говорил. Может быть, и в этот трудный час хотел спастись привычной рисовкой. Но и рисовка не помогла. Это было тем заметнее, чем торопливее говорил Иван Иванович. А говорил он и о свободе чувств, которую всегда уважал, и о праве каждого на счастье, и о том, что каждый волен строить его по собственному разумению.
Некрасов вытер влажный лоб: слава богу, самое тяжелое было позади… Но как-то странны были речи Ивана Ивановича. Казалось, что он рассматривает, вопрос независимо от того, что произошло в его собственной жизни. Только беспощадно теребил холеные усы, завивке которых уделял обычно так много заботы.
В конце концов Панаев поставил и Авдотье Яковлевне и Некрасову единственное условие: ему бы хотелось жить вместе, под одной крышей. Ему будет легче, если происшедшее не вызовет внешних перемен.
Как было отказать человеку, остававшемуся в одиночестве, который никого ни в чем ее упрекал?
Панаевы заняли квартиру на Фонтанке. Здесь же были отведены комнаты Некрасову.
Для постороннего глаза ничто не изменилось. Когда у Ивана Ивановича собирались гости, Авдотья Яковлевна играла роль хозяйки дома. У Некрасова дома по-прежнему не было. Авдотья Яковлевна была все-таки гостьей в его комнатах. Но стоило собраться им всем, каждый изнемогал от невыносимой тяжести. Слава богу, Иван Иванович выезжал чаще, чем когда-нибудь.
А ложное положение оставалось. Больше всех понимал это Некрасов. Ему, вошедшему в чужой дом, будут слать самые язвительные упреки.
– Тебе будет трудно, очень трудно со мной, – повторяла Авдотья Яковлевна, предугадывая будущее.
А сама расцветала, упоенная счастьем. В этом счастье было так много хмеля, что кружилась голова. Они оба любили впервые. Но он знал теперь ее женскую беспомощность и мог бы сказать ей:
В душе болезненно-пугливой Гнетущей мысли не таи. И в дом мой смело и свободно Хозяйкой полною войди!..Увы, стихи не имели отношения к Авдотье Яковлевне! Это были давние стихи Некрасова, воспоминание об увлечении девушкой в тяжелые годы его юности…
Переговоры с Плетневым продолжались. Они шли в то самое время, когда в доме на Фонтанке все переменилось. Иван Иванович Панаев завел еще один короткий разговор.
– Само собой разумеется, Николай Алексеевич, – сказал он, – мы сумеем продолжать общее дело, – Иван Иванович на секунду запнулся, подбирая слово, – и в новых наших обстоятельствах, вернее, невзирая на них. Вы лучше меня знаете, как благоприятно сейчас время для порядочного журнала. Знаете вы, конечно, и другое: без вас никто это дело не поднимет.
Панаев говорил теперь о будущем «Современнике» с особой горячностью. Разговоры о журнале, о запросах читателей позволяли Ивану Ивановичу вовсе не касаться домашних обстоятельств. С удовольствием рассказывал Панаев, что вскоре надеется закончить для «Современника» новый роман – «Родственники».
Дела с журналом шли как нельзя лучше. Разговор с профессором Никитенко закончился без особых трудностей. Никитенко объявил даже, что он готов предстать перед читателями будущего «Современника» со многими своими статьями. Тут почтенный профессор, очевидно, увлекся: речи о его статьях как будто не было. Но по свойству своего характера Иван Иванович не любил противоречить собеседнику, а Некрасов не прерывал молчания.
– А кто будет отныне хозяином, я хочу сказать – издателем преобразуемого «Современника»? – спросил Никитенко.
– По-видимому, я, – Панаев с достоинством поклонился.
– Душевно рад! – отозвался Никитенко. – Поскольку мы достигли желаемого единомыслия, я сам поставлю перед министром вопрос об утверждении меня редактором «Современника».
– Милейший человек, – отозвался о Никитенко Иван Иванович Панаев, после того как они с ним расстались.
– И добавьте: будет стоить журналу всего пять тысяч, – вставил Некрасов.
– Теперь пора отписать нашим, – закончил беседу Иван Иванович.
Он первый и засел за письмо в Москву. Письмо было адресовано Николаю Христофоровичу Кетчеру, но предназначалось для всех московских сотрудников будущего «Современника». Москвичам поручалось начать сбор статей и вербовку новых сотрудников. От них ожидалось разрешение объявить печатно, что ни одна строка не будет помещаться ими отныне в «Отечественных записках».
В тот же вечер Некрасов был занят письмом к Белинскому.
Если бы мог Виссарион Григорьевич ускорить свой приезд! В аренду взят «Современник»! Дальше надо было сказать об альманахе «Левиафан», который задумывал издать Белинский. Итог невеселый. Ни от Достоевского, ни от Тургенева, ни от Панаева нет ни строчки. Колеблется, куда отдать «Обыкновенную историю», Гончаров. Не проще ли передать все накопленные Белинским материалы в «Современник»? Журнал уплатит Виссариону Григорьевичу за все собранные им статьи самую высокую цену. Это заменит ему доход от предполагавшегося «Левиафана».
«Само собой разумеется, – писал Некрасов, имея в виду будущую работу Белинского в журнале, – мы предложим вам условия самые лучшие, какие только в наших средствах. Работой также вы слишком обременены не будете, ибо мы будем вам помогать по мере сил…» Одним словом, только бы скорее вернулся Виссарион Григорьевич!..
Ласковые руки, от которых шел аромат тонких духов, легли на плечи Некрасова.
Кажется, никогда еще не была Авдотья Яковлевна такой оживленной. Между многих ее слов, которые понятны только любящим, Николай, Алексеевич наконец понял: она бы пришла давным-давно, но пусть он не очень ее винит. Как раз сегодня она раскрыла чистую тетрадь и начала писать о своем детстве. Она не знает, что получится, повесть или роман; может быть, не выйдет ничего. Но какое это счастье – писать! Каждая буква, каждое слово, выведенное собственной рукой, кажется поэмой…
Письмо к Белинскому пришлось отложить. Правда, в этом не было особой беды. Бог знает, по каким городам странствует Виссарион Григорьевич. Все равно письмо будет ожидать его в Москве.
Глава одиннадцатая
Слухи о новом журнале быстро распространились и в Петербурге и в Москве.
Мысли славянофилов первым отразил признанный поэт «Москвитянина» Николай Михайлович Языков:
– Журнал, основанный Пушкиным, переходит в руки щелкоперов!
Кто-то из «чисто русского» лагеря счел необходимым предупредить цензуру:
– Это издание будет последним смертельным ударом нашей нравственности и нашему монархизму. Одни увидят это к своей адской радости, а другие – к скорби неутешной.
Все страхи связывались с именем Виссариона Белинского. На него же возлагали все надежды друзья-единомышленники.
Виссарион Григорьевич продолжал свои странствия. Еще летом он добрался с Щепкиным до Одессы! Вот оно, теплое море! Искусный врач разрешает приступить к купанию.
Забыты муки утомительного путешествия. Кажется, даже немилосердный кашель становится реже. Крепче, свежее и здоровее чувствовал себя Белинский с каждым днем. Но однажды он вышел из воды, закашлялся и почувствовал во рту кровь. Кашель бил сильнее, струйка крови медленно стекала на грудь.
Врач не придал кровохарканью никакого значения. Рекомендовал воздержаться от купания несколько дней. Потом Белинский снова погружался в теплые, ласковые волны. Чудо, что за наслаждение! Только при подъемах на лестницу сильнее задыхался да от жары страдал бессонницей и стал бояться обратной дороги. Щепкин снова должен был гастролировать в разных городах. Правда, впереди был Крым и целебный виноград.
В Симферополь путешественники въехали в начале сентября. Ничто не напоминало здесь о тех осенних невзгодах, которыми потчует сентябрь на севере.
Михаил Семенович Щепкин уговорил пойти с дороги в турецкую баню. Белинский заплатил за это удовольствие лихорадкой и такой слабостью, что не мог шевельнуть рукой. Добродушный старик врач угостил его двадцатью пиявками и рекомендовал курить от кашля какую-то траву.
Щепкин и днем и вечером был занят в театре. Белинский лежал в гостинице один. Увы, здоровья он, очевидно, в Петербург не привезет. А когда возвратится способность писать? Во многих городах, в которых пришлось побывать, он видел, как ждут люди его статей. В Одессе его всерьез уговаривали тамошние образованные люди: переехать бы сюда ему да Герцену: – эх, какой бы можно было начать журнал! Проект был не столько деловой, сколько продиктован воодушевлением людей, истосковавшихся по смелому слову.
Невеселы были мысли человека, лежавшего в тяжелой лихорадке в симферопольской гостинице. Мари писала о своих болезнях, но так, что нельзя было понять, чем она больна. Мелькали сообщения о недомоганиях Оленьки – это было уж и совсем страшно, – а в следующем письме о здоровье дочери ни слова. Изволь гадать: поправилась ли собака Олюшка или ей стало хуже? Даже о беременности своей, которая обнаружилась по приезде в Ревель, Марья Васильевна написала таким «тонким штилем», словно дело шло о контрабанде. Он тщетно добивался в каждом письме: когда ждать родов?
В Симферополе Виссарион Григорьевич писем из дома не получил. Может быть, известия ждут его в Севастополе?
В Севастополе заканчивались гастроли Щепкина.
Тоска окончательно овладела Белинским. Была бы возможность, давно бы укатил он в Петербург. Но как обидеть Михаила Семеновича, который проявлял к нему такую сердечную заботу? Как пуститься в путь одному, когда столько раз он серьезно болел в пути?
Только в ненастный октябрьский день вместе с Щепкиным Виссарион Григорьевич въехал наконец в Москву.
Журнальные новости захватили его. Где тут было обратить внимание на странный взгляд, которым встретила его Наталья Герцен!
«Он выглядит хуже, чем тогда, когда ехал на юг», – с ужасом думала Наташа и едва-едва овладела собой.
– Мы собираемся за границу, – рассказывала она. – Герцен уехал хлопотать в Петербург.
– Он в Петербурге?! – Белинский стремительно поднялся с кресла. – Еду, Наталья Александровна, немедля!
А она хорошо видела, что ему необходима хотя бы короткая передышка после долгой дороги. Стоило ему подняться с кресла, тотчас наступило удушье.
– Не торопитесь! – Наталья Александровна заботливо его усадила. – Вы можете разъехаться. Александр писал, что выезжает домой. Побудьте с нами денек-другой.
Виссарион Григорьевич все еще не мог говорить. Жесткие хрипы вырывались из его груди. Лоб стал влажным, руки бессильно опустились.
– Александр может вернуться каждый час, – продолжала Наталья Александровна. – А кое-что и я знаю из его писем: дела с «Современником» идут великолепно…
Она долго ему рассказывала, стараясь припомнить каждую подробность.
– Кстати сказать, Виссарион Григорьевич, – Наталья Александровна смутилась, – я тоже стала пайщиком «Современника» – послала пять тысяч Некрасову из денег, доставшихся мне по наследству. Думаю, что моему примеру последовали бы многие, если бы кликнуть клич.
Пожалуй, самым удивительным свидетельством о событиях, происходящих в Петербурге, был номер «Северной пчелы», полученный в Москве.
Булгарин осведомлял читателей:
«…г. г. Белинский (главный сотрудник журнала до половины 1846 г.), Некрасов, И.И. Панаев и другие молодые литераторы, которые, как всем известно, писали для «Отечественных записок» все статьи, теперь решительно оставили этот журнал и перешли в редакцию «Современника».
Важнейший факт о переменах в редакции плетневского журнала был предан отныне широкой гласности. О «Современнике» говорили и Грановский, и Кетчер, и молодые университетские ученые.
С Грановским вышел у Белинского даже крупный спор. Тимофей Николаевич отказывался понимать, почему Некрасов и Панаев требуют от друзей исключительного участия в «Современнике» и отказа от «Отечественных записок». Разве два журнала, служащие прогрессу, не лучше, чем один? Россия не так богата журналами, как Европа.
Тимофей Николаевич заговорил об идеале просвещенного правительства, к которому стремится Европа, вспомнил о своих расхождениях с Герценом, о крайностях его мнений, о беспредметности мечтаний социалистов.
– Россия, – ответил Белинский, – лучше сумеет разрешить социальный вопрос…
– Узнаю тебя, неистовый Виссарион! – воскликнул, не скрывая иронии, Грановский. – Куда вы тащите Россию? По счастью, ей ничем не грозят ваши фантазии.
– Я говорю о будущем, Грановский. О многом поговорим мы на страницах «Современника».
– А ты читал, что проповедует ныне Гоголь? Статью его об «Одиссее» знаешь? Вы рветесь в неведомую высь, вами изобретенную, а Гоголь зовет вспять, к Гомеровым временам. Не знаете вы, безумцы, ни России, ни будущего ее.
– О Гоголе придется тоже поговорить: боюсь, что не остановится он на «Одиссее», – с тревогой сказал Белинский.
– Каждый, кто впадет в крайность, может быть предостережением для здравомыслящих. Вот о чем советую и тебе и Герцену подумать, пока не поздно.
Виссарион Григорьевич плохо слушал, что дальше говорил Грановский. Ему не терпелось быть в Петербурге, но и боялся разъехаться с Герценом.
– Заеду на Сивцев Вражек последний раз, – решил Белинский. А Герцен – вот он! Друзья крепко обнялись, Наталья Александровна бережно взяла гостя под руку.
Сколько ни предупреждала она мужа о тяжелом состоянии Белинского, Герцен все-таки не ожидал, что болезнь сделала такой рывок. Человек, только что вернувшийся с юга, был изжелта-бледен, худ, лицо избороздили глубокие морщины, а кашель был так страшен, что хотелось закрыть уши, только бы не слышать.
Виссарион Григорьевич отдышался и хотел спрятаться за шутку:
– Мне в Одессе один медик окончательно объяснил, что кашель у меня не легочный, а желудочный. Вот и лечиться бы мне у того медика – чего лучше? А я, маловер, истосковался по петербургской слякоти!.. Ну, рассказывай, Герцен!
– Ждут тебя в Петербурге не дождутся, – начал Герцен. – С головой ушли в дела «Современника». Имею в виду перво-наперво Некрасова, конечно. Некрасов работает за десятерых, а Иван Иванович Панаев идет в пристяжке. Сделал и я подарок новорожденному на зубок. «Печатайте, говорю, полностью мой роман «Кто виноват?», если угодно, хотя бы приложением к «Современнику».
– Вот одолжил, Герцен! – Белинский был растроган. – Не видать, стало быть, Краевскому второй части?
– Что делать? Придется обмануть многоуважаемого Андрея Александровича, правда, единственный раз; надеюсь, никогда больше не буду участвовать в «Отечественных записках». Пошлю ему вежливое письмо: поскольку-де вы, многоуважаемый Андрей Александрович, начали печатать этот роман в своем журнале, я не буду возражать, если перепечатаете вторую часть из «Современника».
– Изрядно! – Виссариону Григорьевичу и хотелось посмеяться, и очень боялся он нового припадка кашля. – А что еще готовишь для «Современника»?
– Еще не доехал ты до Петербурга, а уже теребишь без сострадания будущих сотрудников. Помилуй! Ясное дело, что ты передашь в «Современник» все посланное мною для «Левиафана». Так дай же отдохнуть! К тому же заявляю вашему немилосердию покорную просьбу: если попустит начальство, не чинить мне препятствий к поездке за границу.
– И ты можешь нас покинуть, когда твое присутствие так необходимо «Современнику»! – с укоризной отозвался Белинский.
– Да разве я не буду полезен «Современнику» за границей? Даю слово писать в каждую журнальную книжку. А вернусь – сызнова располагайте мной на страх врагам!
Белинский расстался с Герценом на московской станции дилижансов. Еще раз глянул на него через окно почтовой кареты. «Скоро ли свидимся?..»
Глава двенадцатая
Белинские поселились на Фонтанке. В соседнем доме жили Панаевы и Некрасов.
– Не во сне ли мне все это снится? – переспрашивал Белинский, читая условия, подписанные с Плетневым и с Никитенко. – Впрочем, Плетнев мог бы присниться мне разве что в дурном сне. А если Никитенко начнет, по цензорской привычке, крестить красными чернилами всякую добрую мысль?
– Что делать? – отвечал Некрасов. – Никитенко в роли редактора – наименьшее из зол. Приходится идти под двойную цензуру.
– Да разве я этого не понимаю? – серьезно сказал Белинский. – Мы же обучены хитрости. – Он еще раз взглянул в бумаги, лежавшие на столе. – Надо ли говорить, господа, что вы меня воскресили?
В кабинет вошли Марья Васильевна и врач. Посетители удалились в столовую.
– Неужто он так плох? – Тихо спросил Панаев. Некрасов молча указал на едва прикрытую дверь.
Виссарион Григорьевич терпеливо подчинился осмотру. За окнами стоял ненастный октябрьский день. Казалось, и здоровым легким трудно дышать этой сыростью. Доктор Тильман, издавна лечивший Белинского, недовольно бурчал:
– Хоть бы до зимы не возвращались вы в Петербург!
Медик снова принимался выслушивать исхудалую грудь пациента и удивленно на него поглядывал: тяжелому состоянию больного никак не соответствовало его чрезвычайно приподнятое настроение.
– Подштопайте меня поскорее, доктор! – просил Белинский. – Валяться нет мне никакой возможности!
– Главное – покой, – отвечал доктор. – И никаких волнений. Иначе будете сами себя штопать.
К больному после отъезда врача вернулись посетители.
– Скучные собеседники эти доктора, – встретил их Белинский. – Не приведи аллах! Он меня стукал, а я все думал… Обязательства подписываете вы, господа, немалые, а как будет с деньгами? Толстой-то расщедрился?
– От Толстого пока ничего нет, – отвечал Некрасов, – хотя я не раз ему писал.
– Вот они, просвещенные помещики! – откликнулся Белинский.
– Ни минуты не сомневаюсь в слове Григория Михайловича, – вступился Панаев. – Пока хватит и моего пая.
– А завтра? – Белинский обратился к Некрасову: – Ну как пустим Ивана Ивановича гулять по белу свету без штанов?
Некрасов вынул из бокового кармана большой сложенный лист ярко-зеленого цвета. В глаза Белинскому бросились крупные печатные буквы. Некрасов развернул афишу:
– Вот объявление о «Современнике», которое разослано в провинциальные города и на днях появится на улицах Петербурга. Как же не поддержат нас подписчики деньгами?
– За вами никто не угонится, Николай Алексеевич! – Белинский начал читать бодрым голосом: – «Современник», основанный А. С. Пушкиным… подвергается совершенному преобразованию… Главная заботливость редакции обращена будет…» Так-так, – одобрительно повторял Виссарион Григорьевич, пробегая глазами объявление. – «…чтобы журнал наполнялся произведениями, достоинством и направлением своим вполне соответствующими успехам и потребностям современного общества…»
Белинский пробежал объявление до конца и вернулся к началу:
– «Современник», основанный А. С. Пушкиным…» Когда-то звал меня Александр Сергеевич помогать ему в журнале, да, увы, осиротел «Современник». А вот сызнова же буду работать в журнале, начатом Пушкиным!
В кабинет вернулась Марья Васильевна.
– Тебе нужен прежде всего покой, – сказала Мари. – Прошу извинить нас, – обратилась она к засидевшимся посетителям.
Гости удалились.
– Отлежусь, Мари, когда будет время, – сказал Белинский. – А теперь прошу простить, шутка ли – поставить на ноги новый журнал!
Подписчики «Отечественных записок», хорошо осведомленные об уходе Белинского, читали в те же дни его статью в журнале Краевского. Это была последняя, одиннадцатая статья о Пушкине. Виссарион Григорьевич передал ее Краевскому еще весной, оставляя «Отечественные записки» навсегда.
Андрей Александрович держал статью, но не печатал. Теперь пустил в октябрьский номер. Не верьте, мол, люди добрые, слухам, в «Отечественных записках» ничего не изменилось. И Белинский печатается по-прежнему. Этим маневром он рассчитывал поймать простаков при наступающей подписке. Впрочем, и другие замыслы вынашивал редактор-издатель «Отечественных записок», учуявший опасную силу обновленного «Современника».
У Белинского постоянно бывали посетители. С Некрасовым и Панаевым обсуждался состав первого номера. Весь запас, собранный Белинским для «Левиафана», пошел в «Современник». Но этого было недостаточно. Панаев заказывал новые статьи. Некрасов печатал объявления в журналах, закупал бумагу, заботился о подписке в провинции.
Каждый день приходил Тургенев. Он только что вернулся из деревни.
– Теперь, – говорил Иван Сергеевич, – завалю вас стихами и прозой, заказывайте переводы, рецензии, даже от фельетона не откажусь.
– А как насчет «Отечественных записок», Иван Сергеевич? Отрясете прах от ног? – спрашивал Белинский.
– В долгу я по уши перед Краевским, вот беда, – отвечал, смущаясь, Иван Сергеевич. – Надобно рассчитаться хоть частично повестушкой.
– А есть такая? Повестушка-то была бы и нам верной синицей в руки.
– Нет готового, Виссарион Григорьевич. А Краевский немилосердно торопит.
– Ну что же делать, коли так…
Иван Сергеевич был очень рад, если выручал его из трудного положения новый гость.
Если то был Достоевский, молодые люди встречались холодно. Достоевский не мог забыть ядовитой эпиграммы. Кроме того, дошли до него слухи о тех сценах, которые разыгрывал Тургенев в Москве, изображая разговор Федора Михайловича с Ольгой Виссарионовной, тот самый разговор, в котором будто бы заверял Федор Михайлович, что сочинения его будут печататься не иначе, как с золотой рамкой на каждой странице. Не утерпел рассказать об этом Достоевскому Иван Иванович Панаев.
Когда у Белинского сидел Тургенев, Федор Михайлович предпочитал проводить время с дамами.
Но и Белинский не хотел лишать себя беседы с Достоевским. Федор Михайлович только что напечатал в «Отечественных записках» повесть «Господин Прохарчин».
– Читал, читал, – подтвердил Белинский, – как же! – И ни слова больше о «Прохарчине» не сказал. – А что готовите для «Современника»?
Федор Михайлович предложил использовать для «Современника» его «Роман в девяти письмах», давно проданный Некрасову. Краевскому же он должен уплатить долг немедля.
– Так, так! – иронически заключал Белинский. – Все, выходит, у него по уши в долгу?
Никто не хотел последовать примеру Герцена. Пока что он один круто порвал с Краевским.
Появился в Петербурге и старый друг Белинского, который станет, конечно, надежной опорой «Современника». То был Василий Петрович Боткин, вернувшийся из-за границы. Виссарион Григорьевич совсем ожил.
– Сказывай, что можно вытрясти из тебя для «Современника»?
– Думаю написать письма об Испании, – отвечал Боткин. – Сколько ни читал, все путешественники, говоря об Испании, скользят по верхам. Мне хотелось заглянуть вглубь. Удивительная страна, удивительный народ, неведомое Европе искусство! Имею в виду и живопись и народную музыку.
– И испанок, конечно? Не остыл еще, плешивый?
– И испанок надо тоже уметь ценить.
– Стало быть, и угостим читателей письмами об Испании?
– Может быть, – уклончиво отвечал Боткин.
– А как Арманс? Не встречал ее в Париже?
– Слышать ее имени не могу! Из рук вон оказалась упряма, строптива и горда. Едва развязался. Знаю, что она опять уехала на заработки в Россию, и очень опасаюсь, натолкнусь на нее в Москве.
Чем больше говорил Боткин, тем яснее проступало в нем новое. Он особенно упирал на материальный прогресс, к которому стремится Европа. Он убедился в бесплодности идей, которые проповедуются в книгах, но не проверяются практикой. Он был приверженец здравого смысла, европеец Боткин!
Надо бы схватиться с ним Виссариону Белинскому. Но он берег силы, потому что силы эти без остатка нужны «Современнику».
Не знал Виссарион Григорьевич, что Боткин, осматриваясь в Петербурге, столь же охотно посещал Андрея Александровича Краевского. Старый сотрудник «Отечественных записок» не собирался порывать с издателем, в котором ценил положительность и умеренность.
На глазах у Боткина и разыгралась битва, начатая Краевским против своих бывших сотрудников, завладевших «Современником». Андрей Александрович сочинил и широко распространил брошюру, в которой старался уверить подписчиков, что роль сотрудников, ушедших из «Отечественных записок», была весьма незначительна.
Белинский, Некрасов и Панаев ответили специальной листовкой. О трудах Белинского была приведена в листовке короткая справка: в продолжение семи лет в «Отечественных записках» напечатано было шестьдесят больших критических статей Белинского, множество больших и мелких библиографических статей (считая по крайней мере по десяти круглым числом на каждую книжку); ему же принадлежат почти все отчеты о пьесах, игравшихся в Александрийском театре, и большая часть литературных и журнальных заметок, помещавшихся в «Смеси».
Читатели хорошо знали, что значит каждая статья и рецензия Белинского.
А к нему все чаще ездил доктор Тильман:
– Поехать бы вам, Виссарион Григорьевич, за границу! Там есть замечательные курорты; я мог бы рекомендовать многие из них.
Марья Васильевна побледнела. Ужели дело так плохо? Она стала ухаживать за больным еще с большим усердием. А потом делилась мыслями с Аграфеной Васильевной:
– Мне кажется, болезнь отступает. Ведь и здоровый человек не мог бы вынести этой сутолоки, в которой живет Виссарион Григорьевич.
– Ты должна подумать и о себе, Мари! – напоминала Аграфена. – Сроки близятся.
Но пока что в доме звучал один детский голосок. Олюшка-собака, пробравшись к отцу, вежливо просила:
– Дай ягоди!
Это было наиболее сильное ее впечатление, сохранившееся от летней поездки в Ревель. Но какие ягоды могут быть в Петербурге, когда нещадно кропит окна дождем и снегом ноябрь!
Не получив ягод, Ольга Виссарионовна готова была удовольствоваться склянкой с микстурой, благо она так и переливалась нежным розовым цветом.
Виссарион Григорьевич отставлял микстуру подальше, ласкал, тормошил дочь и… ждал сына.
Глава тринадцатая
Трения с официальным редактором «Современника» начались раньше выхода журнала. Профессор Никитенко объявил Некрасову, что он даст для первого номера очень нужную статью – «О современном направлении русской литературы». Почтенный профессор собрался писать о гоголевском направлении. Нельзя сказать, что Никитенко был противником натуральной школы, вовсе нет. Он только упрекал последователей Гоголя в односторонности, в излишнем внимании к отрицательным явлениям жизни. Впрочем, за это же ополчались на натуральную школу и все ее враги.
– Что же скажут читатели «Современника»? – заключил Некрасов свой рассказ Белинскому.
– Я выскажу нашу точку зрения в годовом обзоре. Тут без спора не обойтись. – Белинский уже готов был начать бой.
– На страницах одного журнала? Воображаю, как обрадуются наши противники!
– Зато нас поймут друзья. Надо предвидеть трудности, Николай Алексеевич!
Трудности не заставили себя ждать. Иван Иванович Панаев заканчивал «Родственников» и предназначил новый роман в первые номера «Современника». Панаев честно служил своему знамени. Только не замечал Иван Иванович, что заметно уступает он молодым авторам. Вроде бы походили его повести на вчерашний суп.
Между тем вопрос о художественном произведении для первого номера «Современника» был заявкой на будущее. Лучше бы всего открыть журнал романом Герцена «Кто виноват?». Но первая его часть уже была опубликована в «Отечественных записках». Начать с перепечатки невозможно. Решено было дать весь роман как бесплатное приложение к первому номеру «Современника». Оставалась «Обыкновенная история» Гончарова. Она могла привлечь внимание к журналу. Но попробуй объяснить даже долготерпеливому Ивану Александровичу, что из-за Панаева откладывают его повесть. Возьмет да и передаст ее в «Отечественные записки»!
– А может быть, все-таки уговорим Панаева? – Белинский глядел на Некрасова с надеждой. – Куда будет лучше, если «Родственники» подождут!
– Нет, Виссарион. Григорьевич! Панаеву нельзя нанести такой обиды. Если бы не он, не бывать бы «Современнику». Иван Иванович первый и единственный добыл деньги для журнала… – Некрасов замялся. Давно хотел он рассказать о происшедших в его жизни событиях.
Ничуть, казалось, не удивился Белинский. О многом он догадывался. Что за беда, если рушился карточный домик Панаевых? Всем станет легче дышать. И позавидовал Некрасову: нашел себе подругу по плечу. Про Авдотью Яковлевну он всегда говорил: «Умница! Необыкновенная умница!»
Слушал Некрасова Виссарион Григорьевич и улыбался, даром что для него самого давно прошла пора романтических мечтаний. И вдруг нахмурился, не веря собственным ушам.
– То есть как это жить вам под одной крышей с Панаевым? – спросил он.
Некрасов рассказал о единственной просьбе Ивана Ивановича и о том, что Авдотья Яковлевна бессильна была ему отказать.
– А вы? Вы же человек сильного характера!
– Должно быть, любовь оказалась сильнее меня, – признался Некрасов. – И что же получилось, Виссарион Григорьевич? Ложных отношений между нами нет, но ложное положение остается.
– И эту тайну все вы будете сохранять? – Белинский был поражен. – Да Иван Иванович первый при случае разболтает и еще будет перед какой-нибудь маскарадной мамзелью рисоваться благородством своих чувств.
– Иван Иванович, как и мы с Авдотьей Яковлевной, волен в своих действиях. Чем скорее тайна обнаружится, тем, думаю, всем станет легче.
– Слушаю – будто модный французский роман читаю. – Белинский задумался. – Не знаю, как подобные истории решаются во Франции, а у нас – какая пища моралистам и сплетницам! Вам будет горше всех. Вы об этом подумали?
Некрасов это знал.
– Беру грех на себя, – встретил на следующий день Некрасова Белинский. – Имею в виду «Родственников», чтоб им вовсе сгинуть! Негоже сейчас иметь вам щекотливую распрю с Панаевым. Надеюсь, оправдаемся перед читателями, когда напечатаем в следующих номерах «Обыкновенную историю» Гончарова. Надо бы для верности уплатить ему гонорар заранее. Деньги найдутся?
– Пока есть. Я сдал в типографию «Лукрецию Флориани». Подписчики получат роман Жорж Санд как бесплатное приложение.
– Слушать вас – истинное наслаждение, – откликнулся Белинский. – Можно подумать, что располагаете неиссякаемой казной. Когда, однако, подкрепит нас деньгами молчальник Толстой?
– Увы! Вот долгожданный его ответ, – Некрасов показал вексель, присланный Толстым на двенадцать тысяч пятьсот рублей.
– Хоть на половину раскачался! – обрадовался Белинский.
– Вексель я верну ему обратно, – отвечал Некрасов, к полному недоумению Виссариона Григорьевича. – Во-первых, сам Толстой просит обойтись, при возможности, без использования его векселя. А во-вторых, совершенно невозможно этот вексель здесь учесть.
– Подкузьмил, стало быть, просвещенный помещик?
– Я его не виню. У нас на Руси часто не сбываются самые благородные порывы.
– А как же «Современник»? – Белинский был озадачен. – У меня из головы не выходят расходы, которые вы производите.
– Держусь капиталом Панаева и пятью тысячами, присланными мне Натальей Александровной Герцен. До крайности вряд ли дойдем. Есть первые сведения о подписке – идет как нельзя лучше.
Некрасов собрался уходить.
– А почему не заглянет ко мне Авдотья Яковлевна? – спросил, прощаясь, Белинский. – Скажите ей: стыдно не навестить болящего.
Авдотья Яковлевна не замедлила с приходом.
Взглянул на нее Виссарион Григорьевич – и ахнул: что делает с человеком счастье! Никогда еще не была Авдотья Яковлевна так хороша.
– Помните, сударыня, как я первый тащил к вам Некрасова, а он, медведь, упирался?
Авдотья Яковлевна, оглянувшись на двери, приложила палец к губам.
– А чего же вам таиться, голубушка?! – воскликнул Белинский. – Вы лучше меня послушайте! Некрасов в то время до ужаса боялся: вдруг вы заговорите с ним по-французски…
– Лучше расскажите о своем здоровье, – все еще смущалась Авдотья Яковлевна.
– Не мне о своем здоровье говорить? – отмахнулся Белинский. – О том медикам думать. А я – вон какой молодец! И вы о моих заслугах помните. Неустанно мысли Некрасова на вашу особу направлял. Шутил, конечно… А может быть, и не шутил?.. – Взял гостью за обе руки. – Надо бы пожелать вам счастья, да куда же еще? – Отошел от нее и еще раз пошутил: – Если бы не я, может быть, все бы размышлял Некрасов насчет скрипучих своих сапог.
Авдотья Яковлевна слушала и смеялась.
В кабинет вошла Аграфена. Обвела собеседников строгими глазами: нашли время для смеха!
– Виссарион Григорьевич, – сказала она, – Мари просила послать за акушеркой…
Следующие дни плохо запомнились Белинскому. Сознание начало проясняться с той минуты, когда ему объявили: «Родился сын!»
Сын лежал рядом с исстрадавшейся Мари. Родильнице нужен полный покой. Двери дома наглухо закрылись для всех, кроме врача.
На столе у Виссариона Григорьевича накапливались книги и свежие журналы. Ежедневно получал записки от Некрасова. Панаев сообщил о «Родственниках»: кончил повесть, сдали в типографию.
Виссарион Григорьевич с особенным вниманием читал «Отечественные записки». Прочитав повесть Григоровича «Деревня», не мог удержаться от восхищения:
– Ай да Григорович! Не бог весть какой талант, а вот взял да и заглянул в мужицкие избы, в тяготы крестьянской жизни. Важнейшую поднял тему. А повесть попала в «Отечественные записки». Этакая незадача для «Современника»!
Правда, Тургенев дал для «Современника» цикл стихотворений под тем же названием «Деревня». Добрые, конечно, стихи. Невольно поддаешься их поэтическому обаянию, когда описывает Иван Сергеевич и летний вечер, и охоту, и безлунную ночь, и грозу. Все дышит и благоухает. А вот и о мужиках:
Задумчиво глядишь на лица мужиков — И понимаешь их; предаться сам готов Их бедному, простому быту…И все! Куда как обскакал Тургенева Григорович!
Был один из первых чуть морозных декабрьских дней, когда мягкий снежок медленно, будто нехотя, присыпал петербургские улицы. Медик разрешил Виссариону Григорьевичу совершить первую, короткую прогулку. Белинский оказался более чем послушным. Дошел всего до соседнего дома. А здесь не без труда поднялся по лестнице и остановился в недоумении: куда идти? Очень теперь трудно разобраться. Повернул, однако, к Некрасову.
– Упустили Григоровича! – начал Белинский. Одышка мешала ему говорить. – То-то он ко мне носа не показывает. А вы, батенька, где были?
К Некрасову первому принес повесть Григорович. Живя в материнском имении, Дмитрий Васильевич тщетно искал сюжета для новой повести. А тут как раз и привезли к матери Григоровича молодую крестьянку, сгоравшую в чахотке. Замуж ее выдали насильно. Муж ее возненавидел и добивал жестокими побоями. Несчастная радовалась близкой смерти и боялась лишь одного – как бы муж не заколотил и двухлетнюю дочь. Так нашел Григорович сюжет своей «Деревни».
– Очень любопытно, – отозвался, слушая рассказ Некрасова, Белинский. – А вы, получив повесть…
– Виссарион Григорьевич, – перебил Некрасов, – когда же мне было читать! Ведь уже завязалось дело с «Современником»! Ей-богу, минуты свободной не было!
– Как будто для «Современника» не нужны в первую очередь повести! – Белинский был вне себя.
Некрасову оставалось покаяться до конца. Он назначал Григоровичу сроки, потом отделался от автора «Деревни» заявлением: не подойдет повесть для «Современника».
– Порази вас гром небесный! – только и мог воскликнуть Белинский.
– Да ей же богу, не думал я, – еще раз попытался оправдаться Некрасов, – что напишет Григорович дельную повесть!
– А он взял да и обманул! Вот они, плоды вашего высокомерия! – наступал Белинский. – Не подумайте, что считаю «Деревню» непревзойденным перлом. Где же справиться Григоровичу с глубокой обрисовкой характеров! – И снова вскипел: – Да жизнь-то деревни, непроглядно темную, страшную, сумел показать! Буду писать о «Деревне» для «Современника», а вы кайтесь!
– Удобно ли, Виссарион Григорьевич, хвалить на страницах «Современника» повесть, появившуюся в «Отечественных записках»?
И услышал в ответ такое, что счел нужным отвлечь внимание Белинского:
– Вот рукописи, Виссарион Григорьевич, которых вы еще не видели. Мне уже совестно было приставать к Тургеневу, после того как он сдал все, что обещал. А Панаев вытащил у него еще один рассказ. Взгляните!
– «Хорь и Калиныч», – прочел Белинский. – А это чья рука: «Из записок охотника»?
– Это Панаев приписал.
– Я, я, Виссарион Григорьевич! – подтвердил Иван Иванович, только что вошедший к Некрасову.
Панаев был горд тем, что с удивительной ловкостью добывал материалы, которых все еще не хватало для выпуска первого номера «Современника».
– Идемте обедать, господа, – предложил он, – Авдотья Яковлевна ждет!
Белинский, погрузившийся в чтение «Хоря и Калиныча», кажется, даже не слыхал. Прочитал несколько страниц, поднял глаза:
– Ах он, Тургенев! – и снова погрузился в чтение…
– Вот они, характеры, – сказал он, прочитав очерк до конца, – из той же деревни взяты, но как! Куда же тут тягаться Григоровичу!
Обедать Белинский не остался. Унес «Хоря и Калиныча» с собой, чтобы перечитать на досуге.
Тем и кончилась первая прогулка Белинского, рекомендованная врачом для пользы здоровья.
Глава четырнадцатая
Когда профессор Плетнев передал «Современник» новой редакции, он знал, что суесловы, завладевшие журналом, будут вскоре посрамлены публичным отречением от них Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзьями» уже печатались! Петр Александрович обращал благодарственный взор к иконе. Свершилось то, чего он так долго ждал. Гоголь, отрекшись от своего прошлого, вступил наконец на путь истинного христианина…
А профессор Никитенко, как цензор, наоборот, многим был смущен в новой книге Гоголя.
Как официальный редактор «Современника», Никитенко не считал нужным скрывать новости от сотоварищей по журналу. Слухи о книге Гоголя распространились по всему Петербургу и дошли до Москвы.
Совсем не «в тишине», как требовал Гоголь, печаталась «Переписка». Ожидание ее было полно тревоги и недоумения. Странную книгу готовил автор «Мертвых душ» и «Ревизора». Уже в предисловии Гоголь объявил, что ему хотелось искупить бесполезность всего доселе им напечатанного; в письмах его находится более нужного для человека, нежели в его сочинениях.
Гоголь извещал далее читателей, что он отправляется в путешествие к святым местам, просил прощения за то, что произвел неудовольствие своими необдуманными и незрелыми сочинениями, просил молиться о нем и в свою очередь обещал, что будет молиться о соотечественниках у гроба господня.
Следом за предисловием шло завещание.
«Соотечественники! Страшно! – восклицал автор. – Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия…»
Гоголь объявлял во всеуслышание, что все бывшее у него в рукописях сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии.
Новый вопль измученной души несся со страниц завещания. Завещание было мечено 1845 годом. В то время Гоголь жил у Жуковского во Франкфурте; тогда неотвратимо приблизилась к нему болезнь. Тогда было сожжено продолжение «Мертвых душ».
«Мертвым душам» было посвящено в «Переписке» несколько писем к разным лицам. Некоторые из них были написаны специально для «Переписки».
Гоголь признавал, что в критике Булгарина и Сенковского по поводу первого тома «Мертвых душ» было много справедливого. «Мертвые души» исполнены промахов, анахронизмов, явного незнания автором многих предметов.
«Мертвые души» произвели такой шум вовсе не потому, что раскрыли какие-нибудь раны или внутренние болезни России. Не было такого намерения у автора! Испугало то, что один за другим следуют герои – один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления. Гоголь предлагал не спрашивать, зачем в первой части все лица до единого пошлы. На это дадут ответ другие томы поэмы.
Но и «Переписка» уже не оставляла сомнений в том, куда он повернул.
Особые статьи были посвящены автором церкви и духовенству. Православная церковь, по мнению Гоголя, снесена прямо с неба для русского народа. Она в силах разрешить все недоумения и вопросы. Что же значат перед таким величием церкви европейские крикуны, печатающие опрометчивые брошюры?
К статье о церкви был подзаголовок: «Из письма к гр. А. П. Т…..му». Так явилась в «Переписке» черная тень графа Александра Петровича Толстого.
В книгу вошли страницы, где автор говорил о высоком лиризме русских поэтов; этот лиризм проявляется в любви к богу и к царю. Государь есть образ божий, утверждал Гоголь. Высшее значение монарха прозрели поэты, а не законоведы. К статье было примечание: «Из письма к В. А. Ж……му». Так явилась в книге еще одна тень – поэта-царедворца Жуковского, которого именовал Гоголь своим наставником и учителем.
Автор «Переписки» называл русское дворянство цветом своего народа. Уж не в утешение ли маниловым, ноздревым и собакевичам написал эти строки писатель, отрекшийся от прежних своих сочинений? Наиболее любопытные советы были преподаны в письме к русскому помещику. Помещик должен объяснить мужикам, что он помещик не потому, что ему хотелось повелевать, но потому, что он родился помещиком; мужики должны покоряться той власти, под которой родились, потому что нет власти, которая бы была не от бога.
Многое советовал помещику Гоголь, но среди всех советов был еще один, – может быть, самый удивительный в устах писателя.
Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, – вздор. У мужика нет и времени для подобного занятия; народ бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги. Другое дело, если в ком из мужиков зародится охота к грамоте, чтобы прочитать книги, в которых начертан божий закон человеку. По-настоящему, мужику не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых.
О, великое помрачение ума! Странная книга готовилась в Петербурге.
Среди многих признаний Гоголь высказал перед всей Россией и такое свое желание:
«Да сподобит нас бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей…»
Великий художник отрекался от мира, а сам болел всеми скорбями русской жизни. Ему казалось, что он может сказать всю правду соотечественникам:
«Как смешны у нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды!»
Забыл, должно быть, при этом автор «Переписки», какой преградой издавна стояла цензура на собственном его пути. Цензура и напомнила о себе.
Чем больше вдумывался в «письма» Гоголя цензор Никитенко, тем чаще тянулся к красному карандашу. Началось с письма «Страхи и ужасы России».
«Если бы я вам рассказал, – говорил Гоголь в этом письме, – то, что я знаю (а знаю я без всякого сомнения далеко еще не все), тогда бы, точно, помутились ваши мысли и вы бы сами подумали, как бы убежать из России. Но куда бежать?..»
Александр Васильевич Никитенко пришел к Плетневу:
– Соблазнительное письмо, Петр Александрович! Можно бог знает что подумать о России, если надо из нее бежать.
– В вашей власти смягчить или устранить соблазнительное, – спокойно отвечал Плетнев.
– Пробовал, но как смягчишь, если намекает автор на возможность потрясений и в Европе и в России? К огорчению моему, не могу пропустить статью, хотя есть в ней и вполне благонамеренные мысли.
Никитенко взял следующее письмо – «Занимающему важное место».
– Тут, изволите видеть, утверждает автор, что Россия несчастна от грабительств и неправды. Ему становится невмочь при виде бесчестных плутов, продавцов правосудия и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело и в мутной воде ловить свою презренную выгоду… Уф! – отдышался Никитенко. – Даже читать страшно! Не понимаю, – продолжал он, – как мог сочетать это Николай Васильевич с истинно христианским духом книги?
– Должно быть, остались родимые пятна прошлых его заблуждений, – согласился Плетнев.
Родимых пятен нашлось немало. Несколько писем Никитенко полностью запретил, в других произвел посильные смягчения.
Гоголь спокойно ожидал выхода книги. И вдруг – известие от Плетнева: «Переписка» встретила затруднения в цензуре, а кое-какие письма цензор Никитенко и вовсе выкинул.
Гоголь был потрясен. Как?! Он спешит на помощь отечеству, а в Петербурге, где заняты люди мнимо значительными делами, цензор может отнять у русских людей приготовленную для них чашу духовного исцеления!
Солнце померкло для пророка, гонимого слугами сатаны. И душу и тело Гоголя объял холод. Он словно проснулся от видений, в которых говорил с Россией, и, проснувшись, увидел вместо своей книги, где каждое слово необходимо и важно, какой-то жалкий ее оглодыш.
«К государю! – была первая его мысль. – К государю!»
Он проявит чрезвычайную настойчивость, на которую имеет право, потому что речь идет не о нем, а о нуждах России. Ужели и этого в Петербурге не поймут?
Письма были написаны и к благоуханной Анне Михайловне и к старой графине Луизе Карловне Виельгорским. Они должны действовать после совещания с самим графом Виельгорским: как удобнее подать императору письмо, заготовленное Гоголем?
Волнение его достигло крайнего предела. В петербургской цензуре могло совершиться непоправимое для России дело.
У Николая Васильевича не было сомнений, что он спасет книгу от ополчившихся на нее вольных или невольных пособников дьявола. Шутка ли! Цензор не пропустил даже писем к должностным лицам и чиновникам, в которых объясняется возможность делать истинно христианские подвиги на всяком месте.
«Я составлял книгу вовсе не затем, чтобы сердить белинских, краевских и сенковских, – жаловался Гоголь Плетневу, – я глядел вовнутрь России, а не на литературное общество».
Никто ему не отвечал, ни Виельгорские, ни Плетнев.
Глава пятнадцатая
Гоголь жил у Жуковского во Франкфурте, в тех же комнатах, в которых обычно останавливался. Ни разу не заглядывал в единственную тетрадку «Мертвых душ», которая спаслась от огня. Впереди было много других, неотложных дел.
Когда в Петербурге выйдет «Переписка», когда читатели узнают историю «Мертвых душ» и душевного просветления автора, можно переиздать первый том. Раньше он думал, что нужно подвергнуть книгу коренной переделке, теперь в Москву пошел наказ Шевыреву: выпустить «Мертвые души» в том же самом виде, на такой же бумаге, в той же типографии, в том же количестве экземпляров. Прибавится только предисловие.
«В книге этой, – писал Гоголь в предисловии, – многое описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в русской земле… Притом, от моей собственной оплошности, незрелости и поспешности произошло множество всяких ошибок и промахов, так что на всякой странице есть, что поправить…»
Пусть же читатели придут на помощь! Сколько раз взывал Гоголь об этой помощи! Ни одна душа не откликнулась. Пусть хоть теперь каждый, кто богат опытом и познанием жизни, сделает свои заметки на всю книгу, не пропуская ни одной страницы; пусть читает он книгу не иначе, как взявши в руки перо и положив перед собой лист почтовой бумаги.
К людям, наделенным воображением, была обращена особая просьба: проследить пристально всякое лицо, выведенное в книге, и сказать автору, как должны поступать эти лица в разных случаях и что с ними, судя по началу, должно произойти.
А чтобы побудить читателей к делу, автор предупреждал, что он не может выдать последних томов своего сочинения до тех пор, покуда не узнает русскую жизнь со всех ее сторон, хотя бы в такой мере, в какой ему это нужно знать для сочинения.
Теперь-то наверняка раскачаются читатели-лежебоки!
Но все еще не исполнил Гоголь неотложных дел. Ведь объяснил он в «Переписке», что не было у него намерения раскрыть в «Мертвых душах» раны или внутренние болезни России. А «Ревизор»?
До сих пор идет комедия на сцене и собирает толпы людей. Надо подсказать зрителям верное заключение, которое не догадались вывести они сами.
На столе у Гоголя появился четко написанный лист: «Ревизор с развязкой. Комедия в пяти действиях с заключением».
В «Развязке» представлена театральная сцена после окончания комедии. На сцену выходят актеры и актрисы, чтобы увенчать венком первого комического актера; появляются театральные любители. От похвал искусству первого комического актера разговор переходит на только что сыгранную пьесу.
– Позвольте мне, – говорит театральный любитель, принадлежавший к большому свету, – сделать то самое замечание, которое сделал я во время первого представления: не вижу в «Ревизоре» никакой существенной пользы для общества.
– Я даже вижу вред, – поддерживает его другой господин из театральных завсегдатаев. – В пиесе выставлено унижение наше… Как сметь сказать в глаза всем: «Что смеетесь? – Над собой смеетесь!»
– Несмотря на все удовольствие, которое возбуждают ловко найденные сцены, – продолжает человек большого света, – несмотря на комическое даже положение многих лиц, остается что-то эдакое… я вам даже объяснить не могу, – что-то чудовищно-мрачное, какой-то страх от беспорядков наших. На меня ни одна трагедия не производила такого печального, такого тягостного, такого безрадостного чувства… Я готов подозревать даже, не было ли у автора какого-нибудь особенного намерения произвести такое действие.
– Догадались, наконец, сделать этот запрос, – вступает в разговор первый комический актер, который до сих нор слушал спор молча. – Все более или менее нападали на тягостное впечатление от комедии, и никто не спросил, зачем было производить его?
Всеобщее любопытство возбуждено. Следует монолог первого комического актера:
– Всмотритесь пристально в этот город, который выведен в пьесе: все до единого согласны, что этакого города нет во всей России, не слыхано, чтобы где были у нас чиновники все до единого такие уроды; хоть два, хоть три бывает честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет. Не так ли?
Первый комический актер делает многозначительную паузу.
– Ну, а что, если это наш душевный город? Побываем теперь же в безобразном душевном нашем городе, – взывает первый комический актер, – который в несколько раз хуже всякого другого города, в котором бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей!..
Михаил Семенович Щепкин, для которого предназначалась главная роль в «Развязке», прочитает пьесу и напишет Гоголю:
«Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти. Нет, я не хочу этой переделки; это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился… Нет, я их вам не дам, пока существую. После меня переделывайте хоть в козлов, а до тех пор не уступлю вам даже Держиморды, потому что и он мне дорог!»
Но, пожалуй, и не дойдет до Гоголя предостерегающий голос. Взор его устремлен к небу: пусть в Русской земле что ни есть, от мала до велика, стремится служить тому же, кому все должны служить. К верху! К верховной вечной красоте! Этими словами заканчивалась «Развязка».
Покидая Франкфурт, душевно простился Николай Васильевич с Жуковским. Василий Андреевич отпускал дорогого гостя неохотно. Никогда еще не был так душевно близок ему Гоголь новыми своими мыслями.
А странник, стремившийся в Италию, снова проехал многие города, даже в Риме не задержался. Проехал его, как почтовую станцию. Теперь, из Неаполя, когда будет божье указание, он отправится в святую землю.
Между тем вокруг еще не вышедшей в свет «Переписки» уже завязывалась кутерьма. Ее начал старый друг Гоголя Аксаков. Чем больше узнавал он о содержании печатавшейся в Петербурге книги, тем яснее утверждался в мысли: «Остановить! Спасти Гоголя от позора!»
Сергей Тимофеевич написал Плетневу:
«Вы, вероятно, так же, как я, заметили с некоторого времени религиозное направление Гоголя, впоследствии оно стало принимать характер странный и наконец достигло такого развития, которое я считаю если не умственным, то нервным расстройством… Неужели же мы, друзья Гоголя, спокойно предадим его на поругание многочисленным врагам и недоброжелателям?»
Петр Александрович прочитал письмо и снисходительно улыбнулся: помешать Гоголю в его желании стать истинным христианином?
Как и прежде, часто молился Петр Александрович о Николае Гоголе, но молитвы не могли вытеснить главной мысли: готовится благодаря Гоголю великое торжество для благомыслящих. Вот этого не может понять старик Аксаков.
Петр Александрович ответил Аксакову коротко: «Порука нам – Жуковский, который одобрил все намерения Гоголя».
Гоголь по-прежнему жил в Неаполе; на душе у него было светло: бог все устроит премудро. Только не мог избавиться Николай Васильевич от бессонницы. Во сне или наяву привиделось ему, что как исполин стоит он перед всей Россией, и внемлют ему города и веси, и каждый устремляется на путь спасения, возвещенный им. Потом он видел себя у гробовой черты и, изнемогая, повторял:
– Соотечественники! Страшно!
Часть седьмая
Глава первая
Редакция «Современника» дает торжественный обед в квартире Панаевых. По рукам ходит свежая журнальная книжка: «Современник. Литературный журнал, издаваемый с 1847 года И. Панаевым и Н. Некрасовым, под редакцией А. Никитенко».
Виссарион Григорьевич Белинский поглядывал на первенца с нежной любовью. «Современник» добирал вторую тысячу подписчиков – огромный успех для журнала, если уже при рождении он приобрел столько друзей.
В то время, когда сотрудники «Современника» сидели за праздничным столом, радушной хозяйкой которого была Авдотья Яковлевна Панаева, первую журнальную книжку «Современника» нарасхват брали в петербургских кофейнях, ее уже получили столичные подписчики.
Для всех было несомненно: читатели связывают будущее журнала с именем Виссариона Белинского.
Белинский поместил в первом номере обзорную статью «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Он назвал свой обзор внутренней программой журнала. Программу с полным основанием можно было назвать и творческой и политической. О будущем России говорил автор.
Славянофилы начисто отрицали реформы Петра I. Они тянули Россию в Московию. Белинский отвечал: дело не в том, что будто бы пагубны были для России петровские преобразования; дело в том, что Россия вполне исчерпала и изжила их.
Читатели без труда доскажут авторскую мысль: исчерпан и изжит весь существующий в России государственный правопорядок.
Отсюда следовал непреложный вывод статьи: настало время для России развиваться «самобытно из самой себя».
Разумеется, это не значит «самобытно» пятиться к допетровским временам, как предлагали славянофилы. Жизнь народа не утлая лодочка, которой каждый может давать произвольное направление легким движением весла. Смешно думать о таком вмешательстве в исторические судьбы. Но есть и другая опасность для самобытного развития России. Пора, утверждал Белинский, оставить дурную привычку довольствоваться словами и европейские формы и внешности принимать за европеизм.
Белинский печатно сформулировал мысли, которые высказал он в спорах с западниками. Западники преклонялись перед Европой, перед европейскими формами государственной и общественной жизни, не видя за внешними формами европеизма коренных социальных его пороков.
В последнее время точка зрения западников была доведена до крайнего предела.
Виссарион Белинский в биографии Кольцова назвал его поэтом русским, национальным и в ярких национальных чертах творчества поэта видел его великое достоинство. Против этого выступил молодой критик Валериан Майков, сменивший Белинского в «Отечественных записках». Майков считал, что национальность выражает все, что есть в народе неподвижного, грубого, ограниченного. Заслуга великих людей в том и заключается, что они идут против своей национальности, борются с ней и побеждают ее. Молодой критик противопоставлял национальному общечеловеческое. Истинная цивилизация – одна, писал он. Отсюда следовал прямолинейный, далеко идущий вывод: России надобно усвоить европейскую цивилизацию, ее готовые формы.
«Одни бросились в фантастическую народность, – писал в своем обзоре Белинский, имея в виду славянофилов, – другие – в фантастический космополитизм во имя человечества, – так определил критик позицию либералов-западников. – Без национальностей, – объяснял Белинский, – человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения… Человек силен и обеспечен только в обществе; но чтобы и общество в свою очередь было сильно и обеспечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь – национальность».
Отвечая космополитам во имя человечества, Белинский говорил о России:
«Да, у нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль, но какое это слово, какая мысль – об этом пока еще рано хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают об этом без всяких усилий напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будут сказаны ими».
У России есть важные вопросы, которые уже решены в Европе, – продолжал Белинский. Читатели, конечно, поймут: речь идет прежде всего об уничтожении изжившего себя самодержавно-крепостнического строя. Но и тут предупреждал автор программной статьи: плодотворное решение любого вопроса в России может быть найдено только самостоятельно, на русской почве, исходя из условий русской жизни.
Белинский говорил далее о новых великих вопросах, которые занимают Европу. Каждый знал: под этими великими вопросами подразумеваются идеи социализма. Но и тут оговорился Белинский: интересоваться этими вопросами, следить за ними можно и должно. Но в них нашего только то, что применимо к нашему положению. У себя, вокруг себя должны мы искать и вопросов и их решения.
Чем больше изучал социалистические учения Виссарион Белинский, тем яснее видел: признанные учители социализма шарахаются от одной мысли о революционном насилии над меньшинством во имя прав большинства; они отрицают политическую борьбу и, стараясь примирить непримиримое, создают утопические схемы будущей организации общества. Давно принял Белинский революцию как средство преобразования жизни. Этих коренных решений и будет искать русская мысль. Автор статьи «Взгляд на русскую литературу 1846 года» мог бы еще раз повторить: настало время для России развиваться самобытно из самой себя.
Но где в стране закоренелого рабства, в которой славянофилы звали к временам Гостомысла, а западники сползали к космополитизму, увидел Белинский семена будущего? В русской литературе. Недаром он называет литературу эхом жизни. Из эпохи в эпоху все отчетливее видно освобождение русской литературы от книжного, риторического направления и постепенное сближение ее с обществом, с жизнью, с действительностью, то есть то, что делает литературу и самобытной и национальной. Всюду видна живая историческая связь, новое выходит из старого, последующее объясняется предыдущим, и ничто не является случайным. Так явилась в литературе и натуральная школа.
Белинский вовсе не считал, что все новые писатели, которых причисляют к натуральной школе, гении или необыкновенные таланты. Только Гоголь создал в России новое искусство. Белинский видел прогресс литературы в самом направлении молодых писателей, в их манере писать.
– Таланты были всегда, – говорил Белинский, – но прежде они украшали природу, идеализировали действительность, то есть изображали несуществующее, рассказывали о небывалом, а теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине. От этого литература получила важное значение в глазах общества.
Не будь цензуры, можно было бы прямо сказать, что натуральная школа решает важнейшую политическую задачу обличения самодержавно-крепостнической действительности. Не имея такой возможности, Белинский ограничился прозрачным намеком: чем большее количество вопросов будет доступно литературе, тем быстрее и плодотворнее будет ее развитие.
Такова была творческая и политическая программа, которую сформулировал Виссарион Белинский на страницах обновленного «Современника». Критик прокладывал курс в будущее, отмежевываясь не только от славянофилов, но и от космополитов-западников. Кормчий «Современника» не боится бурь.
Разумеется, о будущих бурях было бы опасно говорить на парадном обеде, в присутствии многих, не очень близких к новому журналу людей.
По счастью, мастером застольных речей оказался Иван Иванович Панаев. Бокалы осушались и наполнялись…
Казалось, однако, что вот-вот смолкнут поздравительные речи и прозвучит тревожное слово: имя Гоголя было у всех на устах.
Участники торжественного обеда с нетерпением поглядывали на Виссариона Белинского.
Кроме «Обзора» Белинский поместил в первом номере «Современника» еще одну важную статью, и именно о Гоголе. Это была рецензия на второе издание «Мертвых душ», которое вышло в Москве с предисловием: «К читателю от сочинителя».
Белинский еще раз повторял: «Мертвые души» стоят выше всего, что было и есть в русской литературе; глубокая живая общественная идея неразрывно сочеталась здесь с бесконечною художественностью образов.
Но критику пришлось напомнить то, что он уже говорил о мистико-лирических «выходках» автора поэмы. Увы, эти «выходки» не были случайными ошибками Гоголя, но зерном, может быть, совершенной утраты его таланта для русской литературы. Белинский припомнил статью об «Одиссее» и снова говорил о парадоксах, высказанных Гоголем с превыспренними претензиями. Предисловие к «Мертвым душам» он называл фантастическим и продолжал с суровой откровенностью:
«Это предисловие внушает живые опасения за авторскую славу в будущем (в прошедшем она непоколебимо прочна) творца «Ревизора» и «Мертвых душ»; оно грозит русской литературе новою великою потерею прежде времени…»
Вывод мог бы показаться поспешным, если бы в те самые дни, когда вышел первый номер «Современника», в Петербурге не появилось объявление о продаже книги «Выбранные места из переписки с друзьями». А Виссарион Белинский был хорошо осведомлен о содержании новой книги Гоголя.
…Парадный обед, устроенный редакцией «Современника», шел к концу. Многие уже разъезжались. Наиболее близкие из сотрудников разбрелись по группам. Речи стали свободнее.
– Не удивлюсь, – говорил Иван Иванович Панаев, – если объявят «Переписку» Гоголя новым евангелием. – После всех произнесенных тостов он был заметно под хмельком.
– Рано собрались торжествовать столпы благонамеренности, – взял слово Белинский. – Не понимают, что прежние сочинения Гоголя давно стали народным достоянием, а ныне приобретут новую силу. Не властен над ними и сам Гоголь. Вот это и должно сказать читателям о злополучной «Переписке». – Белинский приостановился. – Горестно и страшно за Гоголя! Видит бог, как я его любил!.. Но борьба есть борьба, – заключил он. – Борьба за великие создания автора «Мертвых душ» и «Ревизора» будет продолжаться отныне, независимо от того, что думает о них сам Гоголь.
– И даже независимо от того, что думает по этому поводу редактор «Современника» профессор Никитенко? – Иван Сергеевич Тургенев, только что увлеченно беседовавший с Авдотьей Яковлевной Панаевой, принял солидную позу. – А почему же, – говорил он, подражая Никитенко, – наши писатели-юмористы, – Тургенев все больше входил в роль, – видят и Чичиковых, и ноздревых, и собакевичей и не видят других чиновников, других помещиков, выражающих прекрасные качества нашего народа? Почему? – Иван Сергеевич иронически повторял статью Никитенко, опубликованную в «Современнике».
Увы! Профессор Никитенко использовал свои редакторские права: «Современник» вынужден был уплатить тяжкую дань. Но не успел ответить Тургеневу Белинский, как комический экспромт Ивана Сергеевича получил неожиданное продолжение.
– Тургенев? – удивился Иван Иванович Панаев, будто только сейчас его увидел. Винные пары действовали на него все заметнее. – Да знаете ли вы, Тургенев, как хвалят вас за «Хоря и Калиныча»?
Панаев говорил правду. Хотя был напечатан в «Современнике» собственный его роман, сенсацией для читателей оказался именно «Хорь и Калиныч».
– Быть Ивану Сергеевичу замечательным писателем… коли реже будет покидать отечество! – отозвался Белинский.
– Помилосердствуйте, Виссарион Григорьевич! – оправдывался Тургенев, – Работаю для «Современника», не щадя сил! – Как же было признаться, что совсем недавно он написал Полине Виардо: «Надеюсь в январе присутствовать на ваших гастролях в Германии». Январь наступил. Ивану Сергеевичу очень хотелось переменить разговор. Его выручил Панаев.
– За «Современник»! – снова провозгласил Иван Иванович, разливая вино. – За редакцию и всех сотрудников, настоящих и будущих!
А Федор Михайлович Достоевский так на праздник и не пришел. Может быть, обиделся на отзыв о себе, данный Белинским в обзоре литературы 1846 года? Белинский, правда, находил в «Двойнике» бездну ума и художественного мастерства, но одновременно считал, что фантастическое содержание «Двойника» может относиться скорее к домам умалишенных, чем к литературе.
Суровый отзыв был понятен: в то время, когда Гоголь, великий поэт действительности, сходил с поля битвы, было особенно важно вернуть Достоевского к темам общественно значимым. Но не был услышан предостерегающий голос Белинского.
– Тургенев! Где Тургенев? – опять вспомнил Иван Иванович. Но, к великому его удивлению, Тургенева за столом уже не было. – Да ведь он только что со мной разговаривал! – все больше недоумевал Иван Иванович.
Панаев так и не заметил, как столовая, в которой был накрыт праздничный стол, опустела.
Авдотья Яковлевна и Некрасов вышли провожать Белинского.
Иван Иванович сидел у стола и чего-то ждал. Он поднял было голову на шорох легких шагов. Но вошла горничная и занялась приборкой.
Панаев по-прежнему сидел у стола, стараясь вспомнить что-то очень важное. Еще раз налил вина.
– За ваше здоровье, Иван Иванович!..
Глава вторая
Шум вокруг «Переписки» Гоголя увеличивался. Плетнев написал автору в Неаполь:
«Совершилось великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все до сих пор бывшее мне представляется, как ученические опыты на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Будь непреклонен и последователен. Что бы ни говорили другие – иди своей дорогой…»
В печати не замедлил выступить Фаддей Булгарин:
«До сих пор, по сознанию г. Гоголя, он описывал одни пошлости и рисовал одни карикатуры… последним сочинением он доказал, что у него есть и сердце и чувство, и что он дурными советами увлечен был на грязную дорогу, прозванную нами натуральною школою. Отныне начинается новая жизнь для г. Гоголя, и мы вполне надеемся от него чего-нибудь истинно-прекрасного. Мы всегда говорили, что г. Гоголь, как умный человек, не мог никогда одобрять того, что провозглашала о нем партия, и он подтвердил это собственным сознанием. Честно и благородно!»
Указывая на «партию», виновную в прежних грехах Гоголя, Булгарин метил прежде всего в Белинского. Что-то напишет он о Гоголе теперь?
В пылу восторгов от публичного покаяния Гоголя торжествующие кликуши как-то не сразу заметили, что позиция «Современника» после отречения Гоголя от самого себя была определена уже в первом номере журнала. Как ни суров был отзыв Белинского о предисловии Гоголя ко второму изданию «Мертвых душ», в той же статье сказано было об авторской славе Гоголя: «в прошедшем она непоколебимо прочна».
Теперь надо было писать о «Переписке». Белинский хотел писать спокойно, но как ответить в подцензурной статье человеку, который славит и церковь, и самодержавие, и помещичью власть? Как сказать ему в печати: Николай Васильевич! Не срамите вашего бога! Нет более позорной язвы, чем крепостное право!
В статью о «Переписке» Белинскому хотелось включить большое количество выписок из книги Гоголя: пусть увидят читатели своими глазами, как подошел бы к этой книге эпиграф: от великого до смешного – один шаг.
«Когда мы хвалили сочинения Гоголя, – писал Белинский, – то не ходили к нему справляться, как он думает о своих сочинениях, а судили о них сообразно с теми впечатлениями, которые они производили… Так точно и теперь мы не пойдем к нему спрашивать его, как теперь прикажет он нам думать о его прежних сочинениях и о его «Выбранных местах из переписки с друзьями»… Какая нам нужда, что он не признает достоинства своих сочинений, если их признало общество?.. Именно теперь-то еще более, чем прежде, будут расходиться и читаться прежние сочинения Гоголя, теперь-то еще выше, чем прежде, будет цениться он, потому что теперь он сам существует для публики больше в прошедшем…»
…Виссарион Григорьевич писал о Гоголе и думал о Тургеневе. Ускользнул-таки Иван Сергеевич за границу! Но, вместо того чтобы хмуриться, невольно улыбался. Окажись Тургенев в кабинете, обнял бы его Виссарион Григорьевич крепче, чем когда-нибудь.
Все началось с «Хоря и Калиныча». Читатели вдруг, и не без удивления, увидели, каковы в жизни «ревизские души», какие характеры, сколько у них ума и сердца. А рядом показан в рассказе заурядный мелкий помещик господин Полутыкин. Кажется, никого он не притесняет. Терпит от него разве только крепостной Калиныч, поскольку обязан чуть не каждый день сопровождать барина на охоту. Это очень неудобное для хозяйства Калиныча обстоятельство добродушно признает и сам помещик. Но не дает господин Полутыкин усердному Калинычу ни гроша ни на сапоги, ни на лапти. Впрочем, в прошлом году пожаловал гривенник.
Каких только господ нет в царстве мертвых душ! Чего только не терпит мужик за барский гривенник!
В следующий номер «Современника» идет рассказ Тургенева «Русак», иначе «Петр Петрович Каратаев». Автор обогатил галерею мертвых душ новым портретом. Владелица большого имения доживает век в своем кабинете. И такая страшная власть оказалась у старушонки, что разорила она соседнего небогатого помещика и погубила свою дворовую девку только за то, что молодые люди полюбили друг друга. А имя той старухиной силе – крепостное право!
Нет, и самому Гоголю не обратить ныне русскую литературу вспять. Новые удары обрушиваются в словесности на царство мертвых душ. А рядом возникает в рассказах Тургенева новый мир – народ. Недаром рассказывал когда-то Иван Сергеевич Белинскому, какие встречи бывали у него во время странствий и в крестьянских избах, и на ночлеге у костра, и на реке в ожидании парома.
– Больше, больше таких рассказов пишите для «Современника»! – повторяет Белинский, как будто может услышать его Тургенев из далекого Берлина!
Работать бы теперь в полную силу Виссариону Григорьевичу. А у него снова частый гость доктор Тильман. Доктор смотрит, как далекое февральское солнце, проникая в комнату, освещает исхудалое, мертвенно бледное лицо пациента, и, выслушав его, говорит:
– Вам не следует встречаться с петербургской весной. Вам необходимо ехать на воды в Силезию.
– В Силезию? А почему бы не на Луну? – Всякое путешествие фантастично для человека, забирающего деньги в долг из кассы «Современника». Значит, пришла крайность?
Боткин первый проявляет деловую заботу о больном. Василий Петрович обещает собрать в Москве две тысячи пятьсот рублей, необходимых для путешествия. Вот он, верный, старый друг!.. И чудак! Забыл, что Белинскому нужны еще деньги для семьи на время его лечения за границей.
Чем же сможет помочь «Современник»? Кстати, пора выяснить свое материальное положение в журнале. Естественно быть Белинскому дольщиком, чтобы наравне с Панаевым и Некрасовым получать свою треть доходов.
Так и поставил вопрос Виссарион Григорьевич в разговоре с Некрасовым. Но какой тяжелый вышел разговор! Правда, возражения Некрасова были основательны. Вряд ли будет доход за первый год: «Современник» платит за статьи выше, чем «Отечественные записки»; подписная же плата назначена на рубль меньше, да еще обещаны подписчикам бесплатные приложения. Дольщики при убыточности издания должны восполнить убытки, а Виссарион Григорьевич принужден, что совершенно понятно, забирать из кассы независимо от положения журнала. Став дольщиком, Белинский окажется при таких условиях в ложном положении.
Все это было верно, но почему-то Некрасов все больше смущался. Он торопился покончить с дольщиной, чтобы обсудить любые другие, наилучшие для Белинского условия, включая проценты от подписной платы.
Белинский выбрал твердое месячное жалованье. Некрасов явно обрадовался. Тут же рассчитал, что Виссарион Григорьевич может получить на первый год восемь тысяч, на следующий – двенадцать. Условия были выше тех, что мог выдержать «Современник» в настоящее время.
Но хмуро принял эти условия Виссарион Григорьевич. Родилось у него тяжелое сомнение: отстраняя его от дольщины, не оберегает ли Некрасов свои будущие доходы?
Белинский спросил: может ли он рассчитывать на свое жалованье во время поездки за границу?
И опять будто обрадовался Некрасов: не только может рассчитывать в это время Виссарион Григорьевич на свое жалованье, но и на деньги сверх того, если потребуются его семье.
Смущение Некрасова так и не проходило. Он то умолкал, то начинал бойко говорить о том, как необходимо путешествие для здоровья Виссариона Григорьевича.
Белинский остался один. Что ни говори Некрасов, а ведь половина-то доходов от журнала лучше, чем третья часть. Вот и причина его необыкновенного смущения. Корысть одолела!
Некрасов – и корысть! Неужто может такое быть? И так Виссариону Григорьевичу стало горько и одиноко, такое он ощутил волнение, что не мог приняться за работу.
Спасибо, из спальни подал голос сын Владимир. Вон какой зычный голос! Улыбнулся счастливый отец и пошел к сыну.
Некрасов вернулся домой такой убитый, что перепугал Авдотью Яковлевну.
– Какая случилась беда? – только и могла спросить она.
– Не мог я сказать Белинскому, что нельзя связывать судьбу «Современника» с его наследниками в случае… его смерти. – Пусть поймет Авдотья Яковлевна, как пришлось ему вертеться и придумывать всякие благовидные предлоги, чтобы разубедить Белинского в желании стать совладельцем журнала. – Он сгорает изо дня в день. Воистину страшно на него смотреть. А случись недоброе, нам пришлось бы иметь дело с Марьей Васильевной. Ты понимаешь, что это означает для журнала? – И ужаснулся от новой мысли: – А если Виссарион Григорьевич заметил мое замешательство, будь оно трижды проклято!
Авдотья Яковлевна никак не могла его успокоить.
– Я все для него готов сделать и сделаю! – повторял Некрасов. – Но нельзя же рисковать судьбой «Современника»!
Глава третья
У Василия Петровича Боткина собрались друзья. На столе среди яств, приготовленных гостеприимным хозяином, оказалась на этот раз железная кружка с прорезью, какие употребляются обычно для сбора пожертвований. Василий Петрович рассказал о болезни Белинского и о необходимом ему лечении за границей. Пусть каждый внесет лепту на это святое дело.
Сбор пошел дружно. Кто не имел с собою денег, опускал в кружку записку с указанием жертвуемой суммы. В один вечер собрали две тысячи рублей. Василий Петрович Боткин был очень доволен. Кто, как не он, первый помог старому другу? Даром что сам Белинский впадает из одной крайности в другую.
Программная статья Белинского в «Современнике», в которой ополчился он против дурной привычки принимать за европеизм европейские формы и внешности, была расценена всеми западниками как новая ересь неистового Виссариона.
Правда, никто не решался на открытый разрыв с Белинским и не отказывался от участия в «Современнике». Но журнал Краевского, освободившийся от нетерпимости и односторонности Белинского, все больше привлекал сочувственное внимание и Боткина и Грановского. В Москве уже не было Герцена, который мог поддержать Белинского. Герцен отправился за границу, – тем свободнее было шуметь в Белокаменной либералам-западникам.
А Виссарион Белинский пользовался каждой возможностью, чтобы показать в «Современнике», что представляют собой европейские формы.
Наш век, утверждал Белинский, погрузился в приобретение, или, как ловко выражаются на Руси, в «благоприобретение». Он – торгаш, алтынник, спекулянт, разжившийся всеми неправдами откупщик; он смекнул, на чем стоит и чем держится общество, и ухватился за принцип собственности, впился в него и душой и телом.
Все это было сказано в рецензии Белинского о модных романистах Франции – Дюма и Сю. В мире собственности и спекуляции и Дюма и Сю стали фиглярами, торгашами, гаерами, потешающими толпу за деньги. Они трудятся не для искусства, а для своих житейских выгод. Корень всему злу – деньги. Здоровье, талант, литературная репутация – все приносится в жертву деньгам.
Статья Белинского возбудила новое негодование западников. Очень не понравилась она Боткину, свято уверовавшему в положительные начала европейской жизни. Василий Петрович чувствовал себя особенно неловко: в мартовском номере «Современника», где поместил свою рецензию Белинский, начали печататься и «Письма об Испании» самого Боткина.
Многое сделал Василий Петрович для поездки больного друга за границу. И он же, спасая свою репутацию, спешит отмежеваться от него и крепит связь с издателем «Отечественных записок».
«Скажу вам по секрету, – писал он Краевскому, – я считаю литературное поприще Белинского оконченным. Он сделал свое дело. Теперь нужно и больше такта и больше знания. Еще о русской литературе он может говорить (да и она у него, увы, сделалась рутиной), а чуть немного выходит из нее, из рук вон плохо».
Хорошо, что Белинский не узнает об этом предательском письме и, расходясь все больше с Боткиным в убеждениях, сохранит веру в старую дружбу.
Читатели «Современника» видели перед собой Виссариона Белинского, полного сил, откликающегося на самые важные вопросы жизни с присущей ему страстью, широтой и полнотой.
А в дом Белинского вошло неизбывное горе: умер – сгорел в несколько дней – сын Владимир.
Страшен был вид Белинского, молча стоявшего перед колыбелью. Только рыданья матери нарушали тишину, объявшую дом. Оленьку отправили с Аграфеной Васильевной к знакомым. Еще страшнее стала пустота.
Доктор Тильман прописывал успокоительные микстуры осиротевшей матери, а сам прислушивался к кашлю Белинского. Болезнь его сделала отчаянный рывок. Впрочем, это хорошо чувствовал и сам Виссарион Григорьевич. Но состояние Марьи Васильевны было таково, что об отъезде за границу нечего было и думать. Хорошо еще, что в апрельском номере «Современника» он мог напечатать несколько рецензий, написанных до семейной катастрофы. А дальше?
Один Некрасов несет все труды по журналу. Давно развеялись мелькнувшие было подозрения о его корысти. Сам Николай Алексеевич живет перебиваясь неведомо как. Все отдано им «Современнику», все заботы – будущему журнала.
Некрасов же принес неожиданное известие: критик «Отечественных записок» Валериан Майков просит работы в «Современнике».
– Пора, давно ему пора оставить коршуна Краевского! – Белинский оживился. – Ведь честный же он человек! Милости просим!
– Я так ему и сказал.
– Не щадил я Майкова в полемике с ним, зато надеюсь: если идет к нам, то отступился от своего космополитизма. Заблуждения же его предадим забвению. Кто в молодости не ошибался! Первый же из них я, многогрешный. – За многие дни Виссарион Григорьевич впервые улыбнулся.
Переход Майкова в «Современник» означал появление и других новых сотрудников. Таков был близкий друг Майкова Владимир Алексеевич Милютин. Он только что напечатал в «Отечественных записках» статью-исследование «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции». Автор обобщил мысли, которыми делился на собраниях петрашевцев. Статья принесла молодому исследователю заслуженную известность. Куда как хорошо, если станет он рецензировать в «Современнике» ученую экономическую литературу!
Если же к «Современнику» обратили взоры и Валериан Майков и Владимир Милютин, то естественно, что сюда же должен был прийти и третий член их кружка – Михаил Евграфович Салтыков. В «Современнике» он хотел попробовать силы в критическом отделе. Стать сотрудником Белинского, на статьях которого он учился, – о чем еще мечтать?
К «Современнику» потянулись молодые люди, прошедшие через «пятницы» Петрашевского… А у Петрашевского среди новых посетителей объявился Достоевский. Федор Михайлович не вдавался в тонкости социалистических учений. Он нашел людей, которые готовы бороться за счастье обездоленных. Отныне он свяжет свою жизнь с судьбой этих людей.
…Горе и болезни властвовали в доме Белинского. Не забывает заехать сюда лишний раз Николай Алексеевич Некрасов.
– Невероятный успех имеет «Обыкновенная история» Гончарова. Даже подписка поднялась, – сообщает он.
– Ни минуты не сомневался, – откликается Белинский. – А что ответим подписчикам, если спросят, почему скупо печатает стихи Некрасов, а?
Некрасов напечатал в первом номере «Современника» «Тройку» и «Псовую охоту», но печатается он действительно скупо. Белинскому особенно понравился «Нравственный человек», появившийся в мартовской книжке «Современника».
– Что за талант у вас, Николай Алексеевич! Талант – топор! – Белинский взмахивал рукой, словно держал в руке грозное оружие. – Писать бы вам и писать, а вас журнал заедает. О, грехи!
Некрасов твердит в ответ одно: только бы скорее поехал Виссарион Григорьевич за границу да поскорее бы вернулся оттуда, полный новых сил.
Было похоже, что и Мари справилась со своим горем. На смену бурным припадкам пришло тихое успокоение.
Аграфена увела Оленьку на прогулку. Белинский лежал у себя. Слышно было, как по соседним комнатам взад-вперед быстрыми шагами расхаживала Марья Васильевна.
– Мари! – окликнул ее Виссарион Григорьевич. Дверь в кабинет открылась.
– Куда вы спрятали Володю? – спросила Мари, оглядывая комнату. – Я нигде не могу его найти.
– О чем ты говоришь? – Холодный пот выступил у Виссариона Григорьевича. – Опомнись, Мари!
Марья Васильевна с криком убежала. Он пошел за ней, шатаясь, едва не падая.
Мари сидела в спальне. Повернулась к нему:
– Ты слышишь? Он плачет, а я не могу его найти. Зачем вы его спрятали? – Крупные слезы катились по ее щекам. Безумный взгляд блуждал по сторонам.
С Мари начиналось то, что, может быть, страшнее смерти. Но, раньше чем приехал доктор Тильман, Марья Васильевна пришла в себя.
– Скажите мужу, доктор, чтобы он ехал лечиться как можно скорее, – повторяла она, – посмотрите, на что он похож! А мы с вами знаем, что ему грозит…
Может быть, она бы и дальше продолжала свою возбужденную речь, если бы доктор Тильман не увел Белинского в кабинет.
– Сколько времени прошло после смерти ребенка? – спросил он, выслушав рассказ о недавнем безумии Мари.
– Еще месяца не прошло, – ответил Виссарион Григорьевич.
– Будем надеяться на лучшее.
Доктор советовал держать больную под неусыпным наблюдением. Припадки могут повториться. Он даже не стал осматривать Белинского. Уповал медик единственно на силезские воды, но кто мог говорить теперь о поездке?
Через день Марья Васильевна, бывшая в оцепенении, при виде Тильмана странно оживилась.
– Как здоровье мадам Шарпио? – спросила она. – Кто разливает у нее чай? – Бедняжка вдруг заторопилась: – Я должна сегодня же у нее быть, непременно сегодня! – Ее беспокойство нарастало. – Помогите мне, – Марья Васильевна вдруг перешла на шепот, – может быть, вы знаете, куда они увезли Володю?
Страшнее всего были бессонные ночи Марьи Васильевны. Аграфена и Белинский дежурили у ее постели бессменно.
Но именно в эти дни Белинскому пришлось вернуться к журнальным делам. Мракобесы, примирившись с Гоголем, все яростнее нападали на натуральную школу. Фаддей Булгарин без устали писал злобные фельетоны. Появились в «Северной пчеле» и такие строки:
«Передо мною предстала длинная, бледная, худая женщина с воспаленным взором, с иссохшими устами, в оборванном саване натуральной школы… Я лишился чувств!»
Отдав дань высокому пафосу, Булгарин нападал на каждого писателя новой школы поодиночке. С Некрасовым же разделался совсем просто: он уверял, что Некрасов прославляет запой и драки.
Белинский, собрав остаток сил, встал за конторку.
Статья писалась медленно. Часами приходилось лежать Виссариону Григорьевичу на диване, чтобы снова собрать силы.
Каждый раз он замирал от страха, когда в кабинет приходила Мари. Но припадки не повторялись.
– Ты не должен работать, – говорит она, присаживаясь у дивана. – Твое положение опасно… Тильман говорит…
– Знаю, Мари! Очень хорошо знаю. А если что и скрывает от меня Тильман, то сам догадываюсь.
Марья Васильевна задумывается:
– Не пойму, что со мной было. Ничего не помню!
– И слава богу, Мари! – Виссарион Григорьевич с трудом поднимается с дивана. – Когда-нибудь и мы с тобой славно заживем. Смилостивится же над нами судьба…
…Доктор Тильман, глядя на больную, все чаще одобрительно кивал головой. А выстукав грудь Белинского, ограничивался одним вопросом:
– Так когда же мы отправимся в Силезию?
В свою очередь и Виссарион Григорьевич задал ему вполне откровенный вопрос:
– Я знаю, что поездка – моя последняя надежда. Но я могу решиться на нее только в том случае, когда вы честно скажете мне, что у жены не повторится безумие.
– Не безумие, но только нервическое расстройство, – перебил Тильман. – Все пройдет, вот вам моя рука! Вы можете и должны ехать. – Доктор Тильман твердо знал, кого нужно спасать в этом доме от смертельной опасности.
В квартире Белинского шли последние приготовления к дальнему путешествию. А вдогонку отъезжающему последовало новое нападение. Со статьей выступил князь Вяземский. Друг Пушкина в прошлом теперь писал: Гоголя хотели поставить главой какой-то новой литературной школы, олицетворить в нем какое-то черное литературное знамя. Но именно эти глашатаи славы и открыли глаза Гоголю на опасность и ложность его пути. Он круто отвернулся от своих поклонников. Теперь они, оторопев, не знают, за что взяться.
Вяземский понимал, конечно, что почитатели Гоголя вовсе не находятся в оторопении. Белинский достаточно ясно изложил взгляд на Гоголя после издания пресловутой его «Переписки»: не отдаст молодая Россия ни единой строки Гоголя из тех сочинений, в которых он выступал как великий и беспощадный обличитель мертвых душ. Но это и вывело Вяземского из равновесия. В своей статье он напомнил о революции, свершившейся в свое время во Франции. Но на Россию, благодаря бога, провидение не наслало этих бедствий. Отчего же, спрашивал Вяземский, нашей литературе быть лихорадочной и судорожной?
Политический донос на натуральную школу и первого ее глашатая Виссариона Белинского был сформулирован с полной откровенностью.
Когда статья Вяземского вышла в свет, Белинский уже не мог ему ответить. Пассажир в теплом пальто, задыхавшийся от надрывного кашля, занял каюту на пароходе «Владимир», отправлявшемся из Кронштадта в Штеттин. Было начало мая, и взморье только что освободилось от льдов.
Глава четвертая
«Переписка» вышла в свет, а Гоголь долго не мог ее получить и все старался понять, какие силы против него ополчились. Цензор Никитенко оказался, очевидно, в чьих-то таинственных, враждебных богу руках. Эти руки подталкивали почтенного профессора на вымарки, чтобы произвести в книге бессмыслицу. Наверное, это были люди так называемого европейского взгляда, одолеваемые духом преобразований. Им-то, конечно, непереносна книга, зовущая к всеобщему примирению.
Николай Васильевич по-прежнему страдал тяжкой бессонницей. Ходил по своему жилищу ночи напролет. Может быть, в Петербурге образовалось против его книги что-то вроде демонского восстания? Об этом Гоголь поведал в письме к графу Толстому. Александр Петрович хорошо знает козни, к которым прибегает сатана.
В Неаполе началась весна. До Гоголя стали все чаще доходить толки о «Переписке», газетные и журнальные о ней статьи. Боже! Кажется, вся Россия восстала на него. В какую-то минуту он увидел, что рядом со святой истиной, которую должен был возвестить, в книге оказались и фальшь, и неуместная восторженность, и напыщенная проповедь. Он не побоялся сам себе признаться, что размахнулся… Хлестаковым! О, какая оплеуха публике, оплеуха друзьям и, наконец, сильнейшая оплеуха ему самому!
А известия из России шли и шли. Гоголь получил и те книжки «Современника», в которых писал Виссарион Белинский о предисловии к «Мертвым душам» и о «Переписке». Критик, который, по собственному признанию Гоголя, говорил о нем с участием в продолжение десяти лет, теперь выступал с суровым словом осуждения.
Бессонница, которой страдал Гоголь, продолжалась. Бессонница стерла грани между днем и ночью.
Николай Васильевич листает страницы «Переписки» почти с отвращением. Он сам дивится, как могли пробраться туда строки, исполненные гордыни.
«А нужна ли твоя книга?» – вопрошает смятенного автора невидимый судья.
«Нужна!» – отвечает не колеблясь Гоголь.
Она будет лежать у него на столе как верное зеркало, в которое ему следует глядеться, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить впредь.
Зреет новая мысль: покуда не заговорит общество о тех предметах, о которых говорится в «Переписке», нет возможности двинуть вперед «Мертвые души». Есть одно средство заставить встрепенуться всех: выпустить заносчивую, задиристую книгу. Пусть теперь, прочитав «Переписку», начнут писать, бранить, опровергать, – многое обнаружится из того, чем живет Россия. А это-то и нужно автору для продолжения «Мертвых душ». Иначе какое ни выпусти художественное произведение, оно не возьмет влияния, если не будет в нем тех вопросов, которыми живет нынешнее общество.
Только соотечественники-лежебоки по-прежнему не откликались на хитрость писателя, раззадорившего их «Перепиской». Письма приходили от узкого круга близких людей.
Каких объяснений ни придумывал Гоголь в оправдание «Переписки», как ни бичевал себя за спешку, гордыню и высокомерие, он ни разу не коснулся сути книги. Так и не увидел, как наивны средства врачевания, предложенные им, как безнадежно отстали его мысли от движения жизни.
Николай Васильевич оставался в Неаполе в полном бездействии. Глядел безучастно на лазурное море и обдумывал будущее путешествие в Иерусалим.
А пока что поехал в Париж, к графу Толстому, из Парижа во Франкфурт, к Жуковскому. Знакомые, давно изъезженные дороги! Нет других друзей, с которыми бы так жаждал встречи одинокий, бесприютный человек.
И еще в одной мысли утвердился автор «Переписки»: не могла бы выйти эта книга в свет, если бы не было на то божьей воли.
Гоголь написал князю Вяземскому, благодарил его за статью. Гоголь не упомянул имени Белинского, но подчеркнул, что Вяземский выразился несколько сурово о тех нынешних нападателях на Гоголя, которые прежде его выхваляли. Николай Васильевич считал, что надо действовать не против людей, но против нечистой силы, которая подталкивает людей на грехи и заблуждения.
Вряд ли понял князь Вяземский, как сражаться ему с этой «нечистой силой», в существование которой серьезно верил писатель, всколыхнувший противоборствующие лагери России.
Гоголю предстояло еще одно важное письмо. Он уже начал разведку через Прокоповича: неужто Белинский увидел в «Переписке» нападение на тех, кто разделяет его мысли? А может быть, обиделся критик на «козлов», которых упомянул Гоголь в статье об «Одиссее» (статья была перепечатана в «Переписке»)? Обо всем этом должен был разведать Прокопович и, если в Белинском утихло раздражение, отдать ему письмо.
Гоголь писал Белинскому, что прочитал его статью о «Переписке» с прискорбием, потому что слышится в статье голос человека рассердившегося. Автор «Переписки» и до сих пор не может понять, как это вышло, что на него рассердились все до единого в России. Далее следовала спасительная формула, к которой Гоголь охотно и часто прибегал. Он советовал Белинскому оставить все те места книги, которые покамест остаются загадкой для многих, если не для всех, и обратить внимание на те места, которые доступны всякому здравому и рассудительному человеку.
Долго перечитывал письмо Николай Васильевич. Подписавшись, тяжело вздохнул. Пора бы забыть историю с злополучной «Перепиской». Во всяком случае, он первый протягивает руку рассерженному критику.
Письмо ушло в Петербург. А Белинский уже давно был за границей.
Глава пятая
Нелегко далось Виссариону Григорьевичу морское путешествие: его то и дело укачивало на пароходе. В Штеттине, не зная ни языка, ни местных порядков, он едва добрался до железной дороги. В Берлине поехал к Тургеневу, но Тургенева, несмотря на поздний час, дома не оказалось.
Пришлось пережить два часа новых волнений, до тех пор, пока можно было сдать себя на попечение человеку, обжившемуся в Европе как дома. Иван Сергеевич ни на минуту не оставит теперь дорогого гостя, проводит его в Зальцбрунн и пробудет с ним все время лечения.
– Охотно приму вашу жертву, Иван Сергеевич, как по неспособности моей к путешествиям, так и по тому, что надеюсь засадить вас в Зальцбрунне за работу. Читатели «Современника» только и говорят о ваших рассказах из «Записок охотника». А запасу в редакции нет.
Белинский не говорил о своей болезни, но, видимо, неотступно о ней думал. Ехать же в Силезию из-за холодной погоды было еще рано.
У Тургенева родилась счастливая мысль: направиться пока в Дрезден, посмотреть знаменитую картинную галерею и проехаться по Саксонской Швейцарии. А там, на роскошных берегах Эльбы, увидит Виссарион Григорьевич и развалины рыцарских замков и даже тайные средневековые судилища.
Словом, Белинский даже не заметил, как очутился в железнодорожном вагоне.
В Дрездене Тургенев повел Белинского в оперный театр. В театре все объяснилось: в «Гугенотах» пела Полина Виардо. Улучив удобную минуту, Белинский хитро покосился:
– Удивительное стечение обстоятельств, Иван Сергеевич!
– Но разве она не поет как ангел? – самозабвенно отвечал Тургенев.
Оказывается, он уже условился о дальнейшем: господин Виардо, знаток искусства, будет их проводником по картинной галерее.
В одной из зал галереи Белинский и был представлен супругам Виардо. По счастью, он мог ограничиться немым поклоном. Тургенев всецело завладел беседой.
На следующий день осмотр галереи продолжался, и все было бы хорошо, если бы мадам Виардо не вздумала заговорить с новым знакомым. Вопрос был самый обычный – о здоровье и самочувствии. Белинский ужасно смешался, потому что отвечал знаменитой артистке на том французском языке, на котором, по его глубокому убеждению, не говорили даже лошади. Тогда мадам Виардо сама перешла на русский язык, что тоже было очень смешно, и она первая смеялась.
Русский путешественник удостоился сердечного приглашения на предстоящий концерт прославленной певицы. После концерта Иван Сергеевич стал тащить Белинского к Виардо, чтобы провести счастливый час, который достается на долю только избранных поклонников этого неповторимого таланта. Но Белинский решительно уперся.
Тургенев ушел один и вернулся в совершенном упоении.
– Вы оценили эту божественную артистку? – спросил он. – Вы поняли, какое счастье услышать мадам Виардо?
– Пусть рукоплещет ей весь мир, она, не сомневаюсь, этого достойна, – отвечал Виссарион Григорьевич. – А что будет с вами?
Тургенев посмотрел на него так, будто вдруг был низвержен из райских садов и оказался в неуютном гостиничном номере.
– Когда я думаю о мадам Виардо, я не умею и не хочу думать о себе. Верите ли, что может быть дано человеку такое самоотречение? Раньше и я бы в это не поверил.
Супруги Виардо покинули Дрезден. Тургенев вспомнил о поездке по Саксонской Швейцарии. В этой поездке было все – и пленительные виды, и развалины рыцарских замков, и мрачные призраки средневековья. Но Белинский стремился в чудодейственный Зальцбрунн.
В конце мая и привез его туда Тургенев. Иван Сергеевич великодушно обрекал себя на жизнь в этом недавно открытом, может быть, самом убогом из европейских курортов. К источнику каждый день сходились легочные больные.
Врач назначил Белинскому лечение, прогулки, строгий режим. В восемь часов вечера он должен быть в комнате, в девять с половиной – в постели.
Мрачное, низкое небо висело над Зальцбрунном. Стояла холодная погода. Виссарион Григорьевич выполнял врачебные предписания и писал жене: ему становится лучше. Так ли было на самом деле?
Зато Иван Сергеевич стал приносить известия одно утешительнее другого: зальцбруннские воды творят чудеса. По счастью, Белинский не спрашивал, у кого добывает эти известия Иван Сергеевич.
В Зальцбрунн спешил Павел Васильевич Анненков, тоже обещавший Белинскому разделить с ним скуку курортной жизни.
Анненков едва узнал Белинского. Перед ним стоял старик в длинном сюртуке, в картузе с большим козырьком, с толстой палкой в руке. Лицо его было бело, как фарфор. Страшная худоба и глухой голос довершали впечатление. Он старался приободриться, но эти усилия никого не могли обмануть.
Павел Васильевич привез короб новостей из Парижа. Властителем дум среди блузников был, по мнению Анненкова, Прудон и его недавно вышедшая книга «Система экономических противоречий, или философия нищеты».
Имя Прудона было хорошо известно Белинскому. Это он в своем сочинении «Что такое собственность?» ответил: «Собственность – это кража». Ему принадлежала уничтожающая критика мира, зиждущегося на собственности.
Прудон, по словам Анненкова, отрицая государство, проповедовал замену существующего строя кооперацией ремесленников при помощи национального кредитного банка.
– Но ему возражает Луи Блан, – продолжал Павел Васильевич.
– Читал я начальный том его «Истории французской революции», – перебил Белинский. – Мочи нет, как глуп. С одной стороны, буржуазия является у него врагом человечества еще до сотворения мира, а с другой стороны, по его же книге выходит, что без буржуазии не было бы той революции, которой он восхищается… Так в чем же Луи Блан спорит с Прудоном?
– Главное, насколько я понимаю, заключается в том, что Луи Блан видит переход к социализму в национальных мастерских, организуемых государством.
– И все, что предлагают господа Прудон и Блан, – спросил Белинский, – совершится по щучьему велению? О фантазеры! – Он безнадежно махнул рукой, ему трудно было говорить.
Анненков переменил тему. Стал рассказывать о Герцене и Наталье Александровне, о том, как оба они ринулись в кипучую жизнь Парижа. Рассказывал Павел Васильевич и о давнем друге Белинского – Михаиле Бакунине, с головой ушедшем в европейские дела.
Беседы прерывались походами Белинского к источнику. От изнурительной слабости он, вернувшись с водопития, дремал у себя час-другой. А проснувшись, нетерпеливо ждал новых рассказов Анненкова.
– Я, – вспомнил Анненков, – – еще рассказывал вам, Виссарион Григорьевич, о моем знакомстве с доктором Карлом Марксом. Вот человек! Могучая фигура, львиная голова, железная воля…
– Нуте! – заинтересовался Белинский. Имя Маркса было памятно ему по статьям, читанным в «Немецко-французском ежегоднике». – Нуте, что же дало вам это знакомство?
– Во всяком случае, необыкновенное знакомство! Я посетил доктора Маркса в Брюсселе, имея рекомендательное письмо Григория Михайловича Толстого…
– А, просвещенный помещик! – перебил Белинский. – Как не помнить! Он наобещал золотые горы Некрасову и Панаеву, пожелав стать пайщиком «Современника». И, бог ему прости, надул!
– Должен засвидетельствовать, Виссарион Григорьевич, что для меня письмо Толстого оказалось хорошей рекомендацией. Я был принят Марксом как нельзя лучше. И сразу же был приглашен на собрание их комитета.
Анненков имел в виду заседание Брюссельского коммунистического корреспондентского комитета, который возглавлял Маркс.
Судьба привела русского летописца на то заседание, на котором произошел разрыв Маркса и Энгельса со сторонником уравнительного коммунизма Вейтлингом. Павел Васильевич хорошо помнил многие подробности заседания. Он рассказывал, как Энгельс открыл заседание; как Маркс спросил Вейтлинга, на чем тот думает утвердить свою революционную и социальную деятельность; как долго и сбивчиво говорил Вейтлинг; как взял слово Маркс.
– Вот это была речь! – воскликнул Павел Васильевич.
В нем боролись два противоположных чувства. Он и был восхищен речью Карла Маркса и говорил о нем с опаской. Господин Маркс не походил ни на кого из руководителей рабочего движения, которых знал Анненков.
– Надо было почувствовать всю силу сарказма, с которой он обрушился на Вейтлинга, – продолжал Павел Васильевич. – Всей речи не припомню, а суть такая: возбуждать умы, не давая им твердых, продуманных оснований для деятельности, значит просто обманывать народ; обращаться к работникам без строго научной идеи и положительного учения – равносильно пустой и бесчестной игре в проповедники, при которой, с одной стороны, предполагается вдохновенный пророк, а с другой – подразумеваются ослы, которые будут слушать разинув рот… Доктор Маркс не выбирал выражений, – подчеркнул Павел Васильевич. – Он снова напал на Вейтлинга: люди без положительной идеи не могут ничего сделать и ничего до сих пор не сделали, кроме шума.
– Нуте, нуте! – подгонял рассказчика Белинский.
– Вейтлинг, однако, не сдался, наоборот, нападение будто придало ему силы. Он напомнил, что такой человек, как он, собравший сотни людей во имя справедливости, солидарности и братской взаимопомощи, не может считаться пустым и праздным человеком. Он, Вейтлинг, мог бы привести письма, которые текут к нему из всех уголков Германии. Я наблюдал в это время за доктором Марксом. Он все больше хмурил брови. А Вейтлинг сам перешел в нападение: он заявил, что скромная подготовительная работа важнее для общего дела, чем кабинетные анализы доктрин вдали от страдающего и бедствующего народа. Но тут не выдержал Маркс. Его могучий кулак опустился на стол с такой силой, что задрожали и зазвенели лампы. «Никогда еще невежество никому не помогало!» – объявил он.
– Да, никогда еще невежество никому не помогало, – сочувственно повторил Белинский. – Что же было дальше?
– С тем я и уехал в Париж. Особенно поразил меня Маркс. Надо слышать его голос, надо слышать его речь, когда не колеблясь судит он людей и доктрины, как человек, призванный вести за собой человечество. Железный человек! – еще раз повторил Анненков, и снова отразился в его голосе страх перед этим железным человеком.
Жизнь в Зальцбрунне шла все та же: походы к источнику, прогулки по окрестностям, трапезы, за которыми сидели как можно дольше. А времени все-таки оставалось бесконечно много. Особенно вечера, пустотой которых томился Белинский!
Виссарион Григорьевич напишет письма, потом долго ходит взад-вперед, поглядывая на потемневшие окна, и скажет Анненкову со смущенной улыбкой:
– – Тургеневу не будем мешать. Он с головой в писание ушел. Вот и занимайте болящего, Павел Васильевич, раз взвалили на себя такое бремя.
Тургенев действительно работал до ночи. Кроме того, был недавно такой случай, после которого Иван Сергеевич стал взвешивать каждое слово, чтобы не причинить вреда больному.
Как-то раз Тургенев стал рассказывать о борьбе за политические реформы, которая происходила в Пруссии.
– Так вот, – рассказывал Иван Сергеевич, – один почтенный немец и говорит мне: «Я люблю прогресс, но прогресс умеренный, да и в нем больше люблю умеренность, чем прогресс».
– Ахти мне! – откликнулся Белинский. – Как жаль, что я не мог сказать ему: «Я люблю суп, сваренный в горшке, но и тут я больше люблю горшок, чем суп».
Тургенев еще не использовал главного эффекта:
– Тот же немец похвалил какого-то оратора: «Он умеренно парит!»
Белинский зашелся от смеха. А смех сменился припадком такого страшного кашля, такого удушья, что казалось, никогда не кончится мучительный припадок.
– О, умеренные словоблуды! – говорил, едва отдышавшись, Виссарион Григорьевич. – Глянули бы хоть сюда, в Силезию! Что за нищета! Только здесь я понял ужасное значение слов – пауперизм, пролетариат… У человека здоровые руки, он трудолюбив и честен, готов работать, а для него нет работы: вот бедность, вот пролетариат!
Виссарион Григорьевич страшно волновался. Тщетно напоминали ему собеседники, что пора идти к источнику.
– Умеренный прогресс! А здесь счастлив тот, кто может запрячь и себя, и малолетних детей, и собаку, чтобы везти каменный уголь из Зальцбрунна в Фрейбург. Кто же не может найти себе место собаки или лошади, тот вынужден просить милостыню. Страшно!
Виссарион Григорьевич долго молчал, не в силах справиться с одышкой. Потом обратился к Анненкову:
– А в Париже, говорите, рассуждают о национальных мастерских, не понимая, что ничего путного не будет без отчаянной политической борьбы. Или боятся этой борьбы, как черти ладана?
Не скоро пришел в себя в тот день Виссарион Григорьевич.
Анненков ломал себе голову, как бы каким-нибудь неосторожным рассказом не причинить Белинскому новое и, может быть, непоправимое волнение. И досадовал на Тургенева: этот хитрец и вовсе ушел в свою работу.
А Иван Сергеевич вышел из комнаты с исписанными листами:
– Хочу прочесть вам, господа, новый рассказ, называется «Бурмистр». Само собой, из «Записок охотника», раз читатели «Современника» оказались столь благосклонны к этим «Запискам».
В рассказе действовал молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеночкин. Автор прочел сцену за завтраком у Пеночкина, когда этот господин изысканных манер за не подогретое камердинером вино отдает жестокий приказ вполголоса и с совершенным самообладанием:
«Насчет Федора… распорядиться».
Белинский не выдержал:
– Что за мерзавец с тонкими вкусами! Ах, что за мерзавец! – повторял он.
– Ну, давайте говорить напрямки, – обратился он к Тургеневу, когда чтение кончилось. – Страшную правду сказали вы своим рассказом. А дальше что? Где спасение от господ Пеночкиных?
– Будущее решит этот вопрос лучше нас, – отвечал Тургенев, уклоняясь от спора.
– Так и знал! – с тоской воскликнул Белинский. – Оно конечно, куда проще на будущее сослаться…
Анненков решительно потребовал прекращения разговора. Да и Белинский изнемог.
– Ах, мерзавец с тонким вкусом! – повторял он, возвращаясь к только что состоявшемуся знакомству с господином Пеночкиным.
Тургенев закончил в Зальцбрунне еще один рассказ – «Контора». Действие происходит в имении богатой барыни Лосняковой, которая подписывает приказы, адресованные неграмотному бурмистру, а всем имением и участью подвластных госпоже Лосняковой людей вертит разъевшийся пройдоха главный прикащик.
Еще никогда так гневно не обличал Иван Сергеевич царство мертвых душ, живьем выхватив из него и господина Пеночкина и госпожу Лоснякову. Разглядел он, что несут народу богатеющие за барской спиной бурмистры и прикащики. А народ?
Пусть грозит мужикам господин Пеночкин: «У меня бунтовать не советую!» Пусть кричит пройдоха прикащик госпожи Лосняковой: «Бунтовать никому не позволяется, смотри!» Но право на суд и возмездие принадлежит народу. «Бурмистр» и «Контора» сделают свое дело.
Тургенев вдруг заскучал в Зальцбрунне. Получив какое-то письмо, Иван Сергеевич объявил, что ему непременно надо съездить в Берлин. Но он скоро вернется. Даже вещи оставляет в Зальцбрунне.
И исчез.
Глава шестая
Сроки лечения Белинского в Зальцбрунне близились к концу, но надежда на выздоровление не осуществлялась.
Редкий день дышится Белинскому полегче. А может быть, и это только самоутешение? Чаще возвращалась мысль: бросить все и ехать домой, чтобы перед смертью обнять дочь и услышать, как величает она отца: «Висалён Глиголич». Олюшке пошел третий год. Вон какая большая стала! И тосковал еще больше.
В такие минуты Белинский открывал «Мертвые души», прихваченные из Петербурга. После всех событий, происшедших с Гоголем, «Мертвые души» приобрели, казалось, новую силу. Ими Виссарион Григорьевич и спасался от тоски. А оторвавшись от книги, скажет Анненкову:
– Когда я думаю о злополучной «Переписке», так и кажется, что сам Гоголь позаимствовал мысли Манилова и суждения Ноздрева. Вот и попробуй эту тайну постигнуть! – И опять тяжело задумается.
Анненков видел, что Зальцбрунн нисколько Белинскому не помог. Он стал рассказывать, что в Париже есть знаменитый доктор, который решительно не верит в неизлечимость чахотки (это страшное слово перестало быть запретным в разговорах с Белинским). Доктор Тира де Мальмор творит в сражениях с чахоткой чудеса.
Белинский прислушивался вначале недоверчиво. Но Анненков умел убедить, когда хотел. Может быть, сам доктор Тира де Мальмор не подозревал, сколько чудес и едва ли не на глазах у Анненкова он совершил. Легко ли было Павлу Васильевичу не подать надежду обреченному человеку?
Белинский слушал, все больше заинтересовываясь. Может быть, Париж окажется тем же Зальцбрунном, а может быть… Виссарион Григорьевич сам начал расспрашивать о докторе-чудотворце. Анненков изобретал новые подробности и с тоской думал: чем еще отвлечь больного? Все, что он рассказывал Белинскому о Париже, о сражениях партий, о вождях рабочих, – все это приводило Белинского в крайнее возбуждение. Иначе относился Виссарион Григорьевич к рассказам Анненкова о знакомстве с Карлом Марксом.
– Возникла у меня и переписка с ним после моего поселения в Париже, – вспоминал Павел Васильевич. – Мне вздумалось спросить господина Маркса, что думает он об идеях Прудона, владеющих умами блузников во Франции. Я имел в виду книгу Прудона «Система экономических противоречий, или философия нищеты». Мне казалось, что если в философских взглядах Прудона и имеется путаница, то экономическая часть его теории является очень сильной. Вот об этом я и написал Марксу, а он ответил мне обстоятельным письмом. И досталось же Прудону!
Разговор происходил вечером, когда особенно трудно было заполнить длинные тоскливые часы. Павел Васильевич взглянул на Белинского: заинтересует ли его старая переписка, давно закончившаяся ничем? А Виссарион Григорьевич, услышав, что речь идет о возражениях Прудону, подавил начавшийся было кашель.
– К сожалению, – продолжал Анненков, – у меня нет с собой писем, которыми мы обменялись с доктором Марксом. Не посетуйте, Виссарион Григорьевич, если память мне в чем-нибудь откажет… Впрочем, главное я хорошо помню. Обрушился Маркс больше всего именно на экономическую сторону учения Прудона. Он считал, что Прудон имеет тенденцию только облегчить совесть буржуазии, возводя неприятные факты современных экономических порядков в законы, будто бы присущие самой природе вещей. На этом основании Маркс величал Прудона теологом социализма и мелким буржуа с головы до ног. В одном только мой корреспондент сходился с Прудоном – в отвращении, как он выразился, к плаксивому социализму. Этот социализм именовал Маркс и чувствительным, и утопическим, и даже бараньим… Но тот, кто однажды слышал Маркса, как я, не станет удивляться ни категоричности, ни резкости его суждений. Словом, многое еще было написано в этом письме к вящему посрамлению экономической теории Прудона.
– Любопытно, очень любопытно, – откликнулся Белинский. – Не всегда же будут главенствовать Луи Блан, Прудон и прочие любители умеренно парить!
– Но пока что далеко и господину Марксу до выхода на широкую дорогу, – уверенно отвечал Анненков. – Со свойственной ему категоричностью доктор Маркс изложил основу своих экономических воззрений в письме ко мне. Представьте, он считает, что государственные формы, вся общественная жизнь, мораль, наука, философия, искусство суть только результат экономических отношений между людьми. Оригинальны и следующие его мысли: с переменой экономических отношений будто бы меняется все: и государственные формы, и нравственность, и философия, и искусство, – одним словом, решительно все в жизни человечества. Примерно так думает доктор Маркс, если я правильно его понял…
Анненков говорил о величайшем открытии, сделанном Марксом. Но напрасно пытался Маркс приобщить Павла Васильевича Анненкова к истине. Ничего не понял он. И объяснения, которые давал он Белинскому, были общи, сбивчивы, пронизаны иронией. Анненков торопился представить свои возражения:
– Мало ли рождалось всяких теорий на наших глазах, Виссарион Григорьевич! Сколько написано скоропалительных трактатов, сколько брошено зажигательных лозунгов! Каждый строит будущее по своему усмотрению, каждому кажется, что только он владеет истиной.
…Шли последние дни пребывания в Зальцбрунне. В эти дни Анненкову было суждено стать свидетелем события, исторического для русской культуры.
Письмо от Гоголя, пересланное из Петербурга, было для Белинского полной неожиданностью. Едва прочитав, Виссарион Григорьевич сказал с горестью:
– Он не понимает, за что сердятся на него люди? Надо растолковать ему!
Белинский забыл о своей болезни. Небольшая комната рядом с его спальней превратилась в рабочий кабинет. Теперь он скажет Гоголю все, чего не мог сказать в подцензурных статьях. Из комнаты слышатся шелест бумаги, кашель и тяжелое, прерывистое дыхание.
Перед обедом Белинский прерывал работу, но весь день оставался в задумчивости, почти ни о чем с Анненковым не говорил. С утра снова брался за письмо. Виссарион Григорьевич пишет на клочках бумаги. Исписанных клочков становится все больше.
«Да, я любил Вас со всею страстью, с какой человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса…»
Что же произошло? Пусть знает Гоголь: его «Переписка» возбудила гнев во всех благородных сердцах; вопль дикой радости издали враги. Белинский называет книгу фантастичной; автор ее привык смотреть на Россию из своего прекрасного далека, а нет ничего легче, как издалека видеть предметы такими, какими хочется их видеть. В действительности же Россия представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; в стране нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей.
Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. России нужны не проповеди – довольно она слышала их, – не молитвы – довольно она твердила их, – а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе; России нужны права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью. Самые живые современные национальные в России вопросы – уничтожение крепостного права, отмена телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть.
Русское правительство хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько помещиков ежегодно режут крестьяне. Даже правительство чувствует необходимость перемен: это доказывают его робкие и бесплодные полумеры в пользу белых негров и комическая замена однохвостого кнута треххвостою плетью.
И в это-то время великий писатель, который своими дивно художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, является с книгой, в которой выступает как проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия.
– Что Вы делаете, – спрашивал, обращаясь к автору «Переписки», Белинский. – Взгляните себе под ноги: Вы стоите над бездною!
Виссариону Григорьевичу казалось, что он напишет толстую тетрадь в ответ автору книги, от которой веет болезненной боязнью смерти, черта и ада.
Гоголь ссылался в «Переписке» на великую святыню, хранимую православной церковью. Белинский отвечал: церковь всегда была угодницей деспотизма, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницей братства между людьми, чем продолжает быть и до сих пор.
Гоголь утверждал, что русский народ – самый религиозный в мире.
– Ложь! – отвечал Белинский. – Русский народ по натуре своей глубоко атеистичен. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме. В том-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем.
На дифирамб Гоголя об извечной любви русского народа к своим владыкам Белинский отвечал:
– Предоставляю Вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия… Только продолжайте благоразумно созерцать ее из Вашего прекрасного далека: вблизи-то она не так красива и не так безопасна.
Гоголь высказал в «Переписке» чудовищную мысль, будто бы грамота не нужна народу.
– Что сказать Вам на это? – Белинский клокотал от ярости, когда снова взялся за письмо. – Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, предавши ее бумаге, Вы не знали, что творили…
Письмо писалось Гоголю, но, конечно, не только для него. Виссарион Белинский отразил думы, которыми жила Россия.
Когда Виссарион Григорьевич переписал письмо начисто, он усадил перед собой Анненкова.
– Извольте послушать!
Господи, что это было за письмо! Казалось бы, программа неотложных для России дел, начиная с отмены крепостного права, которую излагал Белинский, была даже скромной. Но тон письма, в котором сокрушал автор весь ненавистный ему правопорядок, где каждое слово звучало как призыв к революции, – вот что почувствовал, к ужасу своему, Павел Васильевич Анненков.
А Белинский видел перед собой Гоголя и к нему обращался:
– И такая Ваша книга могла быть результатом высокого духовного просветления? Не может быть! Или Вы больны и Вам надо спешить лечиться, или – не смею досказать моей мысли…
Виссарион Григорьевич отложил рукопись.
– Был слух, – сказал он, – что Гоголь впал в душевную болезнь. Да ведь как такую болезнь понимать? В моем письме я об этом тоже говорю: у нас коли постигнет человека, даже порядочного, болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania{ Религиозная мания (лат.).}, он тотчас же подкурит земному богу больше, чем небесному. Бестия наш брат русский человек!
Белинский посмотрел на Анненкова, словно ожидая ответа.
– Выходит, мания, да с умом? За что же тут щадить? – Он снова поглядел на Анненкова, словно ждал, что Павел Васильевич развеет какие-то очень глубокие, не до конца отброшенные его сомнения. – Но что же делать? – заключил, помолчав, Виссарион Григорьевич. – Надо всеми мерами спасать людей от взбесившегося человека, будь то хоть сам Гоголь.
Чтение письма продолжалось.
– Вы сильно ошибаетесь, – читал Белинский, словно в самом деле разговаривал с автором «Переписки», – если думаете, что Ваша книга пала не от дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных Вами всем и каждому.
Белинский задавал вопрос: разве в «Ревизоре» и «Мертвых душах» были сказаны с меньшей истиной и талантом менее горькие правды? Но «Мертвые души» от этого не пали, а «Переписка» позорно провалилась.
– И публика тут права. – Голос Белинского был горяч, даже дыхание стало, кажется, свободно. – Она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению Вашей книги!
Белинский взял последний лист письма:
– Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее заключительное слово: если Вы имели несчастье с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние.
Под письмом стояла дата: «15 июля 1847 года. Зальцбрунн».
Анненков заговорил о впечатлении, которое произведет письмо на Гоголя.
– Вы, Виссарион Григорьевич, не только опровергаете его мнения, вы беспощадно обнажаете пустоту всех его нынешних идеалов, с защитой которых он так неловко выступил. Как вынесет Гоголь это страшное бичевание?
– Я никогда не смогу оскорбить его так, как он оскорбил мою веру в него. – Хоть и был утомлен Белинский чтением письма, слова эти произнес твердо, только чувствовалась в них глубокая душевная боль.
Письмо пошло к Гоголю. Белинский снял копию для себя. Бережно уложил в чемодан «Мертвые души».
В тот же день русские путешественники с удовольствием покинули постылый Зальцбрунн.
Глава седьмая
В Париж ехали с остановками, которых требовало ухудшившееся здоровье Белинского. В Дрездене получили новые известия из Франции, огорчившие Виссариона Григорьевича.
– Черт знает, что мне за счастье! – говорил он. – В Питере я только и слышал о шайке наших генералов, грабивших солдат, а в Париже, кажется, только и придется слышать о воре Тесте и других ворах-министрах.
Делом французского министра Теста, приговоренного к трем годам тюрьмы за стотысячную взятку, занимались газеты всей Европы.
– О Франция, Франция! – сетовал Белинский. – Земля позора и унижения! Только ленивый не бьет тебя по щекам!
Белинский чтил великую культуру Франции, ее революционное прошлое, но он не приходил в умиление от европейских порядков только потому, что они европейские. Он не ждал ничего доброго от встречи с Францией, которой управлял король Луи-Филипп, ставленник алчной буржуазии.
Едва путешественники добрались до Парижа, едва устроились в гостинице, Белинский стал торопить Анненкова:
– К Герцену! Нет мочи ждать!
Ворох французских и европейских новостей обрушился на Белинского. Герцены расспрашивали гостя о здоровье, дружно хвалили его посвежевший вид и с подозрительной поспешностью возвращались к рассказам о Париже и о Франции.
– Ты о министре Тесте слышал, конечно? – спрашивал Александр Иванович. – В этом же грязном деле замешан и бывший военный министр. Но все это цветочки. Правящая страной буржуазия несет смерть и растление всему, к чему она прикасается… Я задумал цикл статей для «Современника». Надо показать русским читателям, что представляет собой теперешняя Франция. Пора отучить от идолопоклонства наших европейцев.
– Важная мысль, – отвечал Белинский. Он сам начал еще в Петербурге открытую борьбу с теми, кто не видел для России будущего, иначе как по готовым западным образцам. – Отрадно слышать о твоем намерении, Герцен, служить «Современнику».
Белинский рассказал о делах журнала, потом вынул рукопись из бокового кармана.
– Впервые в жизни я получил от Гоголя письмо в Зальцбрунне. Послушайте мой ответ автору злополучной «Переписки».
Виссарион Григорьевич читал с огромным подъемом, только вынужден был часто останавливаться из-за проклятого кашля. Герцен, улучив минуту, тихо сказал Анненкову:
– Это гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его.
Весь вечер Александр Иванович не мог отогнать от себя мысли: смерть готовится похитить человека, который больше всех нужен сейчас России.
На следующий день Герцены показывали гостю Париж.
– Кто не читал о Париже! – говорил во время поездки по городу Белинский. – Но, признаюсь, Париж превзошел все мои ожидания.
Вечером поехали в Пале-Рояль.
– Шехерезада, Шехерезада! – повторял, любуясь, Виссарион Григорьевич.
А не пора ли вернуться из Шехерезады в жестокую действительность? Уже было передано приглашение доктору Тира де Мальмор навестить пациента из России. Можно было выздороветь от одной встречи с этим веселым, добродушным человеком, который уверенно держал в руках участь больных.
Белинскому было объявлено, что он будет совершенно здоров через полтора месяца, а может быть, и раньше. Для этого и изобретены доктором Тира де Мальмор новые лекарства. Все, что нужно сделать новому пациенту, – это переехать в лечебницу доктора Тира де Мальмор, здесь же, в Париже, в Пасси. Остальное сделают бог, наука и он, доктор Мальмор.
Едва удалился врач, прибежал Тургенев, свалившийся как снег на голову в Париже. Иван Сергеевич был ужасно смущен, что не успел вернуться в Зальцбрунн.
– Черт бы побрал этот Зальцбрунн! – весело отвечал Белинский. – Я бы и сам сбежал оттуда на вашем месте… Как поживает мадам Виардо?..
Поехали с Тургеневым на почту – новая удача! Свежая, июльская книжка «Современника» и письмо от Некрасова: все идет в редакции как нельзя лучше. Пришло письмо и от Мари.
Тургенев и Анненков перевезли больного в Пасси. Виссариону Григорьевичу отведена в лечебнице уютная комната. Доктор Мальмор проявляет исключительную заботу о новом пациенте. Он сам приносит жаровню с пылающими углями и щедро сыплет туда свой волшебный порошок, ядовитые пары которого нужно подолгу вдыхать. Доктор усердно потчует пациента изобретенной им микстурой.
И чудо началось. Вот уже два дня находится Белинский в лечебнице, и впервые после стольких лет он ни разу не кашлянул. Чудо продолжается: Виссарион Григорьевич спит ночи напролет, не зная одышки! О, если бы и с Мари тоже свершилось чудо!
Но Мари верна себе. Она пишет, что Виссарион Григорьевич поехал в Париж не за здоровьем, а за наслаждениями, до которых так падки мужчины. Есть от чего полезть на стенку! Он перечитывает письмо Мари, задыхаясь от дьявольских паров жаровни и глотая тошнотворную микстуру. Он подробно описывает Мари свое лечение, но как убедить ее, что на этом и кончаются для него все парижские наслаждения? Ох, Мари, Мари! Она все-таки больше верила себе, чем ему.
Белинского ежедневно навещали Анненков и Тургенев. Пришел и Михаил Бакунин. Вот оно, незабываемое прошлое, и, конечно, тысячи вопросов и о самом Мишеле, и о Прямухине, и о Париже.
Михаил Александрович Бакунин вхож, как свой человек, в социалистические круги. Он коротко знаком со всеми знаменитостями. Ему, пламенному трибуну, завидуют признанные ораторы. О многом может порассказать старому другу Михаил Бакунин.
Мишель с головой ушел в европейские дела. Он пренебрежительно смотрит на деятельность Виссариона Белинского. Что можно сделать в России, оторванной от движения человечества к свободе? О чем можно писать под гнетом варварской цензуры? Все это наивная дань политическому провинциализму. Можно и должно действовать только в Европе!
Дружеские беседы быстро превратились в отчаянные споры наподобие тех, которые они вели в прежние времена.
Здоровье Виссариона Григорьевича восстанавливалось изо дня в день. Правда, в Париже стоял необыкновенно теплый, мягкий, безветренный август. Даже первое дыхание осени не смело коснуться бульваров; еще не слетел от непогоды первый дрожащий лист; воздух в Пасси был напоен лесной свежестью. Пациент доктора Тира де Мальмор не смел поверить себе: он дышал полной грудью.
А врач-кудесник обещал исцеление уже не через полтора месяца, а всего в пятнадцать дней!
В это время Анненков привез Белинскому ответ от Гоголя.
Много раз приступал к этому письму Николай Васильевич.
«Как далеко Вы сбились с прежнего пути! – – начал было он. – Зачем Вам с Вашей пылкою душою вдаваться в омут политических страстей, в мутные события современности? Вы сгорите, как свечка, и других сожжете!» Кроме того, пусть знает Белинский: не может судить о русском народе тот, кто прожил век в Петербурге, в занятиях легкими журнальными статейками.
Таким предупреждением безумцу собирался ответить Гоголь. Потом ему захотелось объяснить Белинскому, что в прежних его, Гоголя, сочинениях насмешки слышались не над властью, не над коренными законами России, но над извращением их и неправильным толкованием. Гоголь великодушно готов был еще раз повторить: пусть каждый поймет, что он гражданин высокого небесного царства. Пока каждый не живет жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет порядок и в земное гражданство…
Все это хотел написать Николай Васильевич, и все это отлилось в черновиках, над которыми долго трудился он, пребывая в Остенде. А потом спрятал все черновики. К Белинскому пошло совсем другое письмо…
«Бог весть, – прочитал Виссарион Григорьевич, – может быть, и в ваших словах есть часть правды… Покуда мне показалось только то непреложною истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь. А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух строк какого бы то ни было писания, до тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками…»
В заключение Николай Васильевич советовал оставить до поры современные вопросы, выражая надежду, что Белинский вернется к ним позднее с большею свежестью и, стало быть, с большей пользой как для себя, так и для дела.
А больше уже и никогда не будет писать Гоголь Виссариону Белинскому.
– Ему, должно быть, очень тяжело, – сказал, прочитав письмо, Белинский. – И помочь ему нечем. Если человек стоит как завороженный на краю бездны и отталкивает руку помощи, как его спасешь?
Тира де Мальмор, явившись к пациенту, был поражен его расстроенным видом и предписал принять лишнюю порцию тошнотворной микстуры. Белинский покорно исполнил назначение.
Виссарион Григорьевич нетерпеливо ждал окончания лечения в Пасси и возможности окунуться в парижскую жизнь.
А парижская жизнь неожиданно вторглась в Пасси. В лечебнице доктора Тира де Мальмор поселился новый пациент. То был министр-взяточник Тест, уже успевший освободиться под залог.
Газеты давали обильный материал о растленных нравах правящих верхов и государственного аппарата Франции. Правительством был брошен лозунг: «Обогащайтесь!» Обогащались финансовые воротилы, хаос в хозяйстве Франции возрастал. Рост дороговизны ударил прежде всего по рабочим. Увеличивалась безработица. Голодные толпы не раз громили булочные. В газете «Реформа» появилась статья «Работы или хлеба!».
Друзья, ежедневно посещавшие Белинского, дополняли газетные сообщения. Больше всего говорили о политических банкетах, оппозиционных правительству. Оппозиция не посягала на монархию Луи-Филиппа. Но к тостам за короля присоединялись пожелания о расширении избирательных прав.
Оппозиция была направлена против биржевых королей, финансового капитала, крупных хищников. Оппозиция рождалась внутри буржуазии; началась борьба между группами, которые стояли у власти, и теми, кто к власти стремился. Оппозиция выступала под лозунгом: «Реформа во избежание революции!» Впрочем, левой оппозицией был брошен и такой клич: «За Конвент, спасший Францию от ига королей!»
Белинский покинул лечебницу доктора Тира де Мальмор и поселился вместе с Анненковым. Виссарион Григорьевич чувствует себя поздоровевшим, окрепшим, но, наслаждаясь давно забытым чувством свежести и бодрости, бережет силы. Пусть он не увидит многих красот и достопримечательностей Парижа, главное – сберечь силы для будущей работы.
В Париже ему будет вполне достаточно, если он изучит те новые великие вопросы, которыми занят Запад и которые России придется решить самобытно, по-своему, для себя.
Споры поднимал Герцен. Это были все те же его мысли о бесплодии правящей во Франции буржуазии. Не буржуазия, а класс работников является движущей силой прогресса в последнее время. Следовал категорический вывод Герцена: у буржуазии нет прошлого. У нее нет будущности. Ненависть к растленному, разбогатевшему мещанству эпохи короля Луи-Филиппа мешала Герцену взглянуть на буржуазию исторически, он готов был зачеркнуть прошлое буржуазии и ее прогрессивную роль на былых этапах истории.
Герцену возражал Анненков: нельзя толковать понятие буржуазии так неопределенно и сбивчиво; буржуазия есть и крупная, и средняя, и мелкая. У разных групп разные роли, разные интересы.
– Буржуазия – только зло! – настаивал Бакунин. – Ее надо полностью уничтожить, тогда все пойдет хорошо. – Михаил Александрович менее всего думал о том, при каких исторических условиях эта задача могла бы быть решена.
– Легкое дело воевать на словах, – вмешивался Белинский. – Не случайно родилась буржуазия, она не выросла, словно гриб. Нельзя сбрасывать со счетов историю, в том числе и великую историю буржуазии.
Впрочем, Белинскому было ясно и другое: сейчас владычество капиталистов покрыло современную Францию неслыханным позором. В этом он был целиком согласен с Герценом.
Политические дела Франции обсуждались в квартире Герцена на улице Мариньи. Словно бы и не имели все эти вопросы непосредственного отношения к России. В России еще только ощущалась возможность нарождения буржуазии. В России не было пролетариата, о котором применительно к Франции с таким сочувствием говорил Герцен. Но все настойчивее была мысль: вопрос о буржуазии, а следовательно, и все другие вопросы так или иначе встанут в России.
Два события произошли в это время в Париже.
Вышла в свет книга, о которой Анненков рассказывал Белинскому еще в Зальцбрунне. Книга называлась: «Нищета философии. Ответ на Философию нищеты господина Прудона». Карл Маркс впервые печатно формулировал в этой книге принципы материалистического понимания истории, устанавливал зависимость между способом производства и борьбой классов, давал первый очерк развития капитализма.
Парижская печать не откликнулась на «Философию нищеты» ни единой рецензией. И сама книга, казалось, потонула в бурлящей парижской жизни.
Но именно в Париже и произошли вскоре события, имевшие прямое отношение к классовой борьбе, о которой писал Маркс.
В самом конце августа на улице Сент-Оноре, в центре города, собралась огромная толпа. По сведениям газеты «Реформа», поводом был конфликт между хозяином сапожной мастерской и рабочими из-за заработной платы. На улицу Сент-Оноре были высланы усиленные наряды полиции и войска. Спокойствие было восстановлено. Но ненадолго. Толпа снова собирается. Хозяева закрывают магазины, полиция производит аресты.
Однако в следующие дни улица Сент-Оноре уже напоминает военный бивуак. Орган левой буржуазии, газета «Реформа» не скрывает недовольства выступлением толпы, среди которой преобладают блузники.
Волнения кончились так же неожиданно, как и начались. Правительство приписало эти волнения подстрекательству иностранцев. Несколько человек было выслано. Арестованных французов приговорили к денежному штрафу.
Газеты перестали писать о загадочных событиях на улице Сент-Оноре. А между тем это было выступление парижского пролетариата на исторической сцене. Правда, полиция не встретила организованного сопротивления. Дело ограничилось отдельными схватками. И шаги истории не были услышаны в Париже, хотя до революции оставалось едва полгода.
У Герцена продолжались ежедневные сходки. Герцен приготовил статьи для «Современника». Они так и будут называться «Письма с улицы Мариньи». Автор с огромным сочувствием писал о работниках, о скромных воскресных балах работниц, о трудолюбивом Париже простых людей. Не таков буржуа, собственник, лавочник, рантье. Пожалуй, театр всего больше выражает потребности, интересы и вкусы мещанства.
– Я очень хорошо помню о русской цензуре, – говорил Герцен Белинскому, знакомя его со своими «Письмами». – Но можно же говорить о пьесах, которым рукоплещут парижские лавочники? ,
Первые письма Герцена ушли в Петербург. Белинский томился от нетерпения: ехать, давно пора ему ехать! А выехать один никак не решался. Не было уверенности в своих силах. Белинского мучил кашель; снова чувствовал он озноб, одышку и слабость. Ни бог, ни наука, ни сам доктор Мальмор, очевидно, не помогли. Скорее бы вернуться в Россию, пока не иссякли силы!
Виссарион Григорьевич бодрился, а сам просил: пусть хоть кто-нибудь проводит его до Берлина, а там посадит в поезд на Штеттин. Анненков обещал подыскать подходящего человека.
…Не раз возвращался Белинский к своей переписке с Гоголем. От Гоголя не было ни слуха. И вдруг Гоголь решил произвести новую разведку через Анненкова. Николай Васильевич задержался в Остенде, но пристально следил за деятельностью молодых писателей, действовавших на поле, покинутом им. Гоголь спрашивал в письме к Анненкову о Герцене: «Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди всех партий отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация в нынешнее время. Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непременно, а покуда известите меня, что он делает, что его более занимает». Следующий запрос касался Тургенева: «Изобразите мне также портрет молодого Тургенева, чтобы я получил о нем понятие как о человеке; как писателя, я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем замечательный и обещает большую деятельность в будущем…»
В письме был вопрос и о Белинском, правда, странный: Гоголь спрашивал, женат ли Белинский или нет; ему кто-то сказывал, что Белинский женился. Вот и все, что заинтересовало Гоголя на этот раз. Ни словом не коснулся недавней переписки, будто ее и вовсе не было. Боялся повторить то, в чем однажды признался Белинскому: «Может быть, и в ваших словах есть часть правды». Сколько ни уходил от этой правды автор «Переписки», уйти от нее все-таки не мог. Пройдут годы, и в продолжении «Мертвых душ» появится новое начало:
«Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что же делать, если уже такого свойства сочинитель и, заболев собственным несовершенством, уже и не может изображать он ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни…»
А потом опять будет мучиться Гоголь, чтобы вдохнуть жизнь в мертворожденную тень образцового помещика Константина Федоровича Скудронжогло; снова возьмется за благодетельного откупщика Муразова… Новое сожжение всего написанного для второго тома «Мертвых душ» предварит смерть гениального художника, изнемогшего в непосильной борьбе с самим собой.
…Белинский считал дни до отъезда из Парижа.
– Ужели вы все еще не нашли мне провожатого? – спрашивал он у Анненкова.
– Нелегкое это дело, Виссарион Григорьевич. Однако же ручаюсь вам: найду непременно!
И какое же нетерпение отразилось на лице Белинского!
Лучше всех понимала в эти дни его душевное состояние Наталья Александровна Герцен. Она одна умела его отвлечь. Наталья Александровна накупила целую коллекцию «образовательных» игрушек для дочери Виссариона Григорьевича. Особенно восхищали Белинского зоологические альбомы с рисунками животных всех поясов Земли. Кроме того, Наталья Александровна привозила из магазинов восхитительных кукол и затейливые музыкальные шкатулки.
Подолгу сидел Виссарион Григорьевич с Натальей Александровной. Он становился светел и радостен, когда мог рассказывать о своей дочери.
А тут и Анненков выполнил поручение: до Берлина будет провожать Белинского старый и опытный парижский портье.
О счастье! Можно ехать. И так обрадовался Виссарион Григорьевич, что пошел бродить по Парижу и вернулся с покупкой. Это был ослепительный халат с огромными красными разводами по белому полю. Белинский серьезно уверял, что именно такой халат всегда был ему нужен для работы.
Прощальный вечер был назначен у Герценов. Виссарион Григорьевич много говорил о предстоящей работе. Поздно ночью cтал прощаться. Особенно ласково и нежно простился с Натальей Александровной. Крепко обнял Герцена.
– Дай бог скорее увидеться с тобой в России!
Когда он ушел, Герцен увидел слезы на глазах жены.
– Он должен жить! – говорила Наташа. – Он будет жить! Почему ты молчишь, Александр?
Герцен молча гладил ее волосы, не в состоянии произнести слова надежды.
На следующий день начались с Белинским невероятные происшествия. По дороге на вокзал он с ужасом вспомнил, что забыл только что купленный халат. Он положительно не мог с ним расстаться. Послал за халатом провожатого. Портье опоздал к отходу поезда. Кое-как Виссарион Григорьевич уехал один. Старый портье вместе с халатом догонит его в Брюсселе… А игрушки?! Белинский леденел от мысли, что их конфискуют в бельгийской таможне. Но сам знал: ни за что на свете с ними не расстанется. Ни за что!
В Брюсселе явились таможенники. Они извлекли из чемодана и музыкальную шкатулку, и оловянные фигурки, и альбомы, и какие-то прыгающие шарики. Растерянный пассажир что-то загадочно лепетал. Таможенники ничего не поняли, махнули на него рукой и, посовещавшись, объявили: «Три с половиной франка штрафа». Так вот из-за чего перенес пытку Виссарион Белинский!
В Брюсселе его догнал отставший портье и вручил парижский халат.
Новое приключение в Кельне изрядно поразило Белинского.
– Вы тоже, верно, высланы из Парижа за то, что глядели на толпы, собиравшиеся на улице Сент-Оноре? – спросил Виссариона Григорьевича по-русски какой-то незнакомец.
Завязался разговор. Когда дело дошло до русских журналов, собеседник Виссариона Григорьевича воскликнул:
– Есть в Петербурге драгоценный человек!
– Кто таков?
– Белинский…
Тут Виссарион Григорьевич, к удивлению собеседника, умолк, смешался и, выдумав первый пришедший в голову предлог, обратился в бегство.
Путешествие продолжалось более или менее благополучно. Но невеселы были мысли недавнего пациента прославленного доктора Тира де Мальмор. Болезнь давала себя чувствовать так, будто и вовсе не было лечения в Пасси. Тогда Белинский разглядывал игрушки, отвоеванные у бельгийской таможни. Он мысленно вручал их дочери и даже слышал знакомый голосок:
«Висалён Глиголич!»
Глава восьмая
Через несколько дней после возвращения Белинского в Петербург вышла октябрьская книжка «Современника». Ее украшали рассказы Тургенева «Бурмистр» и «Контора».
В «Отечественных записках» было напечатано начало странной повести «Хозяйка». Молодой человек, углубившийся в занятия какими-то загадочными науками, влюбляется в красавицу, которая появляется в повести в сопровождении таинственного старика. Молодой человек живет фантастическими видениями, речи его похожи на патологический бред. Красавица в свою очередь отвечает ему загадочно-мистическим лепетом. В бредовых видениях и речах героев окончательно тонет житейская явь.
Подобными повестями потчевали читателей авторы фантастических небылиц. А написал «Хозяйку» Федор Достоевский.
– О горе, горе! – вздыхает Виссарион Белинский. – Куда он идет?
В объявлении о подписке на новый, 1848 год, которое помещено в октябрьской книжке «Современника», имени Федора Достоевского нет. Совсем удалился Достоевский от молодых писателей» которые собираются у Белинского.
Достоевский написал «Хозяйку» и в то же время обдумывал роман о судьбах обездоленных людей, обреченных гибели в мире торжествующих хищников. «Хозяйка» и социально-обличительный роман «Неточка Незванова» писались одновременно, словно знаменуя будущий путь Достоевского.
Вместе с другими осужденными петрашевцами его выведут на смертную казнь. В последнюю минуту объявят «помилование» и сошлют на каторгу. Но и отдавшись после того идеям христианского смирения и покаяния, Достоевский сам будет противоборствовать этим идеям, страстно обличая общественную неправду, и станет одним из самых социальных русских писателей.
Сейчас, однако, перед Белинским была повесть «Хозяйка», и сильно печалился он за судьбу необыкновенного, огромного таланта Достоевского.
– Мудрено поздравить с «Хозяйкой» подписчиков «Отечественных записок», – соглашался Некрасов. – Зато рассказы Тургенева как нельзя лучше представят нашим читателям взгляды «Современника».
– А «Письма с улицы Мариньи» Герцена? Кто их не прочтет! Представьте, Николай Алексеевич, и рассказы Тургенева и «Письма» Герцена писались на моих глазах.
Со встреч с Некрасовым началась петербургская жизнь Белинского. А тут подошли хлопоты с поисками квартиры. Ее нашли на окраине Петербурга, на Лиговке, в надворном флигеле, – но какая великолепная квартира! Кроме просторного кабинета еще пять комнат: есть где свободно разместиться всему семейству. На Лиговке квартиры были недороги, и Белинский мог позволить себе впервые такую роскошь.
Ольге Виссарионовне отведена особая детская. Тут бы и расположиться ей со всеми парижскими игрушками. Но, к великому огорчению отца, звери из зоологических альбомов скучают в детской, забытые легкомысленной хозяйкой. Зато музыкальные игрушки, оловянные фигурки, куклы и шарики, ослепительные разноцветные шарики, путешествуют по всем комнатам.
– Висалён Глиголич! – радостно взывает Оленька, появляясь в дверях кабинета. Ей надобно разобрать музыкальную игрушку: кто там живет?
Виссарион Григорьевич устраивается в своем кабинете. На полки уже встали книги, а полки тянутся через всю комнату. Приехала неразлучная с хозяином кушетка, на которую вынужден он частенько ложиться. Появился большой рабочий стол. Над столом – портреты Пушкина, Гоголя, Гёте, Шиллера, Жорж Санд, Кольцова и Николая Станкевича. На столе и на этажерке – небольшие бюсты Руссо и Вольтера. И опять скульптуры – Пушкин, Гоголь, Гёте.
Хозяин стоит посреди комнаты с молотком в руках, кажется, сам пораженный великолепием своего жилища.
Ольга Виссарионовна, притихнув, ходит по кабинету, рассматривая портреты и бюсты, но не находит никого из знакомых.
– Дяди? – полувопросительно спрашивает она.
– Со всеми познакомишься, дай срок, – отвечает дочери Виссарион Григорьевич. Он подбирает с пола музыкальную игрушку, вертит ручку, слушает звонкую мелодию и улыбается. – Вот, братец ты мой, какая музыка! А ломать ее – ни-ни! Ну, идем в детскую.
Белинский проводил дочь и вернулся в кабинет. Надо срочно браться за работу. Если сможет работать, значит, не все еще пропало.
За время отсутствия Белинского были всяческие нападки на натуральную школу. О Гоголе и натуральной школе и будет редакционная статья «Современника». Читатели узнают, чей голос снова раздается со страниц журнала.
Итак, снова и снова о Гоголе пишет Виссарион Белинский. Что бы ни произошло с Гоголем в последнее время, с его великими произведениями связано будущее русской литературы. Гоголь пошел дальше всех в изображении действительности, как она есть, во всей полноте и истине. Разве Гоголь не изобразил в «Тарасе Бульбе» характер высокотрагический? Но и в трагическом характере он сумел открыть комическое. А в повестях «Шинель» и «Старосветские помещики» в самой пошлости жизни нашел трагическое. В том и видит Белинский великий талант Гоголя, что ему дался не пошлый человек, а человек вообще, как он есть, не украшенный и не идеализированный.
Гоголю ставят в вину, что для утешения читателей он не выводит на сцену лиц порядочных и добродетельных. Но этот упрек отдает понятиями об искусстве, которыми жили старые руководства по пиитике и риторике.
Белинский утверждал, что произведение искусства, самое похвальное по намерениям, но плохо выполненное, нисколько не будет принадлежать искусству, независимо от благих намерений автора.
Противники Гоголя хлопочут о «чистом искусстве», но первые требуют, чтобы искусство служило посторонним целям, если навязывают ему свои теории, свои понятия нравственные и социальные.
Искусство, утверждал Белинский, может быть органом известных идей и направлений, но только тогда, когда оно прежде всего искусство. Иначе его произведения будут мертвыми аллегориями, холодными диссертациями…
Виссарион Григорьевич еще не закончил статьи, как почувствовал сильное недомогание.
В его кабинете появляется доктор Тильман. Он пишет рецепты и неодобрительно качает головой.
В эти же дни Некрасов воевал за повесть, которая должна была определить главное содержание ноябрьской книжки «Современника». Повесть называлась «Антон Горемыка». Автором ее был Григорович. После «Деревни» он снова выступал с крестьянской темой. Только теперь гораздо острее были показаны горести мужика, доведенного до отчаяния преследованием барского управителя. Финал повести был поистине грозен: герой ее вместе с другими крестьянами восстает против наглого, разъевшегося барского ставленника. Горит, подожженный народом, его дом. Пламя пожара ложится заревом народного восстания на страницы повести.
Против такого финала восстал официальный редактор «Современника» профессор Никитенко. Некрасову пришлось вести с ним долгие переговоры.
– Ну что? – с нетерпением спрашивал у него Белинский, едва появлялся Николай Алексеевич на Лиговке.
– Обещает сам переделать конец повести и в таком случае не будет возражать, хотя, по совести сказать, сильно морщится наш профессор: не по нутру ему «Антон Горемыка».
– Ай да Григорович! Кто бы мог думать? – вслух размышлял Белинский. – Как ни переделывай финал, духа-то «Антона Горемыки» не истребишь! Мне все кажется, когда я читаю эту повесть, будто попадаю сам в конюшню, где благонамеренный помещик порет и истязает целую вотчину – законное наследие своих предков. Ни одна повесть не производила на меня такого удушающего впечатления!
«Антон Горемыка», несмотря на все переделки, произведенные профессором Никитенко, завоевал горячие симпатии читателей и принес новый успех «Современнику».
Тщетно силится поднять свой журнал Краевский. «Отечественные записки» напечатали «Противоречия, повесть из повседневной жизни». Имя автора М. Непанова никому ничего не говорило. Правда, уже предисловие к повести было многообещающим: «Трескучие эффекты, – писал М. Непанов, – кажется, начинают надоедать; балаганные дивертисменты с великолепными спектаклями выходят из моды; публика чувствует потребность отдохнуть от этого шума, которым ее столько времени тешили скоморохи всякого рода…»
Героем «Противоречий» взят молодой образованный человек, живущий на кондициях у богатого помещика. Молодого человека мучает важный вопрос об участи тех людей, кому суждено жить в вечных заботах, в борьбе за кусок насущного хлеба.
В повести появляется обаятельная девушка, дочь помещика, у которого живет на кондициях герой. Молодые люди объясняются в чувствах. А повесть, увы, становится рассудочно-многословной. Влюбленный герой говорит любимой: для него, не знающего, что будет с ним завтра, несбыточна мысль о счастье.
Родители выдают девушку замуж. Герой покоряется и уезжает, описывая свои душевные страдания в письмах к другу. Героиня заболевает чахоткой. Только в предсмертный ее час видится с ней несчастный герой. Он страдает, любит и… рассуждает. А автор так и не замечает, что повесть его, начатая с противоречий жизни, обернулась слезливой, бездейственной и многословной мелодрамой.
– Этакая чепуха! – воскликнул, прочитав «Противоречия», Виссарион Белинский.
А написал «Противоречия» укрывшийся под псевдонимом Михаил Евграфович Салтыков. Нет нужды, что он и сам будет отказываться впоследствии от этой пробы пера. Теперь он задумал новую повесть и предназначает ее для «Современника».
«Современник» получил в это время неожиданный удар от своих друзей москвичей. В «Отечественных записках» в связи с подпиской на новый 1848 год было объявлено, что журнал напечатает произведения Грановского, Боткина…
Да и сколько же раз должен писать им Белинский, что, поддерживая Краевского, они губят «Современник»!
Напрасны все письма в Москву. И Боткин и Грановский не могли простить, что«Современник» напечатал «Письма с улицы Мариньи». Грановский был в ужасе: чего доброго, и Белинский, разделяя мысли Герцена, будет так же писать об Европе? Боткин без обиняков говорил о заслугах буржуазии, которых не увидел опрометчивый автор.
Споры, начатые в Париже, Белинский закончил теперь несколькими выводами для себя, прямо связанными с будущим России. Он писал москвичам, что прогресс России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию. И еще одну мысль утверждал в своих письмах Белинский: в капиталистическом обществе промышленность – источник великих зол, но она же и источник великих благ для общества. Капиталистическая промышленность – последнее зло во владычестве капитала, в его тирании над трудом.
…Как-то раз Виссарион Григорьевич начал писать Боткину о легкой болезни, случившейся с ним после возвращения в Петербург. Потом отвлекся от письма и уехал в редакцию «Современника».
Когда он вернулся, в кабинет зашла Мари:
– У меня к тебе серьезный разговор.
– Слушаю, Мари. – Белинский, усталый, прилег на кушетку.
– Ты пишешь Василию Петровичу, что был немножко нездоров…
– А ты прочитала? О, ненасытное женское любопытство! Может быть, думала, что я буду описывать Боткину свои парижские похождения? Неужто угадал?
Но Мари была сосредоточена на тревожной мысли:
– Ты ошибаешься, считая свою недавнюю болезнь пустяковой. У тебя опять открылись в то время раны в легких. Тильман даже струсил…
– А раны исчезли – и я чувствую себя препорядочно, – отвечал Виссарион Григорьевич.
Мари дала ему микстуру, заботливо оправила подушку.
– Пришли ко мне Олюшку, – попросил Белинский и поглядел вслед Мари. Зачем завела она этот разговор? Разве он и сам не знает, что может умереть, даже будучи на ногах и в полном сознании?
Оля не замедлила явиться на зов отца. К великой его радости, она несла парижский зоологический альбом, а он всегда мечтал, что воспитает дочь в глубоком уважении к естественным наукам.
Правда, зоологический альбом был изрядно потрепан. Кое-какие страницы были порваны так, что звери всех стран земли остались кто без головы, кто без ног.
– Ах ты собака моя! – сокрушался Виссарион Григорьевич. – Не побоялась ни льва, ни тигра, храбрая собака! Дай-ка мне вон ту бутылку с клеем.
Предвидя новую занимательную игру, Ольга Виссарионовна бросилась исполнять отцовское поручение.
Глава девятая
Шел к концу 1847 год. Императору Николаю I готовили отчет о действиях Третьего отделения и корпуса жандармов. Шеф жандармов не скрывал своей озабоченности.
В течение прошлого года, значилось в отчете, главным предметом рассуждений во всех кругах общества была непонятная уверенность, что вашему величеству непременно угодно дать полную свободу крестьянам. Эта уверенность поселила во всех сословиях опасение, что от внезапного изменения существующего порядка вещей произойдет неповиновение, смуты и даже самое буйство между крестьянами.
Шеф жандармов уверял, что он всеми имеющимися у него средствами старался опровергнуть мысль о возможности освобождения крестьян и внушал всем и каждому, что намерения императора направлены только к улучшению крестьянского быта, без нарушения необходимой и умеренной власти помещиков.
Сановный автор доклада признавался, однако, что непостижимое брожение умов продолжается и даже он сам не имеет возможности это брожение предотвратить. Далее следовал прозрачный намек: пора кончить с вредными проектами.
Но секретные совещания продолжались, новые слухи проникали в общество. Повинен в них был и сам император. Еще весной, принимая депутацию от смоленских дворян, его величество просил помочь ему в переводе крестьян из крепостных в обязанные. При этом император подчеркнул: «Земля, заслуженная нами, дворянами, или предками нашими, есть наша, дворянская». С другой стороны, царь признал, что крепостное состояние установилось на Руси не по праву, а обычаем, крестьяне не могут считаться собственностью, а тем более вещью.
В сказке про белого бычка проявилось, таким образом, как будто некоторое движение. Но сколько же нужно было крестьянских восстаний для того, чтобы признано было с высоты престола, что крестьянин не может быть ни собственностью, ни вещью. Недаром Виссарион Белинский писал Гоголю: правительство хорошо знает, скольких помещиков ежегодно режут крестьяне.
Теперь в письме к Анненкову, которое пошло и Париж через верные руки, Виссарион Григорьевич изложил важнейшую мысль: если не последует освобождения крестьян сверху, то вопрос решится сам собою, другим образом, в тысячу раз более неприятным для русского дворянства. Когда масса спит, делайте что хотите, все будет по-вашему, но когда она проснется, не дремлите сами, а то быть худу!
Слухи и толки о возможных переменах в положении крестьян проскальзывали в печать. Усилились яростные нападки на натуральную школу. Кто, как не молодые писатели, подстрекаемые Виссарионом Белинским, ратуют за мужиков?
Виссарион Григорьевич готовил для «Современника» очередной обзор: «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Он начал с объяснения слова прогресс. Прогресс – это изменение понятий и нравов общества, следовательно, развитие общественной жизни. Прогресс русской литературы состоит в успехах натуральной школы. Натуральная школа стоит на первом плане русской литературы.
В самом деле, спрашивал Белинский, какие журналы пользуются большим влиянием, как не те, которые помещают произведения натуральной школы? А критика? Только та критика пользуется влиянием, или, лучше сказать, более сообразна с мнением и вкусом публики, которая стоит за натуральную школу. Ни о ком не спорят, ни на кого не нападают с таким ожесточением, как на натуральную школу.
Поклонники обветшалых пиитик рассуждают: слишком-де любят писатели новой школы изображать людей низкого звания. То ли дело, к примеру, повесть Карамзина «Бедная Лиза»! Там-де все опрятно и чисто. Вот и причина спора, – писал Белинский: – поклонники риторической школы позволяют изображать хотя бы и мужиков, но не иначе, как одетых в театральные костюмы, обнаруживающих чувства и понятия, чуждые их быту. Короче, старая пиитика изображает все, что угодно, но предписывает так украсить изображаемый предмет, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотели изобразить. Все жалобы на натуральную школу сводятся, в сущности, к одному: зачем литература перестала бесстыдно лгать?
– Ну что же, – подвел итог Белинский, – разойдемся без спора: вам – ложь, нам – истина!
В кабинет заглянула Мари:
– Никак не могла понять, с кем ты разговариваешь?
– Должно быть, сам с собой! Теперь, по дальности нашего жительства, редко кто ко мне заглянет.
– А пожалуй, и неплохо было, если бы кто-нибудь тебя навестил!
– Мари! Ты ли это говоришь?
– Посетители отвлекли бы тебя от работы. Нельзя же, друг мой, работать без передышки. На мои просьбы не обращаешь внимания.
– Не могу, Мари, бездельничать. Ты не знаешь, что значит для журнала новый год. Кстати сказать, надо бы мне побывать в редакции.
– Ты выйдешь из дома не раньше, чем разрешит доктор Тильман.
Белинский вдруг раздражился:
– Ты вступила с ним в заговор, Мари! Но я не намерен терпеть насилия! Довольно с меня этой бесчеловечной опеки…
– Стыдись, – сказала Мари. – При всем снисхождении к твоей болезни…
– Прости меня! – Белинский смутился своего упрека. – Я вижу, Мари, твои заботы и, поверь, умею их ценить. Только черт бы побрал Тильмана вместе со всеми докторами… Хоть бы Некрасов приехал!
– Если он не стыдится показываться людям на глаза после своей скандальной истории с госпожой Панаевой…
– Опомнись, Мари! Только жалкие мещане могут думать так о людях, полюбивших друг друга.
– За спиной у мужа! – Мари была вне себя от возмущения. – Послушал бы ты, что говорят о них порядочные люди…
– Замолчи! Прошу тебя, замолчи!
Мари опомнилась. Сколько раз она давала себе слово не говорить с мужем об этой истории!
– Прими капли, – сказала она, подавая Белинскому лекарство. – Какое нам дело до других? Только бы тебе поправиться.
И еще раз успокоенно сказал Белинский:
– Спасибо тебе за все заботы.
Некрасов не замедлил с приездом. Он рассказывал, что подписка на «Современник» обгоняет подписку и на «Отечественные записки» и на «Библиотеку для чтения». Авось не придется отказываться от прежнего размаха, с которым начат «Современник».
– Кстати, – вспомнил Белинский, – получил я письмо от Тургенева из Парижа. Сулит золотые горы «Современнику»: два больших рассказа и поэму «Маскарад», после чего и вовсе закается писать стихи.
– У меня есть по поводу Тургенева мысль: как только удастся нам начать выпуск библиотеки русских романов и повестей, обязательно включим в это издание томик «Записок охотника».
– Доброе дело! Можно сказать, важнейшее, – откликнулся Виссарион Григорьевич. – Так вот, пишет Тургенев, что закается писать стихи, а сам признается, что ваши «Еду ли ночью по улице темной…» твердит денно и нощно. Впрочем, о чем бы ни писал Иван Сергеевич, между строк я всегда читаю: мадам Виардо! – Белинский помолчал. – Нуте, а как живется вам с Авдотьей Яковлевной? Давненько я посажен медиками под строгий арест. Чай, вьются вокруг вас гнусные сплетни?
– Еще как вьются, Виссарион Григорьевич! Я к ним толстокож оказался, а Авдотья Яковлевна очень нервничает.
– Моралисты, прости господи! Страшно то, Николай Алексеевич, что действуют из благородных, так сказать, побуждений. Таких ничем не уймешь. Не смею я звать к себе Авдотью Яковлевну, а как только вырвусь из заключения, первый визит ей. Так и передайте. . Как идет ее писание? Не забросила?
– Ничуть! Представьте, вышел из-под ее пера целый роман.
– Страсть, как любопытно будет познакомиться!
– Боюсь судить, но, надеюсь, вскоре сами прочтете корректурные листы. Авдотья Яковлевна никак не хотела затруднять вас чтением рукописи. Если одобрите, Виссарион Григорьевич, будем печатать в альманахе, который замышляю дать как бесплатное приложение нашим подписчикам.
Уехал Некрасов, Белинский взялся за продолжение своего обзора. Надобно было еще раз разделаться с поборниками так называемого «чистого искусства».
Это пресловутое искусство, утверждал Белинский, есть дурная крайность другой дурной крайности, то есть искусства поучительного, холодного, сухого, мертвого. Искусство прежде всего должно быть искусством, но никогда и нигде не было искусства вне жизни. Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир. Может ли поэт не отразиться в своем произведении как человек, как характер, как личность? Конечно, нет. Поэт прежде всего человек, гражданин своей земли, сын своего времени. Поэт должен отражать сокровенные думы всего общества, то общее и необходимое, что дает колорит и смысл эпохе.
В настоящее время литература больше чем когда-нибудь сделалась выражением общественных вопросов. Неудачи происходят не от влияния на литературу современных вопросов, а от недостатка таланта. Отнимать у искусства право служить общественным интересам – значит не возвышать, а унижать его.
Новая литература вышла на настоящую дорогу и все тверже идет по ней. У нее нет теперь главы, ее деятели – таланты не первой степени; но они без помочей движутся по дороге, которую ясно видят. Вот в этом и есть прогресс, – заключил Белинский, вернувшись к определению прогресса как развития общественной жизни, с которого он начал свою статью.
Первая часть этого обзора предназначалась для январской книжки «Современника» на 1848 год. О произведениях натуральной школы, которые были особенно замечательны в истекшем году, критик обещал дать отчет в следующей, февральской книжке «Современника».
Вышел новогодний номер «Современника». Вышла февральская книжка журнала, но обещанного продолжения обзора Белинского в ней не оказалось.
Белинский опять слег. Уже чувствуя резкое ухудшение здоровья, он еще успел съездить к Панаевой, чтобы поздравить автора романа «Семейство Тальниковых», который он только что прочитал.
– Каюсь, голубушка, Авдотья Яковлевна, – говорил Виссарион Григорьевич, – долго не хотел верить, что это вы написали. Да как же вам не стыдно было так долго молчать? Честь и слава Николаю Алексеевичу, если это он побудил вас взяться за перо!
– Нимало, Виссарион Григорьевич, – отвечал Некрасов. – Если признаться, и я тоже не очень верил, что Авдотья Яковлевна осуществит свое намерение.
– Вы, мужчины, всегда оказываетесь маловерами, когда дело касается женщин, – шутливо корила Авдотья Яковлевна, чрезвычайно обрадованная похвалой Белинского.
– Каюсь, каюсь, – продолжал Белинский, – меньше всего подумал бы на вас.
– Почему же, Виссарион Григорьевич?
– Ведь говорят же про вас, что состоите вы в первых модницах… Шучу, шучу, голубушка! Мало ли что про вас говорят, а вы плюньте и пишите. Очень нужную тему взяли для «Семейства Тальниковых». Как часто мы и не подозреваем даже, сколько терпят дети от воспитателей… Немедля дайте мне слово, что будете отныне писать!
Сияющая от счастья Авдотья Яковлевна дала слово.
– Ну, чур, теперь не обманете. А то был один случай с знакомым вам человеком… – Белинский посмотрел на Некрасова: – Сколько раз, бывало, говорил я: «Давайте, давайте «Тихона Тросникова»! А где он, «Тихон Тросников»? Где?
Некрасов безнадежно махнул рукой:
– Эк, вспомнили старину, Виссарион Григорьевич! Я, пожалуй, даже не припомню, куда задевал рукопись.
– Вот как бывает, Авдотья Яковлевна! – укоризненно сказал Белинский. – Что с него возьмешь? Конечно, все простится Некрасову, когда соберет он и выдаст сборник своих стихов.
– Далеко еще до сборника, Виссарион Григорьевич.
– А время-то не ждет. Всей России надобны ваши стихи, – как-то особенно задушевно сказал Белинский.
К Некрасову зашел Панаев.
– Вот нежданный гость! – обратился он к Белинскому. – Давненько не виделись, Виссарион Григорьевич! Я уж и Николая Алексеевича ежедневно спрашиваю: «Что же Белинский глаз не кажет? Засел на своей Лиговке, будто в дальнюю провинцию отъехал».
– Здоровьем плох, – отвечал Белинский. – А друзья, не в укор им, считают, должно быть, Лиговку Камчаткой. Ну, потчуйте новостями дальнего провинциала.
– О каких же новостях вам рассказывать? О «Современнике» вы, думаю, все от Некрасова знаете. Разве что о французских делах?..
– Кое-что слышал, – подтвердил Белинский. – Все ли правда, Иван Иванович?
– Шумят французы. Оппозиция атакует правительство. Блузники волнуются. Ну а наши власти прислушиваются: как бы в Париже не вспомнили о давних грозах… Да, воспользуюсь, господа, вашим присутствием, чтобы рассказать любопытный факт: я отклонил повесть, которую предложили «Современнику». Дело настолько ясное, что я взял на себя смелость решить вопрос единолично. Повесть из русской жизни, а намекает автор чуть ли не на революцию. Ей-богу. Ништо ему цензура.
– Кто таков автор?
– Из молодых, конечно. Он у нас рецензии пописывает, господин Салтыков. Сдается, он напечатал какую-то повесть в «Отечественных записках». Называется, кажется, «Противоречия». Полистал я новую его повесть «Запутанное дело» и говорю: «По дружбе советую, несите в другие журналы. В «Современнике» непременно запретят, да еще гвалт поднимут. Сами знаете, как нас цензура любит».
– Что с вас возьмешь, коли дело сделано, – отвечал Белинский. Новое произведение автора «Противоречий» не возбудило в нем интереса. – Однако же, Иван Иванович, надо бы решать вопрос о повестях общим советом. Повестями-то и силен «Современник». Никак нельзя допускать пренебрежения к авторам. Кто знает, вдруг блеснет чистое золото, а мы его своими руками отдадим Ваньке Каину, сиречь многоуважаемому господину Краевскому.
– Совершенно с вами согласен, – отвечал Панаев. – Только в данном случае головой ручаюсь: в «Запутанном деле» одни подозрительные и весьма прозрачные намеки.
Панаев вскоре ушел. Белинский тоже стал прощаться.
– Ну, пора домой. Едва вырвался из дома, а вернусь – будут ворчать на меня за долгую отлучку. Ко мне-то не заглянете, Авдотья Яковлевна?
– Я никуда теперь не езжу, – отвечала Панаева. – Вы сами меня поймете, Виссарион Григорьевич! Тяжелы мне сплетни и косые взгляды.
– Понимаю, понимаю! Все понимаю, голубушка! А вы на всех плюньте и пишите. Не берите пагубного примера с автора «Тихона Тросникова»… Ну, авось я сам опять к вам выберусь.
Только очень плох был Виссарион Григорьевич. С трудом дошел до передней, а сойти с лестницы ему должен был помочь слуга Панаевой.
Глава десятая
Даже осенний колючий ветер, который рыщет по петербургским улицам, не смеет вторгнуться в щегольскую карету, чтобы оскорбить своим дуновением лоснящиеся щеки сытого господина. Другое дело, если налетит пронзительный ветер на прохожего в легкой шинели. Тогда насвистывает он в уши пешеходу: «Озяб, бедный человек!»
В такой вечер тащился восвояси, понурив голову, молодой человек из мелкопоместных дворян, Иван Самойлович Мичулин. Явился он из провинции в столицу в поисках занятий. Но куда ни обращался, везде один ответ: нет вакансий!
Мысли у Ивана Самойловича рождались черные.
– Да что же я такое? – повторял он. – Ведь годен же я на что-нибудь, есть же где-нибудь для меня место! В самом деле: Россия государство обширное, обильное и богатое, да человек-то иной глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве.
Последняя мысль принадлежала не столько Ивану Самойловичу Мичулину, сколько автору повести «Запутанное дело». Подозрительные, но весьма прозрачные намеки, которых испугался Иван Иванович Панаев, появлялись в этой повести едва ли не с первой же страницы.
Было время, когда Михаил Евграфович Салтыков описал в «Противоречиях» любовную историю, происходящую на романтическом фоне благоухающей природы. И тени подобного благоухания нет в «Запутанном деле». Герой повести, Иван Самойлович Мичулин, живет в меблированных комнатах Шарлотты Готлибовны. Он снимает комнату с подслеповатым окном, выходящим на помойную яму.
Рядом с Мичулиным живет Наденька Ручкина, девица, как сказано в повести, сведущая по своей части. Робкое чувство к девице Ручкиной постучалось в сердце ее соcеда, вроде бы даже и высказался об этом Иван Самойлович, но туманный его лепет девица поняла по-своему.
– Нет, нет, и не думайте, Иван Самойлович, – отвечала Наденька, – никогда ни в жизни не получите! Уж я что сказала, так и сказала: мое слово свято!
У Ивана Самойловича осталась одна радость – слушать через стенку, как поет Наденька известную арию:
Приди в чертог ко мне златой, Приди, о князь ты мой драгой!Но редко появляются князья в захудалых меблированных комнатах. Среди постояльцев Шарлотты Готлибовны первое место занимал Иван Макарыч Пережига, мужчина плотный и крепкий, носивший венгерку лихого покроя, состоявший на особом положении при хозяйке. Иных, более определенных, занятий у Ивана Макарыча, кажется, не было. Увы! И девица Ручкина, презрев бедняка Мичулина, явно предпочитала ему жильца из ученых молодых людей – Алексиса Звонского.
Иван Самойлович мог утешиться беседами с тем же Алексисом Звонским да еще с другим жильцом Шарлотты Готлибовны, кандидатом философии Вольфгангом Антонычем Беобахтером.
Вольфганг Антоныч, выслушав вопросы Мичулина, отчего другие живут, другие дышат, а он и жить и дышать не смеет? – отвечал иносказательно.
– Вот возьмите это, – говорил Беобахтер, подавая Мичулину крохотную книжонку из тех, которые нарождаются в Париже тысячами, как грибы в дождливое лето, и продаются чуть ли не по одному сантиму. – Прочтите и увидите, – заключил Вольфганг Антоныч. – Тут все!.. Понимаете?
Иван Самойлович ничего не понял.
Алексис Звонский со своей стороны говорил о любви к человечеству, о братских объятиях, открытых всему миру, и при этом сильно облизывал губы, будто после вкусного обеда.
Оба персонажа – и Беобахтер и Алексис Звонский – были новостью для русской словесности. Оба, хоть и описал их автор остря сатирически, были приверженцами социализма… Так неужто Михаил Евграфович Салтыков, в недавнем времени участник «пятниц» Петрашевского, отверг все, что приняли передовые умы? Ничуть! Только зло посмеялся Михаил Евграфович над теми, кто верил в возможность преобразовать русскую жизнь по схемам парижских брошюр. Так и родился в повести «Запутанное дело» кандидат философии Вольфганг Антоныч Беобахтер. Смешны автору и те, кто, уверовав в утопии, наивно думает примирить непримиримое одной любовью к человечеству.
В сущности, пришел автор «Запутанного дела» к тем же мыслям, что и Виссарион Белинский, когда писал, что все вопросы Россия должна решать у себя, для себя и по-своему. А борьбу с человеколюбцами, не отличающими зла от блага, начал Белинский еще тогда, когда восстал против яда прекраснодушия.
Разные сны снятся в повести Ивану Самойловичу Мичулииу, а может быть, вложены сюда собственные мысли автора «Запутанного дела» – пойди разберись!
Снится, например, Ивану Самойловичу, что он возвращается домой, где ждут его жена и сын. Женат он, конечно, на Наденьке Ручкиной. Но что это? Где прежняя ее грациозность? Почему впали глаза, высохла грудь? Сын просит у нее хлеба. А мать отвечает ему, как отвечала и вчера:
– Все поели голодные волки…
– Мама, когда же убьют голодных волков? – спрашивает сын.
– Скоро, скоро, дружок…
– Всех убьют, мама? Ни одного не останется?
– Всех, душенька, всех до единого!..
Хорошо еще, что в это время автор повести заставил своего героя проснуться.
Положение Ивана Самойловича было так плохо, что просто хоть в воду. Снова отправился он к нужному человеку, у которого несчетный раз просил места.
– Я бы не осмелился, – говорил он, заикаясь и робея, – да ведь посудите сами: последнее издержал. Есть нечего.
– Есть нечего! – возразил нужный человек, возвышая голос. – Да разве виноват я, что вам есть нечего? Богадельня у меня, что ли, что я должен с улицы подбирать всех оборвышей?.. Есть нечего,! Ведь как нахально говорит! Изволите видеть, я виноват, что ему есть хочется…
– Стыдно будет, если меня на улице поднимут, – тихо заметил Иван Самойлович.
Словом, неприятный был разговор, и даже не выдержал было Иван Самойлович, вдруг закричал на нужного человека: «Другим небось есть место, другие небось едят, другие пьют, а мне и места нет?..» – но тут же и омертвел от страха, руки у него опустились, колени подгибались.
– Не погубите, – говорил он уже шепотом. – Я один во всем виноват. Пощадите!
– Вон отсюда! – закричал нужный человек. – И если еще раз осмелитесь… Понимаете?
Автор «Запутанного дела» принадлежал, очевидно, к новой литературной школе, которая, по словам Виссариона Белинского, отказалась от бесстыдной лжи в искусстве, от всякого приукрашивания действительности, и которая все яснее видела свою дорогу. Далеко вперед шагнул по этой дороге Михаил Евграфович Салтыков.
Он по-прежнему служил в канцелярии военного министерства и по служебным своим занятиям знал, что с начала 1848 года в военном ведомстве шли чрезвычайные приготовления: готовился досрочный выпуск офицеров, войска продвигались к западным границам. Распоряжения русского правительства объяснялись кипением политических страстей во Франции. Чиновник Салтыков с жадностью ловил каждое известие из Парижа.
Повесть «Запутанное дело» шла своим чередом.
Однажды герой повести остановился у здания, залитого светом. Странная, искусительная мысль вдруг блеснула в голове его. Он вынул последний целковый и в одно мгновение очутился в театре, в пятом ярусе. В театре давали какую-то героическую оперу. На сцене волнуется и колышется толпа, и слышатся Ивану Самойловичу и выстрелы и звон сабель, и чуется ему дым. С судорожным вниманием следил он за представлением; он хочет сам бежать за этой толпой и понюхать заодно с нею порохового дыма…
Вовсе нет дела автору повести до того, что бедные люди, прочно занявшие главное место в произведениях натуральной школы, никогда еще не доходили до мыслей, от которых веет пороховым дымом.
А кончилось все куда как плохо для Ивана Самойловича – в полиции. Но попал он туда вовсе не за мысли, родившиеся в театре. Началось все с трактира, куда затащил его какой-то театральный любитель, который спрашивал, понравилась ли Ивану Самойловичу опера «с перчиком», и все предлагал соединиться в одни общие объятия. Новые знакомые пили в трактире много. А утром, когда очнулся Иван Самойлович, след простыл и от ночного приятеля и даже от легонькой шинелишки Мичулина. Остался только неоплаченный счет.
Жестокая действительность сызнова вступила в свои права. Мичулина обозвали шерамыгой и повели куда следует…
Когда несчастный вернулся в квартиру Шарлотты Готлибовны, горячка была у него в полном разгаре. Должно быть, уже в полном бреду очутился Иван Самойлович в совершенно неизвестном ему государстве в совершенно неизвестную эпоху, окруженный густым и непроницаемым туманом. Вглядываясь пристальнее, он вдруг увидел, что из тумана начинает отделяться правильная пирамида, составленная из людей, и в самом низу этого нагромождения увидел такого же Ивана Самойловича, как он сам…
Да откуда же появилась, хотя бы и в бреду, эта иносказательная пирамида? Ведь именно так изображал страждущее человеческое общество француз Сен-Симон. Вряд ли мог знать об этом Иван Самойлович Мичулин. Зато хорошо знал учение Сен-Симона Михаил Евграфович Салтыков. Он не верил в спасительную силу утопических рецептов. Но целиком разделял убийственную критику существующих на земле порядков, которой усердно занимались создатели утопических схем.
Пирамида, привидевшаяся в предсмертном бреду Ивану Самойловичу, была последним прозрачным намеком из тех, которыми насытил «Запутанное дело» автор.
Герой повести умер в горячке. Как полагается, Шарлотта Готлибовна пригласила полицейского чиновника.
– Скажите же, пожалуйста, господа, – обратился он к жильцам, – что бы это за причина такая, что вот-вот жил человек, да вдруг и умер?
– По мечтанию пошел, – объяснил Иван Макарыч Пережига. – Уж какую он в последнее время ахинею нес, так хоть святых вон понеси: и то не хорошо, и то дурно…
– Тс-с-с, скажите пожалуйста! – полицейский чин с упреком покачал головой…
Запутанное дело пришло к концу. А кто его распутает? Кто истребит ненасытных волков, которые явились в иносказательном сне героя повести? Этого не знает и сам автор «Запутанного дела». Но разве не приближают желанное время писатели, которые освобождают литературу от бесстыдной лжи?
…Получив отказ от Панаева напечатать повесть в «Современнике», Михаил Евграфович Салтыков передал «Запутанное дело» в «Отечественные записки», а сам ходил в канцелярию и по-прежнему числился первым аккуратистом среди молодых чиновников. В разговорах и с сослуживцами и со знакомыми он жадно ловил каждое известие из Франции. Что, если толпа, которая привиделась в театре герою «Запутанного дела», появится во Франции не в театре, а на исторической сцене, и перевернет, опрокинет пирамиду, изображенную Сен-Симоном?
Глава одиннадцатая
В Европе все чаще появляются переводы сочинений Гоголя. В Праге вышли: «Шинель», «Невский проспект», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Тарас Бульба». «Тарас Бульба» переведен и в Копенгагене. В Париже, где уже давно знают повести Гоголя, в журнале, издаваемом Жорж Санд, пишут о «Ревизоре» как о самом высоком драматическом создании, какое когда-либо являлось в русской литературе.
Но равнодушен ко всем отзывам о себе Гоголь. Он сделал все, что мог, чтобы отречься от своих созданий. Довольно и того, что пережил он год назад из-за «Переписки».
Николай Васильевич снова вернулся в Неаполь. Перед ним опять море и Везувий. Текут тихие дни. Мысли Гоголя отданы литературе, которая заняла почти всю его жизнь и где совершил он, по собственным словам, главные грехи.
Теперь истина вполне ему открылась: искусство есть примирение с жизнью! Только таким образом искусство выполнит свое назначение.
Николай Васильевич изложил свои мысли в письме к Жуковскому. В том же письме Гоголь призвал еще раз, что не его дело поучать проповедью. Его дело – говорить живыми образами, а не рассуждениями. Он должен выставлять жизнь лицом, а не трактовать о ней. Он будет продолжать «Мертвые души»! Он вернется к поэме, как только осуществит путешествие в Иерусалим. После обещаний, данных печатно в «Переписке», ему было бы стыдно это путешествие не совершить.
«А зачем я туда поеду?» – вдруг спрашивает себя Николай Васильевич. Все больше тоскует он о России и жаждет услышать русскую речь. Зачем же ехать в Иерусалим?
А сборы все-таки продолжаются. Гоголь усердно, но тщетно ищет попутчика в святую землю.
Душевные беседы с графом Александром Петровичем Толстым идут своим чередом, но рассеянно слушает Гоголь испытанного друга. Неотступно возвращается к нему все та же мысль: искусство есть примирение с жизнью! Все тот же заколдованный круг очерчивает себе великий художник.
А сам никак не может отказаться от жгучего интереса к молодым писателям, которые каждым своим произведением говорят о том, что цель искусства – не примирение, а преобразование жизни и, следовательно, борьба. Кажется, наибольший интерес проявляет Гоголь к Герцену. Правда, Николай Васильевич слышал, будто Герцен чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и будто потому он враг всякой русской старины и коренных обычаев. И все-таки в Рим, к знакомому художнику Иванову, пошел запрос о Герцене.
«Напишите мне, – просит Гоголь, – каким он показался вам, что он делает в Риме, что говорит об искусствах, и какого мнения о нынешнем политическом и гражданском состоянии Рима».
Герцен действительно перебирался из Парижа в Рим. И вопрос о том, что думает Герцен о политическом положении Рима, не был случаен.
Гоголь внимательно следил за событиями в стране, о которой когда-то писал в своем «Риме», что европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось итальянского народа и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования.
Все изменилось с тех пор в Италии. Освежительный вихорь свободы привлекает все новых и новых приверженцев. Вот почему понадобилось Гоголю мнение Герцена, сторонника «европейских прогрессов». Может быть, и у них, сторонников этого прогресса, есть часть правды? А может быть, еще раз с торжеством отвергнет Гоголь их скороспелые взгляды и выводы?
Но тут неожиданные события начались на глазах у него самого.
Едва наступил 1848 год, в Сицилии произошло всеобщее восстание против неаполитанского короля. Из Неаполя отправились в Сицилию войска. В самом Неаполе народ волновался. Чувствовалось смятение власти.
Началась та самая сумятица, которую издавна предсказывал Гоголь Европе. И где же разразилась буря? В тихом, завороженном солнцем Неаполе!
Может быть, и долго бы еще медлил со своим путешествием в Иерусалим Николай Васильевич, – теперь, спасаясь от бури, он поспешно отплыл из Неаполя. Он утвердился в мысли, что искусство есть примирение с жизнью, а жизнь снова являла ему столкновение непримиримых сил.
Гоголь добрался до Мальты. Новости из Неаполя идут за ним следом: дела короля совсем плохи. Мессина, Катания – все восстало. К горожанам Сицилии присоединились крестьяне. Улицы Палермо покрылись баррикадами. Королевские войска выброшены из Сицилии. Неаполитанский король вынужден дать отставку реакционным министрам, Король, атакуемый народом, готов согласиться на конституцию.
Гоголь задержался в Мальте. Он жаловался в письме даже Анне Михайловне Виельгорской, вовсе чуждой политики: из Неаполя смута и бестолковщины выгнали его раньше, чем он предполагал.
Гоголь почти бежал из Италии. А Герцен, удрученный несчастьями народа Франции, переехал из Парижа в Рим. Он видел, что буржуазия, стоящая у власти во Франции, не поступится ни одной из своих монополий и привилегий, потому что у нее одна религия: собственность. Правда, с глубокого дна поднимаются новые силы. Надежда у буржуазии одна – на невежество масс. Но ожесточение хищной буржуазии не могло не раскрыть глаза народу, особенно после того, как явились со своими учениями Сен-Симон, Фурье, Прудон. Эти деятели полны желания всеобщего блага. Увы, они не знают, как навести мосты в будущее.
Так закончил Герцен свои «Письма с улицы Мариньи» и с этими мыслями приехал в Италию. Ему казалось, что после Парижа он нравственно выздоровел, что у него обновились и вера и силы, и многие надежды снова воскресли.
Прежде Италию разъедал ядовитый рак папства. Теперь страна, разодранная на части, требует единства и свободы. И сейчас еще светскую власть в Риме держит в своих руках папа Пий IX. Но разве не чудо, если правитель-первосвященник объявляет политическую амнистию и тюрьмы папской области пустеют? Разве не чудо, что по улицам Рима идут вооруженные народные отряды? Кто бы мог поверить, что народ приветствует первосвященника, а в воздухе звучит клич: «Да здравствует свобода!» – и совсем уж неслыханное громогласное требование: «Долой иезуитов!»
Дряхлый Пий IX, на лице которого застыло одно выражение беспечной сытости, прежде чем решиться на реформу, тянет время, а потом отчаянно пугается и готов пятиться назад. Народ по-прежнему приветствовал перепуганного первосвященника: «Да здравствует Пий Девятый! – но каждый раз прибавлял: – И конституция и свобода!»
В Рим приходили потрясающие известия то из Милана, то из Сицилии, то из Неаполя. Когда неаполитанский король, потерпев поражение в восставшей Сицилии, скрепя сердце обещал и амнистию и конституцию, – в Риме вечером все окна осветились!
Александр Иванович Герцен упивался невиданным зрелищем пробуждения страны, еще вчера спавшей мертвым сном. Может быть, в этих чувствах, полных веры в будущее Италии, таились иллюзии. Может быть, народ казался единым в своих желаниях только потому, что в Италии не так еще отчетливо, как во Франции, определились противостоящие по интересам классы.
Приехав в Неаполь, откуда совсем недавно выехал Гоголь, Герцен сам видел, как народ бежал на площадь с криками: «Он подписал!» Речь шла о конституции, подписанной королем. И король, вышедший на дворцовый балкон без шляпы, низко кланялся народу. Тиран, трус и ханжа клялся в верности народу, но лицо его не предвещало ничего доброго.
А потом в Рим пришли новости еще более потрясающие. Восстание против владычества австрийцев вспыхнуло на севере Италии. Восстал Милан. Римляне посылали на север отряды добровольцев. В Риме был сброшен герб – ненавистная двуглавая птица – с дома австрийского посла. Началась война за свободу, за объединение Италии.
Как же было Герцену не жить одной жизнью со страной, которая была занята чужими солдатами, разорвана на клочья, связана по рукам и по ногам, которую казнила святая инквизиция за каждую вольную мысль и которая теперь воскресла для новой жизни?
В начале марта, в дни карнавала, в Рим пришли тревожные вести с севера. Австрийцы готовились подавить восстание, австрийцы наступали. И в этот же день знакомый Герцену редактор газеты принес новость совершенно фантастическую: в Париже строят баррикады, в Париже идут уличные схватки…
Ночью на маскараде в театре какой-то человек подал из ложи знак платком: он хочет говорить!
– Римляне! Сейчас получено известие, что парижане выгнали Людовика-Филиппа. Республика провозглашена!
– Да здравствует французская республика! Да здравствует свободная Франция! – в едином порыве отвечал театральный зал.
«Во сне все это происходит или наяву?» – Герцен все еще не мог поверить. Как могла произойти революция в Париже? Ведь Париж являл картину нравственного растления, пустоты и пошлости. Что же могло произвести взрыв? Еще накануне ни король, ни министры, ни оппозиция, ни люди, построившие первые баррикады, не предвидели, чем кончатся февральские дни. Хотели прогнать первого министра Гизо – прогнали короля; хотели провозгласить право банкетов – сделали революцию.
Французский король бежит из Парижа, сбрив бакенбарды и надев платье английского шкипера. Исчезают как дым министры. Палата депутатов, большинство которой неизменно вотировало доверие растленному правительству, в страхе ждет возмездия от народа.
Народ одержал полную молниеносную победу.
Герцен стремился в революционный Париж и не мог оторваться от событий, развертывающихся в Италии. Словно предчувствовал, что во Франции ждет его крушение надежд и мучительное, горькое разочарование.
Александр Иванович увидит революцию, потопленную в крови, и торжествующую буржуазию. Он потеряет веру в будущее и снова эту веру обретет. Став эмигрантом, которому закроют путь на родину, Александр Иванович скажет друзьям: «Прощайте навсегда!» Но придет время – и жадно будут внимать русские люди набатному звону герценовского «Колокола».
Глава двенадцатая
Тревогу, охватившую русские правительственные круги, как нельзя лучше отразил официальный редактор «Современника» профессор Никитенко. Он прямо заявил Некрасову и Панаеву: если в журнале будет продолжение годового обзора Белинского, то он, Никитенко, не пропустит ничего подобного тому, что было написано в первой статье о натуральной школе.
– Помилуйте, господа, это же чистая политика, – говорил Никитенко. – А времена, господа, сами знаете, какие. Пронеси, господь бог!
– Едем к Белинскому! – сразу же после этого разговора предложил Некрасов.
Белинский выслушал новости. Иван Иванович Панаев со своей стороны дополнил:
– В Петербурге все больше на Париж оглядываются, а там уже и первого министра Гизо гласно обвинили в том, что он покровительствует массовой продаже государственных должностей. В Париже назначен новый политический банкет. Ожидают зажигательных речей. Но, кажется, французское правительство намерено покончить с этими банкетами. – Панаев неожиданно рассмеялся:: – А посмотрели бы вы, Виссарион Григорьевич, на, Никитенко! Ей-богу, дрожит наш уважаемый редактор! Что же скажут другие цензоры?
Некрасов подтвердил:
– Создается из рук вон трудное положение. Будто бы еще и ничего не случилось во Франции, а «Современник» уже находится в осадном положении. Как возьмут нашу февральскую книжку да прочтут «Сороку-воровку», боюсь, двинутся с барабанами на нас в атаку. Одно утешение: читатели-то давно прочли повесть Герцена.
– А как идет подписка? – спрашивал Белинский.
– Отменно! Около трех тысяч подписчиков будем иметь, ручаюсь.
Но и это отрадное известие не могло отвлечь Белинского от напряженной думы.
– Если бы знать, что же происходит в Париже… – повторял он.
Известия из Франции приходили очень медленно. И, как на грех, приятели еще реже стали ездить на Лиговку. Боятся, что ли?
– Будьте милосердны, выпустите меня на улицу! – просил Виссарион Григорьевич доктора Тильмана. – Дайте возможность подышать воздухом, пусть хоть и в наморднике!
Белинский имел в виду хитроумный, но чертовски дорогой аппарат, который предписал доктор Тильман, – им следовало прикрывать рот при выездах. На все согласен Виссарион Григорьевич, только бы вырваться в город, только бы знать, что слышно из Франции. Но неумолим доктор Тильман.
– Никаких выездов! – говорит он. – В городе свирепствует грипп, весьма опасный для слабогрудых. – В утешение больному доктор каждый раз прибавляет: – Состояние ваших легких улучшается. Выезд на улицу может все испортить.
А какой там выезд! Виссарион Григорьевич едва двигается по комнате. Голова горит в огне, а тело содрогается от озноба. Слабость такая одолела, что он не может держать перо в руках. Но, черт возьми, он закончит свой обзор!
Начал было писать… Нет! Безудержно дрожит рука, а перо будто налито свинцом.
– Ты поможешь мне, Мари? – несмело говорит Виссарион Григорьевич.
– Охотно. В чем дело?
Белинскому трудно признаться в своей беспомощности. Он ссылается на боль в руке, конечно, временную. А ждать более нельзя, иначе статья не успеет в мартовский номер. Одним словом, он будет диктовать, а Мари пусть потрудится записать.
Мари ни о чем не расспрашивала. Очевидно, боль в руке, на которую жаловался Виссарион Григорьевич, так и не проходила. Мари делала вид, что твердо в это верит. Только уйдя к себе, она давала волю отчаянию; то подолгу разговаривала с Аграфеной, предвидя неотвратимое, может быть, уже недалекое будущее, то принималась ласкать дочь и часто-часто вытирала слезы. А потом появлялась в кабинете, спокойная, усердная, и, сев около кушетки, на которой лежал Белинский, продолжала писать под его диктовку.
Виссарион Григорьевич нашел способ сохранить весь политический смысл своего обзора. Нельзя писать о натуральной школе как о главном направлении словесности? Ну что же! Он займется отдельными произведениями, вышедшими в прошлом году. Он сравнивал роман Герцена «Кто виноват?» с «Обыкновенной историей» Гончарова.
– В чем сила Герцена? – спрашивал Белинский, обращаясь к читателям. – В мысли, глубоко прочувствованной, вполне осознанной и развитой. Главная его мысль о достоинстве человеческом, которое унижается предрассудками, невежеством, несправедливостью человека к своему ближнему. Эта мысль срослась с его талантом. Это страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом, и еще больше без умысла…
– Подожди, – просила Мари, – дай мне управиться.
– Беда, сколько тебе со мной хлопот, – отвечал со вздохом Белинский. – Ну, авось я тебе еще отслужу. Можно продолжать?.. У нас на Руси все бесчеловечно, – размышлял он вслух. – Вот и запиши, Мари, что автор романа «Кто виноват?» изображает преступления, не подлежащие ведомству законов и понимаемые большинством как действия разумные и нравственные. А читатели тотчас вспомнят о господах Негровых. Прибавим еще, что очерки Герцена основаны на врожденной наблюдательности и на изучении известной стороны нашей действительности. А эта известная сторона нашей действительности именуется гнусным крепостничеством… Нет, нет, этого не надо записывать, – остановил он Мари, приготовившуюся писать. – Мысль моя станет еще яснее читателю, когда перейдем к Гончарову.
Много пришлось записать Мари о романе Герцена. Часто, когда Виссариону Григорьевичу становилось совсем невмоготу, он хитрил:
– Повременим, Мари, ты и так устала!
Мари тоже научилась хитрить: в самом деле, ей неплохо бы отдохнуть.
– Теперь пиши, – сказал Виссарион Григорьевич, когда перешел к Гончарову, и стал диктовать:
– Он – поэт, художник и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю, он как будто думает: кто в беде, тот и в ответе, а мое дело сторона…
– Не понимаю, – удивилась Мари, – ты так хвалил раньше Гончарова…
– И теперь хвалю, и очень ценю его талант. Сейчас поймешь, в чем дело. Будь добра, пиши дальше: «Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта. А вот у Гончарова нет ничего, кроме таланта, он больше, чем кто-нибудь теперь, поэт-художник». – Виссарион Григорьевич приостановился и спросил у Мари: – Ну, поняла, что такое «нечто», чего нет у Гончарова? Идеи, Мари, плодоносной идеи, освещающей и направляющей художественное создание.
В этот день Виссариону Григорьевичу стало совсем плохо. Он лежал на кушетке, тщетно стараясь набрать в легкие побольше воздуха. Грудь его ходила ходуном, но он так и не мог справиться с удушьем. Тяжелая испарина покрывала лоб.
Мари бросилась к лекарствам. А мало ли этих лекарств, прописанных доктором Тильманом, было на ближнем столике!
Когда удушье наконец прошло, Виссарион Григорьевич с беспокойством взглянул на жену:
– Напугал я тебя, бедная Мари!.. Ну, дай вздремну… Ужо вечером продолжим.
Перерывы в работе становились все чаще. А он все-таки диктовал и диктовал свою статью.
Белинский не говорил больше об идеях и направлении писателей гоголевской школы. Но он с похвалой отозвался о самых замечательных из них. Так вошли в обзор и «Рассказы охотника» Тургенева, и «Антон Горемыка» Григоровича, и «Сорока-воровка» Герцена. Натуральная школа была представлена читателю во всей полноте.
Дело дошло до Достоевского. Надо было говорить о «Хозяйке». Приготовившись диктовать, Виссарион Григорьевич долго оставался в задумчивости. Потом начал решительно, с гневом и сарказмом. Он признавался, что так и не мог понять, что говорили друг другу герои повести, из-за чего так махали они руками, кривлялись, ломались, замирали, обмирали, приходили в чувство. Смысл повести так и останется тайной до тех пор, утверждал Белинский, пока автор не издаст необходимых пояснений и толкований на эту дивную загадку своей причудливой фантазии.
Мари записывала все нерешительнее. Наконец и вовсе остановилась.
– И это говоришь ты о Федоре Михайловиче?! – Мари была совершенно поражена. По-видимому, она не читала прежних статей мужа и не знала его сурового отзыва о «Двойнике». – Я отказываюсь понять тебя, – продолжала она. – Федор Михайлович не сделал тебе ничего плохого. А его заботы о нас в Ревеле? Или ты все забыл? Неблагодарный!
– Счастье мое, – отвечал Белинский, – что ты не состоишь, Мари, в цензурном комитете. Плохо бы мне пришлось… Но если ты великодушно взяла на себя скромные обязанности писца, сделай милость, запиши дальше о «Хозяйке».
– Что это такое? – диктовал Белинский. – Злоупотребление или бедность таланта, который хочет подняться не по силам и потому боится идти обыкновенным путем и ищет себе какой-то небывалой дороги?
Мари записывала, всем видом являя полное несогласие с тем, что она пишет.
– У нас с ним счеты, – сказал не столько для Мари, сколько самому себе Виссарион Григорьевич. – Большие счеты! Сохрани бог, если обманет надежды Достоевский! И какие надежды!
После ухода Мари он проглядывал ее записи. Долго, тревожно думал о Достоевском… Решительно ничего не понимает Мари!.. А что бы он делал без нее сейчас? Добрая, усердная Мари! Мужественно скрывает она свои страхи… А если и в самом деле уходит жизнь?
В кабинете стояла давящая тишина. Хоть бы кто-нибудь приехал да рассказал, о чем говорят в Петербурге? Что происходит во Франции?
Только 20 февраля (по русскому календарю, отстававшему от европейского на двенадцать дней) в Петербурге впервые распространились уверенные слухи о низвержении во Франции королевской династии.
К Белинскому заехал Михаил Александрович Языков и стал рассказывать сбивчиво, торопливо.
– Черт его знает, что будет теперь во Франции, – говорил он. – Ты понимаешь, Виссарион Григорьевич, баррикады и пушки! Все смело́, всю власть… Ну, а коли снова повернет дело к Робеспьеру? Когда-то ты его славил. Помнишь?
Белинский привстал с кушетки.
– Да как же… как же так? – говорил он, потрясенный. – Давно ли я сам был в Париже и воочию видел всю мерзость тамошнего правительства! Но хоть бы кто-нибудь обмолвился о возможности, о близости революции!.. Как же это так?.. – Он снова сел, совершенно обессиленный. Дыхание рвалось из груди с резким свистом.
Михаил Александрович Языков, разумеется, ничего не мог объяснить. Был он встревожен и заметно торопился. Словно в грозный день, когда всполошился весь Петербург, опасался Михаил Александрович задержаться у давнего приятеля, еще в прежние годы призывавшего революцию в Россию.
Марья Васильевна застала Белинского расхаживающим по кабинету. Правда, его заметно пошатывало от слабости.
– Ляг, немедленно ляг! – сказала Мари и, взяв мужа под руку, бережно повела к кушетке.
– Ты можешь понять, Мари? Клянусь, я сам не понимаю… нет, понимаю, да боюсь поверить. Может быть, в Париже совершаются заветные чаяния человечества. А мы?..
Марья Васильевна усадила его на кушетку.
– Успокойся, – повторяла она. – Ты погубишь себя, если будешь волноваться!
А он все говорил и говорил, только припадки надрывного кашля могли прервать его речь.
Виссарион Григорьевич очень томился от мысли, что никто не едет к нему с подтверждением известий, принесенных Языковым. Едва ушла Мари, он подошел к окну и стал прислушиваться, словно ждал, что на петербургской улице соберутся толпы людей, чтобы приветствовать революционную Францию.
Резкий звонок, раздавшийся в передней, заставил его вздрогнуть. Хотел пойти навстречу долгожданному посетителю, но закружилась голова. Кое-как добрался до ближайшего кресла и сел, устремив нетерпеливый взгляд на дверь.
В кабинет вошла смущенная Мари с пакетом в руках. На пакете была отчетливо видна казенная печать.
– Принес какой-то солдат, – сказала Мари. – Он ждет ответа.
Белинский поспешно вскрыл пакет. Вот оно, первое российское известие, адресованное ему по случаю французской революции! В бумаге из Третьего отделения значилось, что генерал-лейтенант Дубельт желает лично познакомиться с господином Белинским, а потому и надлежит ему, Белинскому, пожаловать в Третье отделение в свой свободный день, между двенадцатью и двумя часами дня.
Виссарион Григорьевич отбросил бумагу.
– Может быть, они уже и пушки Петропавловской крепости направили на меня, многогрешного. – Хотел смеяться, а из груди вырвался только глухой хрип.
– Солдат ждет ответа, – напомнила Мари.
– Не солдат, а жандарм, Мари! Слава богу, хоть солдат-то еще не привлекают у нас к политическому сыску!
– Говори тише!
Марья Васильевна с отчаянием смотрела на бумагу, только что прочитанную Белинским. Со дня замужества постоянно слышала она разговоры об этом таинственном Третьем отделении. Сколько раз думала об опасности, которой подвергается ее муж, готовый лезть на рожон. Теперь опасность зримо вошла в дом.
– Продиктуй мне ответ, – сказала Марья Васильевна.
– Э нет, Мари! Будем соблюдать порядок делопроизводства. Нужен собственноручный ответ.
Виссарион Григорьевич еще раз взглянул на зловещую бумагу. Она была подписана старшим чиновником Третьего отделения для особых поручений, Поповым. По иронии судьбы, это был прежний учитель Белинского по пензенской гимназии, который благосклонно отличал его среди других учеников. Вот какую карьеру сделал провинциальный педагог!
Однако надо было ответить на приглашение Третьего отделения. Белинский сослался на болезнь, которую может засвидетельствовать главный врач Петропавловской больницы Тильман. Он обещал явиться в Третье отделение, как только позволит здоровье.
– Мне нет нужды спешить свести личное знакомство с его превосходительством генералом Дубельтом, – сказал Виссарион Григорьевич, закончив краткое письмо. – Отдай жандарму, Мари!
Глава тринадцатая
Вызов в Третье отделение сильно озабочивал Белинского. Если зовут в первый же день, когда стало известно в Петербурге о французской революции, что же будет дальше?
А случилось вот что: еще в начале февраля в Третье отделение поступил анонимный донос. Если сам Белинский, сообщал аноним, даже и не имеет в виду ни политики, ни коммунизма, то в молодом поколении он легко может посеять мысли о политических вопросах Запада.
По этому доносу и сработала государственно-сыскная машина, только с непривычной, пожалуй, быстротой.
Но сигнал был настолько серьезен, что Белинскому нужно было принять меры.
На следующий день он вел долгий разговор с Некрасовым. Никаких новых известий о Франции Николай Алексеевич не имел. Он рассказывал, что по Петербургу носятся слухи о чрезвычайных мерах, которые намеревается осуществить русское правительство. Потом они разбирали накопившиеся у Виссариона Григорьевича бумаги и письма. Некрасов бросал отобранное в затопленную печь. Виссарион Григорьевич задумчиво смотрел на разгорающееся пламя. Достал из-под спуда свою переписку с Гоголем. Как с ней быть?
– Отдайте мне, – предложил Некрасов, – я сумею сберечь.
– Нет, – твердо отвечал Белинский, – если пойдут по моему следу, то непременно и к вам пожалуют. А сжечь – руки не поднимаются. Давайте запрячем понадежнее. Авось еще прочитают когда-нибудь люди.
Некрасов унес с собой окончание обзора Белинского и поехал прямо в типографию.
Петербург будто замер в тревожном ожидании.
Через несколько дней в «Северной пчеле» появилась первая информация о парижских «происшествиях». Император Николай I объявил на придворном балу о провозглашении во Франции республики. Со дня на день должен был появиться высочайший манифест: Россия готова выступить на борьбу с мятежом и безначалием.
Срочные внутренние меры были приняты царём по докладу шефа жандармов. Шеф жандармов всеподданнейше предлагал установить строжайший надзор не только за печатью, но и за самой цензурой. В пример особо опасной деятельности журналистов был приведен Белинский.
Как можно, в самом деле, доверять цензуре, если она только что пропустила иллюстрированный альманах, предназначенный для подписчиков «Современника»? В альманахе красовалась такая картинка: стоит Виссарион Белинский и недоуменно рассматривает журнальную книжку. Под картинкой подпись: «Своей собственной статьи не узнаю в печати».
Высшая полиция не допустила распространения альманаха даже после разрешения цензуры. В этом же альманахе погиб и первый роман Авдотьи Панаевой «Семейство Тальниковых».
– Передайте Авдотье Яковлевне мое сочувствие, – говорил Некрасову Белинский. – «Современнику» убыток, большой, конечно, убыток, понимаю, очень хорошо понимаю! А ей-то, голубушке, первое крещение… И в какое время!
Словно бы для характеристики начавшегося лихолетия Некрасов рассказывал об учреждении особого комитета для надзора над цензурой и повременной печатью.
– Уж и цензуре не верят, – откликнулся Белинский. – Своя своих не познаша! Кромешная тьма!
– Говорят, – продолжал Некрасов, – что комитет намерен произвести проверку всех изданий и определить кары за всякое вольномыслие. Все действия комитета покрыты тайной. Никого туда не вызывают, никого ни о чем не спрашивают. А в ожидании даже благонамеренные люди цепенеют… Кстати, Виссарион Григорьевич, Краевский совсем лишился сна. Готов сам на себя донести, но вот беда: не знает, как добраться до таинственного комитета.
– А ему-то чего бояться? – удивился Белинский.
– Голову готов себе снять за то, что напечатал в мартовском номере «Запутанное дело». Не читали еще?
– Очень мне недужится, Николай Алексеевич! – вырвалось у Белинского. – А доктор утешает: по весне, мол, обычное дело у чахоточных. Но кто не знает – чем человек ближе к смерти, тем доктора отчаяннее ему врут!
И перевел разговор на Францию:
– Спасибо, хоть Анненков прислал с оказией письмо родным и просил показать письмо мне… Да ведь как Павла Васильевича понимать? Уж очень он блузников боится. Все ему мерещится, что погибнет от революции культура. Известно, наши господа либералы однобоко смотрят.
Белинского тревожило другое.
– Сомнительны многие действия временного правительства, – говорил он. – И республику объявили сквозь зубы, под давлением народной демонстрации. А спор о государственном флаге? Как испугались требования красного знамени, выдвинутого снизу! Согласились кое-как прикрепить к древку красную розетку, да и ту при первом случае снимут. Не меньше, чем наш Анненков, своих блузников боятся. Только то и хорошо, что вихрь свободы, вырвавшийся из Франции, реет по всей Европе!..
В этом была главная надежда и утешение для всех друзей французской революции.
Волнения начались в разных княжествах Германии. В Берлине улицы покрылись баррикадами. Через несколько дней революционные события всколыхнули Австрию. Восстали против прусского владычества поляки в Познани. Революция захватила Прагу, Будапешт… Революционный вихрь потрясал Европу.
Еще в то время, когда только начинались революционные события во Франции, в Лондоне был напечатан «Манифест коммунистической партии». На историческую сцену вышла революционная философия, которая, овладев сознанием масс, станет несокрушимой материальной силой. Научная социалистическая мысль указывала путь к революционной перестройке мира и обращалась к тем, кто призван освободить человечество от ига капитала:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Пролетариат уже сражался на баррикадах. Пусть еще далека была победа. Но и от первых ударов сотрясался старый, обреченный мир.
Только в России царская столица превратилась в вооруженную казарму. Город наводнили полиция и тайные шпионы. Казалось, ни единое дыхание жизни не может проявиться в императорской резиденции.
– Закрыть и «Отечественные записки» и «Современник»! – взывал Булгарин к Третьему отделению. – Дать острастку всей шайке коммунистской! Иначе не истребить чуму в литературе!
Ясное дело, что на первом месте в «шайке коммунистской» был поставлен Виссарион Белинский.
А в Коломне, как ни в чем не бывало, продолжались «пятницы» у Петрашевского. Только все отчетливее определялась воля наиболее решительных членов кружка перейти от слов к действию. В недрах политического клуба зрела мысль о революционном обществе. Разумеется, этот вопрос обсуждался не на «пятницах», а на узких собраниях единомышленников.
В тревогах и слухах летели дни. В Третье отделение пришло письмо с грозными предсказаниями насчет будущего России. Третье отделение запросило консультации у Булгарина: кто бы мог быть автором этого возмутительного письма? Фаддей Венедиктович не задумываясь объявил:
– Не кто другой, как Белинский или Некрасов! Сверьте почерки.
И снова раздался резкий звонок в передней у Белинского. Снова вошла в кабинет растерянная Мари с казенным пакетом. Любезно, но настойчиво приглашают Белинского посетить Третье отделение.
Белинский понимал всю серьезность вторичного вызова. Но, видя крайнее волнение Мари, попробовал отшутиться:
– Боюсь, что его превосходительство генерал Дубельт, вместо того чтобы узнать, что я за человек, услышит только, как я кашляю до рвоты…
Опять надо было отвечать, ссылаться на чахотку, на доктора Тильмана и просить отсрочки встречи с Дубельтом до улучшения здоровья.
Самое удивительное было то, что в Третьем отделении не оказалось первого письма Белинского. Должно быть, просто затеряли. Теперь руку Белинского сверили с почерком автора возмутительного письма. Никакого сходства. Опять наврал подлец Булгарин!
Ответ Белинского подшили к делу. Дело лежало под рукой – для возможной надобности. А как же такой надобности не быть?
Можно было подумать, что все петербургские учреждения только и занимались Виссарионом Белинским. Цензурный комитет прислал запрос: кто писал в «Современнике» обзор русской литературы за 1847 год? Никитенко, как официальный редактор «Современника», ответил: писал Виссарион Белинский.
Даже таинственный комитет, назначенный императором, обратил особое внимание на толкование слова «прогресс» автором обзора, помещённого в «Современнике». А тут уж и вовсе не приходилось ждать ничего доброго.
Только доктор Тильман, явившись на Лиговку к своему давнему пациенту, с подозрительным одушевлением повторял:
– Летом все будет хорошо! А лета долго ли ждать?
И опять кое в чем уклонялся от истины сострадательный медик. К Петербургу только еще издали робко присматривалась весна. В мрачной тишине, объявшей столицу императора Николая I, едва-едва звенела мартовская капель.
Глава четырнадцатая
Шум поднялся вокруг «Запутанного дела». Правда, даже особый комитет по печати и цензуре, назначенный императором, проглядел было повесть Салтыкова. Вмешалось Третье отделение. Комитеты учреждаются и распускаются, а ему, Третьему отделению, стоять на страже бессменно! Дальновидный чиновник Третьего отделения доложил комитету, куда клонит автор «Запутанного дела». Гордый своей проницательностью, он то и дело повторял:
– И это в то время, когда анархия и безначалие губят Европу! Когда вместо тронов воздвигаются баррикады!..
Струхнули даже сановные члены чрезвычайного комитета: чуть было не попали впросак! Повесть Салтыкова заняла важнейшее место в докладе императору.
Комитет рекомендовал многие меры к охране порядка. Намечалось главным образом расширение прав цензуры. Высокопоставленные члены комитета с особой охотой рекомендовали во всех случаях одно всемогущее средство: запрещать, запрещать и запрещать!
«Запутанное дело» запрещать было уже поздно. Комитет вопиял о возмездии автору.
Император прочитал доклад комитета с полным сочувствием. Насчет запретов уже были даны им распоряжения по всем ведомствам. Прежде всего – прекратить всякие разговоры об улучшении быта крестьян! Если будет надежна цензура, можно добиться в России благонамеренного безмолвия.
На полях доклада около «Запутанного дела» император провел резкую черту. Во время приема военного министра Николай Павлович окинул верного слугу холодным взглядом оловянных глаз и неожиданно спросил:
– А знаешь ли ты, чем занимаются чиновники твоей канцелярии?
Военный министр ничего не знал. Когда же навел справки и выяснил, что его величество изволил говорить о ничтожном чиновнике Салтыкове, то долго, не помня себя, кричал:
– В солдаты его! На Кавказ! К черту на рога!..
Кончилось же дело Михаила Салтыкова высочайшей резолюцией: сослать на службу в Вятку «за вредное направление и стремление к распространению революционных идей, потрясших уже всю Европу».
Прямо с гауптвахты, где сидел автор «Запутанного дела», и отправился он в сопровождении жандармского офицера в дальний путь.
Неизвестно, почему верил император в особую воспитательную силу вятского захолустья. Александр Герцен вернулся оттуда с мыслями о философии, которая должна смести все застенки на земле. Михаилу Евграфовичу Салтыкову суждено вернуться из Вятки автором крамольных «Губернских очерков».
Возок с государственным преступником промчался через Шлиссельбург. Шлиссельбургская крепость была последним ему напутствием и предостережением.
Страшно было не это исчезновение из Петербурга молодого человека, опрометчиво занявшегося литературой. Страшно было всеобщее ожидание чрезвычайных кар.
От редакторов «Отечественных записок» и «Современника» по высочайшему повелению были отобраны подписки в том, что под страхом наистрожайшего взыскания, как за государственное преступление, они обязуются не допускать в своих изданиях мыслей, могущих поселить правила коммунизма, неуважения к вековым и священным учреждениям, повредить народной нравственности.
Андрей Александрович Краевский, явившийся для дачи подписки, чистосердечно каялся насчет «Запутанного дела», а в заслугу себе ставил то немаловажное обстоятельство, что он давно освободил журнал от вредного влияния небезызвестного литератора Белинского.
Редактор «Современника» профессор Никитенко до того перепугался, что тотчас же решил порвать все связи с журналом, и даже объявил в газетах.
По повелению императора был учрежден новый секретный комитет для высшего надзора в нравственном и политическом отношении за духом и направлением печати. Тайные доносы и шпионы наводили ужас. Каждый прикосновенный к литературе или к журналам мог ждать ночного визита.
В эти же смутные дни редактором «Современника» был утвержден Иван Иванович Панаев.
– Не ожидал, никак не ожидал такого благосклонного доверия к нашему ходатайству, – говорил Некрасову Иван Иванович, отчасти даже польщенный. Назначение редактором, очевидно, выводило его из числа литераторов, особо подозреваемых в неблагонадежности. – Я всегда буду считать своей заслугой, – продолжал Иван Иванович, – что отвел от «Современника» «Запутанное дело». Не так ли, Николай Алексеевич?
Некрасов был мрачен: цензура чуралась всякой представленной редакцией «Современника» статьи, никак нельзя было собрать очередную книжку.
В первые же дни новому редактору «Современника» пришлось отвечать на требование цензурного комитета – указать поименно всех сотрудников. Внеся в список Белинского, Иван Иванович сделал примечание: по тяжелой и неизлечимой болезни ныне он вовсе не участвует в «Современнике».
Белинский умирал.
Если выдавался погожий день, Виссариона Григорьевича под руки сводили с лестницы и усаживали во дворе, под чахлым деревцем. Он сидел здесь часами, понурив голову и почти без движения. Все усилия его сводились к тому, чтобы набрать побольше воздуха и хоть раз вздохнуть полной грудью. Воздуха никогда не хватало… Виссарион Григорьевич поглядывал на слабосильные деревья, кое-как отвоевавшие себе жизнь на петербургских задворках. Должно быть, и деревья тоже томились и тосковали о воздушном просторе.
Едва начинался ветер или захожая тучка нависала над Лиговкой, к больному поспешно спускалась Мари. Она уводила мужа в дом и укладывала его, ловко подложив под голову взбитую подушку.
– Спасибо, Мари, – привычно говорил Виссарион Григорьевич, только уже не прибавлял: «Авось и я тебе отслужу».
– Идет лето, ты начнешь поправляться, – повторяла Мари; только, может быть, она говорила об этом слишком часто, добрая Мари.
…Виссарион Григорьевич хорошо знал, что деньги, которые привозит Некрасов из кассы «Современника», исчезают, как вода, вылитая в песок. Да и немного было этих денег. Запрет иллюстрированного альманаха крепко ударил по «Современнику» рублем. А расходы по журналу были особенно велики с начала года. Некрасов всячески изворачивался, чтобы вырвать для Белинского как можно больше денег. Виссарион Григорьевич еще больше мучился от сознания, что уже ничем не может помочь «Современнику».
Может быть, Мари была плохой хозяйкой. Может быть, не умела считать денег. Но она ничего не жалела для больного. И боролась, как умела, с надвигающейся нищетой.
Как-то Виссарион Григорьевич невзначай попросил дать ему свежую рубашку. Мари растерялась.
– Прачка не приготовила белья к сроку… – лепетала она. Истина же заключалась в том, что прекрасные рубашки из голландского полотна, которые дюжинами сшил себе Виссарион Григорьевич во время путешествий, были проданы по крайней нужде. Остались лишь две-три перемены.
– Обойдусь, – сказал он, – нечего потакать моим капризам.
Мари тихо сидела около кушетки, пока больной не заснул. Он спал долго и тяжело. Когда проснулся, в кабинет вошла Мари с рубашкой, сверкающей чистотой.
– Вот и напрасно ты корила прачку, Мари! – Казалось, Виссарион Григорьевич не обратил внимания на ее руки, красные и распухшие от стирки. – Присядь, отдохни!
Ему трудно говорить. Может быть, поэтому он не говорит Мари о несвершенных замыслах, об истории русской литературы, которую собирался написать, о капитальных статьях о Лермонтове и о Гоголе, которые обещал читателям… Да разве перечтешь все, что замыслил и не исполнил! А глянет Виссарион Григорьевич на Мари – нет ей нужды о том знать…
Медленно тянутся часы. Если бы хоть раз, один только раз, вздохнуть свободно!..
Иван Иванович Панаев застал Белинского подле дома, на скамейке под деревом, едва покрытым первой листвой. Начал было Иван Иванович с утешительных слов, какие попались на язык.
– Полноте говорить вздор! – перебил Белинский.
По счастью, у Ивана Ивановича была в запасе важная новость: Гоголь в России!
Белинский поднял голову. Слушал рассказ Панаева о том, что Гоголь, спутешествовав в Иерусалим, вернулся морем в Одессу, где и попал в карантин по случаю холеры. А друзья москвитяне ждут не дождутся его в Белокаменной. Их-де полку прибыло!
– Пустое! – сказал Белинский. – Вовсе забудется его злосчастная «Переписка», а «Мертвые души» останутся России навечно.
Внезапно у него поднялось удушье.
– Жену!.. Позовите!..
Доктор Тильман, заехав вечером, сказал Марье Васильевне, что не может поручиться и за завтрашний день.
А смерть все еще не могла одолеть могучую натуру Виссариона Белинского. Кто бы ни заехал на Лиговку, к каждому обращал он нетерпеливый вопрос: нет ли новых верных известий из Франции?
И все чаще впадал в сон, похожий на забытье. Он видел себя в Париже, на улице Мариньи, и спрашивал:
– Что же будет, Герцен? – Потом просыпался и, медленно возвращаясь к действительности, говорил так тихо, что Мари едва могла разобрать: – Тревожно Герцену, ох как тревожно!.. А куда пропал Тургенев?..
Марья Васильевна думала, что начался предсмертный бред. Подала микстуру. Микстура расплескалась и пролилась.
– Переменить тебе рубашку? – спросила Мари.
Белинский посмотрел на нее долгим взглядом. Едва заметная усмешка тронула его губы.
– Разве и без того мало тебе хлопот? Насчет прачки-то я, милая, пожалуй, тоже кое-что знаю… – И опять закрыл глаза. – Воздуха, воздуха! – стонал он. – Открой окно, Мари! Скорее!..
Окна были давно открыты, легкий ветер шелестел бумагами на письменном столе.
Вешний месяц май шел не торопясь по улицам Петербурга. Да и маю здесь одна маета! Пылью покрылась едва распустившаяся на деревьях листва. Пылью пропитан воздух. Брызнет кое-как дождь, а пыль снова поднимается тучами с булыжных мостовых.
…Во дворе дома коллежского советника Галченкова, что стоит на Лиговке, против Кузнечного моста, опустела скамейка, предназначенная для отдохновения жильцов, Снимая здесь квартиру, Виссарион Григорьевич Белинский даже радовался: в крайнем случае, сойдет за дачу! Теперь он не только не спускался во двор, но не мог и приподняться с постели.
Двадцать четвертого мая у него начался непрерывный бред. Он не слыхал и не видел, какого гостя принимала в гостиной Марья Васильевна.
– По распоряжению его превосходительства генерал-лейтенанта Дубельта… – начал бравый жандармский офицер, щелкнув шпорами.
– Он умирает, – Марья Васильевна показала рукой на двери кабинета. – Надобно ли вам его тревожить?
Она говорила твердо, и глаза ее были сухи. Постояла в гостиной, пока не закрылась выходная дверь.
Белинский был по-прежнему в бреду.
Долго ждал в кабинете приезжий из Москвы, прислушиваясь к хрипам, раздиравшим грудь больного. Виссарион Григорьевич вдруг открыл глаза.
– Грановский?! Вот, брат, умираю…
Потом, отдыхая после каждого слова, просил подать ему спрятанные бумаги.
– Там, там возьми, за обоями, – говорил он, указывая рукой на заднюю стену кабинета.
Тимофей Грановский, потрясенный до слез, подумал, что Белинский бредит. А Виссарион Григорьевич волновался, что его не понимают. Наконец Грановский понял. Достал из тайника тщательно сложенные листы. В руках у него было письмо Белинского к Гоголю, о котором давно дошел слух до москвичей.
– Вот, вот! – обрадованно говорил Белинский. – Увези подальше от царских ищеек. Они, брат, не будут медлить…
Следующие слова Грановский уже не мог разобрать.
К ночи бред больного стал еще тревожнее. Марья Васильевна, передав дочь на попечение Аграфены, ни на минуту не покидала кабинет.
В мае рано заглядывает в окна рассвет, коротки белые ночи. А время, казалось, остановилось для Мари.
Виссарион Григорьевич вдруг быстро, рывком поднялся. В глазах прежний огонь, свободно льется речь. Не в своем кабинете, не на смертном одре видит себя Белинский. Он говорит долго, со всей страстью, а потом обращается к жене:
– Пожалуйста, запомни, Мари, это очень, очень важно! – И снова льется его речь, обращенная к людям. – Ты все понимаешь, Мари? Все запомнишь?
Мари плохо понимала.
Какая-то скорбная мысль прерывает его речь:
– Ох, Мари, Мари!..
Белинский затих. Марья Васильевна бережно его уложила. Держала его руку в своей руке. Рука стала холодеть… Было около пяти часов утра, 26 мая 1848 года.
В наступившей тишине слышен был грохот первых ломовых подвод, доносившийся с Лиговки. Марья Васильевна встала, закрыла окно и снова села подле кушетки.
…В детской проснулась Ольга Виссарионовна и не обнаружила тетки. Тогда девчурка смекнула: можно самой двинуться по запретному пути. Она набрала полные руки игрушек и, шлепая босыми ножонками, отправилась в отцовский кабинет.
– Висален Глиголич! – тихо, опасаясь погони, позвала она у заветной двери.
Отец не откликался. Из кабинета быстро вышла Аграфена и увела девочку обратно в детскую.
…Когда с Лиговки на Волково кладбище двинулась похоронная процессия, среди немногих друзей оказалось несколько «неизвестных».
В газетах появились короткие извещения о смерти литератора Белинского. Таким же коротким извещением ограничился и «Современник»: имя Белинского стало запретным.
В безмолвии, объявшем Россию, казалось, замолк и голос Виссариона Белинского.
А люди читали и перечитывали его статьи, разыскивали их в старых журналах. В столице и в дальнем захолустье изо дня в день откликалась его мысль. Неистовый и непримиримый, он жил в каждом своем слове. Он пророчески предрек врагам:
– Вам – ложь, нам – истина!.. Впереди идущие видят будущее.





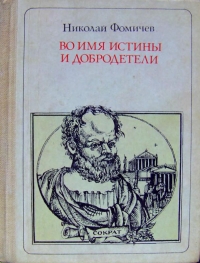
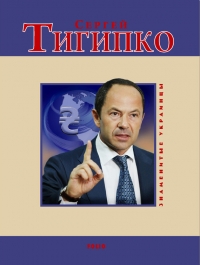
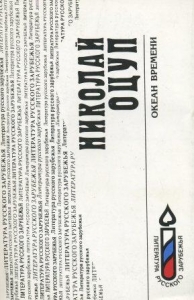



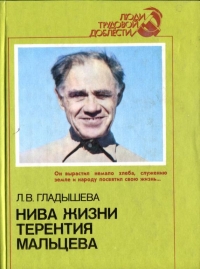
Комментарии к книге «Впереди идущие», Алексей Никандрович Новиков
Всего 0 комментариев