Роман
Автобиографическая книга Романа Поланского, рассказывающей о его жизни от первого лица. Этот текст публиковался в журнале "Искусство кино" с №6 по №12 за 1996 г. Он представляет собой перевод фрагментов из книги: Polanski R. Roman. NY, 1984. Автор перевода - Мария Теракопян.
Роман Поланский
ГЛАВА 1
Сколько помню, для меня никогда не существовало четких границ между действительностью и фантазией. Мне потребовалась прожить значительную часть жизни, чтобы понять: здесь-то и кроется ключ к моей судьбе. Именно потому на мою долю выпало больше, чем другим, переживаний и размолвок, несчастий и разочарований. Но потому же передо мной открылись двери, которые иначе навсегда оставались бы запертыми.
Мне, маленькому мальчику, выросшему в коммунистической Польше, мир искусства, поэзии, воображения всегда казался реальнее окружавшей меня удушливой атмосферы. Я рано понял, что не похож на остальных: я жил в собственном воображаемом мире.
Стоило мне увидеть велогонки в Кракове, как я уже воображал себя чемпионом. Стоило пойти в кино, как тут же видел себя звездой, а то и режиссером, стоящим за камерой. Оказавшись на хорошем спектакле в театре, я не сомневался, что рано или поздно сам выйду на варшавскую или московскую сцену, а может — почему бы и нет? — и на сцену Парижа, этой далекой романтической культурной столицы мира. Каждый ребенок когда-то мечтает о чем-то подобном. Но, в отличие от большинства, которое вскоре смиряется с тем, что не смогло достичь желаемого, я никогда ни секунды не сомневался, что мои мечты сбудутся. Как наивный простак, я был убежден, что это не только возможно, но и неизбежно.
Родные и друзья, частенько посмеивавшиеся над моими дикими фантазиями, смотрели на меня, как на клоуна. Я не обижался, потому что мне нравилось развлекать и веселить других.
[...] Человек никогда не воспринимает мир так ясно и непосредственно, как в детстве.
Мои первые воспоминания относятся к четырехлетнему возрасту, когда я жил в Кракове на улице Коморовского. Над каждой дверью красовалось вырезанное из камня животное в стиле art nouveau — слон, бизон, еж. Дом номер 9 был украшен уродливым гибридом — это был наполовину дракон, наполовину орел. Дом построили совсем недавно, и от него еще пахло свежей краской.
На четвертом этаже были две квартиры. Наша, справа, небольшая, но солнечная, в современном стиле, если не считать традиционных отделанных изразцами печек. Окна двух комнат выходили на тихую улицу Коморовского, где жили люди среднего достатка. С обратной стороны здания располагался шумный рынок. В те дни крестьянки все еще приходили к дверям с маслом и яйцами, и исходивший от них деревенский запах смешивался с ароматом свежего хлеба, который доставляли мальчишки-разносчики.
Моя мать обожала порядок. Все у нас сияло чистотой. Беспорядок царил лишь в кладовке, расположенной в боковой стене балкона, где мы хранили всякие ненужные вещи, включая одно таинственное приспособление. Отец говорил, что с его помощью он всегда может узнать, когда я вру. Поскольку я и сам наполовину верил в возможность существования подобного устройства, мне не давало покоя то, что оно есть и у нас. Домашний детектор лжи приводился в действие всякий раз, как возникали подозрения, что я лгу. Только много позже я понял, что это был сломанный ночник необычной формы.
Хотя богатым моего отца назвать было нельзя, я ни в чем не нуждался. И все же я был капризным малышом. Может быть, меня сердили длинные светлые волосы, из-за которых взрослые принимали меня за девчонку. А может быть, это была реакция на то, что надо мной посмеивались, передразнивая мое французское произношение звука «р». Я родился в Париже, как раз когда Гитлер пришел к власти, и в первые три года жизни, о которых ничего не помню, приобрел французский акцент. И еще у меня было необычное имя. Стремясь назвать сына на французский манер, родители зарегистрировали меня под именем Реймон, ошибочно приняв его за эквивалент польского имени Роман. К несчастью, простой поляк не в состояние произнести Реймон. Меня бесило и раздражало это иноземное имя, и все, кроме обожавших меня родителей и ехидных одноклассников, называли меня либо Роман, либо уменьшительно Ромек.
Мне все хотелось делать по-своему. Позже отец рассказывал, что я приходил в бешенство, если в метро на эскалаторе он брал меня за руку. Я топал ногами и багровел от злобы. То же самое происходило, если он пытался отнять у меня свой бесценный фотоаппарат, который я возил за веревочку как игрушечный автомобиль.
Я легко обижался. На мой день рождения 18 августа, когда мне исполнилось пять, тетя Теофила подарила мне бесподобную малиновую пожарную машину с резиновыми шинами, выдвигающимися лестницами и пожарными, которых можно было вынимать. Когда мои родители и их друзья — а торжество устраивалось скорее для них, чем для меня, — увлеклись разговором, я остался без внимания и решил получше рассмотреть подарок. Достав всю команду, я попробовал снять с сиденья водителя. Миниатюрная фигурка сломалась у меня в руке. В ужасе я спрятал обломки в ближайшей печке. Когда взрослые, наконец, вновь обратили на меня внимание, то заметили, что из пожарной машины исчез водитель. Я сделал вид, что ни при чем, но мать нашла пропажу. Снисходительный смех взрослых был куда обиднее любого выговора.
Все эти довольно бессвязные воспоминания замечательны своей ясностью и четкостью. Детский мозг, лишенный предвзятости, впитывает впечатления беспорядочно и эклектично.
Отец часто по мелочам обижал меня, но никогда не бил, даже когда я нарушил единственный существовавший в доме запрет: дотрагиваться до массивной пишущей машинки Underwood, на которой он с потрясающей скоростью печатал деловые письма. Мне разрешалось стоять рядом и наблюдать, он поощрял меня, когда я пытался отыскивать на клавиатуре буквы. Так я и научился грамоте.
Из детского сада меня пришлось забрать после первого же дня, потому что одной девочке, а то и самой воспитательнице, я сказал: «Pocaluj mnie w dupe». Я, наверно, слышал эти слова от моего дяди. Они означают «Поцелуй меня в зад».
После этого случая мне пришлось много времени проводить дома в одиночестве, если не считать Аннетт и нашу служанку. Аннетт — моя старшая сводная сестра, мамина дочка от первого брака. Она обожала кино, и немало вечеров мы провели в полупустых краковских кинотеатрах, где смотрели фильмы, в которых я ничегошеньки не понимал. Мои первые кинематографические впечатления связаны с американским мюзиклом, в котором Джанетт Мак-Доналд в воздушном белом одеянии спускалась по лестнице под музыку Sweathearts. Я это отчетливо помню, потому что до смерти хотел помочиться. Аннетт же, не желавшая ни на секунду отрываться от экрана, сказала, чтобы я пописал под стул.
[...] Свою мать я помню смутно. Помню ее голос, помню, как изящно она подрисовывала выщипанные брови, как тщательно подкрашивала губы, чтобы, следуя веяниям моды, изменить линию рта, помню злобную мордочку лисы на воротнике, которая яростно кусала собственный хвост. Помню, какой естественной показалась мне мама, когда однажды, зайдя в ее комнату, я застал ее голой. Позднее многие говорили мне, что она была замечательно хороша собой. Как показала война, она была изобретательна и горда. Приятно думать, что свое упрямство и живучесть я унаследовал от нее.
Помню, летом родители сняли домик на горном курорте с непроизносимым названием Шчирк. Как оказалось, это были последние беззаботные и счастливые дни, которые нам суждено было провести вместе. Тогда же я впервые по-настоящему соприкоснулся с природой. Чудесная холмистая местность была покрыта лесами. Я потом долго был уверен, что леса должны обязательно расти на склонах холмов.
Родители с друзьями играли в саду в карты. Я наблюдал за ними издали, раскачиваясь на складном стуле, пока от моих манипуляций он не рухнул, а пальцы мои не застряли между дощечками. Я чувствовал себя смущенным и виноватым. Меня предупреждали, чтобы я не баловался на складном стуле, и мне не хотелось, чтобы меня заметили, но боль была ужасающей. Я потерял сознание. Когда я пришел в себя, надо мной, склонившись, стоял доктор. «Ты уже начал синеть», — сказала мама.
Мой шестой день рождения мы отмечали в Шчирке. Мама пригласила ко мне ребят. Они пришли рано, пока я все еще сидел на горшке. Я услышал, как мама спокойно объяснила им: «Ромек на троне». Мне хотелось сквозь землю провалиться вместе с горшком. Ну как она могла вот так меня предать? Я решительно отказался выйти. Мама сделала вид, будто слова «на троне» имеют совершенно другой смысл, будто это означает, что я сегодня король, ведь у меня день рождения. Она целую игру придумала на основе моего нового титула, но я ни в какую не желал присоединяться к остальным.
Краков со всех сторон окружен бульваром Платы. Когда-то на этом месте стояли городские стены. Однажды мы с отцом набрели там на торговца, продававшего картинки, на которых, если их сложить определенным образом лица четырех мужчин становились похожими на свинью. Судя по тому, что вокруг собралась небольшая толпа, дела у торговца шли отменно. Отец объяснил мне, что это карикатуры на Гитлера, Гиммлера, Геббельса и Геринга. Он рассказал мне, кто они такие и чем опасны для нас нацисты.
Эти имена стали звучать все чаще и чаще Напряжение росло, все боялись, что война неизбежна. По всему городу люди занимались новыми делами: в Плантах рыли траншеи, окна домов и витрины магазинов крест-накрест заклеивали бумагой. Мои родители часами совещались о чем-то, но меня на эти беседы не допускали. В конце концов отец решил отказаться от нашей квартиры на улице Коморовского и снять жилище в Варшаве, подальше от польско-немецкой границы. А пока мы должны были переехать к моей бабушке, которая жила вместе с двумя моими неженатыми дядьями Стефаном и Бернардом. Судя по всему, положение стало настолько серьезным, что безопаснее было собрать все семейство под одной крышей.
[...] Бабушку звали Мария. Я ее обожал. Роста она была совсем маленького, с пучком серых волос. Одевалась же обыкновенно в черное. Она настояла на том, чтобы отдать нам свою комнату, поэтому сама спала теперь на кухне. Вот здесь-то я и проводил большую часть времени, пока не пошел в нормальную школу. Я мог развлекаться там до бесконечности. Бабушка была всегда готова играть со мной и отвечать на беспрестанные вопросы. На кухне стоял большой резной буфет, весы, в которые можно было играть, банки с таинственными сиропами и домашними джемами. На подоконнике — маленькая баночка с водой, покрытая крышкой с вырезом. А на этой крышке рос боб. У боба с каждым днем вырастали все более и более длинные белые корни, которые будто жили своей жизнью наподобие некоего экзотического морского животного с щупальцами. Бабушка хотела показать мне, как растут овощи, но на меня это зрелище наводило ужас.
[...] Вся семья была в панике. Наш план на случай чрезвычайного положения был приведен в действие. Мама наспех сложила чемоданы и объявила, что повезет нас с Аннетт в Варшаву.
Поскольку все имущество нашей семьи находилось в Кракове, отец вместе с братьями решил задержаться и посмотреть, как пойдут дела. Моя бабушка-фаталистка отказалась трогаться с места — будь что будет.
Началась война. [...]
Я первый раз расстался с отцом и первый раз поехал на поезде ночью.
Какие-то пьяницы в вагоне третьего класса начали приставать к моей бледной, измученной матери. Тогда она доплатила за второй класс, и мы перебрались в другой вагон.
Отец полагал, что в Варшаве нам будет безопаснее. Наше новое обиталище оказалось недостроенным домом в пригороде. Там было так же чисто, как и в нашей квартире на улице Коморовского, но с одной существенной разницей: не считая складной кровати и матраса, там отсутствовала мебель. Едва ли это имело какое-то значение, потому что все ночи, а то и некоторые дни мы проводили в подвале.
Вой сирен, оповещавших о воздушном налете, заставлял жильцов опрометью бросаться вниз занимать места в бомбоубежище. Там царила полнейшая неразбериха: визжали малыши, ворчали старики, бились в истерике женщины. Дышать было нечем, было душно и жарко, поговаривали, что немцы скоро начнут применять отравляющие газы. Варшавянам выдали противогазы. А у переселенцев же вроде нас — лишь повязки, пропитанные каким-то вонючим веществом.
Настоящей пыткой в те ночи под землей для меня было то, что мне не разрешалось снимать ботинки. Мать боялась, как бы нам не пришлось спасаться бегством. Завороженный мерцанием свечи, я беспокойно спал у нее на руках, прижав к себе медвежонка, то просыпаясь, то вновь засыпая, пока не раздавался сигнал отбоя. Тогда все собирали противогазы и разбредались по комнатам, но через час или два, когда снова взвывали сирены, опять мчались вниз.
Воздушные налеты участились, а еда и деньги у нас были уже на исходе. От отца не было никаких вестей. Моя мать происходила из зажиточной русской семьи, и считалось, что она вышла замуж за человека ниже себя по положению. В Кракове у нее всегда была служанка. Однако теперь ей приходилось все делать самой, и, надо сказать, она оказалась на редкость изобретательна. Как и все, она бродила в поисках пищи и однажды вернулась с пакетом сахара, перемешанного пополам с грязью, потому что собрала его на улице с земли. Она растопила сахар и профильтровала его, чтобы очистить от грязи, а потом напекла целую гору вкусного печенья, часть которого мы продали, чтобы получить деньги.
В другой раз она вернулась с огромной банкой соленых огурцов. Сначала они нам очень нравились, да и рассол был вкусным. Лишь постепенно мы поняли, что от такой пищи нам еще больше хочется пить, а питьевой воды и так не хватало. Нас предупредили, чтобы мы набрали воды в ванну и во всю посуду, какую сможем раздобыть. Когда воду отключили, нашей с Аннетт обязанностью стало часами стоять в очереди с ведрами и кастрюльками на раздаточных пунктах.
Иногда, когда мамы не было, мы с Аннетт поддавались панике, опасаясь худшего. «Давай спать, — говорила она, — так время быстрее проходит».
Возвращения мамы я всегда ждал с тревожно бьющимся сердцем. Однажды, услышав шаги, я бросился открывать дверь и увидел четырех человек, которых никогда прежде не встречал, — женщину, мужчину и двоих детей; у них разбомбило квартиру. Ни слова не говоря, они расположились в нашей маленькой прихожей. Когда мама вернулась, квартира кишела чужими людьми, но сделать она ничего не могла.
Я находил и свои преимущества в том, что впервые в жизни остался без надзора. Я начал играть вокруг оставшихся от бомб воронок. Нашел осколок немецкой бомбы и притащил его домой. На соседней улице я сделал грустное открытие — нашел дохлую лошадь. Осматривая ее на другой день, я заметил, что от ляжки отрезан кусок мяса. На следующий день на разлагающемся трупе появились новые дыры. Мы втроем обсудили это и решили, что как бы мы ни были голодны, тухлую конину есть не станем.
Как-то, отправившись побродить чуть подальше, я натолкнулся на еще более удручающее зрелище. На четвертом этаже разбомбленного здания скулила и выла собака. На нее никто не обращал внимания. Я умолял прохожих спасти ее. Они отмахивались и проходили мимо.
Несколько дней спустя, играя в нашем дворе, я заметил, что кто-то сидит на корточках и внимательно наблюдает за мной. Я не сразу узнал отца — такой он был худой и небритый. Он протянул руки, и я бросился к нему. Он обнимал и целовал меня, колол своей щетиной. Я сразу же стал выть, чтобы показать ему, как замечательно могу изображать сирену воздушной тревоги.
Здорово, что отец вернулся; он быстро избавился от наших незваных гостей. Когда мы все вчетвером устроились на полу, он принялся рассказывать о своих странствиях.
Спасаясь от наступающих немцев, он и два моих неженатых дядьки вместе со всеми пешком двинулись на восток, в Люблин. Мой третий дядя Давид, который был женат на Теофиле, дочери булочника, ехал на повозке, запряженной лошадьми. Когда братья добрались до Люблина, немцы были уже там, так что им пришлось скрываться. Они расстались, братья вернулись в оккупированный Краков, а отец пробрался к нам в Варшаву. Наш план спасения провалился. Вместо того чтобы оставаться в Кракове, где боев вообще не было, мы направились в самый эпицентр войны.
Я не спускал глаз с отца. Потащил его посмотреть на собаку, которая скулила все слабее и слабее. Он пожал плечами: «Ну что мы можем сделать?» Но я не мог забыть собаку. Когда я в следующий раз проходил мимо этого места, собака исчезла.
Вскоре я увидел, как по разрушенной улице проехал польский бронетранспортер. В нем сидели усталые, измученные люди. В тот же вечер, держа отца за руку, я смотрел, как тесные шеренги пехотинцев вермахта, похожих на игрушечных солдатиков в своих серо-зеленых шинелях, маршируют по Варшаве. Меня завораживали всякие солдаты, даже немецкие, но отец крепко сжал мою руку и еле слышно прошептал: «Свиньи! Свиньи!»
ГЛАВА 2
[...] Часто спрашивают, почему евреи допустили, чтобы их истребляли во время второй мировой войны. Почему сразу не догадались о своей участи?
Главная причина, почему их страхи возникали с опозданием, заключалась в том, что массовое истребление началось не сразу. Мне-то лично казалось, что если бы кто-нибудь толком объяснил немцам, что мы не сделали ничего плохого, они поняли бы, что все происходящее — громадная ошибка.
То, что случилось с моей семьей, прекрасно иллюстрирует механизм «окончательного решения».
После нашего возвращения в Краков я начал ходить в школу, но мне она не нравилась. Ходить в школу значило сидеть рядком и заполнять тетрадку словами «Ala ma kota» («у Алы есть кот»). Дальше этого я, по-моему, не продвинулся, потому что всего несколько недель спустя детям евреев вдруг запретили посещать занятия. Я не расстроился, потому что скука была бы невыносимой, если бы не эпидиаскоп, с помощью которого в зале на экран проецировались картинки. Ни слова, ни даже сами картинки меня не интересовали — меня волновал лишь способ, которым они показывались. Мне хотелось знать, как это устройство работает, и я вечно разглядывал линзы и зеркала или мешал всем смотреть, потому что загораживал луч проектора.
Я обнаружил, что могу рисовать, и не по-детски, а даже с каким-то подобием перспективы. На моих портретах можно было узнать членов семьи. Помню, я очень похоже нарисовал немецкого солдата в тевтонском шлеме. Почему-то у меня никак не получалась звезда Давида. Два треугольника, из которых состояла звезда, очень хитроумно переплетались. Но времени изучить ее у меня было предостаточно. С 1 декабря 1939 года моя семья должна была носить на рукавах странную повязку с изображенной на ней звездой Давида. Мне объяснили; это означает, что мы евреи.
Мы снова переехали, но уже не по собственной воле. Далеко ехать не пришлось. Нашим переселением, проходившим без угроз и паники, занимались краковские муниципальные власти, а не немцы. Хотя нам разрешили взять только то, что мы сможем унести с собой, на новом месте нам показалось ничуть не хуже, чем на старом, только теснее. Нас поселили в квартиру на первом этаже на площади Подгуже. Она была больше, чем квартира моей бабушки, зато жили в ней несколько семей. Бабушки с нами больше не было. Ее поселили в маленькой комнатенке на противоположном конце нового еврейского квартала в Кракове.
Родители, сестра и я жили теперь в двух комнатах пещероподобной квартиры со множеством окон, выходивших на красную кирпичную церковь. Поблизости было несколько магазинов, а продукты все еще можно было купить. Мы могли свободно входить и выходить, я мог играть не только с еврейскими, но и с польскими детьми. Рождественской елки отец нам в тот год не купил по той лишь причине, что не хотел обращать на себя внимание. Вскоре Аннетт подозвала меня к окну и показала на улицу. Какие-то люди что-то делали на противоположной стороне. То, что они строили, походило на баррикаду.
— Что они делают? — спросил я.
— Строят стену.
Вдруг до меня дошло: нас обносили стеной. У меня упало сердце. Я безудержно зарыдал. Это было первым признаком того, что немцы не шутили. Рабочие заделали кирпичами парадный вход и окна с одной стороны дома, так что площади и церкви нам больше видно не было. Заделанная кирпичами часть дома стала продолжением стены, и со стороны Ренкавки пришлось проделать новый вход, через который можно было пройти в длинный темный коридор. Некогда тихая улочка, ведшая к покрытой зеленью площади, превратилась в тупик, огороженный красным кирпичом с аккуратными бетонными зубцами.
Главная улица разделила наше новое поселение на две половины. По каждую сторону этой оживленной магистрали был забор из колючей проволоки. Обитатели гетто могли смотреть на проезжавшие мимо машины, а те, кто пользовался дорогой, могли смотреть на нас, но сама дорога была нам недоступна. Для передвижения из одной части гетто в другую построили маленький пешеходный мост.
Несмотря на заточение, неверно было бы думать, что на этом предварительном этапе нашу жизнь заполнял страх. Иногда в те первые месяцы я хорошо проводил время, катаясь на санках, обмениваясь марками, играя с другими ребятами.
На улице Ренкавке я впервые узнал о сексе. Вместе с друзьями я бродил по улицам, подбирая всякую всячину. В том числе мы раздобыли несколько резиновых трубочек, напоминавших спущенные воздушные шарики. Они попадались нам в подъездах и канавах. Один мальчик сказал, что это презервативы. Взрослые пользуются ими, когда не хотят, чтобы у них были дети. Он объяснил, что для того чтобы родился ребенок, мужчина должен проникнуть в женщину при помощи пениса. В растерянности я обдумывал это революционное открытие. Действительно ли только так рождались дети или нужно было сочетание условий? Мне всегда говорили, что детей приносит аист.
Друзья с презрением посмотрели на меня. Я возразил, что в нашей квартире на Ренкавке живет женщина, у которой нет мужа, и живет она одна, но ребенок у нее тем не менее есть. Не означает ли это, что без аиста здесь не обошлось? Уверенность остальных была поколеблена.
Через несколько дней я вернулся к этой теме с теми же ребятами. Меня осенило. Оказывается, нужно не просто неподвижно держать детородный орган внутри женщины, а двигать его туда-сюда. Мне дали понять, что я дурак. Ну, конечно же, нужно двигать, сказали мне.
[...] Эти довольно мирные недели были отмечены некоторым угрожающим затягиванием гаек. Конфисковали любимую пишущую машинку отца. Вскоре после того, как завершилось строительство стены, всем еврейским семьям было приказано сдать весь имевшийся у них мех. Все часами стояли в очереди. Мать сдала свою лису, бабушка — меховой воротник.
Как-то ночью мы услышали на лестнице крики. Мы сразу же погасили весь свет, а отец прокрался поглядеть, что происходит. Он вернулся на цыпочках и. сказал, что в здании немцы. Он видел, как женщину волокли за волосы вниз по лестнице. Мы сидели и ждали. От нечего делать я облизнул палец и нарисовал на стене свастику. Отец со злостью стер ее.
[...] Первым другом в моей жизни стал Павел. Его фамилию я так никогда и не узнал. Он был нашим соседом. Ему было лет двенадцать, жил он без матери с приемным отцом, который его не любил, бил и целыми днями заставлял присматривать за маленькой сестрой. [...] Он обладал необыкновенной способностью впитывать и накапливать всевозможную информацию. Отношения с ним во многом просветили меня. Меня всегда интересовали практические вопросы, а Павел мог ответить на любой из них. Не так, как взрослые, — лишь бы отделаться, а по-настоящему, по-научному рассказать о природе электричества, о том, как машины ездят на бензине, о том, что удерживает в воздухе самолеты. Он смастерил прекрасный электрический звонок из двух катушек лакированной медной проволоки и тремблера. Мы вместе принялись конструировать простенький моторчик на батарейках. Я рисовал множество самолетов самого эксцентрического дизайна, а он терпеливо объяснял мне, почему они никогда не полетят, и учил элементарным принципам аэродинамики, которые он Бог знает откуда узнал. Даже сегодня, когда я вижу самолет необычной конструкции вроде AWACS или «Шаттла», мне хочется сказать Павлу: «Вот видишь, дружище, самолеты чудной формы все же летают... »
Я впервые почувствовал, что нас ожидает, когда был у бабушки и рвался к Павлу. Сначала я даже не понял, что происходит. Я просто увидел, как люди разбегаются во все стороны. Потом до меня дошло, почему улица так быстро опустела. Немецкие солдаты гнали по ней женщин. Вместо того чтобы убежать, как все, я стоял и смотрел.
Какая-то старушонка в хвосте никак не поспевала. Немецкий офицер подталкивал ее в колонну, но она грохнулась на колени, заплакала, застонала, принялась умолять его на идиш. В руке офицера показался пистолет. Раздался громкий выстрел, и по спине женщины полилась кровь. Я бросился в ближайшее здание и забился под лестницу.
У меня появилась странная привычка крепко сжимать кулаки. А еще как-то утром я проснулся и обнаружил, что намочил кровать. Эту катастрофу я никак не мог скрыть. Меня сильно отругали, но на следующую ночь все повторилось. Это стало происходить чуть не ежедневно. Я засыпал, мне снилось, что я мочусь в постель, просыпался и обнаруживал, что мой кошмар оказался реальностью.
Делать какие-либо запасы было запрещено. Нас заранее предупредили, что гетто будут обыскивать в поисках незаконных запасов продовольствия. Будто назло, мама как раз напекла булочек, и из-за этого разгорелся спор. Она хотела раскрошить их и спустить в туалет, но отец настоял, чтобы она сложила их в шляпную коробку и спрятала на шкафу.
Вошел высокий немецкий офицер в сопровождении солдата и гражданского представителя Judenrat. Он заговорил с матерью по-немецки, потом отправился осматривать кухню. Мы с отцом сидели, не осмеливаясь пошевелиться. Офицер вернулся в сопровождении матери. Мы решили, что обыск закончен, но он помедлил, кружа по комнате, как хищная птица, подобрал моего медвежонка, покачал за лапу, осмотрел все вокруг. Вдруг концом офицерской тросточки он сбросил со шкафа шляпную коробку. Он поднял ее, открыл и вывалил булочки на пол.
Он засмеялся. Потом начал рычать и ругаться по-немецки. В конце концов, все еще размахивая моим медвежонком, он вышел из комнаты. Этим все кончилось, но я никогда не видел маму такой обозленной. «Я же говорила, что нужно было от них избавиться, — шипела она на отца. — Они у меня будто поперек горла встали».
[...] В некоторых местах гетто было окружено не стеной, а колючей проволокой. С одного места возле дороги можно было смотреть еженедельные фильмы, которые немцы крутили на Подгуже для жителей Кракова. Это были документальные и пропагандистские фильмы, показывавшие, как войска вермахта маршируют по Елисейским полям. Время от времени на экране появлялись слова «Евреи = вши = тиф». Для сторонних наблюдателей мы, должно быть, представляли любопытное зрелище: горстка ребятишек за колючей проволокой, вытягивающих шеи, чтобы посмотреть эти зловещие фильмы. Я даже пожертвовал большей частью своих марок, чтобы заплатить мальчику — обладателю игрушечного кинопроектора, чтобы он показывал мне ранние немые фильмы на грязном полотенце.
В той части гетто, которая была отгорожена не стеной, а колючей проволокой, была горка. Там я катался на санках в первую военную зиму и там же без ведома родителей начал выбираться из гетто. Возникало ощущение, будто проходишь сквозь зеркало и оказываешься в совершенно другом мире, где звенят трамваи и люди ведут обычную жизнь. Там все казалось более солнечным, ясным. Даже стена выглядела с той стороны иначе.
Свою первую вылазку я совершал в компании. Со мной были еще два мальчика, один — мой ровесник, а другой намного младше. Мы спросили малыша, что он ответит, если его спросят, где он живет.
— Я скажу, на улице Ренкавка, в доме номер 10.
Мы отправили его домой, а сами двинулись к намеченной цели — магазину, торговавшему марками. Я его хорошо знал, так как еще до того, как построили стену, потратил там некоторое количество карманных денег. Женщина за прилавком с любопытством посмотрела на нас: «Вы ведь из гетто, мальчики? Не слишком рискуете?» Хоть я и сделал вид, что не знаю, о чем это она, больше я туда не совался. Выбираться из гетто было очень увлекательно, но, как показал случай в магазине, небезопасно. И только пробравшись сквозь колючую проволоку и снова оказавшись в гетто, я почувствовал себя в полной безопасности.
Отец сделал кое-какие приготовления на тот случай, если его и мать заберут и меня надо будет спасать. В городе у него было множество друзей и знакомых, и с их помощью он нашел супружескую пару — муж и жена Вилк согласились помочь мне. Они не собирались брать меня к себе жить, но согласились найти семью, которая приютит меня. Мне повезло — я не был похож на еврея. В частности, поэтому они и согласились присмотреть за мной. Другой причиной были деньги. Отец давно позаботился об этом, когда жители гетто еще могли передвигаться без присмотра. Ему это стоило всех семейных драгоценностей и сбережений.
[...] В первый раз я отправился к Вилкам с матерью. В то время она работала на немцев за пределами гетто — уборщицей в замке Вавель, где располагалась штаб-квартира генерал-губернатора Польши, и у нее был пропуск, позволявший ей свободно передвигаться.
После первого визита я скоро снова вернулся к ним. Гетто полнилось слухами. Поговаривали, что немцы собираются провести крупную депортацию. Вилки нашли семейство, которое согласилось принять меня за 200 злотых в месяц. Жили они на окраине, почти за городом. Фамилии их я так и не узнал. Муж был бондарем и целыми днями сколачивал во дворе бочки. Проведенные под этой крышей ночи напоминали кошмары не только потому, что я оказался среди чужих, но и потому, что я страшно боялся намочить постель во сне. Стремясь предотвратить это, я почти не спал. Однако это продолжалось недолго. Всего через несколько дней Вилк пришел за мной. Жена бондаря сказала, что дольше мне оставаться нельзя: соседи что-то заподозрили. Я с радостью вернулся в знакомое и — в моем представлении — безопасное гетто, но 200 злотых нам так и не вернули. Равно как и два чемоданчика с моими вещами.
Когда я вернулся, нас переселили в другой дом на противоположной стороне магистрали поблизости от того места, где жила бабушка. Немцы перегруппировали тех, кто еще уцелел, сконцентрировав всех на маленькой территории, которая вскоре превратилась в тесные трущобы. Ренкавка оказалась теперь за пределами гетто. Немцы не стали строить новую стену. Новое гетто огородили колючей проволокой. Павел исчез вместе с первой партией депортированных. Тогда я впервые понял, что такое разбитое сердце.
Теперь мы жили в огромной старомодной квартире с высокими потолками, в одной комнате с молодой семьей и их маленьким сыном Стефаном. Отец был архитектором, и наши семьи быстро подружились. С нами жил еще и вонючий старик с такой же вонючей собакой по кличке Фифка. Сестра спала в соседней комнате, отделенной от остальных обитателей шкафом. Стефану было года четыре-пять. У него были кудрявые светлые волосы и серьезное личико. Мы почти все время играли вместе, и он стал для меня тем, чем я был для Павла, — жадным слушателем всевозможных сведений.
Вскоре отец узнал, что готовится новый рейд. Воспользовавшись своим пропуском, мать отвела меня к Вилкам. Когда пришло время вести меня обратно, вместо матери за мной зашел отец, возвращавшийся с фабрики, где работал слесарем. Он подкупил охранника, чтобы пораньше уйти с работы, и возвращался в гетто без повязки на рукаве. Когда на улице пани Вилк передала меня ему, он с неожиданной силой обнял меня и расцеловал. По пути в гетто, проходя через мост Подгуже, он безудержно зарыдал. Потом выдавил из себя: «Маму забрали».
Я сказал: «Не плачь, люди смотрят». Я боялся, как бы его слезы не выдали, что мы евреи и разгуливаем без охраны в неположенном месте. Он взял себя в руки.
Исчезновение матери произвело на меня более тяжелое впечатление, чем исчезновение Павла, но я ни секунды не сомневался, что она вернется. Мы только волновались, как с ней обращаются, достаточно ли ей еды и мыла, когда мы получим от нее письмо? Мы тогда еще не знали про газовые камеры.
Меня снова отправили к Вилкам, но я сбежал. Черт с ним, с рейдом, я хотел быть с отцом.
Я подошел ко входу в гетто и попросил, чтобы меня впустили. Польский полицейский отмахнулся от меня, но пропустил, после того как я сказал ему, что живу там.
День стоял жаркий, солнечный. Все словно вымерло. В этой тишине было что-то зловещее. Я понял, что произошло нечто ужасное. По вонючему коридору я пробежал в нашу комнату. Там никого не было.
Я лихорадочно обегал все места, где по моим представлениям мог быть отец. В комнате бабушки никого не было. Там царил беспорядок. Никого не было и в писчебумажном магазине на углу, дверь стояла нараспашку. Внутри все было в порядке, будто владелец, друг моего отца, только что вышел подышать свежим воздухом. Я не обратил внимания на краски, цветные карандаши и бенгальские огни — там их были целые коробки, бери, сколько хочешь. Я проверил кассу — узнать, есть ли там деньги. Если да, то был шанс, что хозяин вернется. Она была пуста.
Я запаниковал. Все, кого я знал, исчезли. Мне необходимо было найти хоть каких-нибудь людей, пусть даже чужих. Тишина делалась невыносимой.
Первые взрослые, которых я обнаружил, стояли на улице под охраной поляков. В некоторых домах еще продолжались обыски. Я слышал, как топают сапоги, как выкрикиваются по-немецки приказы. «Что мне делать?» — спросил я у ближайшего взрослого.
Один из них спросил, где я живу.
— Вон там. А что происходит?
Кто-то сказал: «Если ты не идиот, проваливай».
Но я не двинулся с места. «Если я останусь, — подумал я, — то смогу как-то соединиться с отцом».
На улице показался эсэсовец. Толстенький, в очках, похожий на директора школы с пачкой бумаг. Он велел отвести нас на площадь Згоды перед главными воротами. Здесь стояли депортанты. Их держали там уже два дня. Это была самая крупная облава.
Проталкиваясь сквозь толпу, я натолкнулся на Стефана. Хотя он ничего не знал про отца, я обрадовался, что встретил его. Мы продолжали поиски вместе, расспрашивая незнакомых людей, протискиваясь сквозь толпу. Масштабы депортации привели меня в ужас. Я понял, что зря вернулся. Надо было драпать.
Подъехал эсэсовец на мотоцикле. В окружении подобострастных подчиненных начал отдавать приказы. Я объяснил свой план Стефану, который немного говорил по-немецки: он должен был подойти к немецкому офицеру и попросить разрешения нам двоим сходить домой за едой. Если офицер разрешит, мы попробуем пролезть через проволоку. Но в критический момент нервы у Стефана сдали. Рядом с нами стоял молодой поляк, охранявший обитателей гетто, один из многих, кого поставили надзирать за толпой депортированных. Я подошел к нему и попробовал рассказать нашу историю. Он, должно быть, все понял, но сделал вид, что поверил, и кивнул. Мы пустились бежать. «Идите медленно, — прорычал он, — не бегите». Мы пошли шагом.
Дорогу я знал: через двор, переулками, по одной улице, по другой. Наконец мы добрались до колючей проволоки, отделявшей гетто от остального Кракова. Вот знакомое отверстие в проволоке, и никакой охраны поблизости не видно.
«Иди», — сказал я Стефану. Я-то привык проползать сквозь дыру, а он испугался. «Иди!» — подгонял я его, но в конце концов пополз первым и подождал его, проклиная за то, что он так долго возится. Он пробрался сквозь маленькую дырку, и вот мы уже были по другую сторону. Все было похоже на сон. Медленно, как на прогулке, мы пошли прочь от колючей проволоки. Мы не оборачивались и не разговаривали, пока не услышали гул и звон трамваев. Тогда мы в первый раз взглянули друг на друга. Получилось.
При нашем появлении пани Вилк сказала только: «Что такое? Уже два еврея?» Но Стефан был таким очаровательным ребенком, что скоро она перестала сердиться.
Как только облава кончилась, я вернулся в гетто. Я снова был с отцом, который перебрался в бывшую комнату моей бабушки. Ее забрали. И мою сестру Аннетт тоже. Теперь отец жил в бабушкиной комнате вместе со мной и Стефаном.
Это были последние недели краковского гетто. Мы, дети, теперь работали в заведении, представлявшем собой и фабрику, и приют. Раз в день нас кормили, час или два с нами проводились занятия. Все остальное время мы делали бумажные пакеты — складывали и склеивали листы коричневой бумаги. У Стефана пакеты получались плохо, но он не плакал.
13 марта 1943 года, в день, когда краковское гетто должны были, наконец, ликвидировать, отец разбудил меня еще до зари. Он отвел меня на площадь Згоды, прямо позади эсэсовского охранного пункта, в то место, которое не просматривалось, и хладнокровно разрезал проволоку кусачками. Быстро обнял меня, и я в последний раз скользнул под проволоку. Стефану пришлось остаться вместе с остальными ребятами — его некому было взять к себе. Однако когда я добрался до Вилков, дверь
была заперта. Я побродил вокруг, не зная, что делать. Потом, обрадовавшись, что появился повод вернуться к отцу, направился назад в гетто. Не доходя до моста, я увидел колонну пленных мужчин, которых немцы вели под дулами ружей. Среди них был и мой отец.
Сначала он меня не заметил. Мне пришлось бежать, чтобы не отстать. Наконец он меня увидел. Я жестами показал ему, поворачивая воображаемый ключ, что произошло. При молчаливой помощи остальных пленных он отстал на два-три ряда, незаметно меняясь с ними местами, чтобы оказаться подальше от ближайшего солдата и поближе ко мне, и прошипел: «Проваливай!» Я остановился и посмотрел, как удаляется колонна, потом отвернулся. Больше я не оглядывался.
ГЛАВА 3
«Tylko swinie siedza w kinie!» — «Только свиньи ходят в кино» — согласно этому лозунгу, нацарапанному на стенах краковских кинотеатров участниками Сопротивления, я как раз и был свиньей. Кино стало моей страстью, единственным спасением от депрессии и отчаяния. Моим наставником и опекуном был мальчик по имени Мечислав Путек, или Метек. Высокий, черноволосый молчаливый подросток, мой ровесник. Мы с Метеком были неразлучны, тем более что я жил в одной комнате с ним и его семьей.
В день, когда забрали отца, Вилки вернулись вечером незадолго до наступления комендантского часа и увидели меня под дверью. Я провел с ними всего одну ночь, а потом они сбагрили меня под своей фамилией Путекам. Болеслав Путек работал швейцаром, и здание, за которым он смотрел, вполне подходило для того, чтобы в нем скрываться. Ну кому пришло бы в голову искать маленького беженца из гетто в доме, реквизированном для немецких офицеров и их семей?
Впервые, уже в роли Романа Вилка, я ощутил вкус свободы, когда проехался на трамвае № 1 вдоль Плантов. Я и до войны ездил на нем с родителями, но Метек показал мне, что значит ездить по-настоящему. Нельзя было садиться в переднюю часть вагона — там ездили немцы. А задаром лучше всего было кататься снаружи на сцепках и спрыгивать, не доезжая до следующей остановки.
Сумма, которую отец заплатил Вилкам, давала мне право на получение от них карман-
ных денег. Большую часть я тратил на кино, но билеты были настолько дешевы, что хватало на много фильмов. Я смотрел все подряд, от оперетты до любовных драм. [...] Метек присоединялся ко мне отчасти потому, что ему нечем было заняться, а отчасти, чтобы уберечь меня от беды. Когда он был в школе, я бродил сам по себе. Когда деньги кончались, я просто глазел на фотографии в фойе. В особенности меня завораживала одна актриса — изящная блондинка по имени Марика Рёкк. Я мечтал когда-нибудь обвенчаться с ней, но приходил в ужас от того, что скажет отец, узнав, что сын женится на ненавистной немке. Потом я выяснил, что она венгерка. Так что зря я беспокоился.
[...] Кино превратилось в настоящую страсть. Меня завораживало все, что имело хоть какое-то отношение к нему, а не только сами фильмы. Я обожал светящийся прямоугольник экрана, луч света, разрезавший темноту от будки механика до экрана, таинственную синхронизацию звука и изображения, даже запах пыльных откидных мест. Но более всего меня волновала сама механика кино.
Я задался целью смастерить себе проектор наподобие школьного эпидиаскопа — коробки с линзой. Линзу я взял от фонаря. Осталось раздобыть коробку. Я безуспешно облазил мусорные баки по соседству. Как-то утром я попросил мусорщика подвезти меня до свалки. Через несколько часов поисков я нашел то, что искал: металлическую коробочку из-под чая, раскрашенную красным и золотым цветом. Теперь нужно было прорезать с одной стороны четырехугольное отверстие, а с другой — круглое. За неимением лучшего я воспользовался молотком и гвоздем. Работа была шумной.
В тот день как раз пришла тетка Метека Янка, привлекательная девятнадцатилетняя девушка. Она меня недолюбливала и потребовала прекратить стучать молотком.
— Я делаю проектор, — сказал я.
— А мне плевать, — ответила она и попыталась выхватить молоток. Я полез драться, ругая ее плохими словами, которых наслушался на улице. Она вышвырнула мою банку в окно. Когда я пошел ее подобрать, Янка заперла дверь. Инструменты остались в доме. Я без толку звонил и звонил, потом безутешно побрел по улицам и встретил Крупу, приятеля чуть постарше меня. Чтобы досадить Янке, мы зажали звонок спичкой и смылись.
Янка грозила донести на меня, и Путеки решили от меня избавиться, отправив подальше от Кракова. В сопровождении Янки, которая теперь пребывала в чуть более добром расположении духа, я сел в поезд, забитый крестьянами, так что всю дорогу нам пришлось стоять прижатыми к двери туалета.
Мы вылезли на маленькой станции под названием Пшитковице. Я нес чемоданчик, а Янка — узелок с едой. Мы шли и шли под палящим солнцем, мне казалось, я вот-вот потеряю сознание. Носков у меня не было, мозоли на пятках лопнули и начали кровоточить.
Мы направлялись в деревеньку под названием Высока, где я должен был поселиться у людей по фамилии Бухала. Они жили на хуторе на склоне лесистого холма. Я очень скучал без родителей. На сей раз меня спасла природа. Я открывал для себя новый мир. Будто начинал жизнь заново.
Бухалы были очень бедны. Сам Бухала был сапожником, но заказов почти не имел. Человек он был простой, ворчливый и недалекий. Из всего семейства самым нормальным был Людвик, на два года младше меня.
Все семейство держалось на пани Бухала, сильной, энергичной женщине. Она была глубоко религиозна, добра и чутка, но так же неграмотна, как и ее муж. Удивительно, что она была добра ко мне, ведь Путеки почти ничего ей за меня не платили. Деньги, оставленные отцом, словно бы испарились. [...]
Жизнь Бухала была бесконечной борьбой за выживание. Хозяева растили пшеницу, рожь и картофель, и ели мы вареную картошку и кашу-размазню, в которую изредка добавляли немного молока. Хлеб пани Бухала пекла сама — грубые ржаные лепешки. Рожь мололи вручную на примитивной мельнице, которая, вполне возможно, осталась от средних веков.
[...] Летом еды стало больше. У хозяев был небольшой фруктовый сад, а в лесах в изобилии росли грибы и ягоды. Мы объедались вишней и сливами. Я утолял голод незрелыми грушами — с печальными последствиями.
[...] От телки, навоза, человеческих экскрементов, наших немытых тел исходила ужасная вонь. Всерьез я там ни разу не болел, но вечно страдал от мозолей на ногах, я весь был искусан комарами, и мне здорово докучали вши, которых выводили керосином. Мылись мы в хлеву, куда я удалялся с тазом и кувшином, стараясь, чтобы меня никто не видел. В Польше обрезание делали только евреям.
[...] В школу я, естественно, не ходил, ведь документов у меня не было. Поэтому я больше других работал на ферме. Со временем у меня появились свои обязанности. В моем ведении находилась телка, которую я уводил на целый день пастись, по возможности — на чужих угодьях. Я узнал, где наилучшие пастбища, научился следить за погодой.
Когда пришло время собирать урожай, я помогал на обмолоте, ударяя по ржаным колосьям цепом. Помогал я и по дому — чистил картошку. Научился делать веревку из конопли, кормил цыплят и кроликов.
С приближением зимы пейзаж переменился. Появились яркие новые краски (в основном красные и золотые), незнакомые запахи. Однажды утром я проснулся и увидел иней на траве. А потом ночью выпал снег, и холмы оделись в белое.
[...] Однажды в снегу застряла первая же объявившаяся в Высоке машина. В ней сидели два немца. Деревенские жители смеялись над ними, но вытащить машину все же помогли. Бухала никогда не видели машин, Людвик даже поезда не видел. Я отправился с ним на далекую станцию Пшитковице. Я думал, что при виде прибывающего к платформе, окутанного клубами дыма поезда он потеряет дар речи. Он же лишь вежливо поблагодарил меня потом: ничто, кроме землетрясения, не смогло бы произвести на него впечатление. Он не знал, что такое электричество. Я рассказывал ему, как можно освещать разные комнаты в доме при помощи выключателя. Он не верил.
[...] Хоть я и играл с деревенскими ребятами, мы никогда по-настоящему не сближались. У нас были разные интересы. Однажды они бросили меня в пруд к уткам, чтобы научить плавать. Я выбрался, сделав вид, что чуть не утонул, а они только посмеялись.
Вскоре после этого я наткнулся на сундук, оставленный старшей сестрой пани Бухала, учительницей. В нем я обнаружил заплесневелые страницы. Это был зачитанный католический журнал «Солдаты безупречной королевы», который изобиловал историями о чудесах, кровавых проклятиях и божественной каре, посылаемой непослушным детям. Нашел я и «Песнь о Роланде». Будучи практически неграмотным, я все же продирался сквозь текст по словечку. И получилось, что первой книгой, которую я прочел, была французская эпическая поэма XII века, переведенная на мудреный старопольский язык.
[...] Немцы устроили первую перепись населения в этом районе. Когда дошла очередь до Высоки, пани Бухала отвела меня на ночь в другую деревню. Дом, в который я попал, был больше, чем у Бухала, но жила в нем всего одна женщина лет двадцати, крупная, с большим бюстом, с заплетенными в косы светлыми волосами. Ко мне она отнеслась с добротой, по-матерински, дала на ужин картошки, простокваши и даже кусочек колбасы. Кровать была только одна.
Когда пришло время спать, женщина надела ночную рубашку, и я понял, что мы будем спать вместе. Я ощущал ее тепло, ее пышное тело, ее приятный запах. Заснула она довольно быстро — или сделала вид — и обняла меня, как я обнимал своего медвежонка. Разница в росте между нами была примерно такая же. Я не осмелился ответить ей тем же.
[...] Я научился кататься на лыжах. Мучители, бросавшие меня в пруд, показали мне, как из досок и обручей от бочек сделать лыжи. Ветви орешника служили палками.
[...] Сведения о том, как развивались события на войне, у нас туманные. Всех, у кого находили радио, жестоко наказывали, так что мы питались только слухами. [...] В последнее лето, которое я провел у Бухала, я понял, что война приближается. Как-то я собирал плоды мирта. Постепенно жужжание пчел заглушил другой звук — глубокий, рокочущий, который нарастал, пока не поглотил собой все остальные. Подняв глаза, я увидел высоко в небе самолеты. Это могли быть только бомбардировщики союзников. Сердце мое радостно екнуло. Я лег на траву и наслаждался зрелищем. Потом к гулу добавились другие звуки — удары, которым предшествовали облачка дыма в небе. Бомбардировщик подбили. Я увидел, как в воздухе один за другим появились парашютисты. Один из них плыл по направлению ко мне, и я всем сердцем надеялся, что он приземлится рядом со мной. Но его отнесло за деревья, и он скрылся из вида.
Я все что угодно отдал бы, чтобы помочь летчикам. Мне очень хотелось найти их, укрыть в доме у Бухала, но мне не позволили даже пойти посмотреть на то место, где упал самолет.
[...] Теперь еды уже по-настоящему не хватало, и Бухала просто не могли меня больше кормить. К тому же немцы начали укреплять холмы поблизости от Высоки, используя на работах военнопленных. За одну ночь все вокруг наполнилось серыми шинелями. Пора было возвращаться в Краков.
ГЛАВА 4
Оккупация Польши закончилась для меня так же, как и началась, — в бомбоубежище. Но на сей раз атмосфера была совершенно другой.
В 1939 году в Варшаве царили панические настроения. В Кракове чувствовалось всеобщее ликование. Мы знали, что немцы проигрывают войну, потому что все чаще и чаще налеты стали проводиться в дневное время. Хотя подвал сотрясался от разрывов бомб и снарядов, настроение было приподнятое. Не считая горстки соседей, в подвале с нами в тот день оказались совершенно незнакомые люди, которых налет застал на улице.
[...] Мы до бесконечности оставались бы в подвале, если бы в дверь вдруг не забарабанили. Это напоминало прошлые немецкие обыски в домах. И кто-то заорал по-немецки: «Открывайте, свиньи!» Когда побелевший Путек подчинился, все увидели радостного пана Езека, привратника из соседнего дома, с бутылкой водки в руках. Он кричал: «Выходите же, дурачье, их больше нет! Все кончено, говорю вам!»
Чужие быстро разбежались, а мы перебрались из подвала в квартиру на четвертом этаже, которую Путеки освободили после ухода немцев. Там взрослые потчевали себя бренди и шампанским, оставшимся от прежних обитателей. «Что бы ни болтали про немцев, — заявил пан Езек, — но по крайней мере от евреев они нас избавили».
Кто-то вышел на улицу и привел русского солдата. Он совсем не походил на героические фигуры, которые я потом видел в советских фильмах. Это был перепуганный малый с полным ртом металлических зубов, курносый, некрасивый, в потрепанной шинели. От винтовки у него был только шомпол. Я сидел рядом с ним. Пани Путек подала ему целую тарелку жаркого из гуся. Он с жадностью набросился на еду, уговаривая меня последовать его примеру.
В первый и, наверное, единственный раз в польской истории русских в Польше приветствовали. В эти первые дни почти все польские семьи, как Путеки, делили последнюю еду с русскими солдатами.
Однако через несколько недель мы стали смотреть на них более критически. Их армия была невероятно бедной, изнасилования не были редким случаем. Они питали особую страсть к наручным часам и вообще ко всему, что можно было взять с собой.
Погода стояла холодная, грязный снег превратился в месиво, обувь и одежда постоянно была мокрой. Конвои Красной Армии вечно застревали, офицеры орали, шоферы ругались, моторы ревели, а поляки, разинув рты, смотрели на эту демонстрацию военной мощи. Не весь транспорт вез военное снаряжение. Я ясно помню грузовики ЗИМ, доверху забитые гардеробами, буфетами, комодами, коврами и зеркалами, и толстых, пользовавшихся дурной славой женщин-солдаток, которые, взгромоздившись на самый верх, охраняли добычу.
[...] Советские солдаты хорошо обращались с детьми, делились с ними своим пайком, а когда в Кракове после ухода немцев настал голод, устроили передвижные столовые, в которых кормили супом. Достать еду было практически невозможно. Так близок к голодной смерти я еще ни разу не был за все время войны.
Русские принесли с собой броскую пропаганду своей идеологии — не только плакаты с изображением Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, но и их огромные алебастровые бюсты. Они построили обелиски с красными звездами и надписями, воспевавшими героизм их солдат. Все было рассчитано будто на детей, и действительно производило на них впечатление. Еще не зная, что такое коммунизм, я уже стал его сторонником.
Я помчался смотреть первый в своей жизни советский фильм. После того как я столько лет слушал немецкий, русский язык показался мне непривычным, а сюжет непонятным: солдат героической Красной Армии оказался в тылу врага и посылал морзянкой сообщения в штаб.
Как только немцы эвакуировались из Кракова, все население принялось мародерствовать: хватали еду, одежду и — обязательно — оружие. Месяцы и даже годы после войны многие поляки ходили в немецких шинелях. Больше надеть было нечего.
Я стал мародером особого рода. В первую очередь меня интересовало все, что взрывалось. [...] Как раз напротив дома Путеков находился немецкий склад. Оттуда мы тащили винтовки, пистолеты, коробки боеприпасов. Из немецких осветительных снарядов получался великолепный фейерверк. У основания нужно было просверлить отверстие, засунуть туда запал, поджечь его и быстренько смотаться. Как-то раз только я поджег запал посреди пустой улицы, как неизвестно откуда на велосипеде выехал русский солдат и заметил снаряд. Он помедлил, соображая, с какой стороны его лучше объехать, но в конце концов с проклятьем свалился, когда снаряд взорвался. Я бросился наутек. Вскоре, однако, меня поймали и отвели в полицейский участок. При обыске у меня в кармане обнаружился взрыватель от гранаты. Я здорово влип. Я назвал полиции вымышленные адрес и фамилию, дрожа, как бы они не вздумали отвести меня туда для проверки. Но они не стали утруждаться. Меня отпустили.
Я был не единственным юным поклонником пиротехники в городе. На окраинном пустыре ребята подожгли запал, прикрепленный к нескольким ящикам кордита, и бросились в укрытие. Однако оно оказалось недостаточно далеко. При взрыве, который слышно было за многие мили, образовалась воронка в несколько футов глубиной, и все они погибли.
Мы отправились осмотреть место происшествия. Мужчина вез что-то на тачке. Сверху она была покрыта старым мешком. «Хочешь взглянуть на моего сына? — бесстрастно спросил он и приподнял краешек мешка. — Ноги не хватает, — добавил он. — Если найдешь, дай знать».
Потом, обследуя местность, мы наткнулись на часть детской ноги, заляпанной грязью.
Пыла у меня после этого поубавилось, но все же я вознамерился испробовать немецкую гранату, вытащил чеку и швырнул ее через стену. Шли минуты, но ничего не происходило. «Наверное, осечка», — решил я. Я еще немного помедлил и пошел проверить, почему граната не взорвалась. В этот момент раздался взрыв. Это окончательно излечило меня.
Метек в моих вылазках не участвовал. Путеки решили, что я плохо влияю на него. Соучастником моих преступлений был Крупа. В основном все мои находки были как-то связаны с пиротехникой, но обнаружил я еще и несколько немецких печатей. Мне от них никакого проку не было, а вот деятелей польского черного рынка они очень заинтересовали, и те заплатили за них на удивление много. Мое недоумение по поводу того, зачем они им нужны, продолжалось недолго.
После освобождения никакой узаконенной валюты не было, и в то время как раз выпускались первые банкноты: каждому полагалось по 500 злотых при предъявлении немецкого удостоверения личности kennkarte. Вместо квитанции на карточке ножницами вырезали орла «третьего рейха». Мои печати, должно быть, позволили подделать на черном рынке не одно удостоверение. Доход от сделки я передал пани Путек, чтобы она купила еды. Когда мы съели последних кроликов, которых раньше выращивали, нам пришлось есть припасенные для них хлебные крошки.
С одеждой дело обстояло почти так же плохо, как с едой. У меня в то время экипировка была удобной, но эксцентричной. Я нашел рабочий комбинезон. Брюки были слишком длинными, поэтому я подогнул их так, что получились носки, а концы все равно торчали из моих огромных ботинок. Хоть ногам в этой обуви было не слишком удобно, я гордился своим «военным» видом.
Немцы оставили мне кое-что на память. Как-то поздно вечером — наверно, уже после двенадцати — я встал в туалет. Когда я зажег свет в ванной, я услышал гул самолета. Правило светомаскировки все еще оставалось в силе. Я подумал, что надо бы опустить ставни, но окошко выходило на узкий дворик, да и подойти к нему я в тот момент не мог. Как раз когда я шел обратно в кровать, меня бросило прямо на стеклянную дверь ванной. Я приземлился в коридоре.
В воздухе стояла пыль. Я ее не видел — в квартире было темно, как в могиле, — но я чувствовал носом. Мы окликали друг друга в темноте, с радостью убеждаясь, что все целы. Потом на ощупь стали пробираться в бомбоубежище, опасаясь, что лестница разрушена. Только оказавшись в подвале, я заметил, что истекаю кровью. Левая рука была сильно порезана — осколком стекла вырвало кусок мяса. Утром на следующий день я несколько часов провел в коридоре местной поликлиники. По наивности я думал, что виноват в единственном налете немцев на Краков после их ухода. Всего было сброшено три бомбы: одна на бывший немецкий склад, одна на пустырь, где я упражнялся с гранатой, а одна на соседнее здание.
Сразу же после освобождения я наблюдал некоторые вещи, на которые смотрел не только с недоумением, но и со стыдом. На улицах оставались трупы немцев, и поляки оскверняли их, справляя на них нужду или засовывая пустые водочные бутылки между ног.
Бродя по пустому чердаку, я наткнулся на тайник с целой кучей резиновых фигурок, изображавших сказочных героев вроде Белоснежки. Недавно как раз вновь открылся самый известный в Кракове игрушечный магазин «Филоус», и я отнес хозяйке несколько образцов. «Сколько их у тебя и что ты за них хочешь?» — спросила она.
«Полно, — ответил я и указал на витрину, — а хочу я вот это». Так я получил свой первый эпидиаскоп. Это была простая картонная коробка с линзой и креплением для лампы. Я все занимался этой штукой. Никто, даже Метек, не понимал моего пристрастия к ней.
А тем временем его родители предоставили меня самому себе. И вот однажды, когда я уже начинал наслаждаться свободным житьем под именем Романа Вилка, я услышал возглас, которого давно страшился: «Ремо!» Это был мой дядя Стефан, который заметил меня на улице.
Двоим из трех дядек со стороны отца теперь предстояло сыграть важную и не очень приятную роль в моей жизни. Младший из них, Стефан, большую часть войны скрывался в комнате в Кракове. За ним смотрела Мария, на которой он женился в гетто и которой, благодаря своей арийской внешности, удалось раздобыть фальшивые документы. Средний брат Давид, муж Теофилы, дочери пекаря, уцелел во время депортации, став капо в концлагере. Старшему, Бернарду, которого я больше всех любил, не повезло. Вскоре мы узнали, что он погиб — его насмерть забил капо, размахивавший стулом.
Дядя Стефан настоял, чтобы от Путеков я переехал к нему. Я без особого восторга подчинился. Многое из того, что мне пришлось пережить за эти четыре года, я никому не мог поведать, а уж ему тем более Я снова превратился в одиннадцатилетнего мальчика, который должен был подчиняться семейной дисциплине.
Из-за того, что я не ходил в школу, на меня смотрели как на дефективного. Дядю Стефана поразило мое невежество, и он попытался записать меня в школу, но поверхностная проверка показала мою полную неосведомленность в вопросах польской литературы и истории, не говоря уж об алгебре и геометрии.
Наконец мы узнали, что немцы капитулировали. Сигнальные ракеты и трассирующие пули прорезали небо, когда русские и польские солдаты устроили салют. [...]
Возрождались или заново создавались всевозможные организации. Мне нужно было куда-то присоединиться, и я записался к бойскаутам. Заполняя бланк, я написал: «Вилк, Роман». Помедлил на пункте «религия», потом написал: «Католик». Дело было не только в том, что моя настоящая религия могла бы помешать моему членству. Я просто чувствовал себя именно Романом Вилком, католиком. [...]
Отношения с дядей Стефаном становились все хуже и хуже, так что в конце концов тетя Теофила и дядя Давид взяли меня к себе. Втроем с семилетней дочкой Ромой они жили в тесной квартире вместе с целым семейством Горовицев. [...] Дядя Давид вновь открыл свой магазинчик, где продавалась сантехника и слесарный инструмент. Дела шли хорошо, ведь после войны нужно было много строить, и меня взяли помогать ему за прилавком. Я сразу стал великолепным продавцом и наслаждался жизнью, пока дядя Давид не занялся побочной деятельностью. Он закупил пластмассовые обложки для удостоверений личности и послал меня торговать ими на улице. Мне не нравилось таскать их на подносе и унизительно было предлагать ненужный товар равнодушным прохожим. [...]
Когда взрослых не было дома, я возглавлял театральные представления, которые мы устраивали с остальными ребятами. Превратив опрокинутый гардероб в сцену, мы одевались во взрослую одежду. Еще мы подобрали бездомного щенка, который потом исчез. Дядя Давид вроде бы тоже помогал искать его, но одна из девочек сказала, что он утопил его в реке, потому что в квартире и так тесно.
[...] Возможно, меня стимулировал вид собственного обнаженного тела, когда я раздевался в ванне после многих лет, проведенных в домах, где о ванных даже не слыхали, но так или иначе я узнал, что такое мастурбация. Это немного просветило меня по поводу того, почему взрослые поднимают такой шум вокруг секса. Беда в том, что я счел это занятие собственным изобретением, так что удовольствие портило сознание глубокой вины. [...]
Однажды один из уцелевших заключенных Маутхаузена привез весточку от отца. Я даже не помнил его почерк, да и вообще это было так хорошо, что даже не верилось, и я не расставался с запиской. Воспользовавшись случаем, дядя Давид попробовал объяснить мне, что мама не вернется. Я выслушал его, но в душе не поверил.
А однажды вечером, придя домой из магазина, я услышал на кухне до странности знакомый голос. Это был мой отец. Он пил водку с дядей Давидом и выглядел даже моложе, чем мне помнилось. Я бросился к нему с воплями радости, и он посадил меня к себе на колени. Столько времени меня никто так не ласкал! Несмотря на переполнявшую меня радость, я почувствовал себя неловко — я был уже слишком большой, чтобы сидеть на коленях. Почему-то я не смог рассказать отцу о Путеках, Бухала и жизни в Высоке. Мне хотелось забыть все это, к тому же я слишком стеснялся, чтобы объяснить ему, что чувствовал, как скучал без него и матери.
Он не упоминал о ней, я тоже. Он явно боялся прикоснуться к моему горю, а я боялся услышать его ответ, если задам роковой вопрос. Правду я узнал очень нескоро: она погибла в газовой камере через несколько дней после того, как ее забрали. Но даже и тогда у меня сохранялась надежда, что это ошибка и она вернется.
Сестра Аннетт выжила в Освенциме, но решила не возвращаться в Польшу, а уехала во Францию.
Отец провел с нами всего несколько дней, потом уехал по делам, а в Краков вернулся уже не один, а в сопровождении модной девушки с крашеными рыжими волосами.
С тех пор прошло много лет. Ванда, на которой он потом женился, со временем стала считать меня своим сыном. Поначалу же она недолюбливала меня так же, как и я ее. Их связь с отцом я воспринимал как предательство по отношению к матери.
С возвращением отца я не знал материальной нужды. Стал одеваться лучше и получать больше карманных денег, чем многие мои знакомые. Поскольку я упрямо отказывался жить с кем-либо из родственников, а с Вандой у нас отношения не складывались, отец стал снимать для меня комнату. Кроме того, нанял репетитора, чтобы помочь мне наверстать упущенное в образовании, и нашел школу, куда меня готовы были взять.
ГЛАВА 5
В 5 «А» меня посадили рядом с красивым худощавым подростком с презрительным выражением лица. На переменке мы немного поболтали, но когда настало время завтрака и мы вместе вышли во двор, я заметил, что он прихрамывает. Выяснив к концу занятий, что мы живем по соседству, мы отправились домой вместе.
Мы крепко подружились с Петром Виновским. Он происходил из среды варшавской интеллигенции. Отец его, скрипач, погиб во время войны. Мать, владелица ресторана и французской булочной, имела обширные связи. Была она очень толстая, сильно красилась, одевалась элегантно, но кричаще и мучилась печенью. Петр в детстве переболел чем-то вроде туберкулеза костей. Его хромота — результат неудачной операции. Он был очень неглупым, критически настроенным мальчиком с живым пытливым умом. Моей склонности к практическим делам у него не было, равно как и потребности отличиться, добиться успеха. Он насмехался над учителями, отказывался делать домашнюю работу. Мать баловала его до невозможности. Больше всего ему нравилось зло подшучивать над кем-нибудь, передразнивать, изображать из себя клоуна. Лучшего актера я не встречал. Мы питались фантазиями друг друга, разжигали воображение при помощи кино, оказавшегося нашим общим увлечением. О том, что Виновский любит кино, я узнал, когда вся школа отправилась смотреть фильм о польском национальном герое Тадеуше Костюшко. Кинозал был забит детьми, и мы никак не могли решить, что же нас больше раздражает: шумная аудитория или посредственный фильм. В тот же вечер мы пошли смотреть Эррола Флинна в «Робине Гуде», и нам понравилось.
После вызванного войной пятилетнего перерыва на польские экраны потоком хлынули зарубежные фильмы. Мы с Виновским стали все чаще и чаще ходить в кино, иногда по два раза на дню. Сначала нам нравились увлекательные приключенческие фильмы. «Робина Гуда» мы смотрели снова и снова. Когда мы были при деньгах, то покупали билеты у спекулянтов, а иногда и сами становились перекупщиками, чтобы заработать на два лишних билета.
Мы начали собирать программки с фотографиями и кратким содержанием фильма. Мы редко могли позволить себе купить и билет, и программку, поэтому отыскивали их в мусорных ящиках возле кинотеатров. Как-то раз мы наткнулись на несколько метров выброшенной пленки и с тех пор стали всерьез искать ее. Это оставалось нашей тайной. Больше всего обрезков удалось собрать из фильма «Белоснежка и семь гномов».
Со временем мы стали более разборчивы в пристрастиях. Несколько раз сходили на «Чудака» Кэрола Рида и на «Гамлета» Лоренса Оливье. Под впечатлением последнего (этот фильм я видел не меньше двадцати раз) я перечитал всего Шекспира в переводе на польский, представляя себе, как остальные его пьесы выглядели бы на экране.
У Виновского прекрасно получалось передразнивать персонажей диснеевской мультипликации. Они и американская комедия давали материал для наших клоунад. Мы мечтали вытащить рояль из комнаты пани Виновской и поставить его на улице. На эту мысль нас натолкнула сцена из фильма, в котором Лаурел и Харди, преследуемые обезьяной, умудряются переправить рояль по канатной дороге в Альпах. [...]
До встречи с Виновским я почти ничего не читал, кроме приключенческих рассказов Карла Мая. Виновский же открыл для меня «Голод» Кнута Гамсуна, «Виа Мала» Джона Ниттела, «Историю Сан-Мишеля» Акселя Мюнте и множество других хороших книг.
Из-за хромоты Виновский был не в состоянии присоединиться к бойскаутам, а я не мыслил жизни без моего школьного отряда № 22. [...] В конце года мы отправились в летний лагерь. Это были замечательные дни — мои первые настоящие каникулы. Нас ожидала масса приключений. Ехали мы в вагонах для скота. На одной из остановок произошел случай, за который мне потом было очень стыдно.
Вместе с одним мальчиком меня назначили охранять наше имущество, пока остальные обедали в вокзальном ресторанчике. Мой напарник заснул, а я нес службу у вагона. Сначала безразлично, а потом со все возрастающей тревогой я наблюдал, как локомотив перегоняет туда-сюда грузовые вагоны. Я увидел, как вагон покатился по пути, пересекавшемуся с нашим. Мне захотелось побежать, чтобы предупредить машиниста, но я испугался насмешек. С громким лязгом локомотив наехал на наш вагон для скота и смял его. Мой спавший сотоварищ выскочил как ошпаренный.
Я не мог себе простить, что не поднял тревоги. Если бы я это сделал, то стал бы героем. Из-за крушения мы застряли на два дня, потом последовал долгий переезд на грузовиках, во время которого меня сильно укачало. [...] Мы разбили палаточный лагерь на берегу озера к западу от Гданьска в местечке под названием Бытов. Природа вокруг была восхитительно красива. Этот месяц, который был задуман как своего рода курс по выживанию, стал самым увлекательным эпизодом моей школьной жизни.
Ротным командиром у нас был ветеран Армии Крайовой Лех Дзикевич, которого я просто боготворил. Он происходил из аристократической династии военных офицеров. Под его командованием мы несли службу строго по уставу. Одной из обязанностей было дежурство по кухне. Как-то раз, помыв кастрюли и сковородки в озере, повар оставил столько песка в картошке, что мы стали бросать ее ему в лицо. До вечерней поверки ничего не произошло, а на ней Дзикевич произнес: «Сегодня еду бросали мне в лицо». Наступила тишина. «Предназначалась она повару, — продолжил он, — но с таким же успехом могла быть брошена и в меня. Вас придется проучить».
Среди ночи нас поднял горн, мы оделись и маршировали в полной темноте. Старшины по полной форме провели с нами занятия по строевой подготовке, погоняв нас по плацу и по пересеченной местности. Не успели мы в изнеможении рухнуть у себя в палатках, как заиграли подъем, означавший начало еще одного дня тренировок. Условия были суровые, призванные воспитывать характер, но никто из нас не роптал. [...]
В другой раз, когда наши часовые заснули на посту, девчонки из лагеря по ту сторону озера стащили наш флаг. Они оскорбили нас еще больше, когда на следующее утро церемонно вернули то, что взяли. На это унижение мы ответили рейдом.
Наша экспедиция возмездия имела все признаки военной операции. Переправившись ночью на лодке, мы, двенадцать человек, разделились. Часть отправилась за флагами девчонок, другая пробралась к их палаткам. Мы свалили палатки, выдернув колышки, а потом быстро ретировались. Когда мы прыгали в лодку, то слышали звук рожков, свистки и негодующие вопли.
Летний лагерь запомнился и еще одним инцидентом, изменившим все течение моей жизни. День обычно заканчивался песнями у костра и разными короткими выступлениями. Поначалу я стеснялся принимать в них участие, но потом решил, рискуя навлечь на себя насмешки, попробовать свои силы. Мои импровизации с Виновским, умение передразнивать, часы, проведенные в кино, должны были теперь помочь мне. Я вызвался произнести комический монолог. Едва я начал, все мои страхи растаяли. Это был монолог крестьянина, повествующего о бедах, выпавших на его долю, когда он взял к себе в повозку двух туристов. Произносился он на горном диалекте. «Был чудесный день, — начал я. — Птички чирикали, лошадь у меня была славная». К моему изумлению, меня слушали внимательно и, где надо, смеялись.
Такое бывает раз в жизни: ты вдруг понимаешь, что способен доставлять удовольствие другим. Щуплый тринадцатилетний подросток, который выглядел еще моложе своих лет, я внезапно ощутил прилив уверенности в себе. Я понял, что именно этим и хочу заниматься — выступать перед другими, вызывать смех, быть центром внимания. С тех пор я беспрестанно организовывал и режиссировал все наши концерты и сам в них участвовал. Я нашел свое призвание
ГЛАВА 6
«Веселая компания» — так называлась детская радиопередача с коммунистическим настроем, выходившая в эфир два раза в неделю. В ней принимали участие дети.
Как-то диктор пригласил слушателей посетить студию, которая все еще располагалась на территории довоенной радиостанции. Я бегом бросился туда и в восторге бродил по помещениям. Несколько ребят репетировали перед микрофоном в застекленной кабине. Я остановился посмотреть на них.
За мной незаметно наблюдали двое взрослых. Темноволосая женщина лет сорока поинтересовалась, нравится ли мне программа.
— Она дрянная. Они захохотали.
— Правда? — женщина говорила вежливо, но снисходительно. — А почему?
— Дети говорят неестественно.
— А у тебя бы лучше получилось?
Я ответил, что да.
Мне предложили прочитать что-нибудь. Вместо стихотворения, которое они, вероятно, ожидали услышать, я прочитал монолог крестьянина. Где-то на середине я почувствовал, что снисходительность уступила место заинтересованности. Мне велели прийти через два дня на первую репетицию.
Я сделался постоянным участником «Компании». Мне платили профессиональное жалованье. Оно было мизерным, но я ужасно им гордился. Большую часть заработка я потратил на фотокамеру «Кодак». Никто из одноклассников эту передачу не слушал. Сюжеты казались им слишком детскими, мораль — скучной. Даже Виновский не разделил моего восторга.
[...] Женщина, заинтересовавшаяся мной на радио, была режиссером «Веселой компании». Мария Биллизанка, член партии, жена видного физика. Она также руководила Театром юного зрителя, где уже успели выступить некоторые из ребят с радио. Меня и Ренека Новака, еще одного новичка, тоже вскоре туда взяли. Моей первой ролью на сцене стал хорист в водевиле. Главную роль играл мой ровесник Юрек Злотницкий. [...]
Мария Биллизанка придерживалась твердых принципов по поводу того, как следует обращаться с юными актерами. Она требовала, чтобы мы серьезно относились к школьным занятиям и не считали себя исключительными личностями. Я же не мог оторваться от театра, экспериментировал с костюмами, париками, гримом. Один раз я сыграл, на мой взгляд, замечательную шутку — до полусмерти напугал пожилую актрису, страшно застонав в туалете. Она открыла дверь и увидела, что я лежу на полу, а из «раны» на запястье хлещет кровь. Даже на Виновского произвело впечатление, когда я сыграл с ним ту же шутку и показал, как это делается.
Биллизанка начала прослушивания на главную роль в пьесе по повести В. П. Катаева «Сын полка». Главная роль досталась мне.
Я работал с настоящими профессионалами, которые могли направить меня и научить азам профессии. «Сын полка» пользовался фантастическим успехом и получил блестящие отклики в прессе. Его выдвинули на участие в Варшавском фестивале советских пьес. Это была большая честь, и, кроме того, нам предстояла поездка в столицу.
Варшаву я едва узнал. Города, в котором я провел первые недели войны, больше не существовало. После восстания в гетто были разрушены целые кварталы. Другая, более значительная часть города превратилась в поле боя во время восстания 1944 года, и, наконец, перед уходом немцев Гитлер приказал сровнять город с землей.
После войны польские власти решили полностью восстановить старую часть города. Когда мы приехали, этот план только начинал приводиться в исполнение. Нас разместили в одном из немногих уцелевших зданий — в отеле «Бристоль». Меня поселили в одном номере со взрослым актером.
Когда мы вернулись в Краков, то увидели в газетах свои фотографии. Получили значительный денежный приз. Многие годы спустя Биллизанка призналась, что приз был присужден лично мне, но ее нежелание раздувать самолюбие юных актеров подсказало ей, что лучше разделить его между всеми.
У меня появились знакомые девочки. Мне очень нравилась блондинка, что играла в «Снежной королеве». На Новый год Юрек Злотницкий устроил в доме у родителей праздник. Я впервые попал на вечеринку с девочками, музыкой и танцами. Мы играли в «почтальон стучит», где победитель мог поцеловать партнершу. Я повел свою Снежную королеву на лестничную площадку. Медленно прикоснулся губами к ее губам, и мы немного постояли, покачиваясь. После вечеринки я летел домой, не чуя под собой ног от счастья. Одно мучило меня: я обнимал девушку, но не мог вспомнить ощущение от прикосновения ее грудей к моему телу и проклинал себя, что мысленно не зафиксировал этот момент.
Мне стало совсем не до ученья. Мы с Виновским ходили по краю пропасти. В конце года мы едва добились переходных баллов.
Однажды, вернувшись домой, я застал там учителя по религиозному воспитанию отца Гжешяка. Если учитель навещал ученика на дому, это было событие исключительное. Сердце у меня упало. Я догадывался, что он смотрит на меня косо из-за того, что произошло однажды в воскресенье в церкви. Я наизусть знал католические молитвы, но никогда не исповедовался. Я понимал, что это святотатство — принимать причастие, не исповедавшись. Отец Гжешяк демонстративно проигнорировал меня, когда обходил ребят с облаткой и потиром. И вот сейчас он сверлил меня своими голубыми глазками: «Где тебя крестили?» Я пролепетал что-то насчет того, что во время войны жил в деревне. «Где именно? — не унимался он. — Как звали приходского священника? Скажи, я ему напишу».
Я увертывался от его вопросов и ретировался к себе в комнату. Он пошел за мной. [...]
— Ты лжец, — наконец сказал он. — Тебя вообще никогда не крестили.
Тут он взял меня за ухо и подвел к зеркалу.
— Посмотри на себя. Посмотри на этот рот, глаза, уши. Ты не из наших.
С этими словами он торжественно вышел из комнаты. Я согрешил, не открывшись, что я еврей, но это получилось не потому, что я стыдился своего происхождения, а потому, что после проведенных в Высоке лет стал считать себя католиком. И вот теперь мой грех вышел наружу.
Хуже всего было то, что я подозревал, что настучал-то на меня не кто иной, как Виновский, просто смеха ради. Он как-то видел, что в пятницу вечером пани Горовиц зажигала свечи.
Как только Гжешяк ушел, я посмотрел на себя в зеркало. Я совсем не был похож на еврея — светловолосый, курносый, правда, для своего возраста очень маленький и щуплый. Я не мог изменить лицо, а вот фигура — дело другое. Я взял коробку из-под подушки и отправился на улицу, где натолкал в нее булыжников, оставленных дорожниками. С тех пор я стал ежедневно заниматься атлетизмом, решив, что больше меня уже никто не сможет унизить.
[...] В пятнадцать лет ребята в Польше либо переходили в лицей, который готовил их к университету, либо отправлялись в ремесленное училище. Отметки у меня были плохие, так что для лицея я не годился, а Виновский все же сумел туда поступить. Меня всегда интересовала механика, и я обрадовал отца, получив направление на электротехническое отделение Краковского горноинженерного колледжа. Но я почти сразу понял, что попал не туда. Физика и химия наводили на меня скуку; математику я вообще не понимал. Нравились мне лишь электрика и техническое черчение.
А тем временем мое увлечение атлетизмом нашло новую форму. Постепенно отдаляясь от Виновского, я сближался с Ренеком Новаком, который, как и я, увлекался велосипедом и театром. Мы вместе записались в спортивный клуб «Краковия» и начали изнурительные тренировки, которые должны были подготовить нас к соревнованиям на треке и пересеченной местности.
Когда мой велосипед был в порядке, я проезжал до двухсот километров в день. Велосипед стал страстью, грозившей затмить мою любовь к театру. Я чувствовал, что могу достичь многого, но только если у меня будет настоящий гоночный велосипед. Я тактично намекнул отцу, но тот никак не отреагировал. Он был очень щедр во многих отношениях, но не желал бросать деньги на никчемное и опасное времяпрепровождение.
Когда начался гоночный сезон 1949 года, мне очень хотелось заработать достаточно очков, чтобы меня заметили в клубе, а то и включили в его официальную команду. Я показывал хорошее время, особенно на треке, но поломки выводили меня из себя. Я беспрестанно обсуждал эту проблему с Ренеком Новаком и еще одним мальчиком по имени Мариан Скальный. [...] Однажды какой-то парень услышал наш разговор и посочувствовал мне. Оказалось, он знал про один довоенный гоночный велосипед, находившийся в прекрасном состоянии, и готов был продать его мне за гроши. Тогда «довоенный» было синонимом лучшего, что можно купить за деньги. Само провидение послало мне этого Януша Дзюбу, решил я.
Я должен был бы догадаться, что в его предложении не все чисто, но устоять перед соблазном не мог. К тому же у него было честное открытое лицо. Продав на барахолке два гоночных колеса и добавив к этому свои скудные сбережения, я мог приобрести настоящий гоночный велосипед. Мы засыпали Дзюбу вопросами. Он ничего не понимал в велогонках, он так красочно описал велосипед, что еще сильнее распалил мое воображение. Велосипед якобы хранился на чердаке у одной старушки. Где именно, он не уточнил.
Через несколько дней я отправился по адресу, который с трудом выклянчил, но там никто ничего не знал. Позже по чистой случайности я встретил Дзюбу на барахолке и кинулся к нему с расспросами. Мы договорились увидеться в четверг на площади Свободы. Я продал колеса, и 30 июня, накануне летних каникул, стал ждать парня перед УБ — польским аналогом КГБ. Со мной пошел Мариан, у которого наша сделка вызывала подозрение.
Дзюба опоздал. В руках он нес что-то завернутое в газету. Он отвел меня в сторону.
— Это кто с тобой?
— Как это кто? Ты же с ним встречался. Все в порядке.
То, что Дзюба разозлился из-за того, что я привел с собой друга, и у меня вызвало подозрения, что велосипед краденый. Но отступать было поздно.
— Где он? — спросил я.
— В бункере.
Я хорошо знал это место, хотя внутри сам никогда не бывал. Немцы во время войны построили в парке бомбоубежище. Ведшая вниз бетонная лестница регулярно использовалась прогуливающимися по парку людьми как туалет. Место было мерзкое. Даже если велосипед и краденый, Дзюба уж очень осторожничает, подумал я.
— Ты останешься здесь, — сказал Мариану Дзюба, когда мы направились к парку. Он двинулся вниз по лестнице, обходя нечистоты. — Свиньи, готовы гадить где угодно, — проворчал он.
Он поджег газету, поднял ее над головой, как факел, и пошел впереди меня.
— Где велосипед? — спросил я.
— За поворотом, — ответил он. Огонь вспыхнул в последний раз и потух. Было совершенно темно. Теперь я шел ощупью по стенке чуть впереди Дзюбы.
Внезапно меня будто током пронзило. Ощущение было знакомое, и сначала я подумал, что схватился за голый провод. Потом понял, что лежу на бетонном полу и кто-то ударил меня по голове. Я решил, что напавший прятался впереди в нише, и ждал, пока я подойду поближе. Потом почувствовал, что Дзюба склонился надо мной и услышал его голос.
— Где деньги? — шептал он. Слова растаяли, как звук далекого радио.
— У Мариана — соврал я.
Дзюба перевернул меня и нашел бумажник в брючном кармане. Затем он сорвал у меня с руки часы — подарок отца, которым я очень дорожил, — и бросился бежать.
Шатаясь, я добрался до вентиляционного люка. Под ним на полу была куча грязи. Я взобрался на нее и, встав на цыпочки, ухватился за края. Мариан в ужасе смотрел на меня сверху.
— Езус Мария! — воскликнул он. — Ну и отделал же он тебя!
— Он все забрал, — выпалил я.
— Жди здесь, — сказал Мариан и бросился бежать.
Я подтянулся и вылез через люк. Все еще шел дождь. Я посмотрел на себя и увидел, что перед рубашки залит кровью. Меня заметила женщина в серой шинели. Она, ахая, подошла ближе. Я отпихнул ее, оставив на одежде кровавый отпечаток своей руки.
Я ощущал во рту вкус крови, чувствовал, как она стекает по лицу. Но мне было все равно. Единственное, о чем я думал, как объяснить отцу пропажу часов.
В этот момент ко мне подъехала большая мусорная машина. Сверху сидел Мариан с одним из грузчиков.
— Ромек! — крикнул он, жестом подзывая меня.
Человек, стоявший на подножке, помог мне взобраться на грузовик. Там уже сидел Дзюба. Задержал его шофер. Дзюба даже не сопротивлялся. Теперь он смиренно попытался всучить мне бумажник и часы.
— Не бери, — быстро сказал водитель. Я не взял.
В полицейском участке Дзюба начал придуриваться — хихикать, прыгать на одной ножке. Над умывальником в участке я оценил размеры увечий. На голове было несколько глубоких ран. Меня отправили на «скорой» в больницу. Мариану я велел говорить всем, что упал с велосипеда. По пути в больницу врач начал задавать вопросы и заполнять документы. К тому времени голова у меня начала кружиться. Я вспомнил название улицы, на которой жил, но номер дома забыл, вспомнил месяц рождения, а число не мог.
В больнице мне сделали рентген. Потом побрили голову. Она чертовски болела. Наложив швы, меня поместили в тесную палату. Врач сказал, что меня ударили пять раз, чему я очень удивился. Я мог вспомнить лишь первый, оглушивший меня удар. По словам доктора, пару недель мне придется пролежать в больнице. Еще повезло, что мне череп не проломили.
Насколько мне повезло, я оценил лишь позже, когда ко мне пришел следователь. Никакого велосипеда, конечно, не было и в помине, Дзюба принес лишь завернутый в газету камень. Я спросил, что ему грозит. Следователь провел пальцем по горлу. Я решил, что он меня разыгрывает. «Это за то, что треснул меня по башке?» — спросил я.
Следователь кисло улыбнулся: «Благодари Бога, что у тебя прочная черепушка, приятель». Дзюба был в розыске, за ним числились три убийства. Ему уже доводилось убивать людей и за меньшие ценности, чем пара гоночных колес и часы.
Я вздохнул с облегчением — за покупку краденого меня не привлекут. Теперь беспокоило меня лишь то, как отреагирует на это приключение отец. Он и так считал меня неудачником, не разделял моего увлечения театром, ужасался моим школьным «успехам» и сожалел о моей страсти к велосипеду.
И вот теперь я еще и его часы потерял.
ГЛАВА 7
Как выяснилось, наказывать меня не собирались. Ванда и отец, которые пришли меня навестить, не столько осуждали меня, сколько радовались, что я избежал смерти от рук безжалостного убийцы. Сам я беспокоился о более земных вещах. С велосипедом без колес едва ли можно было надеяться победить в гонках.
Отец настоял, чтобы я долечивался подальше от места событий, и отправил меня на месяц на горный курорт Рабка. Там я встретил девушку, чье имя до сих пор ассоциируется у меня с невинностью, молодостью и красотой.
Кристине Клодко было четырнадцать лет. У нее было лицо сказочной принцессы и высокая грудь. Двигалась она изящно, как балерина. Однажды мы играли в «почтальон стучит». Один из приятелей, заметив, что я не спускаю с Крыси глаз, подыграл мне. Я получил право на ритуальный поцелуй предмета моего платонического обожания. Мы вышли в фойе. Уже стемнело, и все было залито лунным светом. Я нерешительно обнял девушку и с восторгом и трепетом почувствовал, что она ответила мне. Губы ее были мягкими и теплыми.
Потом мы с Крысей часами вместе плавали, бродили, разговаривали. Это была первая девушка, с которой я мог болтать, не испытывая смущения. При этом обнаружились большие пробелы в моем образовании. Она и ее друзья знали столько всего помимо кино и театра!
Перед отъездом Крыся оставила мне свой краковский адрес. Но я не решался зайти к ней. У меня родилась мечта: как только я починю велосипед — буду ездить по ее улице. Если встретимся, то вроде бы случайно. Но мечта так и осталась мечтой. Крысю я больше не видел, хотя долгие месяцы и даже годы не переставал думать о ней.
Насчет Дзюбы инспектор оказался прав — его приговорили к смертной казни и повесили. Мне на память остались шрамы на голове. Я снова взялся за работу в театре. Мне начало надоедать, что Биллизанка относится ко мне как к ребенку. И когда Ренек Новак предложил мне поступить в труппу кукольного театра «Гротеск», я тут же согласился, хотя и догадывался, что это пагубно скажется на учебе. Атмосфера там была совсем иной, чем в Театре юного зрителя. К нам с Ренеком относились как ко взрослым, и в этой новой среде я стал постепенно отказываться от своих бойскаутских принципов. После репетиций за кулисами выпивалось немало водки, а в фойе театра регулярно устраивались вечеринки.
Одну из них организовали накануне Нового года. Еды и выпивки было вдоволь. В укромных уголках театра жались парочки. Друзья-актеры подсунули мне девушку — восемнадцатилетнюю брюнетку с большим бюстом, очень сексуальную. «Покажи ей театр», — ехидно посоветовали они, а она незамедлительно приняла это предложение. Я понял, что речь идет не о том, чтобы показать ей коллекцию зверей из папье-маше. Нервы у меня сдали. Под насмешливым взглядом девушки я придумал какое-то жалкое извинение и сбежал. Вернувшись домой, я пожалел, что струсил. Несмотря на платонические чувства к Крысе, меня жгло желание, и я проклинал себя за то, что дал слабину.
Из-за работы в театре я часто пропускал уроки. В результате меня оставили на второй год. Это был не просто позор: сама перспектива получения аттестата становилась весьма туманной. Если я не получу этот самый заветный документ — matura, то не только не смогу поступить в драматическую школу, о чем втайне мечтал, но и загремлю в армию.
У меня появилось свободное время, и я посвятил его спорту. В частности фехтованию. Что же касается лыж, то интерес к ним не угасал никогда, даже в период увлечения велосипедом. Я стал неплохим спортсменом. Лыжная секция в клубе «Краковия» была сравнительно новой, так что у молодежи, показывавшей неплохое время, вроде меня, были неплохие шансы. Я начал есть, как лошадь, чтобы набрать вес для соревнований по скоростному спуску. В коммунистической Польше спорт предоставлял большие возможности. Член национальной сборной мог попасть за границу и увидеть заветный Запад. [...]
Начиналось ужесточение сталинского режима. Моему отцу, мелкому предпринимателю, досаждали правительственные инспектора, его душили налогами. Виновским, которым оставили всего две комнаты, теперь предложили освободить еще и кухню, хотя великодушно позволили пользоваться туалетом. Ресторан пани Виновской национализировали.
[...] Мое поколение выражало протест против сталинизма всеми доступными способами. Слушали «Голос Америки» и Радио американских вооруженных сил, по которому беспрестанно передавали джаз, одевались как можно более вызывающе. Официально нас называли «хулиганы». Респектабельные жители Кракова называли нас «bazanty» («фазаны»). Особым шиком у «фазанов» считались ботинки с железными набойками на носках. Конечно, узкие брюки, клетчатая или вельветовая куртка с широкими плечами и галстук большим узлом. Волосы зачесывались кверху, а сзади получалась «косичка». Истинные «фазаны» украшали сие творение матерчатой кепкой, сдвинутой набок и торчащей сзади благодаря подложенной внутрь газете. Прежде чем войти в одно из наших заведений, нужно было по традиции сплюнуть на руки и вытереть их о волосы. После драк на полу в кафе обычно оставались клочья газет из кепок.
[...] Во время летних каникул 1950 года я рисовал анатомические этюды и архитектурные сооружения и с этой-то коллекцией явился в Краковскую школу изящных искусств к директору Влодзимежу Ходысу. Одевшись как можно скромнее, я ждал перед его кабинетом. В открытую дверь мне было видно, как в студии высокий рыжеволосый студент лепит копию гипсовой бычьей головы. Работая, он напевал красноармейскую песню. Я с благоговением смотрел на человека, чувствовавшего себя как дома в столь престижном заведении.
— Русские знают толк в песнях, — сказал я. Он улыбнулся в ответ.
— Это верно.
Так закончился мой первый разговор с Яном Тышлером. Через секунду меня снова пригласили в кабинет директора и сообщили, что я принят на второй курс. Школа изящных искусств изменила мое отношение к ученью. В том, что я стал прилежно заниматься, была большая заслуга самого Ходыса, чьи лекции по истории искусств вызывали желание побольше почитать по этому предмету. В сталинистской Польше Ходыс был аномалией, автократом, который руководил школой так, будто она была его вотчиной. У него был тонкий голос с явным львовским акцентом. Мы едва ли догадывались о том, что он гомосексуалист, хоть он и был холостяком и брал к себе на квартиру любимых учеников. Мы смеялись над его манерой двигаться и разговаривать, не подозревая, что передразниваем повадки гомосексуалиста. Но это не мешало ему оставаться гениальным учителем.
Вскоре я поближе познакомился с третьекурсником, к которому обратился в первый день в школе.
Я с радостью обнаружил, что Тышлер разделяет мое увлечение кино и любит фотографировать. Целыми днями мы снимали, а потом ночь напролет проявляли и увеличивали снимки. [...] По его инициативе я перескочил сразу на третий курс. Мне открылся новый мир, навсегда изменивший мой образ мышления.
Власти позволяли изучать лишь официальное искусство и литературу социалистического реализма, но наших преподавателей больше интересовало искусство, а не политика. Они открыли для меня труды Витольда Гомбровича, которые подготовили меня к восприятию Бруно Шульца, а затем и Кафки. Хотя программой не предусматривалось изучение других течений — я раньше даже не слышал об импрессионизме, — преподаватели нашли выход. На видном месте они оставляли открытую книгу с иллюстрациями кубистов или сюрреалистов. Всякий, кто хотел, мог вкусить запретный плод. Для меня было потрясающим открытием, что художники могут искажать реальность на своих картинах.
В Школе изящных искусств я начал встречаться с первокурсницей Ханкой Ломницкой — не в последнюю очередь потому, что она была сестрой горячо любимого мной актера. Она даже внешне напоминала Тадеуша.
Поначалу у нас с Ханкой были простые целомудренные отношения. Мы вместе ходили в кино, в музеи, на поэтические чтения. [...] Но если бы было где, мы почти наверняка легли бы в постель. И вот однажды ее мать на четыре дня уехала в Варшаву, и квартира осталась в распоряжении Ханки. Она сказала, что приготовит для меня обед — на молодежном языке это означало приглашение провести ночь вместе. Однако когда я пришел, она передумала. Обиженный, я ушел и старался как можно дольше избегать ее. Когда мы все-таки встретились, я заявил, что впредь нам лучше не видеться. Она расплакалась, но я был неумолим. В отместку она начала встречаться с Петром Виновским.
Мы с ним теперь были в разных школах и виделись только от случая к случаю. Когда у него с Ханкой возник роман, наше общение и вовсе стало эпизодическим. Ренек Новак, неизменный источник сплетен, сообщил мне, что Виновский очень любит Ханку. У меня сложилось впечатление, что Виновский нарочно избегает меня, потому что чувствует себя неловко, встречаясь с моей бывшей подружкой.
Но однажды он подловил меня возле школы. Сообщил, что его мать умерла от цирроза печени. Мы оба не знали, что сказать. Потом, когда мы вместе шли по улице, он вдруг расхохотался. Это не было проявлением черствости — просто спонтанной реакцией на абсурдность и несправедливость жизни вообще. В мире, устроенном рационально, все должно было быть по-другому — там матери не умирают, бросив детей на произвол хищных жильцов-коммунистов, и не оставляют без средств.
— Эти новые хозяева времени не теряют, — сказал Петр. — Попомни мои слова, они займут комнату, прежде чем остынет ее кровать. А пока давай устроим вечеринку.
Рояль, который мы когда-то хотели спустить по лестнице, исчез. В знак любви Виновский после смерти матери подарил его Ханке, которая брала уроки музыки и не имела своего инструмента.
Новак познакомил меня с другой девушкой. Он предупредил, что ей всего четырнадцать, однако в постели она великолепна. Я был на три года старше, но выглядел моложе своих лет. Мне отчаянно хотелось с кем-нибудь переспать, но я боялся, что из-за моего роста ни одна девчонка на меня даже не взглянет.
Моя новая подружка была не такая, как Ханка, — худенькая, очень хорошенькая и чувственная. Похоже, я ей понравился. И уж, конечно, ни одна девушка не смотрела на меня таким смелым, знающим, зазывным взглядом. [...] Я твердо решил этой возможности не упустить.
1 мая 1950 года я предложил ей отправиться не на парад, а домой. Она согласилась. С предусмотрительностью, достойной бывшего бойскаута, я попросил ключ от квартиры Виновского. Поднявшись наверх, мы направились в бывшую комнату его матери. Девушка пожаловалась на жару.
— Почему бы нам не раздеться? — предложил я.
Она мгновенно согласилась. В первый раз я оказался наедине с обнаженной девушкой. Когда мы целовались, я заметил, что один глаз у нее голубой, а другой карий.
Я подвел ее к кровати и тоже разделся. Презервативы были у меня наготове — я уже столько времени таскал их с собой. В нашей среде заниматься сексом «в открытую» считалось верхом безответственности. Девушка привычно устроилась подо мной, притянув меня к себе. И вдруг я представил себе, как всего несколько дней назад на этой же самой кровати пани Виновска испустила свой последний вздох. Я замер.
— В чем дело? — спросила девушка.
— Знаешь что, давай лучше на полу.
Она решила, что я извращенец. Я сдернул побитое молью клетчатое одеяло и случайно расстелил его перед большим зеркалом, приставленным к стене. Получилось, что впервые я занимался сексом перед зеркалом. Она, должно быть, почувствовала мою неопытность и спросила:
— Ты в первый раз? — Я ухмыльнулся, будто вопрос был абсурден, но она пристыдила меня: — Жаль, а я думала — в первый.
Мы встречались еще несколько раз и занимались любовью везде, где удавалось найти уединенный уголок, — в парке, в кустах. Потом я стал гулять с другими девочками, потерял ее из виду и теперь даже не помню, как ее звали.
ГЛАВА 8
Однажды воскресным утром 1950 года я заметил, что люди ведут себя как-то странно. Все высыпали на улицы, совершенно незнакомые люди подходили друг к другу, собирались группами. По лицам, то лихорадочно оживленным, то застывшим и посеревшим, было видно, что случилось что-то страшное.
Так оно и было. Правительство объявило польскую валюту недействительной. За одну ночь миллионы людей лишились своих сбережений, а немногие еще уцелевшие мелкие предприниматели, среди которых был и мой отец, разорились. У меня никаких сбережений не было, поэтому лично меня все это не коснулось. Но этот произвол возвестил о начале новой эры — о превращении Польши в одно из самых репрессивных полицейских государств Восточной Европы. [...]
Власти пытались изменить настроения людей, в особенности молодежи. Началась усиленная пропаганда комсомола (ZMP). Многие мои одноклассники, не выдержав напора, вступили в школьную организацию, а я уже настолько разочаровался в коммунизме, что держался от всего подальше. Секретаря в нашей организации полагалось выбирать, но Ходыс назначил им одного из студентов младших курсов, который жил у него в доме.
В это же время мы с Тышлером попали в немилость к Ходысу. Если раньше его самовольство шло нам на пользу, то теперь мы начали от него страдать. Может, мы ему надоели, а может, ему претила наша независимость. Так или иначе, хоть мы и были самыми многообещающими на его курсе, он начал нас донимать.
У него была причуда — перед уроком читать из немецкой романтической поэзии в оригинале. Тышлер решил пропустить эти чтения в первый послеканикулярный день и поехал во Вроцлав к матери. Когда он вернулся, его исключили из школы.
Я кинулся в кабинет к Ходысу. Если я все объясню про бедного Яна, про то, как важно его матери, чтобы он приезжал к ней, какой он хороший парень, как серьезно относится к работе, Ходыс наверняка восстановит его.
— Убирайся! — заверещал он. — Ты больше не мой студент.
В класс я вернулся как во сне.
Если бы Ходыс приговорил меня к смерти, это вряд ли произвело на меня большее впечатление. Передо мной будто пропасть разверзлась. После стольких лет неудач и разочарований я наконец нашел свое место. И вот рай потерян. Отчаяние было столь глубоко, что я всерьез подумывал о самоубийстве.
С трудом мне удалось найти школу в Катовице, куда меня согласились принять. Я проучился там несколько месяцев, но и тут мне повезло, как утопленнику. Председателя экзаменационной комиссии там всегда приглашали из другой школы. В этом году выбор пал как раз на Ходыса. Экзаменационная неделя была чистым адом. Напоследок Ходыс потребовал, чтобы для получения его подписи я явился к нему в Краков. Не сказав ни слова, даже не удостоив взглядом, он подписал документ и швырнул его через стол.
Вскоре Ходыс остался в прошлом. Я должен был сняться в кино, и он был бессилен этому помешать.
Мне опять помог «Сын полка». Группа студентов из Лодзинской киношколы снимала дипломный фильм на натуре в двух часах езды от Кракова, там, где строилась большая дамба, и меня пригласили на маленькую роль. Мне было велено ждать вызова. Назначенный срок давно прошел, а приглашения так и не последовало. Испугавшись, что про меня забыли, я отправился на съемки сам.
До места я добрался только к вечеру. В отеле царила страшная неразбериха, которую способна породить лишь съемочная группа. Съемки затягивались, поэтому-то меня еще не вызывали. Но раз уж я приехал, то разрешили остаться. «Пусть живет со мной в одной комнате», — предложил похожий на еврея лысый парень в очках, Ежи Липман. Он учился на оператора.
Я получил возможность наблюдать, как делается настоящий фильм, и впитывал объяснения Липмана, когда ночами надоедал ему вопросами. Я общался с этими мифическими личностями — дипломниками Лодзинской киношколы, среди которых был и Анджей Вайда.
Любопытно, что «Три истории» сначала были задуманы как «Четыре истории», чтобы дать возможность проявить себя четырем группам студентов. Однако первые три группы уже выбрали лимиты, и для Вайды места в фильме не осталось.
Я играл крестьянского мальчика. Первый же день съемок стал для меня откровением. Я понял, что именно с этими людьми хочу быть отныне и навсегда, жить их жизнью, говорить с ними на одном языке.
Рассчитывать на Лодзинскую киношколу мне было еще рано, для начала я решил попытать счастья в Краковской драматической школе. К экзаменам я готовился вместе с Адамом Фьютом и Ежи Васючинским.
Первый этап экзаменов, после которого из сотни претендентов осталось около пятидесяти, я преодолел без труда. Потом мы неделю занимались с преподавателями школы, которые присматривались к нам, одновременно готовя нас к заключительному экзамену: нужно было прочитать два стихотворных произведения — современное и классическое.
В день экзамена я чувствовал себя уверенно и в успехе не сомневался.
Вывесили списки принятых. Своего имени я не нашел. Мне объяснили, что меня не приняли из-за роста: ролей для таких актеров очень мало. «Да, конечно, если измерять талант на дюймы» — парировал я.
Оставалась одна надежда — драматическая школа в Варшаве. Но там большое внимание обращали на пролетарское происхождение и членство в ZMP. Я все же решил подать заявление. Увы, его даже рассматривать не стали.
За бутылкой водки и клубничным сиропом мы с Виновским обсуждали мои беды в единственной оставшейся в его распоряжении комнате. У него положение было еще хуже, чем у меня. Из-за «буржуазного» происхождения и плохих оценок его выгнали из лицея. Хромота делала его непригодным для службы в армии. Теперь он был безработным, без средств существования и каких-либо перспектив.
Вместе с другими юношами, желавшими получить освобождение от армии, я совершенно голый стоял по стойке «смирно» перед комиссией. Меня спросили, почему я не был членом комсомола. Я объяснил, что прошу освобождения от службы, чтобы поступить в цирковую школу. Все рассмеялись. «Нам что — клоунов не хватает?» — спросил кто-то. Полковник посовещался с остальными офицерами. Полистав инструкции, он сообщил мне, что цирковая школа не входит в число учебных заведений, дающих право на освобождение от армии.
Так был подписан мой приговор. Только Божественное вмешательство способно было помешать моему призыву. Божественное вмешательство или моя собственная инициатива. Уж лучше я сбегу на Запад, только бы не служить.
За разработку плана побега я взялся все с той же наивной изобретательностью, с которой строил себе гоночный велосипед. Сначала мелькнула мысль пробраться в Восточную Германию по реке и каналу. Стену тогда еще не построили, так что шансы попасть в Западный Берлин были. Для этого я надумал смастерить одноместную подводную лодку с педальным двигателем, замаскированную под затонувший ящик. Но от этой затеи пришлось отказаться — уж слишком много вставало технических проблем. Тогда я решил добраться до Борнхольма, датского острова в шестидесяти милях от польского берега я продал велосипед и на вырученные деньги купил лодку-каяк. В течение зимы я тренировался на Висле и понял, что у меня нет никаких шансов, разве что море окажется спокойнее мельничного ручья.
День призыва приближался. Надо было решаться. Я продал каяк и уехал в Катовице. Там проходили транзитные поезда из Москвы в Париж. День за днем я торчал на платформе изучал расписание, смотрел, как приходят и уходят трансъевропейские экспрессы. Заметив, какие вагоны следуют до самого Парижа, я стал совершать на них разведочные рейды в поисках подходящего укрытия. Наконец я решил соорудить фальшивый потолок над дверью в туалет. Он должен был представлять собой замаскированный под часть вагона ящик, в котором я мог бы поместиться. Потребовалась не одна поездка, чтобы уточнить все параметры, взять образцы цвета и сделать восковые отпечатки углов, которые имели неправильную форму, потому что крыша вагона была покатая, а стены — округлые.
Во время одной из тайных поездок в Краков (я убедил отца, что уже учусь в цирковом училище) я зашел к Адаму Фьюту, единственному человеку, которого посвятил в планы побега. Выглянув из окна его дома, я заметил во дворе Петра Виновского. Выглядел он ужасно — бледный, изможденный, одежда грязная, чуть ли не лохмотья. Он сказал, что работает под землей, в угольной шахте в Силезии. В Кракове жить ему было больше негде — подселенные оккупировали всю прежнюю квартиру. Он не утратил способности смеяться над своими злоключениями и веселить нас, но в нем чувствовалась какая-то обреченность. В ту ночь мы спали втроем в одной кровати — Адам, Петр и я, хотя из-за непрерывного кашля Петра выспаться не пришлось. Утром он ушел. Больше мы его не видели. Вскоре он умер в Силезии. Как и отчего мы так и не узнали.
От идеи фальшивого потолка тоже пришлось отказаться — облюбованный тип вагона вдруг сняли с трансъевропейских рейсов. После длительных наблюдений я присмотрел французский вагон, регулярно останавливавшийся в Катовице на пути из Москвы в Париж. На сей раз я решил спрятаться в самом туалете за низким панельным потолком, который, по-видимому, скрывал трубы. Но, чтобы уместиться там, мне требовались помощники. Я обсудил этот вопрос с Адамом Фьютом и Ежи Васючинским. Хотя за соучастие в попытке бегства им обоим грозило длительное тюремное заключение, они вызвались помочь. Ни тот, ни другой никогда не заговаривали о том, как они рисковали. За это я был им вдвойне благодарен.
Мы втроем сели на поезд в Катовице. Адам и Ежи прихватили с собой водку, которой намеревались отметить мое бегство.
Почти сразу же возникла проблема. Панельный потолок еще ни разу не снимали, так что винты были замазаны краской. Нам никак не удавалось зацепить их отвертками, к тому же чем больше мы усердствовали, тем чаще отвертки срывались и царапали краску вокруг. Адам все время оставался спокоен, как удав. Следивший же за коридором Ежи начал заранее праздновать мой побег. Обливаясь потом в жарком вагоне, он заявил, что для поддержания сил ему необходимо глотнуть водки.
В конце концов мы отвинтили достаточно винтов, чтобы отогнуть край панели и заглянуть внутрь. Я как раз уместился бы там, но Адам и Ежи не успели бы привинтить панель обратно, прежде чем мы доехали бы до границы. Да и исцарапали мы ее так, что и мимолетного взгляда хватило бы, чтобы вызвать подозрения пограничников.
— Бесполезно, — сказал я. — Давайте привинтим его обратно и смоемся.
У нас едва хватило на это времени, прежде чем поезд остановился на польской стороне границы. В тот вечер на обратном пути в Катовице все мы крепко напились.
От идеи побега я не отказался. На худой конец я попытаюсь перейти границу пешком. Однако деньги у меня кончились, и я отправился к отцу. Отношения у нас тогда были не из лучших, мы не виделись месяцами. Я соврал, что в цирковой школе каникулы. Ванды не было дома, отцу надо было уйти по делам, так что денег я попросить не успел.
Я сидел в полном одиночестве и обдумывал свою участь, когда зазвонил телефон.
Звонил Ежи Липман, оператор, с которым я познакомился во время съемок «Трех историй». Анджей Вайда снимал свой первый полнометражный фильм, и мне предлагали большую роль.
ГЛАВА 9
Когда Вайда задумывал свой первый фильм, партийные и министерские аппаратчики в кино ничем не отличались от своих коллег в других сферах. Все они поднялись по партийной лестнице ценой приспособленчества. Все оригинальное, необычное вызывало у них подозрения. Они были не только необразованны, но и упрямы. [...] Вайда с юношеским задором решил сломать тупые официальные каноны.
Внешне фильм «Поколение», на который меня вызывали в Варшаву, ничем не отличался от других польских фильмов о Сопротивлении во время войны. Если бы Вайда в сценарии отошел от принятых норм, ему никогда не разрешили бы снимать.
Нестандартной была манера повествования. Это становилось очевидно уже с самого начала, с первого кадра. Панорама варшавских трущоб сменялась крупным планом. Сцена нацистской оккупации была снята в нарочито документальной манере, в то же время в ней явственно ощущалось влияние итальянского неореализма. Но было в фильме и что-то исконно польское.
[...] Мне предложили 240 злотых в день. Это была низшая из возможных ставок. Я мог бы потребовать больше, но мне это и в голову не приходило. Достаточно того, что я стал членом коллектива, включавшего нескольких старых друзей и кинематографистов, которыми я восхищался. Оператором у Вайды был Ежи Липман, среди актеров — Збигнев Цибульский. Мне наконец-то удалось познакомиться с идолом моей юности Тадеушем Ломницким, который играл главную мужскую роль. Я помалкивал о том, что у меня с его сестрой был роман.
«Поколение» — фильм молодых. Тридцатидвухлетний Ежи Липман был старше всех, включая Вайду. Не считая «Трех историй», никто прежде не работал над полнометражной лентой. Все мы понимали, что Вайда задумал сделать нечто необычное. Он не был режиссером-диктатором, а любил работать со своей группой, всегда приветствовал новые идеи, обсуждал разные варианты. Очень интересно было смотреть на него за работой и самому вносить пусть скромный, но свой вклад в творческий процесс.
Я постоянно околачивался на съемочной площадке, как некогда в театре. К тому времени я перечитал все, что смог раздобыть по кино, и меня в равной степени интересовало освещение, операторская работа, звукозапись, спецэффекты и актерская игра.
«Поколению» сильно досталось на предварительных просмотрах. Некоторые сцены пришлось переснять, чтобы усилить «идеологическую направленность», другие же совсем вырезали, включая классную драку между Цибульским и мной. То «Поколение», которое увидел и которым восхитился мир, было лишь бледной тенью первоначального замысла Вайды.
Весной 1953 года всем полякам выдавали новые удостоверения личности, за которыми надо было явиться в полицейский участок. Я опасался, что если военное ведомство меня ищет, в участке об этом знают. В июне я все же собрался с духом и решил пойти за удостоверением, сказав себе, что в крайнем случае попробую сбежать. Порывшись в папках, дежурный офицер, ни слова не говоря, протянул мне новое удостоверение. В графе «род занятий» было написано: «Студент». Я так и не узнал, как мне удалось проскочить сквозь бюрократическую машину.
Я снова мог открыто жить в Кракове. Судьба, похоже, наконец-то улыбнулась мне. Меня пригласили в Лодзь на пробы фильма о велогонках, и я получил роль. Фильм «Заколдованный велосипед» должен был сниматься следующим летом. [...]
На блошином рынке я познакомился с Везлавом Зубрыцким, выпускником Краковского университета, специалистом по истории искусств, не скрывавшим своего презрения к новым порядкам. Он держался предельно откровенно, был католиком и ярым реакционером в политике. Благодаря ему я стал бывать у краковской знати, обитавшей в обветшалых особняках или тесных квартирках и распродававшей свои последние семейные реликвии. Разговаривали они по-французски, а о Западной Европе говорили так, будто она до сих пор составляла часть их повседневной жизни. Меня потрясала их образованность, их утонченность. Мои новые друзья — все как один диссиденты — каждый по-своему выражали протест против безликой тирании коммунистов. Свое презрение к власти они подчеркивали, проявляя интерес к современной западной литературе и музыке, особенно к джазу, занимаясь будто из принципа гомосексуализмом. Им казалось, что нарочитое безделье и пьянство тоже доказательства свободы духа.
Одним из них был студент Краковского университета, изучавший историю искусств Петр Скрынецкий — острослов, худший в истории Польши кадет. Он веселил нас рассказами о своем непрерывном сражении с военными ведомствами. Один день в неделю студенты университета обязаны были посвящать военной подготовке, а летом ездить в лагеря. Петр добился того, что ему поставили диагноз «физическое отвращение к стрелковому оружию». В конце концов его освободили от военного дела, когда в лагере он взобрался на дерево и отказывался спускаться, пока его не отправят домой. «Отвращение» Петра вполне можно было понять, если учесть, что его отца, полковника польской армии, схватили и расстреляли после вторжения русских в Польшу в 1939 году по условиям германо-советского пакта.
Нас привлекало все, что выходило за рамки обыденности. К примеру, нас потрясла оригинальность постановок Бертольта Брехта.
К этому времени мы распрощались с внешностью «фазанов», но не с их повадками. Когда нам не удалось достать билеты на выступление Пекинской оперы, мы взобрались в верхнее фойе театра по водосточной трубе. Билетеры нас заметили и привели к легендарному директору театра Людвику Сольскому, которому тогда было уже за девяносто. Несмотря на свою грозную репутацию, к нам он отнесся на удивление снисходительно. «Раз уж они рисковали головой, они заслуживают того, чтобы посмотреть спектакль», — постановил он и уступил нам свою личную ложу.
[...] С наступлением зимы я снова занялся лыжами. Однажды во время соревнований по горнолыжному спорту среди женщин я стал свидетелем несчастного случая. Кика Леличинска, на которую Польша возлагала большие надежды на Олимпийских играх, врезалась в дерево и сломала позвоночник. Тренер решил сам доставить ее в больницу, но по пути потерял управление, и его тобоган, к корому была привязана Кика, помчался вниз, ударяясь о деревья. Девушка получила новые переломы и порвала селезенку.
Несколько месяцев она провела в больнице и больше уже никогда не выступала на соревнованиях. Оказалось, что она учится в Академии искусств на скульптора, а ее хобби — реставрация старых картин. Кика стала моей подружкой. У нас с ней был одинаковый подход к проблеме личной свободы: она не видела ничего плохого в том, чтобы у каждого время oт времени возникала интрижка. Вынужденная моногамия вызывает подсознательное чувство протеста и разрушает чувство.
Два-три месяца ушли у меня на съемки фильма «Заколдованный велосипед». Я понял, что этот процесс может быть не только наслаждением, но и адом. Отнюдь не все режиссеры похожи на Вайду.
Теперь мечта о Лодзинской киношколе уже не казалось несбыточной.
После собеседования с дамой-профессором, сократившей число претендентов от нескольких сот человек до восьмидесяти-девяноста, нас с Зубрыским вызвали в Лодзь на экзамены. Поскольку школу я посещал нерегулярно, то на письменных экзаменах по марксизму-ленинизму и истории рабочего движения получил плохие оценки. Зато мой сценический и экранный опыт и учеба в Школе изящных искусств давали мне явное преимущество в других отношениях. Когда речь зашла об истории искусства, я был в своей стихии, равно как и при написании короткого сценария и разработке сцен, которые должны были играть другие абитуриенты.
Экзамены тянулись бесконечно.
Когда все кончилось, я увидел свое имя и имя Зубрыского в списках принятых на режиссерский факультет. Отец пришел в восторг, когда я по телефону сообщил ему эту новость. Впервые в жизни я оправдал его надежды.
ГЛАВА 10
Лодзь настолько неинтересна, что эйфория по поводу принятия в Киношколу, сменилась сомнением — а смогу ли я протянуть в этом городе пять лет?
Лодзь строилась в основном во время промышленной революции и была распланирована кварталами, как Нью-Йорк. Улицы пересекались под прямым углом. Единственной приличной улицей была улица Петрковка, где располагались «Гранд-отель» и несколько универмагов. В любом другом городе эта улица называлась бы в честь «великого благодетеля» проспектом Сталина. Так было повсеместно. Но не в Лодзи. В этом не было заслуги отцов города, просто переименовать следовало главную улицу, а главной улицей здесь считался какой-то глухой переулок, и директиву исполнили буквально.
Киношкола была замечательна во многих отношениях. Несмотря на недостаток ресурсов, она была щедро оборудована и укомплектована отличным педагогическим коллективом. Число преподавателей и персонала даже превышало число студентов. В здании располагались два просмотровых зала, фотолаборатория, монтажные, помещения для звукозаписи, библиотека, лекционные залы, столовая и даже бар, который находился внизу широкой главной лестницы и был эпицентром школы. Здесь, пробиваясь к стойке за выпивкой или устроившись на ступенях, как птицы в вольере, мы собирались на переменах и спорили, потягивали пиво, дрались, а то и соревновались, кто сможет спрыгнуть с самой высокой ступеньки и не сломать ногу.
Студентам школы старались дать возможность набраться практического опыта и их посылали работать ассистентами монтажеров или лаборантами на студию «Фильм Польски». За пять лет учебы будущим режиссерам предстояло поставить две одноминутные немые ленты, десяти- или пятнадцатиминутный документальный фильм, такой же продолжительности художественный и, наконец, дипломный фильм, который мог быть еще длиннее. Студентам-операторам для практических занятий выдавалось некоторое количество кинопленки, а студентам-режиссерам не составляло труда уговорить их превратить упражнение в нечто более художественное. Старшекурсники часто работали ассистентами режиссеров на настоящих съемках, да и на площадке самой школы всегда работал кто-нибудь из профессионалов. Старшекурсники работали над фильмом под названием «Конец ночи». Он состоял из трех эпизодов, и в том, как там глазами трех разных свидетелей описывался случай хулиганства, явственно чувствовалось влияние «Расемона». В нем снимались Адам Фьют и Збигнев Цибульский, и я был вдвойне счастлив, когда мне предложили не только роль, но и работу ассистента режиссера.
В школе царил либерализм. Посещаемость не проверялась, студентам даже необязательно было все время оставаться в Лодзи. Только в конце семестра надо было сдавать экзамены.
[...] Даже в тяжелые сталинские времена мы имели возможность смотреть ленты, недоступные простым зрителям. Для этого достаточно было запроса, подписанного тремя преподавателями. Если фильма не оказывалось в Лодзи, его привозили из Варшавы. Для проката покупалось мало зарубежных картин, зато большое их количество поступало на студию «Фильм Польски» для ознакомления и оценки. Эти фильмы тоже демонстрировались нашей привилегированной общине.
Нас потряс «Гражданин Кейн». Это был новый киноязык. «Расемон» Куросавы притягивал меня так же, как «Гражданин Кейн», но по другим причинам. Идея относительности правды, увиденной глазами нескольких персонажей, была будто специально предназначена для кино. Никакими другими средствами так хорошо ее выразить было бы нельзя.
Мне очень хотелось самому снять фильм, и, на счастье, студенту-оператору (звали его Кола Тодорофф) дали задание снять учебную картину в цвете. Мы отправились в Краков за свой счет. Вот там-то я и стал режиссером своего первого фильма.
Тодорофф и я продумали всю техническую сторону — раскадровку, расписание натурных съемок на блошином рынке и на улицах Кракова. Я заручился поддержкой Адама Фьюта, который учился на втором курсе.
Я был не только режиссером, но и актером, продюсером, костюмером, гримером. Фильм, который я назвал «Велосипед», рассказывал о том, как я едва избежал смерти в подземном бункере Кракова. Заимствованный у Ванды лак для ногтей прекрасно заменял кровь.
Ночь накануне съемок я провел почти без сна. Но волнения мои были приятными. Я четко представлял себе каждый дубль. Хотя все время казалось, что вот-вот произойдет сбой, например, не приедет заказанный нами для съемок с движения автомобиль, или полиция не разрешит снимать на блошином рынке, или Кола выберет неправильную выдержку и мы вернемся в Краков с испорченной пленкой. Едва мы начали работать, как волнение словно рукой сняло. Мы решили снимать рано утром, когда на улицах пустынно. Тут выяснилось, что хотя на глаз света хватало, по экспонометру его было явно недостаточно. Значит, снимать на рассвете невозможно. Кроме того, обнаружилось, насколько неповоротлива даже такая маленькая съемочная группа, когда надо снимать на местности. Установка камеры в разных точках съемки занимала намного больше времени, чем я планировал.
В конце концов вся наша работа закончилась ничем. «Велосипед» проявляли в лаборатории студии «Фильма Польски» в Варшаве, и случайно нашу пленку отправили в Советский Союз вместе с документальными кадрами проходившего в Варшаве молодежного фестиваля. Больше мы ее не видели. Оставшиеся же у нас кадры отличались прекрасным цветом, незаурядным операторским мастерством, не говоря уж о великолепной игре Адама Фьюта в роли Дзюбы. Я чуть не плакал из-за того, что не удалось закончить фильм, который мог бы стать значительным достижением для студента-первокурсника.
[...] На втором курсе мне было даже интереснее, чем на первом. Я уже почти как профессионал работал с кинокамерой. Мой первый сделанный в школе одноминутный фильм назывался «Убийство». В нем человек, у которого видно лишь нижнюю половину туловища, пробирается в спальню, закалывает ножом спящую фигуру и, крадучись, выходит назад. Тему для второго двухминутного короткометражного фильма «Улыбка» дал мне преподаватель. В нем представал человек, который сладострастно следит сквозь оконце в ванной, как вытирается обнаженная девушка. Когда его чуть не застают на месте преступления, он отходит от окна. Снова подкравшись и заглянув в ванную, он видит лишь, как какой-то уродливый человек чистит зубы. Заметив отражение в зеркале, тот оборачивается и оскаливается в улыбке.
Мы занимались не только практикой, но и теорией. Большая часть наших дебатов на лестнице была посвящена вопросам формы и содержания. И в школе, и за ее пределами мы до бесконечности обсуждали эту тему и неизбежно от проблем эстетики переходили к политике.
Относительную значимость формы и содержания я осознал совершенно неожиданно. Однажды Цибульский пришел ко мне в комнату с полным портфелем пленок и попросил раздобыть 16-мм проектор. В школе такого не оказалось — там использовалось только профессиональное 35-мм оборудование, — но мне все же удалось его найти. Мы задернули занавески, повесили простыню на стену и стали смотреть. Это были старые поцарапанные немые порнографические фильмы времен войны, почти наверняка немецкого происхождения. Цибульский нашел их в Гданьске. Все порнографические клише были на месте — мужчина, подглядывающий в замочную скважину, как мастурбирует девушка, уродливый развратник, занимающийся сексом в носках и подтяжках, парочка, которую застают «в процессе», любовник в кладовке, наблюдающий за мужем подружки. Сняты они были неумело, с плохим освещением, не в фокусе, но мы смотрели как зачарованные. Хоть и жалкие, они нас возбуждали. Более того, они доказывали, что содержание важнее формы! (Хотя этот аргумент я и не решался приводить в наших разговорах.) Лишь один предмет программы наполнял меня ужасом. Каждую среду у нас была военная подготовка. Я терпеть не мог среды не только потому, что ненавидел все военное, но и потому, что это была потеря времени. Меня раздражало пропаганда против Запада. Если бы разразилась война между советским и западным блоками, я желал бы победы Западу. Был у нас один студент - Чарнецкий, который стремился быть со всеми в хороших отношениях. Мы не сразу догадались, что он стукач. Выяснилось это однажды вечером, когда мы подпоили учившегося у нас корейца: был день рождения Кима, и мы уговорили его хоть разочек расслабиться. Чарнецкий сам принес выпивку, а на следующее же утро донес на нас. Возможно, он опасался, что кто-нибудь другой сообщит о том, как он надрался. Он настучал на Анджея Костенко с операторского факультета, и того исключили. Узнав правду о Чарнецком, мы стали называть его Предатель. Например, говорили: «Передай соль, Предатель». Судя по тому, сколь безропотно он принимал это прозвище, Чернецкий, возможно, расценивал его чуть ли не как комплимент.
Еще более странной личностью был некто Веслав Аркт. Он был прирожденным оратором и настолько рьяным коммунистом, что некоторые старшекурсники сомневались, в своем ли он уме. Решив сыграть злую шутку, они переделали его радиоприемник так, чтобы можно было вклинивать в передачи собственные объявления. Этим они и занимались дьявольски методично, когда он приникал к приемнику. Один раз, якобы от имени радиостанции «Свободная Европа», они сообщили, что контрреволюционеры в Лодзинской киношколе готовят государственный переворот.
Аркт, который уже подавал явные признаки безумия, совсем сбрендил и начал собственное расследование. После бесплодных попыток взбаламутить преподавателей, он ворвался к Боджевичу и обвинил его в содействии перевороту. Боджевич позвонил в психбольницу и отправил туда Аркта. Два месяца спустя он оттуда сбежал и вернулся к нам как ни в чем не бывало. С удвоенным усердием стал посещать лекции и партийные собрания и снова принялся распоряжаться направо-налево. Угомонился он только после того, как врач из больницы попросил его вернуться, потому что он-де был очень нужен там как организатор.
Даже в больнице Аркт не оставлял политической и общественной работы и основал футбольную команду пациентов.
Хотя «оттепель» 1956 — 1957 годов в Польше еще не наступила, после хрущевских разоблачений климат становился более либеральным. В Киношколе студенты жгли партийные билеты, искали компромат в личных делах. Нас развеселило, что режиссер Анджей Мунк во времена своего студенчества считался «потенциально опасным», «космополитом» и «гурманом». Ответственного за ведение досье произвели в заведующие столовой.
Первые месяцы пребывания у власти Гомулки предвещали перемены к лучшему. Увеличился поток иностранных фильмов, книг, пьес, возросла степень личной свободы. Впервые поляки, имеющие родственников за границей, получили возможность их навестить. Еще со времен войны я переписывался со своей сестрой Аннетт, которая в Париже вышла замуж. Я попросил ее выслать мне приглашение. Это был первый шаг на длинном пути к получению паспорта.
Прошло много месяцев, прежде чем мне выдали этот желанный документ. Я везде носил его с собой, время от времени вынимал из кармана и вертел в руках, как драгоценность. Казалось, даже вонючий клей, на котором держалась обложка, источал запах свободы и приключений. Обладание паспортом давало право обменять аж десять долларов, полагающихся на расходы за границей. Я мог уже приобрести билет до Парижа, но один шустрый приятель предложил мне потратить чуть больше злотых, чтобы лететь через Ниццу и заглянуть, если удастся, на Каннский кинофестиваль.
Перед отъездом я устроил небольшую вечеринку. Утром, понимая, что друзья с интересом следят за мной, я побросал вещи в чемодан и направился к двери. «Пока. Отбываю в Париж», — сказал я.
ГЛАВА 11
Для меня существовал лишь Париж Марселя Карне, Андре Кайата и Жака Беккера, в особенности же Париж Жана Деланнуа из фильма «Не оставив адреса». Для краковской интеллигенции, для студентов Киношколы и всех молодых поляков, разделявших мои взгляды, Париж был сердцем всемирной цивилизации.
В Бурже в зале прибытия я дивился, глядя, как носильщики выгружают мой дешевенький чемодан. Человеку, приехавшему из страны, где любой человек в галстуке и чистой рубашке считался представителем правящей элиты, они казались слишком хорошо одетыми. Мое удивление возросло в автобусе, который вез меня по ярко освещенным, будто покрытым золотом, улицам. Я позволил себе роскошь взять такси. Проезжая мимо Пляс де ла Конкорд, я смотрел на фонтаны и огни, которые завораживали меня, как в детстве елочная мишура.
Аннетт и ее муж уже целый год ждали моего приезда, но из любви к театральным эффектам я не сообщил, когда приеду. И они не ждали меня. Эффект действительно получился грандиозный. Аннетт, ее мужу Мариану и дочурке Эвелин я, наверно, напоминал пришельца из космоса. Хотя мы переписывались и обменивались фотографиями, я не узнал бы Аннетт на улице.
Утром, вооружившись планом города, я пешком отправился от улицы де Шаронн к Сен-Жермен де Пре, где разворачивались основные события фильма «Не оставив адреса». Я приехал из одной из беднейших стран советского блока, где богатые магазины и красивые витрины сохранились лишь в воспоминаниях. Даже улица де Шаронн, располагавшаяся в бедном рабочем квартале Парижа, казалась мне неправдоподобно богатой. Человека, который не помнил почти ничего, кроме бедной послевоенной Польши, больше всего поражало обилие товаров, разнообразие форм и расцветок.
Каждый день я исследовал какую-нибудь часть города, методично обходя музеи и галереи. Аннетт и Мариан сводили меня на пару хороших спектаклей. Они же дали и деньги на метро, и я ездил в Парижскую синематеку, где смотрел то, чего не показывали в Польше. Особенно глубокое впечатление произвели на меня два актера, которых в Польше еще не видели, — Джеймс Дин и Марлон Брандо. Они делали то, чего инстинктивно хотел добиться от исполнителя я сам. Их персонажи казались живыми. В Польше исполнение всегда страдало от условностей, порожденных традиционализмом.
Я ходил на дискотеки, целыми ночами пропадал на студенческих танцах в Сорбонне.
Однажды я увидел Гезу. Она делала какие-то заметки перед картиной Матисса в Музее современного искусства. Даже не знаю, как у меня хватило мужества подойти и обратиться к ней на моем ломаном французском. Из музея мы вышли вместе.
Геза была немкой, блондинкой лет семнадцати. В Париж она приехала с группой студентов архитектурного колледжа Гамбурга. Наш молниеносный роман был одним из тех, что возникают между незнакомыми людьми, которые встречаются за границей и не успевают выяснить различия в своих взглядах. Не считая интереса к искусству, нас связывал лишь Париж, к тому же я подозреваю, что наше взаимное увлечение во многом основывалось на языковом недопонимании.
Я спросил Гезу, не хочет ли она провести со мной ночь. Она ответила утвердительно. Я нашел более или менее приличный отель и провел ее наверх, открыл дверь, включил свет и тут же снова погасил. Уж очень непривлекательной была комнатенка. В этот момент Геза шепнула: «У меня это впервые». Потом мягко взяла меня за руку и подвела к кровати.
После этого мы стали неразлучны. Весенний Париж добр к влюбленным. Мы бродили по городу рука об руку, пока наконец наша весенняя идиллия, как все хорошее, не подошла к концу. Я получил вежливое, но очень жесткое послание от нового декана режиссерского факультета Лодзинской киношколы. Суть сводилась к следующему: если я не вернусь немедленно, меня исключат. Каникулы Гезы тоже подходили к концу. На прощание мы пообещали писать друг другу и как-нибудь снова встретиться, но перспектива эта была какой-то весьма туманной.
Теперь перед возвращением в Польшу необходимо было заглянуть на Каннский кинофестиваль, чтобы иметь возможность просто похвалиться, что я там был. В тот год там демонстрировался фильм Вайды «Канал», и режиссер приехал в составе польской делегации. В службе информации мне сказали, что поляки остановились в отеле «Мартинес». Когда я, наконец, нашел отель, то подумал, не побродить ли мне по фойе, пока не покажется Вайда, а потом изобразить случайную встречу. Но времени было мало. Я позвонил ему в номер.
— Анджей, как дела? — сказал я. Пауза.
— Кто это?
— Это я, Ромек.
Вайда пригласил меня на обед и на один из фестивальных просмотров.
[...] Автобус в аэропорт опаздывал, надо было брать такси. Рядом стояли пожилой француз с копной седых волос и молодая женщина. Мы договорились ехать вместе. Он представился: «Абель Ганс. А это — мой ассистент Нелли Каплан».
Я-то думал, что Ганс давно умер. В Киношколе наизусть знали его работы, равно как и работы Рене Клера и Жана Виго. Я засмущался и ответил: «Поланский, студент Лодзинской киношколы». Больше мы почти ни словом не обмолвились, заплатили каждый свою долю и пошли в разные стороны.
В Лодзи я был героем дня — студентом из Парижа. Каждому хотелось услышать о машинах, девочках и фильмах — именно в такой последовательности. Друзьям приходилось до бесконечности смотреть, как я изображаю Джеймса Дина и Марлона Брандо и пересказываю в лицах фильмы, которые посмотрел. Однако не только друзьям хотелось узнать о моем пребывании в Париже. Меня навестил сотрудник УБ в штатском и потребовал отчета. Уговаривали ли меня остаться в Париже? Вступали ли со мной в контакт деятели эмигрантского издания «Культура»? Нет, не вступали, но я решил, что если мне еще доведется оказаться в Париже, я свяжусь с ними. Похоже, эти люди думали то же самое.
[...] Одним из моих друзей был Куба Гольдберг, выпускник Киношколы. Остроумный, шикарно одетый, низкорослый, с преждевременно покрывшимся морщинами лицом, он привлек к себе внимание Анджея Мунка и был назначен его личным ассистентом. Мунк, тоже выпускник Киношколы, был не только самым талантливым из польских режиссеров того времени, но и самой очаровательной, забавной и загадочной личностью в истории польского кино. Он жил в Варшаве, а в Лодзь приезжал преподавать. Ему нравилось общение со студентами, и некоторым из нас повезло — мы подружились. Когда я приезжал в Варшаву, то часто останавливался у него, но преподаватель он был строгий. Когда же, спрашивал он, я, наконец, представлю ему документальный фильм, который обязаны были ставить студенты третьего курса? Я предложил несколько проектов, но он все их отверг, потому что это были скорее художественные, нежели документальные ленты. Наконец, я предложил организовать студенческие танцы и сделать их сюжетом моего фильма. Мунку эта идея интересной не показалась, но он разрешил.
Фильм, который я задумал, был на самом деле злой шуткой вполне в традициях Киношколы. Мунк и сам в былые времена принимал участие в таких проделках. Каждый год, когда появлялись новые студенты, Мунк с друзьями превращали классную комнату во врачебный кабинет. Там были и студентки, одетые как медсестры, и стетоскопы, и весы, и хирургические перчатки. Мунк с серьезным видом осматривал абитуриентов одного за другим, невзирая на пол. Они должны были раздеться, достать до пальцев ног, ответить на ряд щекотливых вопросов о своей сексуальной жизни.
Я внес свой вклад в развитие традиции Мунка. В кастрюли с тушеным мясом в столовой я подбрасывал расчески или презервативы и с наслаждением ждал, когда же мои жертвы обнаружат эти странные предметы в своей тарелке. Однажды я запустил в ванночку с проявителем карпа, и вся школа содрогнулась от пронзительных криков ужаса, когда его обнаружила ничего не подозревающая студентка.
Я устраивал и более масштабные представления. Однажды мы с Маевским инсценировали ссору и, с криками продвигаясь по коридору, вломились прямо в приемную ректора, где сидела горбунья-секретарша Нина. Ребята делали вид, что пытаются нас разнять. Один упал на колени, умоляя Маевского остановиться, но тот выхватил пистолет и выстрелил в меня. Я рухнул на пол, истекая «кровью». Нина грохнулась в обморок.
И вот теперь я намеревался превратить шутку в cinйma vйritй. В Польше было много шпаны. Подростки, которым надоела пресная жизнь, бродили по аллеям и закоулкам, набрасывались на прохожих, били, если те, например, наступали на нарисованную мелом линию, срывали галстуки, запугивали и издевались. В Лодзи таких банд было несколько, многих ребят из них я знал. Больше всего им нравилось вламываться на танцы и портить праздник. В фильме я как раз и собирался спровоцировать такой момент.
Я организовал танцы под открытым небом. О моих намерениях знали только операторы. Я договорился с приятелями из знакомой банды, чтобы они подоспели к разгару танцев. Но слишком поспешили: едва перелезли через стену, как принялись раздавать тумаки, отбивать девушек у партнеров, сталкивать студентов в пруд. Операторы просто не успели сориентироваться: им едва удалось снять несколько метров изображения, из которых получился фильм «Разгоняем танцульку». Мунк счел, что фильм действительно документальный, но шутка дурно пахнет. Дисциплинарный комитет, собиравшийся исключить меня, ограничился предупреждением.
[...] У меня сложились собственные взгляды на документальное кино. Я посмотрел достаточно много студенческих работ и понял, что главная ошибка в том, что короткометражный фильм выглядит, будто отрывок полнометражной ленты. На самом деле короткий метр в игровом кино требовал другого подхода. Звук должен играть роль пунктуации, диалог надо свести к минимуму или вообще исключить. Проблемы реалистичности для меня не существовало. И хотя я был помешан на сюрреализме, мне хотелось, чтобы мой фильм — поэтический, полный аллегорий — в то же время был понятным.
Первая идея, пришедшая мне в голову, была совершенно абсурдна: двое выходят из моря с роялем. Эти двое ничего не делают, только таскают за собой рояль. Пытаются войти в ресторан, сесть на трамвай, остановиться в гостинице. Но из-за странного груза их никуда не пускают. Мысль о рояле была, возможно, порождена нашими детскими играми с Виновским. Но я испугался, как бы рояль не сочли символом чего-то другого. Например, того, что художников отвергают мещане. В конце концов я остановился на старомодном гардеробе с зеркалом — из тех, какие встречаются в третьеразрядных отелях.
Зная, что через несколько месяцев в Брюсселе открывается Всемирная выставка, в рамках которой пройдет конкурс экспериментальных короткометражек, я отправился к Станиславу Волю, декану операторского факультета, и заявил, что рассчитываю на победу в конкурсе. Загвоздка была в том, что мне нужно было море, а значит, мой проект оказывался слишком дорогим для студенческого фильма. Я представил режиссерский сценарий фильма «Двое мужчин и гардероб» и раскадровку. Воль распорядился отправить меня в Сопот. Я не любил профессиональных актеров и пригласил на главные роли маленького Кубу Гольдберга, с его умным лицом, и рано облысевшего студента-четверокурсника Хенрика Клубу.
Плоды наших трудов я привез в Лодзь и взялся за монтаж. Я уже знал, кто мог бы написать подходящее музыкальное сопровождение для «Двух мужчин и гардероба» — нестандартное, подчеркивающее абсурдность ситуации, в которую попали мои герои, — но опасался просить его работать над столь незначительным проектом, как студенческий фильм. С наступлением «оттепели» в моду вошел джаз. Наибольшей популярностью пользовалась группа под руководством Кшиштофа Комеды. По образованию Комеда был доктором медицины, но стал ведущим польским джазовым пианистом и композитором. Зная, что в кино он еще не работал и, возможно, заинтересуется, я обратился к нему. Он пришел вместе с женой, которая в основном и вела переговоры. Рыжеволосый, очкастый, немного прихрамывающий после перенесенного в детстве полиомиелита, Комеда просто сидел и слушал. Сначала он казался совершенно неприступным, таким же холодным, как и его музыка. Когда я получше узнал его, то понял, что под сдержанностью скрывалась страшная застенчивость, что это была лишь оболочка, под которой притаился нежный и очень умный человек.
Я показал ему черновой монтаж, и Комеда сдался. Он написал запоминающийся веселый аккомпанемент, сыгравший большую роль в создании атмосферы фильма.
Законченную работу я показал нашему декану и Волю. Они помогли мне представить картину на Брюссельском фестивале даже без разрешения Министерства культуры.
О результатах я узнал по радио. Золотую медаль получил мультфильм, сделанный двумя поляками. «Бронзовая медаль, — сказал диктор, — присуждается Поланскому, студенту Лодзинской киношколы».
Фильм «Двое мужчин и гардероб» стал первой студенческой короткометражкой, вышедшей в коммерческий прокат в Польше. Меня пригласили в Брюссель на вручение награды. Я воспользовался возможностью во второй раз заглянуть в Париж, где Аннетт и Мариан встретили меня как героя.
Моя жизнь круто переменилась. На черном рынке я купил мотоцикл «Пежо». И главное, я получил важное задание. В Лодзь по обмену пригласили французского режиссера Клода Гиймо, и меня назначили его ассистентом. Гиймо, естественно, остановился в «Гранд-отеле». Однажды, дожидаясь его в фойе, я заметил очень красивую девушку с большими глазами и чувственным ртом. Это была Барбара Квятковска, которая снималась в фильме «Ева хочет спать».
ГЛАВА 12
К этому моменту в моей жизни уже было несколько девушек. С Кикой я виделся все реже.
С Гезой мы переписывались, но шансов на встречу почти не было. В Лодзи недостатка в хорошеньких девочках не было — юные актрисы, студентки балетной и нашей школ. А то, что у меня была своя комнатка, давало мне большие преимущества перед другими парнями
Но Барбара, или Бася, как называли ее друзья, не принадлежала к числу тех, кто заводит случайные романы. Училась она в государственной школе, готовящей танцовщиц и музы кантов фольклорных ансамблей. Происходила из крестьянской семьи. Была легко ранима и не могла похвастаться хорошими манерами. У нее сохранилась привычка по-деревенски закрывать рукой рот, когда она смеялась, будто поражаясь, что вообще отважилась улыбнуться. Я оказался в числе ее немногочисленных доверенных лиц. Она рассказала мне, что у нее безнадежный роман с одним видным режиссером, человеком женатым.
Однажды вечером она позвонила мне из отеля в расстроенных чувствах. Я сказал, что сейчас приеду. Войдя в номер, я застал ее в слезах. Решив, что смена обстановки, возможно, поможет, я усадил ее на мотоцикл и повез к себе. Мы долго разговаривали, она понемногу оттаивала. А потом я осторожно предложил лечь в постель.
Она отказалась. Ничего другого я и не ожидал, поэтому постарался не показывать виду, что обескуражен. Пошел ее провожать. Ночь была прохладная, ясная, светили звезды, и мы решили пройтись. Она, наверное, заметила отчаяние в моих глазах, потому что вдруг сказала: «Давай вернемся». Придя в комнату, разделась и легла в постель. Без лишних слов.
Таких красивых девушек, как Барбара, я еще не видел. Волосы у нее были темно-русые, почти каштановые. Овальное лицо с большими глазами, длинными ресницами, маленьким курносым носиком, а сама она была худенькая, но крепкая. Мы снова и снова занимались любовью, но я все время чувствовал в ней какую-то скованность. По-моему, она так никогда и не получила удовольствия от секса.
Утром мы поехали на студию на мотоцикле. Я катил с шиком, а от возбуждения стал еще беспечнее, чем обычно. Где-то на полпути я понял, что не чувствую ее рук у себя на талии. Я оглянулся. Ее не было.
Она ждала меня на тротуаре, целая и невредимая, с удивительной детской улыбкой деревенской девушки. На другой день она снова позвонила. Я заехал и опять отвез ее к себе. Через несколько дней она переехала ко мне. Наши отношения не мешали моей работе, но давали уверенность и бодрость — как раз то, что было нужно.
Темой дипломного фильма я выбрал внешне скучную, однообразную жизнь незаметного человека. Идею почерпнул в короткой газетной заметке об уборщице в общественном туалете, которую посетило видение. Для меня жизнь этой женщины олицетворяла пустоту, скуку, монотонность. Глядя на старушку с жалкой тарелочкой для монет и отсутствующим безликим взглядом, никогда не подумаешь, что жизнь ее может быть преисполнена драматизма и страстей.
Так родился замысел фильма «Когда падают ангелы». Мне хотелось, чтобы от него оставалось ощущение простора, несмотря на то, что длиться он будет двадцать с небольшим минут. А еще мне хотелось, чтобы по стилю он был романтическим, почти барочным фильмом, который зрители восприняли бы как видение старушки, завершающей свой жизненный путь. Я всегда считал, что пожилые нуждаются во внимании и заботе даже в большей степени, чем малыши. Они такие беспомощные, смиренные, так мало знают о жизни, несмотря на накопленный опыт и близость смерти.
Актерские способности по-прежнему значили для меня меньше, чем внешность, поэтому я остановился на непрофессионалах. Анджей Кондратюк играл сына старушки, Анджей Костенко — гомосексуалиста, который подыскивает себе пару, Куба Гольдберг — электрика, заглянувшего снять показания со счетчика. Барбара играла старушку в юности.
На главную роль я пригласил обитательницу дома престарелых. Ей было за восемьдесят, и в лице заметны были то самое старческое смирение, апатия и следы былой красоты. Выражение лица было мягким и абсолютно отсутствующим. Она приняла мое предложение, толком не разобравшись, чего от нее хотят. На съемках она была нетребовательна, пассивна. Была одна загвоздка — у нее постоянно тряслась челюсть. В некоторых сценах это было даже кстати, в других же мешало. Я обнаружил, что дрожь проходит, если дать ей пососать конфетку, так что с тех пор мы беспрестанно кормили ее леденцами. «На что вы истратите деньги?» — поинтересовался я после съемок. Она ответила, что купит себе сахар. В доме престарелых его никогда не давали вдоволь, так что она купит себе сама.
— И больше ничего? — спросил я.
Она надолго задумалась, подбородок снова затрясся.
— Нет, — ответила она наконец. — Только сахар.
Я представил фильм комиссии, и к нему отнеслись по-разному. В общем, работа понравилась, но не так, как «Двое мужчин и гардероб». С тех пор так и повелось: критикам мой предыдущий фильм всегда нравился больше нового. Хотя фильм «Когда падают ангелы» был засчитан как дипломная работа, собственно диплома я еще не получил: нужно было написать еще и реферат. А этого я так и не сделал. Я предложил практическую работу — например, составить словарь польских и французских кинематографических терминов, но руководители Киношколы такую тему не приняли. Они хотели заумный труд на тему «Традиции формализма в работах Эйзенштейна» или что-то в этом роде. В дальнейшем польские критики указывали на то, что Киношколу я так и не окончил.
Этот труд я не написал еще и потому, что на меня неожиданно свалилось много работы. Наш декан Ежи Боссак был одновременно и художественным директором студии «Камера», созданной в 1956 году. Анджей Мунк, который должен был ставить фильм «Косоглазое счастье», взял меня ассистентом режиссера, поручив мне руководство массовыми сценами. Этот сатирический фильм никогда не мог бы быть поставлен в сталинские времена. Мунку никак не удавалось найти хорошенькую исполнительницу на роль сексуальной потаскушки, которая совращает всех подряд, включая собственного репетитора. Я стеснялся предложить Барбару, но потом все же решился. Успех в картине «Ева хочет спать» сделал ее кем-то вроде польской Брижжит Бардо.
— Знаю, она хорошенькая, — сказал Мунк, — но кто будет за нее играть? Ты?
— Нет, — ответил я. — Но я мог бы помочь. В конце концов Мунк взял Барбару, а мне поручил репетировать с ней. Мне так хотелось, чтобы она сыграла великолепно, что я перестарался. Я был безжалостен и заставлял ее без конца повторять реплики. Мунку даже показалось, что я над ней издеваюсь. Он сам взялся за дело.
Работы у нас было много — я еще играл в фильме репетитора, — и мы с Барбарой не виделись по нескольку дней, а то и недель. После картины «Ева хочет спать» на нее был большой спрос. У меня же помимо работы у Мунка была еще куча дел: я играл незначительные роли в других фильмах, писал для киножурнала, работал на студии дубляжа. Мы очень любили друг друга, но это не мешало мне заводить интрижки, когда Барбары не было рядом. Все еще казалось, что необходимость хранить верность рождает ненависть.
А потом Барбару с «Евой... » пригласили на фестиваль в Сан-Себастьяне. Поскольку там должны были показывать и мой фильм «Двое мужчин и гардероб», я добился приглашения и для себя.
Барбара пришлась по вкусу испанским продюсерам, которые уговаривали ее подписать контракт на несколько картин. Я резко возражал. Дело было в эпоху Франко. Политический климат в Испании был удушающим. Насколько я понимал, стоящий фильм в такое время сделать невозможно. Тогда я еще по-мальчишески верил в искусство ради искусства, и финансовые соображения не имели для меня значения. Сама мысль о том, чтобы участвовать в фильме только ради денег, казалась мне кощунственной.
Барбару, чья наивность распространялась и на политику, мой запрет расстроил. Она не понимала, почему я возражал против ее работы в Испании. Возможно, она почувствовала, что помимо художественных соображений тут примешивались еще и эгоистические. Если она будет работать в Испании, нам придется надолго расстаться. Мы поссорились, правда ненадолго, и в конце концов я настоял на своем. Барбара отказалась от предложений испанцев.
Мне очень хотелось как можно скорее снять собственный фильм. Я попробовал выяснить, как к этому отнесется Боссак. Тот поинтересовался, есть ли у меня что-то конкретное на примете. Нет, ничего конкретного, кроме того, что мне хотелось снимать в районе Мазурских озер. Вдохновленный его согласием, я взялся за работу.
Дипломный фильм был театрально-барочным. Теперь же мне хотелось, чтобы мой первый полнометражный фильм был строго рассудочным, четко выстроенным, почти формальным. Начинался он как триллер: парочка на яхте берет к себе пассажира, который исчезает при таинственных обстоятельствах. Противостояние антагонистических персонажей в ограниченном пространстве. Хоть это и театральный прием, но изоляция трех людей от внешнего мира не казалась искусственной, ведь действие происходило на яхте.
Над сценарием я начал работать вместе Кубой Гольдбергом, но далеко мы не продвинулись — Куба был довольно ленив. Вскоре нам присоединился Ежи Сколимовский, студент университета, боксер, публикующийся поэт. Он внес большой вклад в разработку сценария «Нож в воде». Это он настоял, чтобы действие, которое сначала должно было развиваться в течение двух-трех дней, было втиснуто в одни сутки. После того как к нам присоединился Сколимовский, роль Кубы свелась в основном к печатанию на машинке убиванию мух и добыванию прохладительных напитков.
Комиссия Министерства культуры отвергла сценарий из-за отсутствия в нем четкой политической направленности.
Будто в доказательство того, что беда не приходит одна, мои отношения с Барбарой испортились. Приехав из Вены, где она побывала на молодежном фестивале, Барбара не вернулась ко мне в Лодзь и даже не позвонила. Я услышал, что она остановилась в Варшаве, но где именно, не знал. Потом кто-то сказал мне, что у Барбары роман с Лехом Заорским, известным художником-графиком. По-видимому, они познакомились в Вене.
Для меня это был шок, но я понимал, что сам виноват. Ей со мной было нелегко. Эгоистичный диктатор, тиран, я беспрестанно пытался поучать ее и надоел ей до смерти. Я поехал в Варшаву и пустился на поиски. Обзвонил всех, кого знал, и наконец выяснил, что вечером Барбара собирается ехать в Лодзь. Я отправился на вокзал и стал ждать. Барбара появилась в сопровождении элегантного мужчины средних лет. Прощаясь, они держались за руки и нежно целовались. Вскочив в поезд в последний момент, я вошел в ее купе. Мое внезапное появление испугало ее. Последовала бурная сцена. Я сказал, что понимаю ее, но зачем она хитрила? Барбара расплакалась. В Лодзи я отвел ее к себе. Мы провели ночь вместе. Я понял, что она действительно разрывается между нами: любит Заорского, но по-прежнему привязана ко мне. На несколько дней она уехала в Варшаву. Якобы потому, что должна была побыть одна. Потом вернулась и заявила, что нужна Заорскому. «Я — его последняя любовь», — драматически сообщила она.
После еще одной поездки в Варшаву Барбара вернулась в Лодзь сниматься в картине и мы снова сблизились. Ее легко было убедить в чем угодно, и всегда выигрывал тот, кто оказывался рядом. Отчаянно желая любым путем удержать ее, я сделал ей предложение. Она согласилась. 9 сентября 1959 года мы стали мужем и женой. Мы уже так давно были вместе, что новый статус ничего особенно не изменил. Мы по-прежнему продолжали жить в моей комнате. Домохозяйки из Барбары не получилось, она не готовила, да и кухни у нас все равно не было. Но перемены все же были. Друзья стали по-другому к нам относиться. Приятно было представлять Барбару словами: «Это моя жена».
Однажды, когда мы были женаты уже несколько месяцев, на первой странице парижской газеты поместили фотографию Барбары с подписью «Кто эта прекрасная незнакомка?». В заметке говорилось, что французский режиссер Робер Менегос увидел ее фотографию в статье о Венском фестивале и решил «открыть» эту девушку, предложив ей роль в своем следующем фильме. Того, кто располагает о ней информацией, просили сообщить во французскую кинокомпанию «Улисс».
Эту вырезку мне прислали из Парижа. Я тут же позвонил в «Улисс» и сказал: «Я муж особы, которую вы разыскиваете». Я опасался, что все это розыгрыш, но вопрос, хорошо ли она говорит по-французски, заданный сотрудником фирмы, развеял сомнения.
— Elle parle rien, — ответил я на плохом французском, имея в виду, что по-французски она вообще не говорит.
— Хорошо, хорошо, — услышал я. — Когда вы могли бы приехать в Париж?
Сдерживаясь, чтобы не ляпнуть, что мы свободны как ветер, я ответил, что, наверное, в ближайшие несколько недель.
Потом позвонил продюсер и сказал, что Барбара должна привести с собой побольше «романтических платьев».
«Я не говорю по-французски и романтических платьев у меня нет», — протестовала Барбара. «Тогда начинай учить язык и раздобудь себе платья», — заявил я. Я начал новую карьеру — мужа Барбары.
ГЛАВА 13
[...] Мы с Барбарой полетели в Париж — два молодых наивных поляка, надеющихся оставить свой след в утонченной культурной столице мира.
Рустан, продюсер будущего фильма, предложил нам выпить вместе с Жан-Луи Трентиньяном, игравшим главную мужскую роль. Хотя все были вежливы, я почувствовал: что-то не так. Самюэль Рустан отвел меня в сторону.
— Мне казалось, вы сказали, что она знает французский?
— Я этого не говорил.
— Но как же? Вы ведь сказали: «Elle parle bien».
— Я сказал: «Elle parle rien».
- O-o!
Лишь годы спустя я узнал, что французы были близки к тому, чтобы тут же отказаться от затеи работать с Барбарой. Несмотря на экспресс-курс, который я ей преподал, ее французский почти исчерпывался словами «бонжур» и «мерси боку». Тогда мы еще не знали, что фильм Робера Менегоса «Тысячное окно» пройдет совершенно незамеченным. Но самому Рустану в течение нескольких следующих лет суждено было играть большую роль в моей жизни.
Это был полный, лысеющий человек в золотых очках, манерами напоминавший приходского священника. У него жена-аристократка, брат-иезуит, шикарная квартира в Париже, дом за городом и повсюду слуги, секретари и свита. Он невероятно гордился своим новеньким «Ситроеном», который в один прекрасный день на наших глазах разрубил пополам росший перед его домом платан. До того как стать продюсером, Рустан возглавлял рекламное агентство, занимавшееся популяризацией фильмов, рекомендованных католическими ассоциациями. Когда мы с ним познакомились, он был на вершине своей карьеры. Закончит же он свои дни, выпуская soft-porno.
Хотя Барбаре обещали всего тысячу долларов, Рустан щедро финансировал нас — может быть, ради рекламы. Я всегда оставался рядом с женой, был переводчиком, менеджером, репетитором. Подбадривал. Она так смущалась, что никуда меня от себя не отпускала.
Я очень желал Барбаре успеха, но мне и самому хотелось чего-нибудь добиться. Я довольно быстро понял, что ее фильм ерунда, но ничего не мог поделать. К счастью, она скоро поднаторела во французском и осмелела. Когда съемки закончились, Рустан попросил меня заняться дубляжом фильма на польский. Я подозреваю, что он сделал это только ради того, чтобы заплатить нам немного денег. Мы воспользовались привалившим богатством и стали приглашать к себе друзей-поляков, в большом количестве наехавших в Париж в период «оттепели». Среди них были Цибульский и Кобела, оказавшиеся во Франции без средств к существованию. От голодной смерти их спас поляк Анджей Кательбах, у которого была фабрика искусственных цветов. Цибульского он временно нанял работать на конвейере, а Кобела делал стебли.
Когда Барбара закончила работу, мы оказались перед дилеммой: возвращаться в Польшу или попытаться остаться во Франции? Интерес Рустана к нам то угасал, то вновь пробуждался. Он загорелся моим замыслом фильма «Нож в воде», сказал, что хотел бы ставить его во Франции. По его предложению я взялся за перевод сценария при содействии Юрека Лисовского, самого замечательного переводчика с французского на польский и наоборот. Однако когда все было завершено, Рустан вдруг охладел к нашей затее. Я сделал несколько безуспешных попыток заинтересовать французских продюсеров своей малоизвестной персоной и своим еще менее известным проектом.
В очередной раз обсудив наше положение, мы решили рискнуть и подать прошение о выдаче нам так называемых консульских паспортов, дававших полякам право жить и работать за границей и при этом свободно посещать Польшу. Получить их оказалось настолько трудно и сопряжено это было с такой волокитой, что я уже готов был просить политического убежища. В отчаянии я попросил о встрече нашего посла, который под свою ответственность выдал нам два заветных документа. Если бы не он, моя карьера могла бы сложиться совсем по-другому.
Другую наши проблему — нехватку денег — решить оказалось не так просто. Пока я продолжал попытки заинтересовать французских продюсеров, мы существовали на то, что брали взаймы, а также за счет гостеприимства наших знакомых из шоу-бизнеса.
Потом нам вроде бы начало везти. Знаменитый французский режиссер Рене Клеман, только что сделавший Алена Делона звездой благодаря пользовавшейся большим успехом картины «На ярком солнце», собирался снова снимать. И вот Клеман заинтересовался Барбарой. Лола Мулуджи, агент Барбары, настояла, чтобы Барбара была одета соответственно случаю. На оставшиеся у нас деньги мы купили платье в Галерее Лафайетт. Барбара гордо сжимала пакет с покупкой, когда мы бросились звонить Лоле. Лола сообщила, что Барбара должна встретиться с Клеманом в баре отеля «Лютеция» следующим утром в одиннадцать. В полном восторге Барбара повисла у меня на шее. Тогда-то я обратил внимание, что пакета у нее в руках больше нет. «Где этот проклятый мешок?» — заорал я. Его не было. Украли. Барбара разрыдалась. Обескураженные, мы спустились на эскалаторе в метро. Там на платформе мы подозрительно осматривали все пакеты из Галереи Лафайетт. Теперь у нас не было ни денег, ни платья. Моя ярость перекинулась с вора на французов вообще, на заносчивую парикмахершу, которая не желала укладывать Барбаре волосы, если та не позволяла себя стричь, на нахального зеленщика, который надменно ухмылялся, потому что мы всегда покупали самую дешевую еду, на всех грубых, наглых, саркастичных, самоуверенных парижан, с которыми мне случалось сталкиваться. И снова нам помогли друзья-поляки. Барбаре одолжили подходящее платье. Я отвез ее в отель «Лютеция» и подождал в кафе напротив. Когда примерно через час она присоединилась ко мне, по ее лицу все можно было прочитать: роль она получила. Единственное условие, которое с неохотой было принято, состояло в том, что она должна забыть о своей непроизносимой польской фамилии. Отныне она будет Барбарой Ласс.
По нашим стандартам мы с ней в один миг стали богачами. Я давно уже мечтал об автомобиле, и санкция на покупку была получена.
Входя в выставочный зал, я чувствовал, что никто из продавцов не считал меня потенциальным покупателем. Одет я был плохо и казался слишком юным для своих лет. Я повел себя дерзко. Указал пальцем на «Мерседес-190» с откидным верхом и заявил: «Я возьму вот такой, только красный». Заплатил я наличными.
[...] Барбара отправилась в Рим сниматься в картине Клемана «Как хорошо жить». Я тоже взялся за работу поскромнее.
В то время на короткометражках во Франции можно было неплохо заработать. Министерство культуры не только постановило, что короткометражка должна входить в любую программу, но и вручало призы за лучшие работы. Один франко-канадский продюсер согласился финансировать мой проект. Фильм «Толстый и тонкий» был сделан в том же жанре, что и «Двое мужчин и гардероб». Я играл тощего, запуганного слугу, а на роль толстого хозяина-диктатора пригласил Кательбаха. В кино тот никогда прежде не играл, но был таким весельчаком, рубаха-парнем, что я не сомневался в успехе. Оставалась одна проблема: большую роль должен был «сыграть» козел, но аренда животных слишком дорогое удовольствие. Однажды бродя по окрестностям Парижа в поисках подходящей натуры, мы увидели стадо коз, у хозяина которого арендовали козла. Стоило это нам недорого, но у животного не было никакого чувства камеры.
Как раз когда я завершал съемки, на концерты в Париж приехал Комеда со своей группой. Мне невероятно повезло. Он бесплатно написал музыку и репетировал в нашей квартире на специально взятом напрокат пианино. Вся группа собиралась у нас, и ночные музыкальные импровизации вызывали недовольство консьержки.
Неприятностей у меня хватало и без нее: соседи жаловались на шум, нужно было снимать Кательбаха и козла, денег не хватало. Так как официально я был во Франции гостем, я не мог значиться как единственный режиссер, поэтому вторым режиссером пришлось записать нашего монтажера. Фильм «Толстый и тонкий» получил какую-то премию и пользовался большой популярностью в киноклубах, но для моей карьеры не имел большого значения.
[...] Когда Барбара завершила работу у Клемана, мы решили отправиться в Польшу и провести там Рождество.
Хорошо было снова оказаться в Кракове с его заснеженными костелами и туманными улочками, по которым спешили кутавшиеся на морозе люди. После двух лет, проведенных за границей, приятно было увидеть Ванду и отца. Все мы изменились, и Ванда начинала относиться ко мне по-матерински. И отец, и Ванда попали под обаяние Барбары. Я оставил ее на их попечении, а сам отправился в Лодзь.
Как в старые времена, мы с приятелями сидели в баре, и вдруг Кондратюк спросил, как дела со сценарием «Млекопитающие», который мы с ним когда-то написали. «Может, все-таки попробовать его поставить?» — размышлял он. Не долго думая, один из присутствующих, Фриковский, предложил финансировать картину. Он мог дать половину необходимой суммы. Костенко, который только что унаследовал деньги от своей тетушки, вызвался добавить недостающую часть. На бумажной салфетке мы составили контракт. «Это, пожалуй, первое в послевоенной Польше частное кинопроизводство», — сказал я.
Владение частными лицами 35-мм киноаппаратурой и пленкой считалось незаконным, но мы должны были как-то обойти это ограничение. Мы закурили сигары и, попыхивая ими, с важным видом вошли в кабинет Воля в Киношколе. Тот пожаловался, что мы его просто выкуриваем. Мы возразили, что без сигар никак нельзя: ведь мы продюсеры.
Воль дал нам в распоряжение камеру, а Фриковский купил пленку у кривого техника в лаборатории. Мы погрузили снаряжение в две машины и тронулись в Закопане.
«Млекопитающие» — моя последняя короткометражка. Снимался фильм в снегах, все события разворачиваются на чистом белом фоне. Картина представляет собой серию гэгов. Где-то вдалеке на белом фоне появляется точка. Постепенно она превращается в сани: один мужчина везет другого. Каждый при этом пытается заставить второго тянуть сани, пользуясь всеми средствами — от призывов к состраданию до шантажа и физического принуждения.
На одну из ролей я пригласил Михала Золнеркевича, выпускника Киношколы. Он не был профессионалом, но вел себя, как капризная суперзвезда. К тому же страдал от галлюцинаций, вызванных необычайными сексуальными потребностями. «Только взгляните на эту красотку!» — бывало, говорил он, указывая на силуэт вдали. На самом деле по снегу брел почтальон.
Михал был страшным болтуном, который начинал разговаривать с утра, едва открыв глаза, и не останавливался, пока внезапно не засыпал поздно вечером. И тут же начинал храпеть. Храп Михала представлял собой не сопение и хрюканье, а непрерывный пульсирующий рокот, от которого сотрясался весь наш домишко.
Когда фильм был завершен, возникли новые проблемы. Так как снимали мы его незаконно, мы не могли проявить пленку. Оставалась единственная возможность — подбросить их в лабораторию как часть какого-нибудь другого фильма. Это поручили Костенко.
Мы же с Барбарой отправились в Париж. У меня было предчувствие, что очень скоро я вернусь.
ГЛАВА 14
Я не ошибся. Воодушевившись потеплением политического климата, Боссак вскоре позвонил мне с предложением еще раз попробовать представить комиссии «Нож в воде». Я переработал несколько сцен, добавил отдельные реплики, дабы придать «больше социальности», после чего Боссак отправился с моим сценарием в Министерство культуры, дав там понять, что последние два года я не покладая рук трудился, стремясь исправить недочеты. На сей раз нам дали «добро».
Я уселся в «Мерседес» и в одиночестве отправился в Польшу. Барбара была в Риме на съемках очередного фильма.
По приезде я обнаружил, что съемочная группа относилась к предстоящей работе с не меньшим восторгом, чем и сам я. Мне предстояли съемки первого полнометражного художественного фильма, для меня это была проверка огнем. Естественно, я заручился поддержкой старых друзей. Ассистентами режиссера стали Анджей Костенко и Куба Гольдберг, Ежи Липман стал оператором, а Войтеку Фриковскому, великолепному пловцу, я пообещал роль спасателя.
Я начал подбирать актеров. На роль мужа, журналиста средних лет выбрал привлекательного, немного манерного театрального актера с большим опытом — Леона Немчика, который вполне вписывался в образ. Сначала молодого попутчика я собирался играть сам, но Боссак меня отговорил. Всякий режиссер, снимающий свой первый художественный фильм, становится мишенью для нападок критики, а если на мне будет лежать ответственность и за сценарий, и за режиссуру, и за одну из трех главных ролей, меня вполне могут обвинить в эгоцентризме. Труднее всего оказалось подобрать исполнительницу на роль жены журналиста. Единственной, кто отвечала моим представлениям об этом персонаже, была Ева, которая играла в «Пепле и алмазе» Вайды, но работать с новичком ей было неинтересно, так что я решил искать непрофессионала. Мне нужна была девушка, которая в одежде выглядела бы серенькой, обыкновенной. А в бикини она должна была оказаться неожиданно зрелой и желанной. Обоим этим требованиям удовлетворяла Йоланта Умека, которую я заметил в бассейне в Варшаве. После кинопробы я ее утвердил.
Поскольку большая часть действия происходила на воде, нам потребовалась целая флотилия: одиннадцатиметровая яхта, плавучая платформа для кинокамеры, лодка для электриков, моторные лодки, чтобы буксировать и перевозить грузы. Постоянно менявшаяся погода сводила с ума. Посредине съемок облака вдруг становились совершенно другими, и приходилось либо начинать все сначала, либо переходить к другой сцене. Нередко в ответ на ставший традиционным вопрос: «Сколько метров?» в конце дня слышалось: «Ноль!»
С актерами были свои проблемы. Я впервые понял, что к каждому исполнителю нужен свой подход. С Леоном Немчиком работалось просто: достаточно было показать ему, чего я хочу, и он все выполнял. Настоящим же наказанием и на съемочной площадке и вне ее стала Йоланта Умека. Начнем с того, что она не умела плавать. Фриковский безуспешно попытался преподать ей ускоренный курс, но в конце концов нам пришлось взять дублера. Что же касается игры, то здесь проблема была не только в неопытности — к этому я был готов. Меня выводила из себя необходимость работать с человеком, который не может заучить свои реплики, запомнить, куда девать ноги или когда снять солнечные очки. Но еще более меня раздражала ее пассивность. Естественность и безыскусность, которые сначала меня привлекли, оказались проявлениями полной тупости.
Мы пробовали мягкое убеждение и бесконечное долготерпение. Потом перешли к более жесткой тактике, чтобы вывести ее из зомбиподобного состояния. Все напрасно. Наконец в ход пошла непристойная ругань — нет, не по злобе, а просто чтобы вызывать у нее хоть какую-то реакцию. В сцене, когда она считает, что парнишка утонул, она должна вздрогнуть, когда он появляется из воды и перелезает через борт. Мы снимали один дубль за другим — и все без толку. Костенко осенило в нужный момент выстрелить из ракетницы у нее за спиной. Это сработало.
С Йолантой у нас была и еще одна проблема: она стала с угрожающей скоростью набирать вес. Сексуальная Йоланта из первых сцен превращалась в почти неузнаваемую матрону. Нужно было что-то делать. Мы с Костенко стали с ней бегать, а когда она упиралась, тащили за ремень, привязанный к кисти руки. Мы велели повару подавать ей порции поменьше и никаких добавок, но ничего не помогало.
Вскоре мы узнали почему. Йоланта оказалась скрытой обжорой: у себя в каюте она прятала под полкой хлеб, яблоки, колбасу.
Я подумал, что, может быть, немного секса отвлечет ее от еды. Среди мужчин на яхте это стало обычной темой для разговоров, но никто не вызывался пожертвовать собой ради общего блага.
Обжорство Йоланты давало пищу для бесконечных шуток. Как-то раз по дороге на съемки Фриковский вытащил кусочек поролона из спасательного жилета и принялся жевать. Любая еда привлекала внимание Йоланты. С набитым ртом Фриковский объяснил, что наполнитель наших спасательных жилетов представлял собой своего рода пищу. Мы все последовали его примеру и стали жевать кусочки поролона. Йоланта тоже взяла кусочек, пожевала и проглотила. На вкус он ей явно не понравился, но она весело заявила: «Не сомневаюсь, что это очень питательно».
Я довольно рано столкнулся с прессой. Репортер из «Экрана» целый день провел на съемках и показался нам вполне безобидным. Однако в его статье под названием «Ради кого и ради чего?» говорилось о роскошной жизни на яхте, о множестве шикарных автомобилей, за которые платит польский налогоплательщик. Заметка имела столь катастрофические последствия, что Боссак лично прибыл разбираться. И хотя он сам увидел, что обвинения в экстравагантности абсурдны, заставил меня сменить использовавшийся как реквизит «Мерседес» на «Пежо».
Затем один за другим последовали еще два удара.
Мы вернулись со съемок и узнали, что умер Анджей Мунк. Я не мог смириться с тем, что никогда больше его не увижу. Его маленький черный «Фиат» лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Как он. наверное, и сам пожелал бы, мы в тот вечер устроили поминки в таверне, рассказывали о нем веселые истории. Вспоминали, какой он был мастер розыгрышей, какое у него было чувство юмора.
Второй скверной новостью я ни с кем не мог поделиться. Мне никак не удавалось дозвониться Барбаре в Рим. У меня сложилось впечатление, что портье в отеле от меня что-то скрывает. А потом кто-то прислал вырезку из итальянского киножурнала, на которой были изображены Барбара и Джилло Понтекорво в ночном клубе. Хотя Барбара ни разу ни словом о нем не обмолвилась, все вдруг стало на свои места.
Когда я до нее, наконец, дозвонился, голос у нее был скорее смущенный, чем раскаивающийся. «Разве ты не получил моего письма?» — спросила она. Нет, я его не получал. Она сказала, что написала мне длинное послание, где «все объяснила», и после паузы добавила: «Не очень приятное письмо».
Я сделал вид, что не понимаю, к чему она клонит, но на самом деле и так уже все знал. Когда же письмо пришло, то худшие опасения оправдались. Но даже и в нем она не упоминала о Понтекорво, а просто писала, что ей нужно время. Чтобы подумать. О Барбаре я ни с кем не мог поговорить. Я был слишком горд, чтобы даже Фриковскому или Костенко сообщить о том, что меня отвергли.
Когда мы закончили съемки, уже наступила осень, и назад с Мазурских озер мы ехали по дорогам, укрытым ковром из красных и золотых листьев. Липман вез меня и Кубу Гольдберга в нашем съемочном «Пежо». В темноте мы приблизились к повороту. И в этот миг я вдруг понял, что Липман мчится слишком быстро. Мы скользили по влажным листьям прямо к лесу. Я едва успел закрыть голову руками.
Когда через несколько минут я очнулся, моим глазам предстало странное зрелище. Я вылез из-под приборной доски, где лежал в позиции эмбриона, и увидел, что из капота «Пежо» растет дерево. Фары все еще горели, но стали косить. Из ушей и носа у меня шла кровь. Липман и Гольдберг отделались легким испугом.
После того как мы довольно долго прождали помощи, меня отвезли в больницу в ближайший городок, где мне сообщили, что у меня трещина в основании черепа. Меня уложили в постель и велели не шевелиться. На следующее утро, почувствовав себя лучше, я встал и отправился в ванную. Но стены вдруг закачались, пол опрокинулся, и несколько дней я провалялся без сознания. Отец и Ванда приехали меня навестить, Ванда даже осталась. Она сняла комнатку поблизости и каждый день приносила мне домашнюю еду. Я был растроган и смущен.
Вопреки совету доктора я выписался через две недели. Будто кукушка, подбрасывающая яйцо в чужое гнездо, я подбросил пленки «Млекопитающих» для проявки вместе с последними сценами «Ножа в воде».
Просмотр фильма для прессы оказался катастрофой. После статьи в «Экране» критики вознамерились изничтожить мой фильм. Ну кто поверит в существование польского спортивного репортера, у которого есть и яхта, и «Пежо»? В тот период польская номенклатура начала быстро богатеть, а «Нож», помимо всего прочего, был протестом против привилегий. По злобе ли, из политических ли соображений, но большинство критиков громогласно требовали, чтобы им объяснили, о чем этот фильм. Отрицательных рецензий было столько, что «Камера» отказалась от мысли о гала-премьере и выпустила фильм в прокат без рекламы в нескольких маленьких кинотеатрах. Я даже не стал дожидаться премьеры. Попрощавшись с отцом и Вандой, я отправился во Францию на машине, которой и исчерпывалось все, что оставалось от моего брака.
ГЛАВА 15
В Париже вновь возникла Барбара. Как и следовало ожидать, ее отношения с Понтекорво долго не продлились. Когда несколько месяцев спустя Понтекорво приехал в Париж и рыдал у меня на плече, я не кривя душой мог сказать, что прекрасно его понимаю.
Но даже тогда мне не хотелось отпускать Барбару, правда, я смирился с тем, что развод неизбежен. Я нашел адвоката и договорился встретиться с Барбарой перед его офисом. Прождав целый час, я позвонил и в изумлении услышал в трубке ее голос. Неужели ей все это настолько безразлично? Неужели она забыла?
С полным бесстрастием она ответила:
— Я подумала, нам лучше больше не встречаться.
И вот тогда произошло нечто странное. Будто разорвалась какая-то незримая связь. Я почувствовал себя невесомым, свободным как птица. Это же Париж, говорил я себе. У меня есть талант, друзья, передо мной целая жизнь.
Я принялся искать работу. Позвонил Игнасу Таубу. Он сказал, что я зря теряю время в Париже, и велел как можно быстрее приезжать в Мюнхен. «У нас для тебя кое-что есть», сообщил он. Больше он не пожелал ничего объяснять, а только пообещал, что вскоре я стану режиссером крупного военного фильма.
Тауб сообщил, что договорился о большой немецко-югославской копродукции. Фильм предполагалось снимать по роману известного югославского писателя, ветерана второй мировой войны, сценарий должен был писать Марек Хласко. Третий участник переговоров, Роберт Аздерболл, все время с восторгом встревал в беседу, добиваясь, чтобы я наверняка понял, сколь великие свершения ждут нас впереди.
Звучало все это очень заманчиво, но из осторожности я задал пару вопросов. Кто финансирует подготовительный период? Сколько хочет автор за право экранизации? Я-то знал, что Тауб всегда на грани банкротства.
— Не порти всем настроение, — сказал Тауб. — У нас есть надежная опора. Ее зовут Рифка Шапиро. Куча денег. Ею занимается Аздерболл, они скоро поженятся. Сегодня мы все у нее обедаем.
Рифка Шапиро была владелицей фабрики одежды и жила вместе с матерью в роскошной квартире, заставленной дорогой, но безвкусной мебелью. Мать говорила мало, зато по делу.
— Рифка, если тебе нравится фильм, купи себе билет. Купи все билеты в кинозале — так будет дешевле, — говорила она.
— Мама, — не утерпел Аздерболл, — не вмешивайтесь, — и едва слышно добавил: — А то мы отправим вас в дом для престарелых.
Все мы, включая Рифку, решили ехать в Белград и обсудить все вопросы с представителями югославской государственной кинокомпании, которая должна была стать нашим партнером.
Как выяснилось, в придачу к гонорару автор получал подержанный «Мерседес» Рифки, который, естественно, сломался.
В Белграде мы сделали вид, что обсуждаем наш совместный проект, даже съездили посмотреть возможные места съемок. Потом все вернулись домой.
Больше я ничего не слышал ни о проекте, ни о Рифке Шапиро, ни о югославском писателе.
Я окончательно убедился, что мое будущее — это Париж. На тот период как раз приходился пик «новой волны». Неопытными молодыми любителями снимались очень дешевые и в большинстве очень плохие фильмы. Многие из них проваливались, но те, что имели успех, переворачивали представления о том, что такое хит. Во французской кинопромышленности царил переполох, потому что не было больше формулы успеха. Продюсеры шли на риск, боясь пропустить какого-нибудь никому не известного режиссера или какой-нибудь совершенно непонятный сценарий, который мог бы принести им известность. Имел значение и интеллектуальный снобизм. Страшась обвинений в мещанстве, критики восхваляли плохо сделанные заумные фильмы, которые отличались не только замедленным развитием действия, но были еще и попросту скучны и напыщенны.
Сам я никогда не был и не хотел быть частью «новой волны». Я слишком высоко ценил профессионализм и педантичность в работе. Хотя я и считал «400 ударов» Франсуа Трюффо очаровательным фильмом, хотя мне и нравилась картина Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», прочие ленты, за исключением ранних работ Клода Шаброля, раздражали любительщиной и отвратительной техникой. Досмотреть их до конца было для меня изощренной пыткой.
Рустан, который внимательно следил за развитием этого направления, стремясь ничего не упустить, заказал мне сценарий. Идея его была вполне стандартной. «Почему бы не написать про девушку-польку, которая приезжает в Париж и влюбляется во француза, — предложил он. — Мне видится что-нибудь малобюджетное вроде картины «Хиросима, моя любовь».
Я написал синопсис и дал его посмотреть Жерару Брашу. Тот остался невысокого мнения о моем творении, и я его не винил. «А что, если нам попробовать поработать над этим вместе?» — подумал я. Мы так и сделали, но ничего хорошего не получилось. А потом я предложил забыть про Рустана и написать что-нибудь, что понравилось бы нам обоим и что нам захотелось бы увидеть на экране.
Как оказалось, у нас с Жераром было много общего: одинаковое чувство юмора, одинаковое восприятие абсурдности. Хотя я больше, чем он, знал о кино и технике написания сценариев, он все схватывал на лету. Он был очень гибким человеком и никогда не возражал против того, чтобы отбросить сделанное и все начать с нуля.
Сначала мы представили себе отрезанный от мира водой дом, который терроризирует скрывающийся от правосудия гангстер. Персонаж Дики, скандального, неприспособленного человека, я писал со своего друга Анджея Кательбаха.
Если бы на том этапе меня спросили, а какова тема, я не смог бы ответить. Темы не было, было лишь желание выразить наше психологическое состояние. И с Жераром, и со мной недавно плохо обошлись женщины, и характер Терезы до некоторой степени родился из мести. Тогда мне и в голову не приходило, что фильм можно будет снимать где-то, кроме Франции. В конце концов мы показали сценарий Рустану, который в восторг не пришел. В лучшем случае, дескать, может получиться короткометражка. В том же Здании находилась компания «Альфа продюксьон», с которой мы и заключили контракт на постановку картины «Если придет Кательбах». Я согласился работать за гроши, но, как оказалось, я и грошей-то так и не получил. Из нашего проекта ничего не вышло.
Тем временем в Венеции мой фильм «Нож в воде» получил премию критики, а «Млекопитающие» — первую премию на фестивале короткометражных фильмов в Туре.
Но даже и после этого никто нас в Париже всерьез не принимал. Мы с Жераром совершенно не умели себя рекламировать. Я по-прежнему был похож на ученика средней школы, а по-французски говорил с сильным польским акцентом. Я не умел вести светские разговоры и не знал правил этикета, которым французы придают такое большое значение. Только Рустан по-прежнему подозревал, что какой-то неопределенный талант у меня все же есть, и не хотел упустить свой шанс. С огромной осторожностью, как китайский ростовщик, он давал мне в долг мелкие суммы денег, никогда наотрез не отказывая, никогда не требуя немедленного возврата.
ГЛАВА 16
Я снова был один, но далеко не беззаботен. Краткие интерлюдии жизни за казенный счет во время съемок или фестивалей чередовались с более продолжительными периодами откровенной нищеты. Мы либо пировали, либо голодали.
Я отправился в Америку, где «Нож в воде» показывали на I Нью-Йоркском кинофестивале. Арчер Кинг, представитель небольшой компании, которая купила мой фильм для проката в США, прислал мне приглашение. Транспортные расходы и проживание оплачивались фестивалем.
В аэропорту меня встретил лично Арчер Кинг. Меня поместили в такие апартаменты, будто я был членом королевской семьи, но не дали карманных денег. Своих же у меня, естественно, не было. Отсюда возникли некоторые мелкие проблемы. К примеру, в чемодане протек шампунь и залил мой единственный костюм. Арчер Кинг позаботился о том, чтобы его отстирали и отгладили прежде, чем мне понадобится появиться в нем на фестивале в Линкольн-центре.
Мои первые американские впечатления были довольно двойственными. Нью-Йорк сразу же развеял некоторые иллюзии. Кроме небоскребов, там были и весьма непрезентабельные заведения: захудалые бары, магазинчики, дешевые распродажи. Улицы оказались уже, чем я воображал, неровными и грязными. Я был удивлен, но одновременно нашел во всем этом что-то очень знакомое и успокаивающее.
Больше всего меня поразили люди. В Польше общение носит официальный, регламентированный характер. Формалистика французов еще хуже, а за два прошедших года я больше почти ни с чем и не сталкивался. Теперь же меня со всех сторон приветствовали гостеприимные незнакомцы, которые называли меня по имени, приглашали домой, вели себя так, будто мы старые друзья.
В Нью-Йорке во время фестиваля я давал много интервью, но по-английски говорил плохо, настолько плохо, что когда меня попросили представить свой фильм перед фестивальным просмотром, мне пришлось пойти на хитрость. Меня пригласили на сцену и поставили перед микрофоном. «Я плохо говорю речи, поэтому делаю кино. Так что давайте сразу смотреть фильм», — сказал я по-польски. Ничего не понявшие зрители захихикали. Я выдержал паузу, потом повторил то же самое по-французски. Последовали аплодисменты. После новой паузы я произнес такую же предварительно заученную английскую фразу. Еще не посмотрев ни метра фильма, зрители уже были на моей стороне. Потом я узнал, что во многих отношениях ньюйоркцы — самые отзывчивые зрители.
Кульминацией моего пребывания в Нью-Йорке стало появление кадра из моего фильма на обложке журнала «Тайм». Я, конечно, знал, что «Тайм» — влиятельный журнал, но я помнил в основном традиционные обложки со старомодными фотографиями политических деятелей, которым тогда поклонялись издатели журнала. Поместить же на обложку черно-белую фотографию из восточноевропейского фильма было смелым новшеством, которое я не оценил по достоинству.
Мне, как обычно, казалось, что в Париже после фестиваля все должно измениться. Однако единственным ощутимым результатом
было мое решение выучить английский. Я потратился на лингафонный курс и начал усердно заниматься.
Моя профессиональная жизнь, однако, легче не стала. Мы с Жераром обожали наш сценарий под названием «Если придет Кательбах», но процесс его преобразования в фильм шел очень трудно. Многие им интересовались, но это ни к чему не приводило.
В декабре 1964 года меня пригласили в Мюнхен на Неделю польского кино. Здесь в отеле ко мне подошел некто Джин Гутовски, поляк с американским паспортом, живущий в Лондоне. Гутовски был хорошо воспитанным светским львом, обладавшим неплохим вкусом в одежде и вине. Его достижения как продюсера не впечатляли — незначительная постановка в Германии, телесериал в США, — но по нашему поводу он строил самые радужные планы. Он предлагал наладить некое долгосрочное сотрудничество между продюсером и режиссером, но настаивал, что начинать можно только в Лондоне. Когда он пригласил меня к себе и прислал билет, я поехал. Как оказалось, он жил в элегантно оборудованной квартире на Итон-плейс, которая сплошь была заставлена бронзовыми бюстами его жены Джуди. Я узнал, что Джин не только денди, но и по-настоящему талантливый скульптор.
В Лондоне меня знали лучше, чем в Париже, отчасти благодаря тому, что «Нож в воде» имел там некоторый коммерческий успех и получил прекрасные отклики критиков. Но за «Кательбаха» по-прежнему никто не хотел браться.
«Нож в воде» был выдвинут на «Оскар» как лучший иноязычный фильм 1963 года, и меня пригласили на торжественную церемонию.
В Лос-Анджелес я полетел первым классом, в аэропорту меня встретил огромный лимузин с польским флагом, и я отправился в отель «Беверли Хиллз», будто был представителем иностранной державы. Я словно вступил в новый безопасный мир. Отель располагался посреди поросшей пальмами лужайки и напоминал скорее какой-то уединенный курорт. Я начинал чувствовать себя уверенным, богатым, частью кинематографической элиты. И почему только все не жили так! Я был настолько наивен, что поразился, когда служащие отеля сразу же стали обращаться ко мне по фамилии.
Меня повезли на экскурсию в «Диснейленд» в обществе других кандидатов на «Оскар», включая Феллини и его жену Джульетту Мазину. Мы словно открывали Америку наших детских мечтаний. С тех самых пор как в Кракове я стал собирать в мусорных баках обрезки пленок «Белоснежки», диснеевские герои пользовались моей особой благосклонностью.
Теперь я уже вполне сносно мог изъясняться по-английски, отчего мое пребывание здесь стало еще приятнее.
Как я обнаружил, Нью-Йорк — это еще не все Соединенные Штаты. Здесь, в Лос-Анджелесе, небоскребов не было; здесь вы жили будто в деревне, но со всеми преимуществами города. Все было чистенько и аккуратненько. Один раз я видел, как садовник-японец подстригает траву ножницами, чтобы она не закрывала кромку тротуара. На меня произвело большое впечатление, с какой тщательностью готовилась церемония вручения «Оскаров». Ничто не было пущено на самотек. Нам посоветовали, как лучше одеться («однотонные черные или белые наряды плохо выглядят на фотографиях»), как себя вести («по дороге на сцену не следует останавливаться, чтобы принять поздравления»).
Я прилетел в Лос-Анджелес, не питая никаких надежд, что увезу с собой награду, но о «Ноже в воде» столько писали, все были так оптимистично настроены, что я начал мечтать наяву. Ведь все-таки мой фильм вошел в пятерку тех, что выбрали из многих десятков. С другой стороны, он соперничал с таким шедевром, как «8 1/2», который произвел на меня в Канне глубочайшее впечатление. В глубине души я считал, что «8 1/2» — бесспорный претендент на «Оскар» как лучший зарубежный фильм.
Вечером 13 апреля я сидел в зале рядом с Феллини и Джульеттой, которая даже расплакалась от нервного напряжения. Хоть я и сам тоже волновался, мне все же удавалось сохранять внешнее спокойствие. Как и всегда в подобных случаях, неизвестность и ожидание были невыносимы. Ведущие никак не могли разорвать конверт, никак не могли прочитать, что там написано. Когда «8 1/2» получил «Оскар», Джульетта разрыдалась, Феллини вышел на сцену, а я аплодировал громче всех. В глубине души я испытал некоторое разочарование, но одновременно и подъем. Проиграть такому сопернику не было позором.
Когда церемония вручения «Оскаров» осталась позади, я перебрался из своего роскошного отеля в самые дешевенькие комнаты, которые только сумел отыскать. Теперь в моем распоряжение были лишь мои собственные финансы, и я отправил отчаянную телеграмму Джину Гутовски, который прислал мне 400 долларов.
А тем временем в Лондоне Джин Гутовски нашел людей, которые были готовы заключить со мной контракт. С первого взгляда «Комптон груп» можно было принять за крупный конгломерат индустрии развлечений. На самом же деле группа существовала за счет доходов от мелкого заведения в Сохо под названием «Комптоновский киноклуб», где показывали фильмы, считавшиеся в то время в Лондоне порнографическими. Группа делала на этом такие деньги, что решила изменить свой имидж, так что ее интересы совпали с нашими.
Несмотря на стремление поставить фильм вместе со мной и Джином, ни Майкл Клинкер, ни Тони Тенсер (оба представители «Комптон груп») и слышать не хотели о «Кательбахе». Им нужен был фильм ужасов. В Париже мы с Жераром принялись за работу. Сценарий «Отвращение» мы закончили за семнадцать дней.
ГЛАВА 17
Сценарий мы писали с единственной целью — добиться, чтобы Клингер и Тенсер согласились его финансировать. А чтобы они попались на крючок, сценарий должен был быть безоговорочно ужасным, ничто другое их не волновало. Что-то слишком утонченное отпугнуло бы их, поэтому история о буйствующей в квартире своей сестры шизофреничке со склонностью к убийствам включала в себя леденящие кровь сцены, граничащие с канонами фильмов ужасов. Оригинальности следовало добиваться манерой повествования, которую мы хотели сделать как можно реалистичнее и психологически достовернее.
Ясно представляя себе, какое чувство ужаса мы хотим передать, мы искали вдохновение в знакомых нам по реальной жизни ситуациях. Большинству людей когда-то приходилось испытывать неосознанный страх от ощущения чьего-то невидимого зловещего присутствия. Забытая перестановка мебели, скрип половой доски, падающая со стены картина — все это способно вызвать такое ощущение.
Нашу главную героиню — маникюршу Кэрол — мы писали с девушки, которую Жерар знал в Париже. При первом знакомстве в ней кроме красоты поражала какая-то невинность и сдержанная безмятежность. Другая ее сторона открылась нам только тогда, когда она стала жить с нашим знакомым. Тот рассказывал про нее странные вещи: ее одновременно и привлекал, и отталкивал секс, с ней случались внезапные и непредсказуемые приступы буйства. Здесь возникала наша вторая не менее значительная тема: неведение живущих вместе с психически ненормальными, у которых сила привычки притупила остроту восприятия необычного.
«Комптон груп» благожелательно отнеслась к нашему сценарию. Я полетел в Лондон, где Джин подыскал мне квартиру почти рядом со своей. В таких роскошных хоромах я еще ни разу не жил. Клингер не только оплачивал мое проживание там, но и снабдил машиной. Я обнаружил, что он попросил переделать ее так, чтобы она не могла двигаться быстрее пятидесяти миль в час, но я взял реванш, тайно начав подготовку к гонкам по «Формуле-3».
Чтобы не скучать, я привез с собой Жерара Браша. Я действовал как рабочий-иммигрант, который при первой же возможности перевозит к себе семью. А тем временем шла работа над английским вариантом нашего сценария. Успех фильма зависел от атмосферы в квартире, где происходили основные события. У себя в гостиной я вместе с художником-постановщиком построил макет, прибегая к рисункам всякий раз, как мой английский подводил меня. Мне хотелось показать галлюцинации Кэрол при помощи камеры, увеличивая их воздействие за счет использования все более и более широкофокусной оптики. Но одного этого было мало. Мне хотелось менять размеры квартиры — расширять комнаты и коридоры, отодвигать стены, чтобы зрители могли в полной мере прочувствовать свойственное Кэрол искаженное видение мира. Соответственно мы спроектировали стены декораций так, чтобы их можно было отодвигать и удлинять, вставляя дополнительные панели. «Растянутый» таким способом коридор в ванную приобретал кошмарные размеры.
У меня возникли некоторые проблемы с подбором актеров. Я остановил свой выбор на Иене Хендри, Джоне Фрейзере и Пэтрике Уаймарке. Хотя на Хендри и Фрейзера был большой спрос, они согласились сниматься за намного более скромное вознаграждение, чем можно было бы ожидать. После благоприятных отзывов критики о «Ноже в воде» им было любопытно поработать с экзотическим молодым дарованием.
Когда дело дошло до Катрин Денёв, моей героини, мне пришлось потруднее. Клингер считал, что приглашать ее — ненужная экстравагантность. И лишь когда я уперся, он капитулировал. Как оказалось, фильм стал многим обязан ее исключительной красоте и дарованию.
Я вновь встретился с Виктором Лоунсом, который как-то раз угощал меня в Канне. Он будто воплощал в себе все черты, которые обыкновенно приписывают американцам. Быстро говорил, был решительным, энергичным, самоуверенным, не стеснялся в выражениях. По европейским стандартам его назвали бы даже наглым. Днем он работал не менее усердно, чем я, наблюдая за постройкой «Плейбой клаб», а ночами развлекался, пожалуй, еще усерднее. Виктор славился своим гостеприимством. Его гостиная была одновременно кабинетом и офисом. Трудно было провести границу между его рабочим днем и вечеринками, которые он устраивал почти каждый день и куда стекались практически все оказавшиеся в Лондоне звезды американского шоу-бизнеса. Виктор наслаждался своим богатством и связями; приемы и развлечения стали для него частью работы. Он принимал знаменитостей не столько из снобизма, сколько, как он сам говорил, потому, что они скорее интересные личности, чем ничтожества, иначе не добились бы такого положения. Некоторые считали, что он просто хочет проявить себя, я же предпочитал думать, что он человек без комплексов и лицемерия. В наших характерах было что-то общее, и наша дружба быстро окрепла.
В первый день съемок меня удивила и насторожила манера работы моего оператора Джилберта Тейлора. Он применял главным образом свет, отраженный от стен или потолка, и никогда не пользовался экспонометром. Однако после проявки первых же кадров стало очевидно, что он обладает потрясающим, безошибочным чутьем, и выдержка на пленке была безукоризненна. У Джила был огромный операторской опыт, он начал еще в 30-е. Участвовал в рискованных рейдах в Германию вместе с «Pathfinders» — «глазами» командования бомбардировщиков Королевских воздушных сил, в результате чего был глух на одно ухо. Расхождения у нас с ним были лишь в одном вопросе. Джил не хотел использовать широкофокусную оптику для крупных планов Катрин Денев, а мне это было необходимо, чтобы передать процесс психического распада Кэрол. «Терпеть не могу поступать так с красивой женщиной», — бормотал Джил.
Мой гример Том Смит тоже не мог понять, почему я требую снимать Катрин без всякого грима, — я разрешал лишь немного подчеркнуть глаза. А делал я так потому, что хотел уловить малейшие нюансы настроения и знал, что все они пропадут под слоем традиционно принятого в кино грима. В тот период большинство кинозвезд покрывали лицо столь толстым слоем косметики, что он вполне подошел бы для театра Кабуки.
Я еще не сталкивался с кинопрофсоюзами и не знал, что сверхурочную работу надо со всеми заблаговременно обсуждать. Вот как-то вечером, когда мы сильно выбились из расписания, все без звука проработали лишний час. Мы снимали сцену, в которой переполняется ванна, и прерваться на середине было бы катастрофой. Никто не возмутился и не ушел, хотя все имели на это полное право. По последовавшему за этим всеобщему изумлению я понял, что это было уникальное, почти историческое событие.
У меня не было специальной группы, занимавшейся спецэффектами, я все делал сам, поэтому на это уходило больше времени, чем предполагалось. Труднее всего было имитировать простейшие галлюцинации. Немало головной боли причинило нам внезапное появление трещин на стенах. Перед каждым дублем их приходилось заново покрывать штукатуркой и красить, чтобы в нужный момент они снова появились после нажатия на рычаг. Одну деталь — прорастающую картошку, по которой можно судить, сколько времени назад началось безумие Кэрол, — я позаимствовал из своего детства: перед войной бабушка на кухне проращивала бобы.
Когда я работал с Катрин Денёв, я чувствовал себя так, будто танцевал с великолепным
партнером. Она точно знала, чего я жду от нее на площадке, и сразу входила в образ, причем настолько серьезно, что когда завершились съемки, она и сама стала молчаливой и немного не в себе. Несмотря на безупречный профессионализм, с Катрин была одна проблема: она не желала появляться на экране ни обнаженной, ни даже полуобнаженной и поначалу во что бы то ни стало хотела поддеть что-нибудь под прозрачный халатик. Я возражал против трусиков, поэтому мы сошлись на телесного цвета трико. Однако когда дошло до дела, она снялась в одном халатике.
Несмотря на то что по-английски я все еще говорил не слишком хорошо, ни с актерами, ни со съемочной группой серьезных проблем не возникало. Сложности заключались в другом: бюджет фильма был нереалистично занижен, к тому же у меня на работу уходило больше времени, чем предполагалось первоначально. Чтобы как-то оправдать перед самим собой работу над «Отвращением», я должен был придать фильму значительность, которая сразу бы выделила его из ряда обычных фильмов ужасов. А следовательно, снимать я должен был по своим правилам. Улучшить картину я мог, лишь добиваясь качества, а на это уходили дополнительное время и средства, на что не рассчитывала «Комптон груп».
Начальные пятнадцать минут фильма специально задуманы как подготовка к тому жуткому моменту, когда у Кэрол появляется первая галлюцинация: в зеркале на захлопывающейся дверце гардероба она видит отражение притаившейся в углу угрожающей мужской фигуры. Чтобы добиться шока, от которого зрители подпрыгивали бы в креслах, требовалась убаюкивающая подготовка. Клингер хотел, чтобы я сократил число вступительных сцен, иллюстрирующих однообразную жизнь Кэрол, но я уперся. Зрителя надо убаюкать, ему должно стать чуть ли не скучно, а потом его нужно как следует встряхнуть.
Клингера и Тенсера удивляло то, что они видели, когда время от времени наведывались к нам на съемки. В сцене, когда Кэрол находит опасную бритву, принадлежащую любовнику своей сестры, мне показалось, что деталь недостаточно бросается в глаза. А поскольку для сюжета она имела большое значение (Кэрол позже воспользуется ею, чтобы убить домовладельца), ее нужно было как-то выделить. Желаемого эффекта я в конце концов добился, прикрепив к ручке полоску серебряной фольги. Из-за этого на кадр с бритвой потребовалось несколько часов.
Клингер и Тенсер считали, что я добиваюсь излишнего совершенства, и убеждали меня работать быстрее, делать меньше дублей. В результате «Отвращение» стало неким художественным компромиссом, в котором я так и не достиг желаемого качества. Сейчас мне кажется, что спецэффекты выполнены небрежно, а декорации могли бы быть лучше. Из всех моих фильмов «Отвращение» самый неряшливый, технически он намного ниже того стандарта, к которому я обычно стремлюсь.
По мере работы экстренные совещания, нотации и упреки становились все более и более частым явлением. Они настолько утомляли меня, что я заявил Джину Гутовски, что готов все бросить. Мне нечего было терять, ведь все мои пожитки спокойно умещались в одном чемодане.
И все же при всех своих недостатках «Отвращение» обещало стать неплохим фильмом. Бюджет был нереалистично занижен до 45 тысяч фунтов, но и при окончательной стоимости в 95 тысяч картина обошлась достаточно дешево.
Несмотря на напряженность и трения, я наслаждался жизнью в Лондоне. Я обнаружил, что англичанки менее расчетливы и более прямодушны, чем все девушки, с которыми мне приходилось сталкиваться. Если они намеревались лечь с вами в постель, они так и делали, если же нет, то сразу давали это понять. Впервые я почувствовал себя совершенно свободно с противоположным полом. До меня вдруг дошло, что в любви, как и в актерской игре, спорте или музыке, раскованность — ключ к успеху. До тех пор я, вероятно, был весьма посредственным любовником — слишком зажатым, слишком боявшимся отказа.
Один из самых жутких моментов в работе над «Отвращением» настал, когда я первый раз увидел фильм целиком в черновом монтаже, без музыки и звуковых эффектов. После этого режиссер обыкновенно остается в недоумении, что же, собственно, у него получилось после всех дней и месяцев работы. Этот вариант уже не волнует вас так, как первые отпечатки кадров, отснятых за день, но и законченной атмосферы фильма в нем тоже еще нет. В нем есть вроде бы все, но везде чего-то не хватает. Теперь я уже научился подготавливаться к таким моментам, зная, что наверняка буду удручен. Тогда же я был еще достаточно неопытен и глубоко переживал.
Оставалось еще одно препятствие — Британская комиссия по киноцензуре. К моему восторгу, фильм оставили как есть, не попросили даже приглушить звук в сцене, где сестра Кэрол занимается любовью в соседней комнате, — смелое решение для 1964 года. Присутствовавший на просмотре психиатр Блейк поинтересовался у нас с Жераром, откуда мы столько знаем о шизофрении. Он сказал, что Кэрол — клинически точный случай шизофренички с наклонностями к убийству. Мне было неловко признаваться, что мы полагались на собственное воображение.
Чтобы привлечь внимание критики, было решено поместить в «Плейбое» несколько фотографий обнаженной Катрин Денёв. Когда я позвонил, Катрин отказалась, но немногие женщины, включая кинозвезд, начисто лишены тщеславия. Я заверил ее, что один мой знакомый фотограф выполнит все с величайшей тактичностью, и попросил ее по крайней мере встретиться с ним, если мне удастся уговорить его съездить в Париж. Она не только встретилась с ним и сфотографировалась, но и вышла за него замуж.
В Лондоне после премьеры фильм удостоился хороших отзывов критики и принес неплохие доходы. Когда он вышел в прокат в Европе, последовали новые положительные рецензии, хотя кое-кто писал, что «Отвращение» уступает «Ножу в воде».
Теперь можно было вновь заговорить о «Кательбахе», или «Тупике», как стал называться наш сценарий. Окончательно принять решение Клингеру помог Берлинский фестиваль 1965 года, на котором «Отвращение» получило «Серебряного медведя» и собрало большую аудиторию. Потрясенный тем, что «Комптон груп» наконец-то завоевала международный приз, Клингер вцепился в «Серебряного медведя» и так и не отдал его мне. После этого, а также после серии новых переговоров он согласился финансировать «Тупик».
ГЛАВА 18
«Отвращение» было средством достижения цели, целью был «Тупик». Три года спустя после написания сценария у нас с Жераром наконец-то был на руках контракт. Майкл Клингер и Тони Тенсер согласились на бюджет в 120 тысяч фунтов с условием, что мы найдем компанию, которая завершит работу, в случае, если съемки затянутся и потребуются новые вложения. За значительное вознаграждение «Филм файнэнсиз», крупный британский концерн, дал согласие. Я получал достойный гонорар в 10 тысяч фунтов.
В поисках места для натурных съемок я обратился в Королевское географическое общество. Его сотрудники очень любезно предоставили несколько фотографий местечка, которое, по их мнению, могло бы подойти. Холи-Айленд, клочок земли в трех милях от Нортумбрии, соединялся с берегом перешейком, который обнажался лишь в часы отлива. Именно такой уголок и рисовался нам с Жераром с самого начала.
Холи-Айленд действительно идеально подходил нам Он был часами отрезан от берега, в период отлива его окружали пески, там даже замок был, где мы могли провести основную часть съемок. Джин пришел в восторг. «Если место мне так понравилось, следует сразу же на нем и остановиться, — сказал он, — и незачем ехать на север» Равнодушие Джина взбесило Клингера, после чего между ними возник разрыв. Ведь в конце концов Джин считался продюсером картины.
Когда мы с Жераром писали сценарий, то прототипами для нас служили Пьер Рустан и Анджей Кательбах. Теперь на роль Джорджа, трусливого женоподобного мужа, пригласили Доналда Плезанса. Он был другой комплекции, но очень напоминал Рустана. Труднее было подобрать исполнителя на роль крикливого гангстера Дики. Нам нужен был кто-то вроде Уоллеса Бири. Как-то раз Джин позвонил мне, чтобы я включил телевизор, потому что там показывают дискуссию, один из участников которой, возможно, заинтересует меня. Здоровенный американский актер Лайонел Стэндер столь громогласно защищал свою точку зрения, что никто не мог и слова вставить. И голос, и внешность у него были как раз то, что надо, и я немедленно связался с ним. Стэндер уехал из США по политическим мотивам и теперь делал себе карьеру в Лондоне. Ему не терпелось получить роль в крупном фильме. Я тут же нанял его.
На маленькую роль любовника Терезы мы пригласили Иена Куорриера. Я предупредил, что от него потребуется лишь выглядеть англичанином и научиться ходить на руках.
Теперь оставалась не новая для меня проблема героини. Мне очень хотелось взять совершенно неизвестную актрису. Я перепробовал множество молоденьких девушек и фотомоделей, но ни у одной не хватало профессионализма. До начала съемок оставалось всего несколько дней, и я уже почти отчаялся, когда услышал, что Франсуаза Дорлеак, сестра Катрин Денёв, как раз приехала в Лондон. Хотя мне не хотелось, чтобы Терезу играла француженка, сценарий можно было легко переделать. Я нанял ее без проб, и все было готово к съемкам.
Холи-Айленд, называемый еще Линдис-фарн, — странное место. Говорят, там обитает множество духов. Его небольшая сплоченная община насчитывала менее трехсот человек, в основном это были фермеры, рыбаки, браконьеры и мародеры, и они не любили, когда чужаки задерживались на острове долее, чем на день-другой.
Наша съемочная группа заняла практически все свободное жилье на острове. Я потребовал себе трейлер, который расположил в уединенном местечке вблизи кладбища. Отношения в группе были не из лучших, и я с самого начала
понял, что после работы нам лучше не общаться. К счастью, у меня было по крайней мере три единомышленника Одним из них была Джеки Биссет, отличавшаяся столь же очаровательным характером, как и внешностью. Она была в восторге оттого, что жила на острове, и мелкие неудобства ее совершенно не смущали. Двое других были Джек Макгоурен и его жена Глория. Джек был не только замечательным актером, но и настоящим профессионалом. Он мог часами, не жалуясь, простаивать в ледяной воде. Мы с Жераром решили, что следующий сценарий напишем специально для него.
Снимать мы начали в августе, который считался на острове «надежным» месяцем, но освещение менялось каждую минуту. Внезапные бури, изменчивые облака вносили полный хаос в расписание съемок. К тому же остров оказался местом паломничества туристов, так что по выходным замок был для нас недоступен.
На съемках любого фильма атмосфера самой истории скоро начинает распространяться за пределы съемочной площадки. После того как к вечеру работа заканчивалась, полностью избавиться от напряжения «Тупика» не удавалось. Мы с Жераром написали черную комедию о том, как трое людей оказались вместе в вынужденной изоляции, — своего рода исследование невроза, в котором условности триллера поставлены с ног на голову. К несчастью, исполнители трех главных ролей вскоре стали играть их и в жизни.
Доналд Плезанс, самый опытный актер, получил главную роль, но все равно постоянно стремился отодвинуть остальных в тень. Он разными хитроумными способами направлял внимание камеры на себя. Несмотря на его выдающиеся способности, с этим человеком нелегко было иметь дело. На остальных исполнителей он смотрел сверху вниз, делал им мелкие гадости. Он поставил меня перед фактом, когда обрил голову. Хотя это придало его образу некоторые интересные черты, меня возмутило, что он предварительно не посоветовался со мной.
Беда Лайонела Стэндера заключалась в том, что в жизни он слишком напоминал своего персонажа. Крикун, нахал, болтун, которому постоянно нужно было находиться в центре внимания. Сначала нас это забавляло, и мы с интересом выслушивали его повествование о том, как он сражался с маккартистами, как в Голливуде его преследовали правые, которые в конце концов и вынудили его отправиться на поиски работы в Англию. Но слушать одно и то же в сотый раз нам скоро надоело.
У Франсуазы Дорлеак были свои странности. Она прибыла на Холи-Айленд с двадцатью чемоданами и почти совершенно лысой собачонкой чихуахуа, которая огрызалась и скулила. Франсуаза контрабандой провезла ее в Великобританию в сумочке, нарушив закон о карантине. Во время месячных Франсуаза невыносимо страдала и целыми днями не могла работать. Несчастная и скучающая, она сразу же невзлюбила и Стэндера, и Плезанса.
На всех сказывалась и клаустрофобия от пребывания на Холи-Айленде. Мы были вынуждены слишком много общаться друг с другом, и всевозможные жалобы текли рекой.
Я дал Иену Куорриеру не одну неделю на то, чтобы научиться ходить на руках, но когда дошло до дела, он смог совершить лишь два-три неуверенных шажка.
У меня в трейлере быстро размножались уховертки. Вернувшись совершенно измученным после целого дня съемок, я обнаруживал в постели колонию блестящих жучков. Я неутомимо сражался с ними большими дозами ДДТ.
Самой острой моей проблемой был Лайонел Стэндер. Ленивый в душе, он взялся за свою роль с почти маниакальным энтузиазмом, которого, к сожалению, хватило ненадолго. Стоило мне сделать ему замечание по поводу интонации или движения, как он тут же перечислял причины, побудившие его сказать или сделать что-то именно так. Любое мое предложение он воспринимал как оскорбление, считая, что все они порождены враждебным к нему отношением или неуважением к нему как актеру. Мне приходилось снова и снова доказывать ему, что нет никакой неприязни, никакого конфликта индивидуальностей, что руководствовался я только желанием сделать все как можно лучше. Тогда он принимался до небес возносить меня, говоря, что никогда еще у него не было такого талантливого режиссера.
На все это уходило бесценное время. Мне стало совершенно ясно, что если не установится ясная солнечная погода, мы очень скоро выбьемся из графика. Когда же иссяк энтузиазм Стэндера, что произошло довольно быстро, работа пошла еще медленнее.
Как Стэндер повредил колено, действительно ли он его вывихнул, как утверждал, — известно только ему. Никто этого не видел, но так или иначе однажды он начал театрально преувеличенно хромать и взял в руки палочку. Съемочная группа, которая с течением времени воспылала к нему неприязнью, заметила, что он не всегда хромает на ту же ногу. «Ну, какое колено болит сегодня, Лайонел?» — так теперь приветствовали его на площадке. Клингер и по сей день считает, что у Стэндера была одна-единственная цель — как можно больше затянуть съемки, потому что по контракту он получал дополнительные деньги за каждый день, если съемки затянутся дольше определенного срока.
Напряжение достигло предела в сцене, где Дики снимает ремень и порет Терезу за то, что она зло подшутила над ним. На репетиции Стэндер начал бить актрису всерьез. «Да ведь это же только репетиция!» — кричал я. Стэндер возразил, что Франсуаза слишком извивается.
Нам пришлось сделать несколько дублей. Догнав Франсуазу и повалив ее на каменный двор замка, Стэндер должен был усесться на нее и избить. Когда дошло до съемок, он ударил ее пряжкой ремня, причинив настоящую боль. Франсуаза сопротивлялась. Колени были разбиты. Вдруг в середине этого реалистического дубля Стэндер остановился и поднял голову. «Ты, сука, — сказал он. — Ты задела мое колено». Чувствуя, что окружающие готовы выбить ему все зубы, я остановил съемки. Стэндер захромал прочь. Франсуаза к этому времени уже рыдала. «Ну что я могу сделать? — обратился я к ней по-французски. — Он ведь сумасшедший». Поняв, что слишком далеко зашел, Стэндер извинился. Кое-как нам удалось закончить сцену без дальнейших инцидентов.
Вскоре Франсуаза заявила, что у нее выпала пломба. Поскольку доверяла она лишь французским дантистам, то выпросила себе два дня. С огромным трудом мы изменили график, и она улетела в Париж. Мы не знали, что собачонку она взяла с собой. Все шло хорошо, пока в Хитроу офицер таможни не проверил ее сумочку, за что и был укушен собачкой. Франсуазу задержали. Чихуахуа отправили обратно в Париж, отчего Франсуаза стала еще несчастнее. Успокоение в конце концов она нашла лишь в объятиях нашего ассистента режиссера.
Потом возникла еще одна проблема, связанная со здоровьем. На сей раз у Лайонела Стэндера закололо сердце. Мы отвезли его в больницу в Ньюкасл на анализы. Они ничего не выявили. Правда, в конце концов Стэндер признался: он скрыл, что в прошлом у него были проблемы с сердцем. Страховая компания заявила, что если с ним на съемках что-нибудь случится, то они расторгнут контракт.
Их удалось уговорить, но лишь при условии, что Стэндер ограничится шестью часами работы в день. В такой ситуации нам оставалось лишь прекратить съемки.
Положение спас Жерар Браш. Внедрившись в лагерь Стэндера, он распространил слух, будто меня настолько потрясла его игра, что я вознамерился сделать его звездой своего следующего фильма Chercher la femme. Но из-за того что у актера больное сердце и такой неуравновешенный характер, мне приходится с болью отказываться от своего намерения.
Это сработало великолепно. Как по мановению волшебной палочки, у Стэндера прекратились боли в колене и в сердце. Теперь он работал столько, сколько требовалось. Последние недели он вел себя просто безупречно.
Нам оставалось снять одну длинную трудную сцену, в которой пьяный Доналд Плезанс рассказывает Стэндеру о проблемах своей супружеской жизни. Во время его невразумительного бормотания появляется самолет. Стэндер ошибочно полагает, что это мистический Кательбах летит их спасать. Когда он выясняется, что ошибся, то в ярости стреляет по самолету. Звук выстрелов заставляет Франсуазу Дорлеак вылезти из воды.
Мне хотелось снять все одним планом. При съемке эмоционально насыщенных сцен длинные планы предпочтительнее, потому что актер может все время оставаться в образе.
Франсуаза не возражала против того, чтобы сниматься обнаженной с Плезансом в спальне, но на пляже не желала появляться без одежды. Я убедил ее, что снимать ее будут лишь издали. Потом она решила, что вода слишком холодна. Я пояснил, что от нее требуется лишь сбросить халатик и побежать к морю. Как только она окажется вне поля зрения камеры, панорамирующей за мужчинами, она сможет выйти из воды. Потом ей нужно будет снова появиться в кадре мокрой и набросить халатик, будто она только что купалась.
Мы снимали третий дубль, когда мне сказали, что Франсуаза потеряла сознание.
«Приведите ее в чувство!» — прошипел я. Меня волновало лишь, чтобы она появилась в кадре в нужный момент. Когда же этого не произошло, съемку пришлось остановить. Мне было очень досадно, потому что это был наш лучший дубль.
Все преувеличенно суетились вокруг Франсуазы. По-видимому, она упала в обморок от холода, и все старались дать мне понять, что я чудовище. Плезанс от имени остальных выступил с официальным протестом. Поговаривали даже о забастовке, хотя на следующий день Франсуаза была в полном порядке и не держала на меня зла.
После окончания съемок я чувствовал себя совершенно обессиленным. Несколько дней я провел в номере отеля в Лондоне, никого не принимал, не отвечал на телефонные звонки, большей частью просто сидел и смотрел в пустоту. Мне даже с Джеки Биссет видеться не хотелось.
Даже покупка нового дома в Лондоне не слишком обрадовала меня.
Как-то на вечеринке мне предложили попробовать ЛСД, применение которого еще считалось законным в Лондоне. Блондинка, с которой я танцевал, решила присоединиться. Вскоре мы уже обнимались в уголке, и я пригласил ее к себе домой. Мебели в новом доме еще не было, но кровать по крайней мере я купить успел.
Когда мы уходили, друзья спросили, точно ли я смогу вести машину.
— Конечно, — ответил я, ничего необычного еще не ощущая.
— Лучше остаться, — посоветовали мне. Но у меня были другие планы.
Меня проводили напутствием:
— Запомни, Роман, что бы ни произошло, все это ненадолго.
Мы сели в машину и поехали. Поначалу все шло нормально. Но вдруг деревянный руль изменил форму. На ощупь он тоже стал другим. Я понял, что нахожусь в незнакомом месте. Возьми себя в руки, подумал я. Ты же везешь к себе эту шикарную девчонку. Вот улица, вот церковь. Церковь? Какая церковь? Я не имел понятия, где нахожусь, и остановился.
— Я заблудился, — заявил я.
Девушка с улыбкой откинулась на сиденье.
— Ну так давай отдохнем, — сказала она.
В ее облике было что-то странное, но что, я понять не мог.
Нечеловеческим усилием воли мне удалось добраться до дому. Едва переступив порог, мы снова стали обниматься. Нам было хорошо. Девушка сказала:
— Какая фантастическая лестница! Какой зеленый цвет!
Я видел лишь красные ступени.
Сидеть было не на чем, так что мы отправились наверх в постель. Меня раздражало отсутствие занавесок, свет резал глаза. Окно я прикрыл одеялом.
Девушка села рядом со мной. Я стад ей что-то говорить, но вскоре понял, что она меня не слушает. Она сидела неподвижно, погрузившись в свои мысли.
— Они с нами черт знает что сделали, — сказал я. — Опоили зельем.
— Кто? — переспросила она. — Кто они?
Наверное, ЛСД вызывает что-то вроде паранойи. Я винил других в том, что сделал по собственному желанию. Еще мне показалось, что действие его ослабевает.
— Нет, — тихо сказала она, — по-моему, оно усиливается.
Решив не выпускать ситуацию из-под контроля, я придумал гениальный выход.
— Надо сделать так, чтобы нас вырвало.
К этому времени она бессмысленно повторяла последние слова любой моей фразы. «Вырвало», — пробормотала она. Нас больше не влекло друг к другу, мы стали абсолютно чужими.
Я отправился в ванную и включил свет. И тут все взорвалось. Я смотрел на себя в зеркало. Волосы у меня были флуоресцентного зеленого и розового цвета, лицо постоянно меняло форму.
— Что бы ни произошло, все это ненадолго, — снова и снова повторял я.
Я открыл крышку унитаза и попробовал добиться, чтобы меня вырвало, но ничего не получилось. Я посмотрел внутрь и плюнул, и от моего плевка разошлись радужные концентрические окружности небывалой красоты. Они расплывались, доходя до стенок сосуда.
Я начал наполнять стакан водой из крана. «Я обхватываю пальцами стакан, — сказал я себе. — Теперь я его поднимаю. Зачем я это делаю? Чтобы глотнуть воды». Мне будто необходимо было раскладывать каждое действие на составляющие, как при съемке монтажного эпизода.
Стакан воды я отнес в спальню. Девушка лежала на кровати полуобнаженная и смотрела в потолок. Мы вполне платонически обнялись.
— Вот послушай, это тебя приободрит, — сказал я. — Что бы ни произошло, все это ненадолго.
Я включил транзистор и увидел — на самом деле именно увидел, — как из него полилась музыка. Черный женский голос пел блюз.
— Посмотри на этот голос. Ты его видишь? Она ничего не ответила.
Хотя ночь состояла из чередования ужаса и депрессии, были и моменты необычайного умиротворения. Несколько раз я испытал восторг. Любовью мы не занимались, зато я дотрагивался до чулок девушки и все никак не мог ими насладиться, до того сказочно мягкими и нежными они казались, совсем как паутинка. «Какая же ты красивая!» Так оно и было, она походила на принцессу из детской книжки сказок.
— Что? — резко спросила она. — Что ты сказал?
И вдруг вся она преобразилась. Я с ужасом увидел, что вместо глаз и рта у нее три вращающиеся свастики. Я мысленно фиксировал все происходящее; мозг работал, как часы, и голова была достаточно ясной, чтобы понять, что все мои галлюцинации — результат короткого замыкания в мозгу.
Мне казалось, что я переживаю все то, на что обычно уходит целая жизнь, все состояния и чувства: любовь, секс, войну, смерть. Вдруг мне пришла в голову светлая мысль: лучшего времени для психоанализа не придумаешь.
Я попытался им заняться. Пальцами одной руки я дотронулся до большого пальца другой. «Первым делом — любовь», — вслух сказал я. Над пальцем возник квадрат, заполненный знаками таро и зодиака, и повис в воздухе.
Я поднял указательный палец. «Потом секс». Появился прямоугольник.
Средний палец символизировал работу. Еще один прямоугольник.
Пока все это происходило, мы с девушкой все больше и больше отдалялись. Она погружалась в себя, едва осознавала мое присутствие. У меня были видения, я беседовал сам с собой, она же ушла в свой собственный кошмар. Нас мучили приступы страха и горя, мы рыдали, но не тянулись друг к другу. Мы плакали каждый сам по себе, не обнявшись.
Потом, когда я лежал на кровати, мне казалось, что я смотрю на мир сквозь замочную скважину.
Я в двадцатый раз отправился в ванную. Взглянув на себя в зеркало, я чуть не вскрикнул: в моих глазах не было зрачков, просто черные дырки.
Я запаниковал, но одновременно и образумился. Как только я смогу идти, я отправлюсь за помощью к Гутовски.
Ему в дверь я позвонил, наверное, часов в пять утра. Он дал мне стакан молока, а Джуди отправил ко мне за девушкой. Мы все же оказались вместе в постели, нам сделали уколы, и очнулись мы лишь под вечер. Больше мы не встречались. Никому из нас не хотелось вспоминать то, свидетелем чего был другой.
Я рассказал обо всем Иену Куорриеру.
— Здорово, а? — спросил он.
— Нет, — ответил я, — ужасно.
Пока у меня все еще продолжались галлюцинации, я обратил внимание, что они не были связаны ни с Холи-Айлендом, ни с фильмом. Депрессия прошла. Как это ни странно, но ЛСД ее излечил.
ГЛАВА 19
Теперь я узнал, что представляет собой рекламное турне. Премьеры «Отвращения» проходили в Стокгольме, Париже, Мюнхене и, наконец, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Я присутствовал почти на всех. Был я и на венской премьере. После просмотра состоялся банкет в ночном клубе под названием «Мулен Руж».
Меня изрядно напоили и повели наверх в ложу смотреть представление. Поднимаясь по лестнице, я заметил, что рядом оказалась женщина. Она провела меня в ложу, где из трех бархатных стульев устроила нечто вроде кушетки. Усадив меня, она расстегнула ширинку и стала ласкать меня ртом. Посредине этого неожиданного приключения открылась портьера. Смутившись, я мгновенно застегнул брюки и свернулся калачиком. «Не беспокойся, Liebhng, — сказали мне, — это всего лишь официант». Открыв бутылку шампанского, мужчина удалился.
Моя спутница разделась, оставив на себе лишь туфли на высоких каблуках и черные сетчатые чулки на резинках. Пока она раздевала меня, я посмотрел через перила. Внизу выступал искусный фокусник. С не меньшей ловкостью девушка извлекла откуда-то презерватив и надела на меня. Облившись шампанским, она устроилась на мне и энергично принялась за работу. Потом выкинула использованную резинку в ведерко для шампанского.
Монтаж «Тупика» еще не был завершен, так что я не мог поехать отдыхать надолго, но отвлечься мне было необходимо. В Австрии в Санкт-Антоне я всерьез задумался о следующем проекте. Мы с Жераром не раз говорили насчет комедии с вампирами. В Париже, когда бы мы ни пошли на фильм ужасов, зрители смеялись. Так почему бы не сделать так, чтобы зрители смеялись не над авторами, а вместе с ними?
Катаясь по склонам гор, я понял, где должно разворачиваться действие подобной картины: не в каком-нибудь задрипанном городском уголке, расположенном поблизости от киностудии, а среди заснеженных сосен, огромных снежных лавин и величественных горных пиков. Я еще не имел четкого представления о сюжете, но знал, что хочу увидеть в этом фильме сверкающие пейзажи. Как и в случае «Ножа в воде» и Мазурских озер, место действия определилось раньше, чем выкристаллизовался сюжет.
Мы понимали, что следующий фильм мы уже не будем делать с «Комптон груп». Наши отношения с Клингером и Тенсером совсем испортились.
Меня познакомили с одним из руководителей продюсерской компании «Филмуэйз» по имени Марта Рэнсохофф. Компанию заинтересовала наша идея насчет вампиров, и мы взялись за дело.
Рэнсохофф посмотрел «Тупик» и тут же купил права проката в Америке, заявив, что ему картина очень понравилась. Почти в каждом продюсере умер монтажер, но, как я с ужасом выяснил, Рэнсохофф был не просто потенциальным монтажером, он не мог удержаться, чтобы не искромсать чужой труд. «Пусть заканчивает картину, — говорил он своим коллегам, — а потом за дело примусь я». Неудивительно, что ни один режиссер такой практики долго не выдерживал.
Мы с Жераром отделывали сценарий «Неустрашимые убийцы вампиров» («Бал вампиров»). Мы поставили перед собой цель сделать пародию на жанр, которая была бы одновременно остроумной, элегантной и приятной для глаза. Бывало, мы с Жераром подолгу вместе хохотали. Роль профессора Абронсиуса сразу писалась для Джека Макгоурена, Иен Куорриер подходил для сына-гомосексуалиста и наследника вампира. Сам я собирался играть Альфреда, ассистента Абронсиуса.
Но у «Филмуэйз» были другие планы. Постоянно звучало имя Шэронтей или что-то в этом роде. По крайней мере так я воспринимал его сначала, на французский манер. Потом я выяснил, что у «Филмуэйз» был контракт с актрисой Шэрон Тейт. Сейчас она была занята вместе с Дэвидом Найвеном и Деборой Керр в фильме «Тринадцать», позже переименованном в «Глаз дьявола». Все говорили, что она очень красива, что на эту девушку стоит посмотреть.
С Шэрон Тейт я познакомился на банкете в Лондоне, устроенном Марта Рэнсохоффом. Мы пожали друг другу руки, вежливо поговорили, обменялись номерами телефонов и разошлись. Я помню, что мне она показалась очень миловидной, но в Лондоне миловидных девушек было сколько угодно. Больше того, она уж очень напоминала чисто американскую красотку, а героиню «Убийц вампиров» я представлял себе по-другому. Все же она произвела на меня достаточно большое впечатление, и я позвонил ей, когда в «Филмуэйз» снова заговорили о том, как было бы хорошо воспользоваться услугами актрисы, работающей с ними по контракту.
Мы договорились вместе пообедать. Вот тогда-то мое представление о ней резко изменилось.
Она была не просто поразительно хороша собой. Она не была ни наивна, ни глупа, не была и заурядной старлеткой. Происходила она из обычной семьи среднего класса, но было и кое-что нестандартное. Ее отец, офицер американской разведки, работал в Европе, и она бегло говорила по-итальянски. Подростком она выиграла несколько конкурсов красоты и всю жизнь мечтала о карьере в кино, несмотря на то, что отец боялся, как бы в Голливуде она не стала легкой добычей для хищных мужчин или просто дорогой проституткой. В конце концов она поехала туда одна и стала обходить кино- и телестудии. После нескольких мелких ролей ее заметил Марта Рэнсохофф и заключил с ней контракт. У нее появилось множество знакомых из кинобизнеса. Она сказала, что при подходящих обстоятельствах не прочь покурить травку. Я рассказал про свой кошмар с ЛСД. Она ответила, что тоже несколько раз принимала ЛСД и что это не обязательно было так уж плохо. С некоторой неохотой мы все же решили принять небольшую дозу.
Я отвез ее к себе домой, заехав по дороге за маленькой порцией. Под действием ЛСД мы слушали музыку и бесконечно разговаривали. Часы летели незаметно. Шэрон многое мне о себе рассказала, начав с того, что чувствует себя виноватой за то, что вообще со мной поехала. У нее все еще продолжался роман с ведущим парикмахером Голливуда. В остальном же ее сексуальный опыт был небогатым и не всегда приятным. В семнадцать лет ее изнасиловали, но я поверил, когда она сказала, что никакого эмоционального следа это в ее душе не оставило. Все это сочеталось с выражением безмятежности на ее прекрасном лице и детской привычкой покусывать ногти. Я поиздевался над ней, сказав, что это не только неприятное зрелище, но и выдает глубокую неуверенность в себе
Полагаю, мы неизбежно должны были оказаться в постели, но мы легли лишь на рассвете. Действие ЛСД на сей раз не вызывало никаких страхов и придало акту любви оттенок нереальности. Потом мы еще поболтали, а потом мне было пора ехать в Хитроу, чтобы лететь в Швецию, где я должен был выступить перед студентами.
В полете я все время думал о Шэрон. Кроме красоты меня поразило в ней некое сияние, которое исходит от добрых, нежных людей. У нее были комплексы, но в то же время она казалась совершенно раскрепощенной. Я еще не встречал подобного ей человека.
Мне казалось, что у нее слишком смуглая кожа, слишком цветущий вид для роли дочери еврея — хозяина гостиницы, но мне хотелось ублажить продюсера, и я согласился на пробы.
Она появилась в студии, я надел на нее рыжий парик, что сразу же сильно изменило ее внешность. Она вдруг стала подходить для роли. Потом мы сделали несколько проб в костюмах — Макгоурен, Шэрон и я.
Рэнсохофф хотел, чтобы я всецело посвятил себя режиссуре и не играл Альфреда. Но я без сомнения подходил для этой роли. Я был низкорослым, моложавым и достаточно сильным для физически тяжелой роли. На лыжах я тоже чувствовал себя в своей стихии.
В съемках на снегу есть своя прелесть, но есть и проблемы. Мы появились на итальянском курорте Ортизей в разгар зимнего сезона, и отдыхающим не понравилось, что мы монополизировали лыжные подъемники и подвесные дороги. Комнат не хватало, так что нам пришлось разместиться в десятке разных отелей. Уже просто собрать актеров и съемочную группу в нужном месте оказалось дьявольски трудно. Правда, я в нарушение контракта, запрещавшего мне рисковать, сразу же начал передвигаться на лыжах. Тяжелое же оборудование приходилось таскать по снегу на себе.
Положение спас мой ассистент Рой Стивенс. Он работал над такими эпопеями, как «Доктор Живаго» и «Лоуренс Аравийский», и подобного рода трудности его не смущали. Он раздобыл снегокаты, умудрялся веселить всех, когда они переворачивались, когда грузовики застревали в снегу или съемочная группа теряла дорогу и часами плутала по снегу, а добравшись-таки до места, обнаруживала, что из-за густого тумана снимать все равно невозможно.
Некоторую проблему создал Терри Даунс. Я выбрал этого бывшего боксера средней весовой категории, потому что и лицом, и фигурой он идеально подходил для горбатого слуги графа фон Кроллока. Несмотря на внешность, Терри был очень нежным человеком. Его роль не требовала никакого предварительного опыта. Но когда он напивался, у него появлялись некоторые странности: он либо начинал заниматься стриптизом, либо выплескивал свою злость на немцев. Чаще всего в Ортизее слышна немецкая речь — немцы и австрийцы любят там бывать. В первый же вечер Терри избил в баре гостиницы немецких туристов и устроил погром в комнате, в ответ на что итальянская полиция пригрозила выдворить всех нас. С тех пор по вечерам Терри больше не оставляли без надзора. Оставалась лишь одна маленькая проблемка: распевную речь Терри с жутчайшим кокнийским акцентом практически невозможно было разобрать
Везде, где требовались по-настоящему опасные трюки, нашим каскадером был Ханс Моллингер. Самой сложной была сцена, в которой слуга пытается помешать Абронсиусу, Альфреду и дочери хозяина гостиницы сбежать из графского замка. Ханс, изображавший Терри Даунса, должен был схватить гроб и броситься на нем вниз по заснеженному склону, чтобы перехватить беглецов. Мы сделали несколько дублей, в которых Ханс мчался в гробу, установленном на полозьях. Мы втроем неслись рядом на запряженных лошадьми санях, и Ханс должен был нас обогнать. Первый раз он немного поспешил. Я слегка изменил скорость, чтобы оказаться поближе к нему. В четвертом дубле я перестарался. Ханс пронесся прямо перед нашим носом, зацепив сани головой, и едва успел увернуться от копыт лошади. Нечего и говорить, что именно этот дубль и вошел в фильм. Мы с Роем Стивенсом тоже были каскадерами. За Альфреда на лыжах везде катался я сам.
В Ортизее наши отношения с Шэрон перестали быть просто дружескими. Мы не занимались с ней любовью с той самой первой ночи в Лондоне, и когда она появилась на месте съемок, я очень волновался. Мы вместе пообедали, я проводил ее до отеля. В ответ на мой неуверенный вопрос, хочет ли она, чтобы я поднялся к ней в номер, она обворожительно улыбнулась и сказала: «Да». С этого по-настоящему начался наш роман.
В Лондоне мы все больше и больше времени проводили вместе. Неудивительно, что наши отношения стали сказываться на ее игре. Она чересчур старалась. Позже она призналась мне, что чем лучше узнавала меня как любовника, тем более неудобно чувствовала себя на съемках. Она не обладала присущей прирожденным актрисам уверенностью в себе, но сгорала от желания сыграть как можно лучше, чтобы доказать себе, что тоже на что-то способна. Подбодрить ее было не так-то просто. Мы выбились из графика, но в подобных ситуациях вместо того, чтобы торопиться, я обычно становлюсь еще более требовательным. Я стал снимать все больше и больше дублей с Шэрон. Был даже случай, когда я сделал их семьдесят.
Постепенно она перебралась ко мне. Сначала ее одежда стала накапливаться у меня в спальне, потом она предложила наполовину переехать ко мне. «Не беспокойся, — заявила она. — Я не собираюсь пожирать тебя, как это делают некоторые дамы». Зная, как я боюсь женщин-собственниц, она сразу дала мне понять, что понимает мой стиль жизни и не собирается его ломать. Я еще ни от кого подобных заверений не получал. Шэрон оказалась домоседом, прекрасной поварихой и домохозяйкой.
Она сильно изменила мою жизнь. Мы стали проводить больше вечеров дома, стали принимать гостей у себя.
Шэрон не имела ничего против, когда «Фил-муэйз» предложила ей сняться обнаженной для рекламы «Убийц вампиров» в «Плейбое». Снимать ее должен был я сам. Лично я был не в восторге, но рекламная ценность этих фотографий была неоспорима.
Я с нетерпением ждал, когда же «Убийцы вампиров» выйдут в прокат в США. Я позвонил Марта Рэнсохоффу в Голливуд. Он сказал неопределенно: «Поживем — увидим». Картина, мол, слишком длинная, над ней придется еще поработать Другими словами, Рэнсохофф еще собирался сам приложить руку.
За целый год я ничего не сделал, кроме никому не нужного фильма, в перспективе ничего не было. Чувствовал я себя весьма подавленным.
В это время Боб Эванс, новый вице-президент студии «Парамаунт» по производству, предложил мне взглянуть на гранки одной книжки. В гостиничном номере я разложил длинные желтые листы. Заголовок гласил: «Ребенок Розмари». После первых страниц я подумал: «Ну что это такое? Очередная мыльная опера?»
Всю оставшуюся часть книги я прочитал за один присест. К концу у меня глаза вылезли на лоб. Когда наутро позвонил Боб Эванс и поинтересовался, понравилась ли мне книга, я отозвался о ней с восторгом.
— Я так и думал. Хочешь снимать? — спросил он.
— Да, — ответил я. — Хочу.
ГЛАВА 20
Я начал постигать золотое правило выживания в Голливуде — ковать железо, пока горячо, иначе вершители судеб могут заскучать и утратить к тебе интерес. В этом отношении работа над «Ребенком Розмари» началась просто образцово. Я быстро дал согласие, быстро заключил договор с «Парамаунт» на написание сценария, быстро приступил к подготовительному этапу. Была и новость — мой гонорар впервые приблизился к голливудским стандартам.
Продюсером был Билл Касл, опытный режиссер и продюсер дешевеньких фильмов ужасов. Он на собственные деньги купил права экранизации «Ребенка Розмари», потом с небольшой прибылью перепродал их студии «Парамаунт». Он сам хотел быть режиссером, но Боб Эванс твердо заявил, что это режиссерский фильм, а Билл просто недостаточно талантлив.
Я полетел обратно в Лондон и принялся за сценарий, но на сей раз без Жерара. Работал я с потрясающей скоростью.
Дело в том, что роман Айры Левина как бы следовал кинематографической концепции. В нем не было сереньких слабых мест, которые авторы обыкновенно прикрывают цветистым слогом или стилистическими ухищрениями. Правда, один момент меня серьезно беспокоил. Книга была отлично спланированным триллером, и в этом отношении я ею восхищался. Но, будучи агностиком, я не верил в дьявола как воплощение зла. В интересах достоверности я решил, что нужно будет оставить лазейку — возможность того, что все сверхъестественное, что произошло с Розмари, — ее фантазии. Все увиденные ее глазами события могли оказаться лишь цепью случайных внешне зловещих совпадений, результатом ее лихорадочного воображения. Козни, соседей, шабаш ведьм, на котором в присутствии мужа ею овладевает дьявол, даже заключительная сцена вокруг колыбели младенца — все должно иметь рациональное объяснение. Вот поэтому в фильме намеренно присутствует некоторая двусмысленность.
Начав подбирать людей для фильма, я первым делом пригласил Дика Силберта. Он был моим личным другом и считался одним из лучших художников-постановщиков. Наконец-то я был в состоянии воспользоваться его услугами. Я был вдвойне счастлив, потому что настоящей звездой картины должна была стать нью-йоркская квартира, в которую переезжают Гай и Розмари. Декорации строились на студии «Парамаунт» и требовали значительно больше внимания, чем обычно.
Прежде всего мне нужно было воссоздать настроение и атмосферу того времени — примерно 1965 года. Я вставил показываемый по телевизору визит в Нью-Йорк папы Павла VI, который был еще достаточно свеж в памяти, кадр обложки журнала «Тайм» со словами «Бог мертв». Придумал я и еще одну мелочь. «Не вздумай мне сказать, что ты за это еще и заплатила», — возмущается Гай, когда Розмари приходит домой с короткой стрижкой. «Это же Видал Сэссун, — возражает она. — Это очень модно».
К подбору актеров я подошел не стандартно. Я начал с того, что сделал наброски лиц некоторых персонажей. Художник доработал их так, что получились нормальные портреты. А потом принялись искать похожих исполнителей. Вот как получилось, что мы пригласили многих актеров, годами не появлявшихся на экране.
На роль Розмари меня заставили перепробовать бесконечное число молодых актрис — как известных, так и неизвестных. Я все надеялся, что кто-то назовет Шэрон, но про нее никто не заговаривал, а я чувствовал, что самому мне ее предлагать неудобно.
Про Миа Фэрроу первым упомянул Боб Эванс. Моя информация о ней исчерпывалась тем, что она замужем за Фрэнком Синатрой, так что я высидел какой-то телефильм, желая посмотреть, на что она похожа. Потом мы встретились и обсудили роль. Хотя Миа не подходила ни под описание Аиры Левина, ни под мои собственные представления о Розмари — жизнерадостной крепкой американке, — ее актерские способности были на таком уровне, что я нанял ее без кинопробы.
Оставалась роль Гая. Получить ее жаждал Лоренс Харви, но мне он не подходил. Я уговорил Уоррена Битти прочитать сценарий. Он, как обычно, долго тянул и в конце концов отказался, сочтя роль недостаточно значительной. На прощание он бросил: «Можно, я лучше сыграю Розмари?»
Я перепробовал несколько человек из телерекламы. Не обошел вниманием и совершенно неизвестного актера, сыгравшего в нескольких третьесортных фильмах ужасов. Его звали Джек Николсон. Всерьез я его кандидатуру никогда не рассматривал и, как мне казалось, справедливо. Несмотря на его исключительное дарование, несколько лихая и зловещая внешность Николсона не подходила для роли обыкновенного юного актера.
Кандидатом номер один был для меня Роберт Редфорд. Во-первых, он был хорош собой, во-вторых, талантлив, в-третьих, смог бы достоверно сыграть роль. К несчастью, студия как раз вела тяжбу с Редфордом. Он подписал контракт на исполнение главной роли, но потом отказался, почувствовав, что фильм провалится. Руководство студии пришло в ярость. Я наивно полагал, что если Редфорда удастся уговорить, то и отношения со студией наладятся. К тому же у меня был припасен еще один козырь. Зная, что Редфорд страстный лыжник, я намеревался предложить ему и следующий фильм о горнолыжнике. Боб Эванс посоветовал мне обращаться непосредственно к самому Редфорду.
Мы встретились, и Редфорд уже почти готов был дать согласие, когда к нам подошел юрист студии «Парамаунт» и вручил ему иск. Так рухнули мои надежды увидеть Редфорда в роли Гая.
Когда ни с Редфордом, ни с Битти ничего не получилось, мы опустили планку. Я подумал о Джоне Кассаветесе, которого встречал в Лондоне. Эванс не выразил восторга, заметив, что тот слишком серьезен и, как говорят, доставляет неприятности на съемках. Я плюнул на это и решил, что Кассаветес вполне справится с задачей.
В первый день съемок я испытал странное разочарование. Я вспоминал бессонную ночь в Кракове накануне съемок своей первой короткометражки. Никогда мне уже не испытать того восторга. Реальность никогда не сравнится с мечтой.
На предварительных репетициях Кассаветес был настроен очень дружелюбно, был готов помочь. Но стоило начаться съемкам, как он стал оправдывать свою репутацию трудного актера: ставил под сомнение любые мои указания, постоянно спорил по поводу того, как ему самому следует играть. Я быстро обнаружил, что он не умеет играть характерные роли, а может изображать лишь себя и совершенно теряется, если приходится выходить без его излюбленных теннисных туфель. Он не желал появляться обнаженным в сцене, где Гай и Розмари занимаются любовью на голом полу в своей новой квартире. Миа тоже не хотела сниматься в этой сцене, она боялась, как бы на это косо не посмотрел Си-натра.
С Миа у меня было полное взаимопонимание. Несмотря на ее экзотические калифорнийские привычки, она оказалась профессионалом, как и можно было предполагать, судя по ее происхождению: обитатель Голливуда во втором поколении, дочь Морин О'Салливен и режиссера Джона Фэрроу.
У нас с Миа возникали проблемы, но не связанные с режиссурой. Уже на раннем этапе съемок «Ребенок Розмари» был в центре внимания прессы. Синатре, похоже, не понравилось, что к его жене как актрисе проявляют такой интерес. К тому же он хотел, чтобы она снималась в другом фильме, но из-за того, что работа над «Ребенком Розмари» затягивалась, она не успевала. Тогда Синатра потребовал, чтобы она попросту все бросила. Миа отказалась. Чуть позже Синатра отомстил совершенно неожиданным образом.
Я не мог понять, на чем держатся отношения Миа и Синатры. Казалось, между ними нет ничего общего, но всем, кто видел их вместе, становилось ясно, что это не брак по расчету, что Миа очень любит своего мужа.
Мне хотелось сохранить ту же субъективность точки зрения, что и в «Отвращении». На сей раз материальные ресурсы у меня были бесконечно богаче, и я намеревался воспользоваться ими сполна. Большую часть событий фильма зритель видит как бы глазами Розмари. Пытаясь это передать, я часто ставил длинные запутанные сцены, которые снимал короткофокусными объективами, что требовало огромной точности в расположении как камеры, так и актеров. В подобных случаях обыкновенно используется более длиннофокусная оптика, позволяющая снимать с большого расстояния. На это требуется меньше времени, но и результат получается менее эффективным и убедительным. В идеале объектив должен располагаться на том же расстоянии от объекта, что и глаз гипотетического наблюдателя.
Очень скоро я выбился из графика. Почти ни дня не проходило без того, чтобы меня не вызвали со съемок на какое-нибудь совещание, где поносили за нестандартные методы работы.
Отто Преминджер однажды спросил, почему у меня такой кислый вид. В двух словах я описал ему свои сложности. Он только посмеялся:
— Какое тебе дело?
— Но ведь идет разговор о том, чтобы заменить меня, — возразил я.
— Ерунда! Отснятый материал им нравится?
— Да, даже очень.
Очень медленно и доходчиво, будто непонятливому ребенку, он сказал:
— Запомни, Роман: можешь сколько хочешь выходить за рамки бюджета, пока им нравится то, что ты снимаешь. Режиссера они заменяют, только если отснятые за день кадры оказываются плохими.
Когда все было закончено, выяснилось, что мы потратили 400 тысяч долларов сверх бюджета в 1, 9 миллиона. По сравнению с окончательными доходами, которые принес фильм, это сущие пустяки.
Ближе к концу съемок был еще один момент, когда я подумал, что фильм мы все же не закончим. Снимали вечеринку. Вдруг появился адвокат Синатры и сообщил, что у него есть важные бумаги для Миа. Они удалились к ней в гримерную, и через несколько минут адвокат ушел, не сказав ни слова. Настало время продолжать съемки, но Миа не появилась. Все взгляды обратились в сторону ее гримерной. Я постучал. Ответа не последовало. Когда и после второго стука мне никто не ответил, я просто вошел. Она рыдала, как маленький ребенок. Поначалу она не могла сказать ничего вразумительного. Потом сбивчиво объяснила, что адвокат приходил проинформировать ее о том, что Синатра начинает бракоразводный процесс. Больше всего ее ранило то, что Синатра не удосужился лично сказать ей об этом, а просто прислал своего помощника, будто слугу увольнял.
Успокаивая ее, я понял, что она по-настоящему любила мужа и была совершенно раздавлена тем, что он сделал.
— Хочешь поехать домой? — спросил я.
— Нет. Будем работать. Дай мне еще минутки две.
Съемки возобновились как ни в чем не бывало. Миа проработала и всю оставшуюся часть дня, и всю оставшуюся часть съемок, но депрессия ее не проходила.
«Неустрашимые убийцы вампиров» теперь были готовы к выходу, и я попросил устроить просмотр окончательного варианта, доработанного Марта Рэнсохоффом. Я сразу же понял, что совершил огромную ошибку, дав ему право окончательного монтажа канадского и американского вариантов картины. Рэнсохофф изменил название на «Извините, но ваши зубы вонзились мне в шею». Перезаписал голоса всех актеров, чтобы они звучали более по-американски. Изувечил музыку Комеды, вырезал двадцать минут фильма, после чего картина стала совершенно непонятной. Зато он добавил в начало смехотворный мультипликационный пролог, в котором попытался объяснить все о вампирах.
Когда я смотрел на все это, то чувствовал себя, наверно, так же, как мать, которая узнает, что родила уродца. Рэнсохофф испоганил всю мою работу. Я попытался убрать свою фамилию из титров, но по контракту не имел на это права.
Я дал множество интервью, где все это высказал. А фильм тем временем прошел, не оставив и следа. И лишь многие годы спустя, когда в прокат вышла моя собственная версия, он завоевал популярность как культовый фильм.
Несмотря на все мои проблемы, мы с Шэрон неплохо проводили время. В Голливуде всегда можно было оказаться на вечеринке. Мы и сами приглашали к себе гостей в наш новый дом, и другие нас с радостью принимали. Нам нанесли визит родители Шэрон и привезли в подарок щенка, которого я окрестил Доктор Сапирштейн по имени зловещего доктора из «Ребенка Розмари». Потом Ванда с отцом приехали провести с нами пару месяцев.
Примерно в это же время начался разлад между Джином Гутовски и Джуди. Они как раз гостили у нас, так что атмосфера в доме была напряженной. Однажды, когда мы с Тони Кертисом сидели в гостиной, разразился очередной скандал.
Тони сидел как на иголках.
— Не лучше ли тебе пойти к ним? — спросил он.
— Да у них такое постоянно бывает, — ответил я.
— Может, и так, только на сей раз Джуди идет следом за Джином.
— Ну и что?
— Да ничего, только в руке у нее огромный кухонный нож.
Мне удалось их разнять, но на следующий день Джин купил пистолет.
Случалось, что они делали гадости и нам. Как-то Шэрон и Джуди уехали куда-то, а я на уик-энд пригласил к себе хорошенькую сексуальную фотомодель. Я надеялся, что могу положиться на Джина. Но, как оказалось, его жена злорадно поведала обо всем Шэрон.
Тем временем продолжалась работа над фильмом. Музыку к нему опять писал Комеда. Колыбельную, которую он сочинил, нужно было очень нежно мурлыкать в начале фильма. Мне не хотелось приглашать профессиональную певицу, и я попросил Миа записать ее. Она мурлыкала на удивление хорошо. Уже не в первый раз замечательная музыка Комеды придала новую краску моему фильму.
Оставалось сделать лишь несколько завершающих штрихов, но для этого нужно было отправиться в Лондон, где Миа работала уже над новым фильмом. Оказалось, что мой визит как раз совпадет с днем рождения Виктора Лоунса. Мы с Шэрон посоветовались с Джином Гутовски, что можно было бы подарить такому человеку, как Виктор.
— У него есть все, кроме золотого члена, — сказал Джин.
— Точно, — отозвался я. — Вот его-то мы ему и подарим.
Шэрон сразу же позвонила своему ювелиру Марвину Хаймсу.
— Марвин, у вас есть золотой член?
— На цепочке?
— Нет, в натуральную величину. Марвин ответил совершенно невозмутимо:
— Сделаем. Если вы предоставите образец. Шэрон, Джин и я снова посовещались.
— Ты скульптор, — сказал я Джину. — Ты и делай.
Бедняга Джин проработал всю ночь. Вооружившись его шедевром, мы с Шэрон на следующее утро явились к Марвину.
Марвин позвал сотрудников.
— Ребята, — небрежно сказал он, — вот это нужно отлить в золоте к завтрему.
Глиняную модель водрузили на стол. Все с кружками кофе уселись вокруг, обсуждая последнее задание так, как будто оно было в порядке вещей. Пенис измеряли, делали заметки.
Позднее в самолете мой попутчик спросил:
— А как ты собираешься провезти это через таможню?
Вот об этом-то я и не подумал.
— Придется засунуть в штаны.
Я так и сделал. Все четыре часа, что мы провели на таможне в Хитроу, золотой член Виктора покоился у меня в джинсах.
Выход фильма сопровождался рекламной кампанией, построенной вокруг лозунга: «Помолимся за ребенка Розмари!» Дело дошло до того, что многие стали ошибочно считать эту фразу названием картины.
Перед всеми кинотеатрами сразу же выстроились длинные очереди. Хотя кассовый успех «Ребенка Розмари» помог решить некоторые финансовые проблемы студии «Парамаунт», я из этих денег ничего, кроме своего изначально оговоренного гонорара, не получил. Боб Эванс выразил свою благодарность мне единственным доступным для него способом — выделил мне самый большой и шикарный кабинет на студии.
ГЛАВА 21
Впервые в жизни я мог не беспокоиться о пропитании. После молниеносного успеха «Ребенка Розмари» я превратился в голливудского «золотого мальчика», на которого сценарии и предложения от студий так и сыпались. Студия «Парамаунт» хотела заполучить меня, но у нас были сложные отношения. Они не только отклонили проект сценария, который был заказан Жерару Браху, но проблемы стали возникать и с «Горнолыжником». Они хотели, чтобы фильм полностью снимался в США, меня же больше влекли фотогеничные альпийские курорты. От этой затеи и вовсе отказались, но, как выяснилось, ненадолго. Через несколько месяцев из «Вэрайети» я узнал, что «Горнолыжника» все же будут снимать на «Парамаунте», только с другим режиссером. В главной роли — Роберт Редфорд.
Предлагавшиеся мне сценарии были похожи один на другой — ужасы, связанные исключительно с сумасшествием и оккультизмом. Это меня ничуть не интересовало. Студии руководствовались теорией, что если что-то получилось один раз, тот же прием будет срабатывать вновь и вновь. Если режиссер добился успеха в каком-то жанре, он становился таким же заложником своего имиджа, как и характерный актер.
О себе я тоже кое-что понял. С одной стороны, мне хотелось сделать карьеру в Голливуде, где можно было стать очень богатым, с другой — я теперь знал, что мне будет трудно ставить фильм, если сценарий писался не мной или без моего участия. Да, я стремился к успеху, но добиваться его должен был на своих условиях. Я просто не вписывался в стандартные голливудские рамки.
Хотя признание и радовало меня, я испытывал необходимость отдохнуть, попутешествовать, почитать. Мне нужно было подзарядить батарейки.
Мне посоветовали обзавестись агентом. Одна литературная фирма имела доступ к материалам, которые еще не попали в печать. Был у них и партнер, Билл Теннант, который с радостью согласился со мной сотрудничать. Он дал мне мудрый совет не торопиться заключать контракты. Выражаясь его словами, «нет ничего дурного в том, чтобы ничего не делать».
В обществе Шэрон я обнаружил, что ничегонеделанье может доставлять массу удовольствий. Мы перебрались в «Шато Мармон», где любила проводить время Шэрон на заре своей голливудской карьеры. Она чувствовала себя как дома среди актеров, музыкантов и писателей, традиционно там обитавших.
После «Ребенка Розмари» на Комеду был большой спрос, и он никак не мог решить, возвращаться ли ему в Польшу. Зная, насколько он несчастен в браке, я его отговорил. «Ты избавился от жены, — сказал я ему, — и это само по себе достижение».
Я принялся за разработку сценария о жизни Паганини и одновременно работал над проектом фильма «Вечеринка у Доннера». Это подлинная трагическая история поселенцев, которых в XIX веке во время похода на Запад долго преследовали индейцы и которые нашли свой конец в снегах Сьерра-Невады. Дело, за которое они взялись с такой надеждой, окончилось голодом и каннибализмом.
Теперь я мог больше времени проводить с друзьями. К нашей компании присоединился Питер Селлерс. Хотя во многих отношениях он был очаровательным человеком, его причуды иногда утомляли. На площадке он разворачивался и уходил, если кто-нибудь появлялся в пурпурном — «несчастливом» цвете. Он покидал рестораны, если чувствовал «отрицательную вибрацию». Я со страхом ждал того момента, когда, заказав еду, он вдруг заявит: «Ро, я больше не могу... здесь отрицательные вибрации... пойдем в другое место».
В характере Питера были и более дикие черты, хотя я не сразу их заметил. Однажды мы сидели в ресторане вместе с Тони Гринбергом. Не придав этому особого значения, Тони заметил, что врач бессилен помешать пациенту, решившему разрушить себя куревом и алкоголем, и его нельзя за это винить. Тони не подозревал, насколько щекотливой темы коснулся, потому что Питер не только пил и курил, но и экспериментировал со всевозможными наркотиками.
Спор разгорался, голоса становились все громче, так что все разговоры вокруг замолкли. Большинство присутствующих решили, что Питер устраивает очередное представление, и ничего не заподозрили, даже когда он вскочил на ноги и направился к Тони. «Ты ошибаешься, доктор, — истерически кричал он. — Ошибаешься, мать твою!» С этими словами он схватил Тони за горло и начал душить. Джуди Гутовски, все еще полагая, что Питер разыгрывает представление, хихикнула и на всякий случай сказала, чтобы он не делал глупостей. Остальные сидели как завороженные. Как и я, они поняли, что это не игра. Тони задыхался и синел, а Питер всерьез пытался его задушить. Я вскочил, разжал Питеру пальцы, потом мягко уговорил его сесть. Он закрыл лицо руками и зарыдал.
В тот вечер с нами должен был быть и Комеда, но он чувствовал себя настолько плохо, что не покидал Лос-Анджелеса. Недавно вместе с Мареком Хласко они после попойки бродили по холмам близ Голливуда, Комеда упал и сильно расшибся. Хотя врачи уверяли, что ничего серьезного не произошло, он стал жаловаться на постоянные головные боли и неспособность сосредоточиться. Мне позвонила его подружка Элена и сказала, что он ее беспокоит. Когда я приехал, Комеда выглядел очень плохо. Он сказал, что у него грипп — в Лос-Анджелесе как раз была эпидемия, — что чувствует себя очень скверно и не поедет вместе со всеми в Лондон отмечать Рождество, а присоединится к нам попозже.
В начале 1968 года позвонил Билл Теннант и сказал, что Комеда очень плох.
— Знаю, — сказал я.
— Он в больнице.
— С гриппом?
— Это не грипп, а кровоизлияние в мозг. Ему сделали операцию.
Оказалось, что энцефалограмма выявила повреждения мозга.
Едва прибыв в Лос-Анджелес, мы помчались в больницу. У Комеды к носу были подведены трубочки, еще одна была введена в горло, в то место, где ему делали трахеотомию. Голову скрывали многочисленные повязки. Глаза были открыты, но смотрели невидящим взглядом. Он был в коме. На его истощенном, с ввалившимися щеками лице появилось странное детское выражение.
Очень медленно я заговорил с ним по-польски: «Кшиштоф, если ты меня слышишь, сожми мою руку». Он сжал. Я оставил свою руку в его, но его пальцы продолжали спазматически сжиматься. Я так никогда и не узнал, было ли первое пожатие сознательным или нет.
Шэрон очень расстроило то, что произошло с Комедой: она впервые столкнулась с настоящей трагедией. Мы ежедневно бывали у него, но улучшения не наступало. Я настолько верил в прогресс науки и американскую медицину, что не сомневался, что он выкарабкается. Он не выжил. Один раз он вышел из комы и написал несколько несвязных слов по-польски, в другой раз слабо отбивал ритм, когда я завел ему магнитофонные записи, но полностью в сознание он так и не приходил. Он умер вскоре после того, как жена отвезла его назад в Польшу. Я утешался лишь тем, что в Голливуде Комеда все время был счастлив.
В тот период Шэрон была занята больше, чем я. Ее выбрали на роль в «Долине кукол». Это было важным шагом в ее карьере, хотя она не считала ни книгу, ни фильм выдающимися произведениями. Потом последовала роль в «Команде с погибшего корабля», где в главной роли снимался Дин Мартин. Проработав целый съемочный день, она возвращалась домой и сама готовила на всех еду. Друзья обожали Шэрон. Дело тут было не только в ее красоте. А она была безумно красива. Мини-юбки подчеркивали изящество ее великолепных ног. Она была среди первых, кто стал носить эти символы сексуальной свободы 60-х. Когда она выходила на улицу в мини-юбке, все оборачивались и смотрели: мужчины с восхищением, женщины с завистью, пожилые матроны с неодобрением, старики с ностальгическим обожанием.
Шэрон поражала не только своим хорошеньким личиком и сексуальной фигуркой. Меня очаровывали ее добродушие, оптимизм, любовь к людям, к животным, к самой жизни. У нее было прекрасное чувство юмора. К тому же она была прирожденной домохозяйкой. Она не только божественно готовила, но и стригла меня. Ей нравилось складывать мой чемодан, когда я куда-нибудь уезжал. Она всегда знала, что нужно туда положить. Я и сегодня не могу укладывать или распаковывать чемодан без того, чтобы не вспомнить о ней.
Однажды она попросила меня описать мой идеал женщины.
— Ты, — сказал я.
— Брось! — засмеялась она.
— Я серьезно.
— Чего бы ты от меня еще хотел?
— Ничего, — ответил я совершенно откровенно. — Я бы не хотел, чтобы ты хоть как-то менялась.
В «Команде с погибшего корабля» Шэрон играла мастера кун-фу. Она настояла на том, чтобы познакомить меня со своим инструктором. Вот так я встретился с Брюсом Ли. Он мог обучить любому боевому искусству.
Совершенства он добивался с почти нечеловеческой методичностью. Он придерживался строжайшей дисциплины, сочетавшей в себе тяжелые тренировки балетного танцовщика и часы практики фокусника. Брюс никогда не упускал возможности продемонстрировать свое искусство. Вскоре мы уже устроили импровизированный спортзал, и он стал давать мне уроки. Он все время говорил, чтобы я напал на него, когда он этого не ждет. «Я не прозеваю, — уверял он. — Ты мне не повредишь, но, возможно, чему-то научишься». И вот как-то раз, когда он завязывал шнурок, поставив ногу на бампер машины, я решил поймать его на слове и приготовился ударить ногой. Даже не подняв глаз, он выставил вперед руку и перехватил мою ногу. «Попробуй как-нибудь еще», — посоветовал он.
Я начал понимать, что Шэрон — нечто постоянное в моей жизни. Мысль о том, чтобы жениться и обзавестись семьей, пугала меня. Нет, я не боялся, что Шэрон станет посягать на мою свободу, просто мне казалось, тесные связи делают меня уязвимым. Даже когда заводишь собаку, понимаешь, что рано или поздно придется расстаться с ней.
Шэрон не скрывала, что хочет иметь ребенка. Сама она об этом не заговаривала, но я знал, что, несмотря на вольный образ жизни, брак для нее вследствие католического воспитания имеет большое значение.
Неожиданно для самого себя я сделал ей предложение в ресторане. Мы решили устроить церемонию 20 января 1968 года в Лондоне.
На церемонии фотографов было больше, чем гостей. К моей большой радости, из Кракова приехали отец и Ванда. Последовало несколько приемов. Самый крупный устроили в Плейбой-клаб, там собралось, казалось, пол-Лондона и половина Голливуда.
Меня пригласили быть членом жюри Каннского фестиваля 1968 года. Там оказалось множество друзей и знакомых. Ни Шэрон, ни я не почувствовали приближения «революции», которая чуть не опрокинула Пятую республику. Впервые мне показалось, что события мая 68-го затронут и Каннский фестиваль, когда утром меня разбудил Франсуа Трюффо и стал убеждать присоединиться к нему в фестивальном дворце Жана Кокто. Мое присутствие необходимо, сказал он. Там обсуждался вопрос о том, как восстановить Анри Ланглуа, директора Парижской синематеки, которого недавно сместил Андре Мальро, деголлевский министр культуры. Немного времени потребовалось мне на то, чтобы понять истинную цель митинга: не восстановление Ланглуа, а срыв фестиваля. «Хватит фестивалей звезд», — крикнул кто-то.
Меня пригласили выступить. «Организуйте дискуссию, — сказал я, — но не забывайте, как прошло открытие фестиваля. Там показывали «Унесенных ветром», и когда Кларк Гейбл появился на ступенях Тары, зал взорвался аплодисментами. Шоу-бизнес не может обойтись без звезд».
Не это хотели услышать собравшиеся. Я понял, что Трюффо и его друзья разочарованы. Раз я откликнулся на звонок, они решили, что я на их стороне. Митинг кончился сумятицей. Нас с Луи Малем, единственных присутствовавших там членов жюри, попросили выяснить мнение остальных. Хотели ли они продолжения фестиваля или готовы были уступить требованиям левых и подать в отставку в знак солидарности с майской «революцией»?
У меня была совершенно четкая позиция. Мне казалось абсурдным прерывать фестиваль на том основании, что это якобы элитарный капиталистический символ. Я знал, как важно, например, для чешского режиссера Милоша Формана, что его фильм показывают в Канне. Вспомнил, как радовались мы в Польше всякий раз, когда польский фильм отбирался для показа на фестивале.
На сей раз я оказался на одной стороне с СССР. Член жюри от Советского Союза поэт Всеволод Рождественский счел предложение об отмене фестиваля столь диким, что отказался даже присутствовать на нашем экстренном заседании.
Организаторы фестиваля пытались продолжать программу. Вечером должен был состояться просмотр фильма Карлоса Сауры «Шипучка с мятой», но революционер Саура хотел снять картину с конкурса. Зрители же ничего не знали о происходящем. Они пришли с твердым намерением посмотреть кино. Саура и его товарищ Джеральдина Чаплин попытались помешать просмотру, забравшись на сцену и удерживая занавес. Занавес все равно открылся, а Саура и Чаплин повисли на нем. Когда под действием силы тяжести боевая парочка все же рухнула на сцену, зрители подскочили к ним, и началась драка. Просмотр продолжался еще несколько минут, но потом зажегся свет, и демонстрация прекратилась.
Теперь из Парижа волна докатилась и до Канна. Повсюду шли митинги, демонстрации, процессии, собрания, слышались крики: «Прибыли наши товарищи — студенты из Ниццы». Францию охватила всеобщая забастовка. Нарушилось транспортное сообщение, бензина не было. Фестиваль начал сворачиваться и закончился полным хаосом.
Не было никакого смысла оставаться в Канне, когда фестиваль рухнул, но и добраться до Парижа было невозможно, поэтому мы решили провести оставшееся время в Риме. Таким образом у нас выдалась неделя незапланированного отдыха.
Карьера Шэрон в кино развивалась значительно удачнее моей. Я же за неимением лучшего взялся писать сценарий фильма «День на пляже» по рассказу голландского писателя. Предполагалось, что это будет малобюджетный фильм. Это история алкоголика, который везет свою маленькую дочку на день на море, путешествие же оканчивается попойкой и трагедией. Фильм должен был стать режиссерским дебютом Саймона Хессеры.
В это время Шэрон поняла, что беременна. Беременность была случайная, потому что она предохранялась. Врач назвал это чудом и предположил, что виной всему почти животная жизненная сила Шэрон. Он поинтересовался, что мы намерены делать. Я сказал, что ребенка мы, конечно, сохраним, ведь мы хотели малыша. Он одобрил наше решение, сказав, что все это похоже на дар Господний.
По правде говоря, новость выбила меня из колеи. Ребенок представлялся такой роскошью, таким важным событием, что, по моему мнению, требовал не менее тщательной подготовки, чем фильм. Мне хотелось, чтобы и обстановка была соответствующей: дом попросторнее, побольше времени на приготовления. Более того, Шэрон подписала контракт вместе с Витторио Гасманом на съемки в Риме и Лондоне, и я понимал, что ее беременность станет очевидной к концу съемок. Я убеждал ее рассказать обо всем режиссеру, Николасу Гесснеру, но она не соглашалась. «Все устроится», — успокаивала она меня.
12 февраля 1969 года мы сняли дом Терри Мелчера, импресарио, работавшего в сфере грамзаписи. Во многих отношениях это было приятное местечко — загородный дом, цветущий сад, много места для малыша. С моей точки зрения, единственным минусом была недостаточная уединенность. На территории располагался еще один дом поменьше, где жил управляющий. Управляющий нам был не нужен, и я спросил, не мешает ли Шэрон, что кто-то будет жить вместе с нами, но ей это было безразлично. «Он приятный молодой человек, очень тихий, — сказала она. — Нет, мне он не мешает».
Не успели мы переехать, как Шэрон пора было отправляться в Рим на съемки. Я долетел вместе с ней до Лондона, где задержался по делам.
Я слишком долго отдыхал. Теперь, когда я «подзарядил батарейки», мне не терпелось взяться за новый фильм. От Сэнди Уайтло, вице-президента «Юнайтед Артисте» по производству, я получил гранки книги Робера Мерля «День дельфина», из которой, как он считал, мог получиться неплохой фильм. В отношении книги у меня не было полной уверенности, да и разрывать связи с «Парамаунтом» было как-то не совсем удобно, но ведь никакого официального контракта у нас не было, да и они не постеснялись передать «Горнолыжника» другому режиссеру.
Меня пригласили на Бразильский кинофестиваль, где в суматохе потерялся мой паспорт. Пока получал новый, ставил визы, ушло много времени. Я подумал, что с меня хватит, и решил подать просьбу об английском гражданстве. В Англии я чувствовал себя как дома. Однако мне сказали, что так как я родился в Париже, будет проще получить французское гражданство.
С новым энтузиазмом я взялся за работу над «Днем дельфина». У меня была любимая жена, скоро будет ребенок. Я был еще достаточно молод, чтобы ощутить, что вот оно счастье, здесь, рядом, а не где-то за углом или в воспоминаниях. И в профессиональном, и в личном плане Лондон летом 1969 года сулил много надежд.
Когда я сажал на корабль Шэрон, отправлявшуюся в Америку, у меня пронеслась мысль: а ведь ты можешь ее больше не увидеть. Если бы ничего не произошло, я скорее всего забыл бы про это предчувствие, но в свете всего, что случилось, я не могу избавиться от этого воспоминания. Когда я шел от корабля к машине, я уговаривал себя оттолкнуть прочь это болезненное ощущение, позвонить Виктору Лоунсу, выпить что-нибудь, найти себе девочку.
По пути в Лондон я заметил, что Шэрон забыла в машине сумочку. Как я выяснил, в определенные часы на корабль можно было звонить. Чем больше я разговаривал с Шэрон, тем абсурднее мне казалось мое предчувствие. Она сказала, что в сумочке ничего важного не было. «Жаль, что тебя нет с нами. Тут и кино показывают, и спортзал есть. Тебе бы понравилось».
Завершить новый сценарий оказалось сложнее, чем я думал. В отличие от «Ребенка Розмари», «День дельфина» был рыхловат, кроме того, надо было придумать, как заставить дельфинов говорить. В книге они разговаривали, как люди, но на смеси писка и хрюканья. Я понимал, что зрители со смеху помрут, если мы попытаемся воспроизвести в кино подобные звуки. К тому же, когда сценарий был уже почти готов, я понял, что придется расстаться с одним из главных действующих лиц. Когда же я, наконец, после долгих усилий внес все необходимые поправки, не мог придумать, что же делать с концовкой. Последний эпизод никак не получался.
Я снова и снова откладывал отъезд в Лос-Анджелес. Мы с Шэрон каждый день разговаривали по телефону, иногда даже не один раз. Она теряла терпение. В пятницу 8 августа мы говорили дольше обычного. Она рассказала, что нашла в саду котенка и теперь кормила его из пипетки и пыталась приручить. Котенок был очень забавный, но голос Шэрон был какой-то нервный. На Калифорнию обрушилась дикая жара, переносить которую женщине в ее положении было, вероятно, особенно тяжко. Кроме того, ребенок должен был появиться на свет через две-три недели, и она не хотела, чтобы в этот момент в доме были посторонние. Она очень хорошо относилась и к Войтеку, и к Абигайл, но мечтала избавиться от их присутствия в доме и не знала, как сказать им об этом, не обидев. К тому же я подозревал, что, хоть мне она ничего и не сказала, она готовила к моему дню рождения шикарный прием.
Пока мы разговаривали, меня вдруг осенило, что я ничуть не продвинулся с концовкой и что от эпизода, над которым я бьюсь, вообще можно отказаться. «Точно, — сказал я. — Я еду. Сценарий я закончу дома. Выезжаю завтра же».
Я не мог сесть на самолет на следующий день, в субботу, потому что требовалась американская виза, а консульство было закрыто, и я решил, что полечу в понедельник или вторник.
Джин Гутовски, Виктор Лоунс и я собирались поужинать в ресторане в Кенсингтоне. Звонок из Лос-Анджелеса раздался ровно в семь.
ГЛАВА 22
Хотя тревогу подняла наша уборщица Уинни Чэпмен, которая в восемь утра в субботу 9 августа 1969 года обнаружила трупы, первой забеспокоилась Сэнди Теннант, жена Билла. Они с Шэрон почти ежедневно либо разговаривали по телефону, либо встречались. Когда она позвонила к нам в Сьелло-Драйв и никто не взял трубку, она заволновалась. Она знала, что кто-нибудь обязательно должен быть дома, потому что Шэрон никуда не собиралась выходить.
К этому времени забеспокоился и Джон Мэдден, партнер Джея Себринга. Он позвонил Себрингу домой и узнал, что тот не ночевал дома. Потом он позвонил матери Шэрон, которая в свою очередь тоже пыталась безуспешно дозвониться дочери. Миссис Тэйт позвонила Сэнди и усилила ее подозрения. Тогда Сэнди позвонила Биллу, который играл в теннис. Тот сразу же отправился в Сьелло-Драйв.
Когда он приехал, репортеры и фотографы сновали ярдах в двухстах от дома; полиция блокировала подъезды. Прессе обо всем стало известно благодаря традиционному подслушиванию полицейских коротковолновых радиопередач. Они знали лишь, что в доме на Сьелло-Драйв убиты несколько человек.
Первым Шэрон, Войтека, Джея и Гибби опознал Билл. До тех пор полиция не знала, кто они такие. После опознания Билла вырвало. Потом он протолкался сквозь ряды прессы и рванулся к ближайшему телефону. Его звонок раздался как раз когда я выходил из дома, направляясь на ужин с Виктором Лоунсом. Я сразу же узнал его по голосу и поинтересовался, как у него дела.
— Плохо, — ответил он. Голос был какой-то далекий, приглушенный. И это было странно, потому что связь через Атлантику обыкновенно была настолько хороша, что казалось, будто ваш собеседник где-то совсем рядом. Он добавил: — В доме беда.
Я подумал, он имеет в виду свои личные неприятности. У него в то время трудно складывались семейные отношения.
— В чьем доме? — переспросил я.
— В вашем. Шэрон мертва. Войтек мертв, и Гибби, и Джей тоже. Все мертвы.
Я услышал, что говорю: «Нет, нет, нет». Энди и Майкл вопросительно смотрели на меня. Слова Билла не укладывались у меня в голове.
— Что произошло? — спросил я.
Мне почему-то представилась горная лавина. Если они погребены, то, возможно, еще есть шансы спасти кого-нибудь. «Господи, пусть Шэрон останется в живых», — думал я.
— Роман, их убили.
Давясь рыданиями, он начал говорить что-то еще, но я положил трубку на стол. Энди поднял ее и продолжил разговор.
Я начал ходить по кругу, крепко сжав руки за спиной. Я слышал, что Энди звонит Джину Гутовски.
— Немедленно приезжай, — сказал он. А секундой позже прокричал: — Просто приезжай!
Потом я почти ничего не помню. По словам Джина, я все время стонал: «Нет, нет!», — бил кулаками в стену, потом бился об нее головой с такой силой, что он боялся, как бы я не покалечился. Он обхватил меня руками и крепко держал. «Она знала, как сильно я ее любил? — все время спрашивал я его по-польски. — Знала? Знала?»
Пришел врач и вколол мне успокоительное. Потом приходило еще много других людей. Помню, Джин Гутовски дозвонился домой американскому послу, разбудил его и уговорил выдать мне экстренную визу.
На следующее утро я все еще находился под воздействием транквилизаторов. Джин Гутовски, Виктор Лоунс и Уоррен Битти полетели со мной. Большую часть пути я проспал. В лос-анджелесском аэропорту офицер иммиграционной службы поднялся на борт самолета поставить мне штамп в паспорте. Меня высадили первым и провели через заднюю дверь. Джин и Виктор остались разбираться с прессой.
Меня отвезли на студию «Парамаунт», где я большей частью спал. Частично из-за того, что мне все время давали успокоительные, частично из-за того, что я находился в состоянии шока, я слабо помню, что происходило в эти три дня. Помню, меня сразу же подробно допросили в полиции. Вот тогда-то и поползли слухи.
Друзья по очереди сидели со мной. Меня не покидало ощущение, что Шэрон не умерла, что мне просто снится кошмар, что вот сейчас она войдет в комнату.
Убийцы пустили по Голливуду волны страха. Несмотря на панику, на похоронах присутствовали все звезды. Это была будто отвратительная кинопремьера. Не было только Стива Маккуина, старого друга Шэрон. Этого я ему никогда не прощу.
Ее похороны были какими-то нереальными. Мне все время приходилось напоминать себе, где я нахожусь. Я сидел рядом с матерью Шэрон и плакал, обняв ее. Священник произнес очень трогательную речь. Но пока он говорил, в голове крутилась одна и та же мысль: вот в том гробу тело Шэрон. Как ни пытался я сосредоточиться, я не мог думать ни о чем другом, кроме шрама на левой коленке Шэрон. Это был маленький белый шрам, оставшийся от операции на хрящике после того, как Шэрон упала на лыжах. Все время службы я только и делал, что представлял себе этот шрам, которого больше никогда уже не увижу.
Первым следователем по делу, допросившим меня, был Дэнни Баусер. Это произошло сразу после похорон, и его приход вынудил меня собраться. Я все еще был оглушен, и меня поддерживала только потребность выяснить, что же произошло. Я отправился с ним в полицейский участок, где с нами долго беседовал лейтенант Боб Хелдер, возглавлявший следствие.
С 9 августа я не заглядывал в газеты. Виктор Лоунс, который всегда жадно читал периодику, обратил мое внимание на то, что печатают газеты и журналы. «О Шэрон пишут всякую бредятину», — негодовал он.
Как только были найдены убитые, со ссылкой на голливудские сплетни стали поговаривать об оргиях, сборищах наркоманов, черной магии. Голливуд не только самая стервозная, но и самая беззащитная община в мире, и теперь здесь пытались возложить вину за происшедшее на самих жертв, уменьшив тем самым угрозу для себя. Говорили, что Шэрон и другие погибшие сами виноваты в своей смерти, потому что занимались зловещими вещами и общались со всякой нечистью. Ничего подобного не произойдет с обычными, порядочными, богобоязненными гражданами. То, что на следующий же день была точно так же убита совершенно обыкновенная семейная пара Ла Бьянка, для удобства замалчивалось.
В «Тайм» писали, что в убийстве было нечто ритуальное: «Себрингу на голову был надет капюшон... На нем были лишь порванные боксерские трусы. Одна грудь у мисс Тэйт была отрезана... на животе вырезан крест. Себринг был сексуально изуродован, на теле тоже вырезан крест».
Полиции были известны настоящие факты. В момент смерти Себринг был полностью одет. Сексуально его не изуродовали, капюшона на голове тоже не было, просто кто-то из полицейских прикрыл его лицо куском материи, потому что на раны было невыносимо смотреть. Шэрон также не была голой, и грудь ей не отрезали. И, наконец, убийства не имели никакого отношения к наркотикам.
Прошел год, прежде чем на суде выяснилась правда, и еще пять лет, прежде чем окружной прокурор Лос-Анджелеса Винсент Буглиоси рассказал о случившемся в правдивой книге «Кавардак». Но вред, нанесенный в первые дни после убийства, исправить оказалось невозможно. И по сей день многие люди помнят лишь то, что сообщали им средства массовой информации.
Секс, наркотики, колдовские обряды — вот чего, по мнению писак, хотелось читателям, и именно это их вниманию и предлагалось. Правда же, как следует из показаний на суде одной из убийц, была менее красочной. Когда перерезав телефонные провода, она со своими сообщниками ворвалась в дом, Шэрон мирно беседовала с Джеем Себрингом. Войтек Фриковский спал на диване в гостиной, Абигайл Фольгер читала у себя в спальне. Пятая жертва, Стивен Парант, как раз садился в машину, возвращаясь от нашего управляющего.
По одной из версий причиной убийства явились наркотики.
Я сообщил полиции, что мы курили марихуану — в Голливуде ее все курили, — но по местным меркам мы выкуривали совсем мало. Шэрон вообще к ней не притрагивалась с того дня, как узнала, что беременна.
В прессе Войтека Фриковского изобразили чуть ли не главным продавцом наркотиков. Говорили, что он имел дело с крупными дельцами наркобизнеса. Как-то в апреле мы с Шэрон устроили крупную вечеринку. Как обычно, появились незваные гости. Трое стали буянить, и их выдворили при содействии Войтека. Кто-то из них, знавший его, пообещал отомстить. Все трое оказались связаны с наркотиками. Вот отсюда и пошла версия о наркотиках. Местонахождение всех троих тщательно проверили, но в ночь убийства у всех было железное алиби.
То, что Джей Себринг проводил много времени у нас в доме, пресса сочла доказательством нездоровых взаимоотношений между нами троими. На самом же деле, несмотря на свое материальное благополучие, Джей был неустроенным и одиноким, мы были для него как родные.
И, наконец, в деле фигурировала видеозапись того, как мы с Шэрон занимаемся любовью. Кто-то писал потом, что полиция обнаружила целую коллекцию порнофильмов с участием голливудских знаменитостей. Видеокамеру я купил у студии, после того как снял репетиции «Ребенка Розмари». В конце 60-х это была еще довольно редкая игрушка, и мы частенько ею забавлялись. Как-то вечером я предложил включить ее и заняться любовью. «Ладно, — сказала Шэрон. — А кого мы станем изображать?» От этой затеи веяло скорее беспечностью, чем распутством или эксгибиционизмом. Когда я рассказал об этом Джину, он сказал лишь: «Ты что, свою технику хотел проверить?» Вообще-то мне казалось, что было бы очень забавно спустя многие годы, когда мы уже состаримся, проиграть запись. Но этому не суждено было произойти.
В отличие от прессы и сплетников, полиция никогда не верила ни в черную магию, ни в оргии, ни в наркотики. Боб Хелдер и Дэнни Баусер действовали с холодным профессионализмом, но я ощущал их сочувствие. Мне нравилось, как они подошли к расследованию. Мы подружились, и наши отношения выдержали проверку временем.
В удивительно правдивой книге Буглиоси есть все же одна неточность. Он упрекает полицию в том, что они не обратили внимания на сходство между убийствами на Сьелло-Драйв и убийством Гэри Хинмена десятью днями раньше. Так можно было бы раньше выйти на «семью» Мэнсона. Однако Боб Хелдер вовсе не упустил это из виду. Вскоре после нашей первой встречи он говорил мне о том, что в деле, возможно, замешана группа хиппи, которые живут в районе Чэтсворт под руководством лидера — «сумасшедшего парня, который считает себя Иисусом Христом». Помню, как я без всякого энтузиазма отнесся к этой информации. «Просто вы не любите хиппи», — сказал я.
Я и не подозревал, как близко Хелдер тогда подобрался к Мэнсону, но инстинктивно чувствовал, что обычные мотивы убийства не имеют к этому никакого отношения. «Если вы ищите мотив, — сказал я одному из полицейских, — то я бы искал что-то нестандартное, намного более эксцентрическое».
Мне очень хотелось помочь следствию, но я понимал, что прежде должен развеять всякие подозрения насчет того, что сам могу оказаться замешан в убийстве. Я сказал Баусеру, что хочу пройти тест на детекторе лжи. Я прошел его и испытал большое облегчение.
Полиция по-прежнему развивала теорию личной мести, хотя я не мог представить себе, кто хотел бы свести с нами счеты. Баусер и Хелдер сказали, что убийца должен быть глубоко неуравновешенным человеком, но с виду казаться абсолютно нормальным. Мне посоветовали относиться с недоверием к своим ближайшим друзьям, естественно, не вызывая у них подозрений. Я настоял на том, чтобы пообещать 25 тысяч долларов вознаграждения всякому, кто предоставит информацию, способную помочь аресту и вынесению приговора.
С течением времени во мне росла потребность побывать в Сьелло-Драйв. Она была порождена разными причинами. Мне хотелось убедиться, что полиция не пропустила ничего, что могло бы навести на след убийц, а еще мне казалось, что там могло еще остаться что-то от Шэрон.
В это время ко мне обратился Томми Томпсон, репортер журнала «Лайф», с которым я подружился в Лондоне. Он напомнил, что знал меня и Шэрон в Лондоне, и хотел поправить положение, понимая, сколько лжи и злобы было во всех публиковавшихся сплетнях. Он уговорил меня взять его с собой. После убийства прошло восемь дней, когда я, наконец, решился побывать в Сьелло-Драйв. Нас повез туда Баусер. Полиция опечатала дом, исключив проникновение любопытных. К нам присоединился фотограф, о котором Томпсон мне ничего не сказал. Появившаяся потом статья в «Лайф» была в основном точной, но не положила конец сплетням, а даже наоборот, породила слух, будто мне заплатили пять тысяч долларов, чтобы я позировал на крыльце дома.
Я все время допытывался у Боба Хелдера, чем я смогу ему помочь. Полиция начала проверять алиби всех наших друзей и знакомых. Как и они, я был склонен верить, что убийца или убийцы принадлежали к нашему кругу. Хелдер считал, что, вполне вероятно, друзья и знакомые, если им есть что скрывать, будут вести себя со мной менее настороженно, чем с полицией, и вероятно, в разговоре может что-то проскочить. За одной деталью следовало проследить. Детективы нашли на месте преступления очки в роговой оправе. Значительно позже эту информацию сделали достоянием гласности и распространили среди окулистов США. В то время о находке не знал никто, кроме самих следователей. Так что если бы мне удалось выяснить, носит ли кто-то из моих знакомых такие же очки, мы могли бы значительно продвинуться.
Первой жертвой моего непрошеного внимания стал Брюс Ли, с которым мы почти ежедневно тренировались в спортзале. Как-то утром он обронил фразу, что потерял очки. Я сказал, что старые его очки мне все равно никогда не нравились, и отвел его в оптику, где выбрал новые очки в подарок. Как я и надеялся, рецепт его очков ничуть не походил на те, что нашли в Сьелло-Драйв.
Я приобрел специальное устройство для измерения диоптрий и повсюду таскал его с собой, украдкой проверяя очки друзей и знакомых.
Машины тоже привлекали мое внимание. Убийцы приехали и уехали на машине, и там наверняка остались следы крови. Машину почти наверняка вымыли, но обнаружить кровь было все же возможно.
Тестировать на следы крови оказалось делом непростым. Полиция предоставила мне нужные реактивы в двух пузырьках. Ватку нужно было сначала обмакнуть в один раствор, протереть проверяемое место в машине, а потом обмакнуть в другой пузырек. Если на ватке были следы крови, она должна была посинеть.
Конечно, все мои детективные усилия можно легко отбросить как форму временного помешательства. Но это происходило еще до того, как полиция вышла на «семью» Мэнсона. Временами атмосфера подозрения переходила в паранойю. Помню, как Виктор Лоунс очень взволнованно объяснял мне, что по своему «профилю» Ежи Косинский как раз может быть убийцей, если судить по тому, что он писал в одной из своих книг.
Все советовали мне уйти с головой в работу, но я не мог. Я был безутешен и мог разрыдаться в любой момент — по дороге домой в автомобиле, в самолете, глядя на закат. С трудом взялся за «День дельфина», но без души. Я выбирал возможные места для натурной съемки. Но ни о чем, кроме того, что произошло 9 августа, думать не мог.
Очень скоро, может быть, через месяц после смерти Шэрон, я снова начал заниматься сексом. Я не искал женщин, похожих на нее. Половой акт приносил мне облегчение, доказывал, что я еще существую. Я понял, что стал теперь «печально известным Романом Поланским».
Сценарий «Дня дельфина» был рассчитан на пять миллионов долларов. Студия же хотела снять его за четыре миллиона. Я мог бы, конечно, без большого ущерба вырезать одну-две дорогостоящие сцены, но я молчал. Вероятно, я вел себя нелогично, но так диктовало мне мое настроение. Я не мог работать и не расстроился, когда от проекта в конце концов отказались.
Однажды Боб Хелдер сказал мне: «Роман, мы что-то нащупали». Он рассказал мне о разговоре, который состоялся между Сьюзен Эткинс, членом «семьи» Мэнсона, и другой заключенной. Та прочитала про обещанную награду и решила рискнуть донести.
Как ни странно, едва я узнал правду об убийцах, моя навязчивая идея исчезла. Мне было безразлично, погибла ли Шэрон от ножевых ран или в автокатастрофе. Ее больше не было. Лишь это и имело значение. Против смерти лекарства не было.
Сильнее всего меня ранило то, что как только Мэнсона арестовали, пресса повела себя так, будто с самого начала знала о причастности его банды к делу.
Мне лично казалось, что убийства уж не столь немотивированы. Похоже, ярость Мэнсона была яростью отвергнутого исполнителя. Видимо, когда он посылал убийц в дом, как он полагал, Терри Мелчера, им руководили горечь и отчаяние. Он хотел отомстить человеку, который отказался выпускать пластинку с его посредственными сочинениями. Случайное убийство семьи Ла Бьянка, не имевшей никакого отношения к шоу-бизнесу, было, по-видимому, совершено, чтобы замести следы.
Как ни странно, едва убийцы были найдены, у меня исчезло желание мстить. Гораздо сильнее было чувство вины что 9 августа меня не было в доме. И по сей день я считаю, что будь я там, мы с Фриковским смогли бы справиться с убийцами. Раны Фриковского говорят о том, что он, по-видимому, отчаянно сопротивлялся.
Что больше всего поразило меня в «семье» Мэнсона, так это то, насколько вся она подчинялась воле одного человека. До убийств я никогда не считал хиппи потенциально опасными. Наоборот, мне они казались привлекательным социальным явлением, которое повлияло на всех нас, на наши взгляды на жизнь.
Я явно недооценил опасность образа жизни хиппи, которым так восхищались мы с Шэрон, замечая в нем лишь отсутствие лицемерия, комплексов и ханжества.
Смерть Шэрон — единственный важный водораздел в моей жизни. До нее я плыл по бескрайнему спокойному морю надежд и оптимизма. После же, как бы мне ни становилось хорошо, я чувствовал себя виноватым. Психиатр, с которым я разговаривал вскоре после ее смерти, сказал, что «потребуется четыре года траура», чтобы это чувство прошло. Но времени потребовалось значительно больше.
Некогда внутри меня пылал огонь — неистребимая уверенность, что я могу со всем справиться, если действительно захочу. Эта уверенность была сильно подорвана убийствами и их последствиями. После смерти Шэрон я не только внешне стал больше походить на отца, но у меня появились и некоторые черты его характера: его пессимизм, вечная неудовлетворенность жизнью, глубоко иудейское чувство вины и убеждение, что за всякое счастье нужно платить.
Были и другие последствия. Я не уверен, что когда-нибудь смогу снова долго жить вместе с какой-нибудь женщиной, какой бы красивой, умной, очаровательной и доброй она ни была. Все мои попытки оканчивались неудачей и не в последнюю очередь потому, что я начинаю проводить параллели с Шэрон.
Всякие мелочи, как например, укладка чемодана, стрижка волос, набор калифорнийского или римского кода по телефону, неизбежно вызывают у меня воспоминания о Шэрон. Хотя прошло уже столько лет, я по-прежнему не могу смотреть на красивый закат, или побывать в милом старинном доме, или испытать зрительное наслаждение, не сказав себе при этом, как ей бы это понравилось.
В этом отношении я останусь верен ей до самой смерти.
ГЛАВА 23
После того как убийцы были найдены, ничто не удерживало меня в Голливуде. Чтобы выжить, мне было необходимо на некоторое время забыть несколько прошлых лет.
Я полетел в Париж к Жерару Браху и другим друзьям, которых знал еще до Голливуда. Их общество было мне приятно, но пребывание во Франции портили повсюду охотившиеся за мной репортеры. Я наивно полагал, что теперь, когда банда Мэнсона раскрыта, преследование прекратится. Я даже думал, что пресса, напечатавшая обо мне столько клеветнических статей и чуть ли не обвинившая меня в смерти Шэрон, признает свои ошибки и, если уж не исправит их, то хотя бы оставит меня в покое.
Как же я ошибался! Только те, кого по-настоящему осаждали газетчики, поймут, почему их жертвы порой теряют терпение. Однажды в Париже за мной последовали в ресторан, фотографировали во время еды, провожали домой. На полпути на тихой улочке я бросился на своего преследователя и выхватил у него камеру. Пока я извлекал оттуда пленку и обыскивал карманы в поисках второй, двое моих друзей держали его. Как раз в тот момент, когда я понял, что пленка зажата у него в кулаке, он запихнул кассету в рот. Я попытался разжать ему челюсти, но безуспешно. Его выдержка была достойна лучшего применения.
Мне было необходимо одиночество, и я с радостью принял предложение Виктора Лоунса провести с ним Рождество 1969 года в швейцарских Альпах. По-моему, он считал, что нет такого горя, которое не смогли бы развеять девочки, выпивка и вечеринки. Он хотел сделать как лучше, он хорошо относился к Шэрон, был для меня настоящей опорой в первые недели после ее смерти, но нуждался в очень деликатном обращении. Я, вероятно, был неприятным гостем — унылым, раздражительным, склонным к неконтролируемым припадкам горя, когда начинал безудержно рыдать, что обыкновенно случалось со мной во время какого-нибудь тщательно продуманного праздника. Вскоре я перебрался к Энди Браунсбергу в его шале в Гштааде, где решил кататься на лыжах до тех пор, пока физическая усталость не заставит меня забыть о моих кошмарах и самобичевании.
Невозможно было провести в Гштааде хоть сколько-то времени без того, чтобы не заметить, что это была столица, в которой девушки заканчивали свое образование. Сотни свеженьких юных девиц обитали в школах Монтесано, Ле Месний, Ле Розэй...
Кэти, Мадлен, Сильвия и другие, чьих имен я уже не припомню, сыграли мимолетную, но целительную роль в моей жизни. Всем им было от шестнадцати до девятнадцати. Это были уже не школьницы, но еще и не светские львицы. Они еще не преследовали ни профессиональных, ни брачных интересов. Главным для них было хоть ненадолго вырваться из строгой атмосферы школы.
Они стали заглядывать ко мне в шале и необязательно, чтобы заниматься любовью (хотя и такое бывало), а просто, чтобы послушать рок-музыку, посидеть у огонька, поговорить. Их привлекало очарование запретного плода — возможность провести вечер где-то вне школы, в то время как им следовало бы сидеть по своим спальням.
Они довольно сильно рисковали. В назначенный срок я должен был приехать на машине и ждать у школы. Тишина была зловещей. Даже когда не шел снег, все было будто укрыто толстым белым одеялом. Девушка, договорившаяся с мной о встрече, появлялась на вечерней поверке и ждала, пока погасят свет, прежде чем надеть сапожки и лыжный костюм. Напялив поверх ночную рубашку (на тот случай, если что-то сорвется и ее поймают), она перебиралась через балкон и молча прыгала в снег. Затем быстро бежала к машине, и мы уезжали.
Порой, сидя в ожидании за рулем машины с включенным двигателем, я недоумевал, что я вообще здесь делаю.
А что, собственно, я там делал? О чем мы говорили с этими девочками? О музыке, книгах, школе, лыжах, друзьях, родителях. Они не пользовались своим телом ради карьеры, не искали женихов, не хотели слушать о прокате и финансах, даже о деле Мэнсона ничего не хотели знать. В целом, то же самое можно сказать и о большинстве друзей, которые появились у меня после смерти Шэрон. Все меньше и меньше их работает в сфере шоу-бизнеса, все больше и больше среди них людей, не связанных с кино. Те, кто связан с шоу-бизнесом, склонны говорить о своих профессиональных делах в ущерб всему остальному, но мои друзья-архитекторы не трезвонят о своих конструкторских неудачах, равно как врачи не прожужжат вам уши историями про неизлечимо больных пациентов, а бизнесмены о том, как им едва удалось избежать банкротства.
Первым признаком того, что я начинаю потихонечку приходить в себя, стало то, что прочитав книгу «Папийон», я сразу же подумал, какой из нее может получиться неплохой фильм. Меня привлекала живучесть Папийона, его стремление выжить, необоримая страсть к жизни, тяга к свободе. Автор этого удивительного автобиографического повествования о побеге с Дэвилз Айленд Анри Шарриер жил в Каракасе, все еще оставаясь сбежавшим заключенным. Я связался с ним, он сообщил, что права экранизации принадлежат его французскому издателю. Я с радостью узнал, что проектом заинтересовался Уолтер Рид.
Если «Папийон» поставить как следует, то получится дорогой, но зрелищный фильм. У меня уже был на примете кандидат на главную роль — Уоррен Битти. Он обладал и привлекательной внешностью, и твердостью, и обаянием. Как и Папийон, он мог обманом заставить сделать что угодно и кого угодно. Ему тоже понравилась моя идея.
За исключением бюджета проект начинал принимать видимые очертания. Французское правительство амнистировало Анри Шарриера в основном из-за популярности его книги в Европе, и я пригласил их с женой погостить у меня в Гштааде. Битти прочитал английский перевод книги.
Оставалась лишь одна проблема — деньги. Я полетел к Уолтеру и попытался все ему объяснить, но увы. К всеобщему разочарованию, ничего не получилось. Шарриер начал работать над новой книгой, а Битти вернулся в Америку.
Я уже не мог кататься на лыжах весь остаток жизни хотя бы потому, что деньги у меня иссякали. Из-за дела Мэнсона мне стали предлагать еще больше кровавых сценариев, но все их я отвергал. После смерти Шэрон мало что представлялось достойным внимания. К тому же я понимал, что в моем следующем фильме станут оценивать не столько качество, сколько сюжет.
Приключенческая история вроде «Папийона» была вполне приемлема, о комедии, фильме ужасов или триллере и речи не могло быть. Еще со времен Кракова мне хотелось экранизировать какую-нибудь из шекспировских пьес. Возможно, наступал как раз подходящий момент. Крупные трагедии уже были великолепно экранизированы, исключение составлял лишь «Макбет». И Орсон Уэллс, и Куросава пытались его ставить с разной степенью успеха, а я бы даже сказал, неудачи. Как-то на склоне горы я сказал Энди Браунсбергу: «Почему бы мне не взяться за «Макбета»?» Ему эта мысль очень понравилась. Мы сразу же сложили вещи и отправились в Лондон.
От моей новой затеи Билл Теннант в восторг не пришел. Я решил действовать в одиночку.
Я переговорил с Кеннетом Тайненом, которого давно знал, о совместной работе над сценарием «Макбета». Тайнен, ведущий театральный критик и литературный директор Британского национального театра, как-то предлагал мне стать режиссером авангардистской пьесы, которая не прошла цензуру. Кино его тоже интересовало, и мы неоднократно обсуждали возможности сотрудничества. На мое предложение он откликнулся с энтузиазмом.
Впервые после смерти Шэрон я наслаждался работой. Каждое утро я с нетерпением ждал прихода Тайнена. Мы понимали, что без существенных сокращений такую длинную пьесу нельзя перенести на экран, иначе многие сцены должны будут пронестись калейдоскопом.
Мы решили отказаться от установившихся театральных клише. В фильме Макбет и его жена молоды и хороши собой, а не пожилые, как в большей части постановок. Сделано это было намеренно. Тайнен говорил: «Они не знают, что стали участниками трагедии; считают, что их ждет победа, предсказанная ведьмами». По его мнению, их трагедия состояла в том, что, пытаясь выполнить пророчество ведьм, они открыли темную сторону своего характера, о существовании которой даже не подозревали.
Мы оба согласились, что в сцене, где леди Макбет ходит во сне, она должна быть обнаженной. Так она будет казаться более уязвимой и живой. А кроме того, в те времена все спали обнаженными.
Некоторые театральные условности теряли смысл в фильме. В шекспировские времена было немыслимо показать на сцене убийство монарха. Вот почему Дункана лишают жизни вне сцены. Нам же с Тайненом представлялось очень важным включить этот центральный эпизод, и мы долго обсуждали, как лучше всего это сделать.
День, когда мы работали над этой сценой, выдался очень жарким, и мы оба разделись до пояса. Я изображал Макбета, а Тайнен лежал распростертый на кровати. Я подкрадывался к нему с картонным ножом и начинал колоть. Он ловил мою руку и вырывал нож. Мы несколько раз на все лады повторили сцену, когда Тайнен заметил, что на нас смотрят с балкона дома напротив. Я жестом пригласил зрителей присоединиться, но те поспешно отвернулись.
В мире театра «Макбет» всегда был окружен предрассудками, в кино же продюсеры морщились при звуке шекспировского имени. Оставался лишь один источник финансирования, воспользоваться которым я еще не пробовал.
Империя «Плейбоя» процветала. Виктор Лоунс и его организация разбогатели. Я дал сценарий Виктору. Он обещал показать его людям, занимавшимся кино, лично при этом порекомендовав нашу работу. «Плейбой продакшнз» дала полтора миллиона долларов, «Коламбия», которая решила приобрести права проката, добавила еще миллион.
Одновременно начались слушания по делу Мэнсона, и моя фамилия снова оказалась в газетных заголовках. «Дейли телеграф» высказала догадку, что я не присутствую на суде как свидетель, потому что мне не оплачивают дорогу. На сей раз я подал в суд за клевету и выиграл дело. Меня никогда и не приглашали давать показания, потому что я ничего ценного сказать не мог. Тяжело было даже просто читать о суде, присутствовать же на нем было бы невыносимо.
Мы с Энди организовали компанию под названием «Калибан филмз». У производственного цикла есть свой ритм, который я обыкновенно игнорирую, хотя иногда мне и приходится за это расплачиваться. Мне нравится начинать съемку сразу, как только заканчивается работа над сценарием. Чем раньше начнется работа, тем лучше. Для меня очень важно, чтобы свежесть замысла отразилась на пленке. В данном случае мне очень хотелось приступить к работе той же осенью, пока не угас интерес «Плейбой продакшнз». Кроме того, мне нужно было мрачное серое осеннее небо, столь типичное для Британских островов. На подготовительную работу у нас оставалось абсурдно мало времени, а если учесть, что для «Макбета» требовались средневековые декорации, сложные костюмы, лошади, батальные сцены, фильм этот был отнюдь не простым. Насколько непростым, я узнал лишь в процессе работы.
Что касается подбора актеров, то я оттягивал свое решение до последней минуты. Мой Макбет — Джон Финч был приглашен всего за несколько дней до начала съемок. На роль леди Макбет я пригласил Франческу Эннис, когда съемки уже шли полным ходом.
Снимать в Уэлсе предложил Тимоти Беррилл, один из моих продюсеров. Наш выбор диктовался красотой природы и пустынных пляжей близ Портмеириона. Портмеирион, построенный в стиле итальянского Ренессанса, оказался весьма удобной базой для работы. Однако в ту осень там случилось наводнение. Сначала мы радовались свинцовому небу и зловещим, странной формы облакам, но скоро на нас обрушился нескончаемый ледяной дождь, и мы могли снимать лишь в краткие промежутки между ливнями. Грим растекался, бороды отклеивались, лошади пугались. Когда дождь переставал, из-за тумана видимость составляла не больше нескольких ярдов. Временами мне казалось, что я снимаю подводную эпопею.
Были проблемы и с людьми. Местные фермеры ободрали нас как липку. Они потребовали компенсацию, пожаловавшись, что из-за нас бараны стали реже покрывать овец. Потом заявили, что мы не закрыли ворота и несколько овец сбежало. Наконец нас заставили заплатить за порчу дорог, которые и без того были в глубоких колеях от грузовиков и тракторов самих фермеров.
Но все это ничто в сравнении с тем, что терпела наша группа спецэффектов, которую мы окрестили «группой спецдефектов». Взорвалась машина, которая должна была делать туман. Ядра из катапульт падали, то значительно не долетев до цели, то перелетев далеко через стену и приземляясь в чистом поле, где лишь по счастливой случайности никого не оказывалось.
«Плейбой продакшнз» подписала контракт с «Филм файнэнсиз» о гарантии завершения фильма. И вот теперь они стояли у меня над душой. Виктор Лоунс, разрываясь между дружбой со мной и преданностью своей компании, был бессилен. У него не хватало опыта, чтобы определить, действительно ли все задержки были оправданны. Когда же он все-таки решил, что мы зря тратим деньги его компании, он вышел из себя, и мы не раз крепко ругались по телефону.
На совещании с представителями «Филм файнэнсиз» я представил отчет о том, что мы сделали и что еще предстояло сделать, не объяснил, почему мы так запаздываем, и предложил удержать оставшуюся треть моего гонорара. Что и было с радостью принято.
На декабрь 1971 года была назначена премьера в Лондоне, так что я лихорадочно взялся за монтаж, стремясь наверстать упущенное. Я считал, что ключ к успеху «Макбета» — зрелищная премьера в Лондоне, где критики смогут лучше своих американских коллег оценить и понять мой замысел. Однако представители «Коламбии» не пришли в восторг от фильма. Они сомневались, что зрители высидят два с лишним часа, хотели урезать фильм, не верили, что я все успею сделать к сроку. К моему глубокому сожалению, лондонскую премьеру отменили и назначили нью-йоркскую в новом кинотеатре «Плейбой».
Январская премьера в Нью-Йорке — это кинематографическое самоубийство. После рождественской горячки всем хочется побыть дома. Кроме того, в американской прессе недвусмысленно писали, что то, что спонсором «Макбета» был «Плейбой», — непростительная дерзость.
Мои личные побуждения тоже переврали. «Поланский лучше всего чувствует себя, когда имеет дело с черной магией, — писал «Тайм». — Его «Макбет» — произведение искусства в том же смысле, что и Бухенвальд, Лидице или убийства, совершенные «семьей» Мэнсона.
В «Макбете» крови куда меньше, чем в фильмах Сэма Пекинпа, однако насилие показано реалистично. Но ведь «Макбет» — жестокая пьеса. Американские критики полагали, что я решил ставить «Макбета» с целью какого-то катарсиса. На самом же деле я остановил на нем свой выбор потому, что полагал, что по крайней мере в Шекспире никто не найдет ничего предосудительного. После дела Мэнсона стало ясно, что всякий поставленный мной фильм вызовет одну и ту же реакцию. Сними я комедию, меня обвинили бы в черствости.
Коммерческий успех фильма зависит от кассовых сборов в первый уик-энд, а «Макбет» принес мало денег. «Плейбой» так и не возместил свои убытки. Виктора Лоунса расстроила первая ощутимая неудача своих хозяев. Мое невинное, но весьма неудачное замечание лишь подлило масла в огонь. В одном интервью меня спросили, почему я решил сотрудничать с «Плейбоем», и я ответил: «Pecunia non olet», что значит: «Деньги не пахнут». Хотя я ничего плохого не имел в виду, это положило конец нашей дружбе с Виктором Лоунсом. Он счел, что я укусил руку, кормившую меня, и жутко разозлился. Придя к выводу, что я симулировал дружбу лишь с целью вытянуть деньги из «Плейбоя», он принялся писать письма, некоторые очень смешные, в духе отвергнутого любовника. Мой «золотой член» он вернул со следующей запиской: «В свете последних событий мне больше не хочется видеть у себя в доме этот ваш портрет в натуральную величину. Вы без труда найдете «друга», которому сможете это всучить».
Я пожертвовал вещицу благотворительной организации, присматривавшей за излечившимися наркоманами. Кому-то пришла в голову мысль выставить ее на аукцион, что привлекло нежелательное внимание. Поползли слухи, что это копия моего собственного органа. В одной из своих тирад Лоунс писал: «Это щекотливое, хотя и ошибочное, предположение вы наверняка захотите укрепить, учитывая, какова на самом деле реальность».
«Макбет» не только укрепил стереотипное и неверное убеждение, что я расточительная примадонна, а не режиссер, но и стоил мне близкого и дорогого друга.
ГЛАВА 24
Мне захотелось тут же поставить новый фильм просто из желания доказать, что я еще что-то могу. Вполне понятно, что после всех мучений с декорациями, париками, костюмами, спецэффектами, жуткой погодой меня потянуло к простоте. Мы с Тайненом начали работу над эротическим сценарием — ни костюмов, ни декораций, — но недалеко продвинулись и вскоре забросили затею.
Меня привлекали склоны Гштаада. Вместе с Жераром Брахом я уединился в своем шале, и мы взялись за сценарий эротической комедии. Джек Николсон был у нас теперь частым гостем. Я научил его кататься на лыжах. Мы частенько говорили о том, что неплохо было бы поработать вместе. Мы с Жераром начали писать роль специально для него. Свой сценарий мы назвали «Волшебный палец». В нем рассказывалось о том, как подбираются актеры для фильма. Прототипом главного героя отчасти послужил французский продюсер Леонид Моги, который разработал оригинальную форму отбора актрис. «Ты девочка хорошенькая, двигаешься тоже неплохо, — говорил он, — но вот есть ли у тебя способности? Кинопробы — дорогое удовольствие». Тут из-под стола появлялась его рука. «Вот, попробуй пососать». Кандидатке на роль приходилось сосать мизинец Моги, сосать сначала с ненавистью, потом с отвращением, потом с любовью, потом с безграничной преданностью.
Роль, которую мы написали для Джека Николсона, ему не понравилась, но он сказал, что не отказывается от мысли о совместной работе. Жан-Пьер Руссам не удосужился прочитать сценарий, но история была ему симпатична, и, по его мнению, ею мог заинтересоваться Карло Понти, которому он и предложил участвовать в копродукции. В результате Понти пригласил нас в Рим на переговоры.
На деньги Понти Энди Браунсберг снял замечательный дом на окраине Рима, который окружало нечто вроде парка. Нашими соседями были бывшая королева Югославии и Франко Дзеффирелли. Мы наслаждались жизнью, которая обычно бывает недоступна людям с нашими скромными средствами.
Сценарий сам собой превратился в повествование в духе Рабле о приключениях хрупкой невинной девушки, которая даже не догадывается, что за люди окружают ее на вилле на Ривьере, где обитают фаллократы. Героиня очень напоминала некую американку, которая одно время жила с нами в шале. Она повсюду таскала за собой толстенный дневник, и Жерар сгорал от желания заглянуть в него. Добравшись, наконец, до него, в большом возбуждении подозвал меня и показал на текст. Запись гласила: «Съела вареное яйцо».
Когда сценарий был завершен, выяснилось, что средства, на которые рассчитывал Руссам, получить не удалось. Однако Понти уже захотелось снимать фильм со мной, так что он все взял на себя. Лишь позднее я понял, насколько он был щедр ко мне. Как и большинство европейских продюсеров, Понти редко рисковал, вкладывая в проект собственные деньги. Но для меня он сделал исключение. Затраченные на фильм 1,2 миллиона были его деньгами.
Вооружившись благословением Понти и предоставленной им виллой под Неаполем, мы взялись за подготовительную работу. Единственными знаменитостями среди актеров были Марчелло Мастроянни и Хью Гриффит. Остальные же были в основном любителями.
«Что?» — это первая картина, работу над которой я завершил раньше срока. У итальянцев вошло в привычку работать чуть ли не по двенадцать часов в сутки, но за это они получали вознаграждение.
О самом фильме особенно говорить нечего. В Италии он пользовался успехом, в Европе привлек умеренное внимание и совершенно провалился в Америке. Однако к тому времени, как мы его закончили, мы безнадежно влюбились в Италию, в особенности в Рим, и решили бросить здесь якорь. В течение четырех лет Рим оставался нашим домом, и хотя в итоге из нашего эксперимента ничего не вышло, я за это время успокоился и смог вернуться к более-менее нормальному существованию. В Риме невозможно грустить слишком долго.
Однажды мне позвонил Джек Николсон и сказал, что есть сценарий, который я просто обязан прочитать, и что, если я захочу, смогу его поставить. Я бы должен был ухватиться за эту возможность. Но нет. Проведенные в Риме месяцы убедили меня, что настоящий мой дом — Европа. Мне нравилась старина, асимметричность, которыми она так сильно отличалась от современной четырехугольной Америки. К тому же мне не хотелось бередить старые раны, возвращаясь в Лос-Анджелес. Но Боб Эванс все же меня убедил.
В Голливуде Боб Эванс дал мне прочитать объемистый сценарий. Он изобиловал идеями, интересными диалогами, типажами, но был слишком запутан. Назывался «Китайский квартал», хотя ни восточных персонажей, ни восточного колорита в нем не было. В таком виде поставить по нему фильм было невозможно, хотя где-то в недрах этих ста восьмидесяти с лишним страниц скрывалась замечательная кинокартина. Сюжет был выдержан в лучших традициях Чандлера, зато герой, Дж. Дж. Джиттс, вовсе не был блеклой копией Марлоу. Сценарист Роберт Тауни задумал его преуспевающим человеком, шикарно одевающимся, надменным и холодным. Это был новый тип детектива. К несчастью, этот персонаж совершенно терялся в запутанном, непонятном сюжете. Сценарий нужно было сильно сократить, упростить, удалить из него несколько замечательно написанных персонажей, которые, однако, не имели для сюжета никакого значения.
Боб Тауни два года работал над «Китайским кварталом» и считал его лучшим своим детищем. Он, естественно, огорчился, когда я высказал ему свои соображения. Возможно, из-за своей подавленности я был слишком критически настроен. Ведь я находился в Лос-Анджелесе, где каждый закоулок напоминал мне о трагедии. К тому же мне скоро исполнялось сорок, а это невеселый момент в жизни каждого.
Тауни согласился сделать упрощенный вариант сценария, и я с радостью вернулся в Рим. Но переработанная версия была ничуть не короче и не проще. Если «Китайскому кварталу» суждено было стать фильмом, то над сценарием надо было по крайней мере месяца два напряженно поработать вместе, разложить на кусочки, а потом опять собрать.
Хотя я меньше всего стремился оказаться в Лос-Анджелесе, фильм мне снимать хотелось. И не только из-за денег, которых обещали немало, и процента от прибыли, чего прежде мне никогда не предлагали, но и потому что мне не терпелось попробоваться в совершенно новом для себя жанре триллера, рассказав о том, как история и границы Лос-Анджелеса определялись человеческой жадностью.
После дела Мэнсона в Беверли Хиллз многое изменилось. Почти все мои друзья либо умерли, либо уехали. Дома их стояли пустые и заколоченные. Я даже агента своего лишился. Однажды Билл Тенант просто ушел из своего кабинета, не удосужившись забрать содержимое ящиков, и больше не вернулся. Вскоре он и от жены ушел. От одиночества и потребности заниматься чем-то в свободное время я стал брать уроки управления самолетами.
Боб Тауни — мощный и талантливый профессионал. Каждая строка в его сценариях свидетельствует о том, как тонко он чувствует диалоги, как умеет передавать настроение. А еще он пишет очень медленно, наслаждаясь любой возможностью потянуть время — поздно приходил, набивал трубку, проверял автоответчик, занимался собакой. У меня даже сложилось ощущение, что у меня два партнера — Тауни и его гигантская овчарка Хайра.
Через восемь недель ежедневной восьмичасовой работы я понял, что мы написали замечательный сценарий. Лишь два момента меня смущали. Мне хотелось, чтобы Джиттс и Эвлин легли в постель, а еще мы с Тауни не могли прийти к согласию по поводу концовки. Тауни хотел, чтобы злой магнат умер, а его дочь Эвлин осталась жива. Он хотел, чтобы конец был счастливым; после непродолжительного тюремного заключения у нее все должно было быть хорошо. А по-моему, чтобы «Китайский квартал» выделился из ряда триллеров, где хорошие ребята в последнем ролике побеждают плохих, Эвлин должна умереть. Весь драматический эффект пропадет, если зрители не уйдут из кинотеатра, возмущаясь несправедливостью жизни. Во время работы в этих вопросах мы к согласию так и не пришли, и обе эти сцены я написал в ночь перед съемкой. Тауни и по сей день считает, что я выбрал неверную концовку, но я убежден, что был прав.
В отличие от Боба Эванса, который видел фильм как сознательное подражание черно-белым картинам 30-х в стиле «ретро», я считал, что это должна быть картина о 30-х годах, увиденная камерой 70-х. Мне хотелось, чтобы в нашем фильме воскресал мир Дэшиела Хэмметта и Реймонда Чандлера, но достичь этого следовало скрупулезным воссозданием декораций, костюмов, языка той эпохи, а не имитацией в 1973 году техники кино 30-х. Мне хотелось, чтобы оператором был человек, способный почувствовать ту эпоху. Я думал о Стэнли Кортесе, который работал с Орсоном Уэллсом над «Великолепными Эмбер-сонами», этим чудесным воссозданием ушедшего мира.
Сомнений насчет того, кто будет играть Джиттса, никогда не было. Джек Николсон давно дружил с Тауни, и его имя с самого начала связывалось с «Китайским кварталом». Главную роль он обсуждал с Тауни задолго до того, как были написаны первые строчки. В какой-то момент он даже сам собирался быть продюсером картины.
Что же касается отца и дочери Малрей, то мне хотелось, чтобы их играли Джон Хьюстон и Фей Данауэй. Против Хьюстона возражений не было, но на роль Эвлин Боб Эванс предпочитал Джейн Фонду. Когда та отказалась, роль досталась Фей, несмотря на ее репутацию «трудной актрисы». Я хорошо знал Фей, по крайней мере, думал, что знаю. Некоторое время она гостила у нас в Риме, и мне казалось, что мы поладим.
Мы начали снимать в очень жаркий октябрьский день. Снималась сцена в апельсиновой роще, где на Джиттса нападают обнищавшие фермеры и сильно его избивают. Начать именно с нее было необходимо, потому что мы давно арендовали рощицу с апельсинами, а хозяину не терпелось убрать урожай, пока он не сгнил прямо на деревьях.
Просматривая отснятые кадры, я никак не мог понять, что происходит, и решил, что разучился работать. Все получалось цвета охры или кетчупа. Я отправился в лабораторию, подозревая, что либо там накладка, либо Кортес неправильно устанавливает выдержку. Но дело было в печати. Не сообщив мне, Эванс дал распоряжение печатать так, чтобы кадры походили на «Крестного отца».
Кортес был старомодным очаровательным человеком, но он уже несколько лет не работал. Он был не в курсе новейших достижений в кинематографии и просил оборудование, которое уже давно не использовалось. Мы смотрели на результаты его работы со все большим беспокойством. Он использовал очень много света и работал так медленно, что если бы мы оставили его, никогда не смогли бы завершить картину в срок. Боб Эванс предоставил мне сообщить Кортесу, что мы его заменяем. Его место занял Джон Алонсо, что значительно ускорило процесс съемок. «Китайский квартал» — второй в моей жизни фильм, который я закончил раньше срока. Если быть точным, на шесть дней раньше.
Боб Эванс был прав в отношении Кортеса и вдвойне прав в отношении Фей Данауэй. Мне она нужна была потому, что ее красота в стиле «ретро» — та же, которой, как мне помнилось, отличалась моя мать, — была необходима для фильма. Возможно, потому, что я поставил слишком большой акцент на том, сколь много значит для фильма ее грим, Фей стала все больше времени уделять своему лицу. Если после первых же секунд съемка прерывалась, она требовала, чтобы ей дали возможность заново загримироваться. Она почти патологически беспокоилась о своей внешности.
Но грим был не единственной проблемой. Паузы и задержки при произнесении реплик порождены необходимостью, а не соображениями искусства. Фей с натугой пыталась припомнить текст, потому что редко выучивала диалоги, и все время надоедала мне, чтобы я их переписал. Дошло до того, что ради экономии времени я согласился на все ее предложения сразу. А потом она говорила: «Знаете, может, первоначальный вариант был лучше». И мы к нему возвращались.
Снимали сцену, где Джек Николсон встречает ее в ресторане. Камера располагалась у нее за плечом, и свет падал на один-единственный волосок у нее на голове. Все внимание зрителей сосредоточилось бы на этом самом волоске.
«Стоп», — сказал я и позвал парикмахера. В полной тишине с включенными прожекторами та попыталась спасти положение. Но волосок выбивался снова и снова. Сколько бы лака она ни лила, ничего не помогало. Фей единственная на площадке не видела, в чем проблема, и не понимала, чего мы так суетимся. В конце концов, надеясь, что она этого даже и не заметит, я вырвал волосок.
Фей умела ругаться, как сапожник. У нее началась истерика. «Даже поверить не могу! — визжала она. — Не могу поверить! Сукин сын вырвал у меня волос!» После обеда она сообщила, что не вернется на площадку.
Этот несчастный волосок вызвал кризис, которого так боятся все режиссеры и которым втайне наслаждаются продюсеры и агенты. Еще до этих событий Боб Эванс напомнил мне, что не хотел на съемках этой полоумной. И вот теперь я был повязан со «страшной Данауэй», как ее неофициально звали в Голливуде, и мне придется расплачиваться за последствия.
На совещание Фредди Филдс, ее агент, чувствовал себя неудобно, а сама Фей все еще злилась, как черт. Филдс начал перечислять ее претензии ко мне. Из меня в очередной раз сделали чудовище. «Признаю свою вину, — сказал я, — но это не меняет того факта, что она дура и притом опасная».
Это вызвало у Фей такой приступ непристойной ругани, что ни Эванс, ни Филдс не знали куда глаза девать. Я был в восторге. Вот, глядите, какая она, жестами говорил я у нее за спиной, хитро улыбаясь. Фредди Филдс спас положение успокоительной речью о необходимости продолжать работу. Фей растратила весь свой порох. Новая истерика пошла ей на пользу, да и весь свой словарный запас она израсходовала. Мы возобновили съемку как ни в чем не бывало, расположив камеру у нее за спиной.
Джек Николсон оказался полной противоположностью Фей во всех отношениях. Он немного диковат. Любит гулять вечерами, никогда не ложится раньше утра, слушает музыку, курит травку. Явиться куда-нибудь рано утром ему еще труднее, чем мне, но на площадке он появляется, зная и свой, и чужой текст. Он такой замечательный актер, что любой голливудский текст звучит в его устах завораживающе. Мы годами мечтали поработать вместе и теперь наслаждались сотрудничеством.
Но даже с Джеком у нас произошел скандал. Мы дошли до сцены, в которой Джиттс, ожидая перед кабинетом преемника Малрея, обнаруживает некоторые интересные вещи, разглядывая фотографии на стенах. Ничего особенного с точки зрения Джека. Как баскетбольного болельщика, его в тот день куда больше интересовал матч, чем события на съемочной площадке. Меня волновало освещение. Хотелось пере-
дать атмосферу предвечерних сумерек, когда, пробиваясь сквозь венецианские ставни, луч света падает на стену, пока Джек ходит от фотографии к фотографии. Справиться с освещением было трудно, а время уходило. Джек постоянно убегал в свою передвижную гримерную посмотреть матч. Игра тоже затягивалась, и его никогда не было на месте в нужный момент.
— Я же говорил тебе, что сегодня мы не закончим эту проклятую сцену, — сказал он когда его в очередной раз вытащили из гримерной.
— Ладно, хватит, — отрезал я, не сомневаясь, что профессионал Джек захочет закончить сцену. Однако он показал, что тоже может быть свиньей.
— Ладно. Хватит, — повторил он и ушел к себе в гримерную.
Я был взбешен. Часы уйдут на то, чтобы заново подготовить площадку на завтра. Схватив тяжелую щетку, я ворвался к нему в гримерную и попытался расколотить телевизор. Однако трейлер был такой маленький, что я не мог как следует размахнуться. Телевизор выключился, но ожидаемого зрелищного взрыва не последовало. Я стукнул по ящику еще раз, после чего починить его было уже невозможно. «Знаешь, кто ты есть? — заорал я, размахиваясь. — Ты чертов кретин!» Потом я собрал то, что осталось от телевизора, и выбросил из трейлера. Я увидел, как поморщился Ховард Коч. Потом я узнал, что это был его телевизор. Реакция Джека была бешеной. Под испуганными взглядами присутствующих он рванул на себе рубашку и ушел с площадки. Сам я в бешенстве бросился к автомобильной стоянке.
Джек оделся и покинул студию, не сказав никому ни слова. Мы случайно оказались рядом у светофора. По губам я прочитал, что он говорит: «Сучий поляк».
Я вдруг осознал комизм ситуации и ухмыльнулся ему. Он ухмыльнулся в ответ, и мы захохотали. Мы оба понимали, что слух о нашей ссоре сразу же долетел до Боба Эванса и что тот, наверное, с ума сходит от беспокойства. «Давай никому не скажем», — предложил Джек.
Ему потом не раз представлялся случай искупить свою вину, особенно когда дело дошло до съемки самой опасной сцены в «Китайском квартале». Это был эпизод в резервуаре, когда Джиттса сметают с ног потоки воды, хлынувшей из внезапно открытых шлюзов. Мне хотелось снимать одним непрерывным планом, чтобы лицо Джека было четко видно. В момент удара о проволочное ограждение мне нужен был крупный план. Поэтому о том, чтобы использовать дублера, Элана Гиббса, и речи быть не могло.
Джек, которого я научил кататься на лыжах, считал, что на склонах я слишком рискую. Он нервничал перед съемкой, потому что думал, раз у меня нет чувства опасности на лыжах, то я не в состоянии понять страх других. Он напомнил мне, что в кино, бывает, срываются даже очень тщательно спланированные спецэффекты. Хорошо это понимая, мы оставили сцену напоследок, на случай, если что-то все-таки произойдет.
Уже в непромокаемом костюме Джек попросил, чтобы Элан Гиббс попробовал, насколько сильно тело ударится о проволоку. Чтобы подготовить сцену для съемок после генеральной репетиции, ушло бы четыре часа, и, понимая это, я уговорил Джека обойтись без пробы. Как истинный профессионал он согласился. Перед тем как вода должна была хлынуть, Джек махнул мне пальцем. Я было подумал, что он посылает меня куда подальше. Наконец он прокричал: «Один!» Я понял. Он просил меня обойтись одним дублем. Большего нам и не потребовалось. Джек с такой силой ударился о заграждения, что от его ботинок на проволоке осталась вмятина.
Джек не просто хороший парень и талантливый актер. В сцене, где я сам играю панка, который наносит ему удар ножом по носу, я попросил, чтобы он был моим режиссером. По сценарию нос Джеку калечили позже, и заживал он потом с чудесной скоростью, наблюдать которую можно только в кино. Джек был не из тех, кто не пожелал бы играть большую часть, сцен с перевязанной физиономией, поэтому я решил не жертвовать реализмом.
Момент нанесения раны тоже был труден для съемки. Сначала думали сделать фальшивую ноздрю, но мне хотелось, чтобы трюк был основан на иллюзии, но не на обмане. Мне нужен был нож особой конструкции. Пружинка должна была быть достаточно слабой, чтобы при малейшем нажатии создавалось впечатление, будто нож проходит сквозь ноздрю. Хлынувшая кровь отвлечет внимание зрителей. С одной стороны лезвия на ноже закрепили трубочку с кровью. Нанося удар, я сжимал ее. Перед каждым дублем Джек проверял, чтобы я держал нож нужной стороной вниз.
Эта сцена до сих пор вызывает любопытство. Нам с Джеком так надоело объяснять, как мы это сделали, что иной раз мы говорим, будто все было сделано на самом деле. И в Америке, и в Британии сцену сочли слишком кровавой и вырезали. Во многих рецензиях, в общем положительно оценивавших «Китайский квартал», указывалось на то, что в картине слишком много крови. На самом же деле, не считая носа Джека и короткой сцены смерти в конце, кровопролития в фильме нет.
Когда съемки завершились, то оказалось, что всё, даже истерики Фей Данауэй, было не зря. Монтаж проходил быстро и гладко. Но нам с Эвансом жутко не хватало Кшиштофа Комеды. Я поэкспериментировал с музыкой молодого композитора Филипа Ламбро. На Эванса он произвел большое впечатление, и мы пригласили его работать. К несчастью, его партитура нас разочаровала. Боб Эванс настоял на коренной переделке. Мы наняли Джерри Голдсмита, который представил новую партитуру в рекордно короткий срок.
Я не присутствовал при окончательном музыкальном озвучании, так что о последнем этапе работы над «Китайским кварталом» узнал уже из прессы.
Фильм пользовался кассовым успехом, его хвалила критика. Он получил несколько «Золотых глобусов», был выдвинут на «Оскар» по нескольким номинациям. Боб Тауни заслуженно получил награду Американской киноакадемии за лучший сценарий. Так что заметки в газетах читать было приятно, все, кроме одной — интервью с Бобом Эвансом. По его словам, писать музыку я нанял какого-то третьесортного дружка, так что ему пришлось вмешаться и заменить его Голдсмитом. Если мной-де «управлять надлежащим образом», то я гениален, говорил он, но моя беда в том, что меня окружают психопаты и лицемеры, которые мне льстят. «И тогда у него получаются плохие картины, — продолжал Эванс. — Продюсер должен быть крепким, и я крепкий человек».
Больше мы вместе не работали, и отказывался всегда я. Именно воспоминания об этом интервью заставляли меня говорить «нет». Я считал Боба Эванса не просто продюсером, а другом. Уже не в первый раз и уж, конечно, не в последний голливудский опыт оказался для меня горьким.
ГЛАВА 25
Из Голливуда я уехал до завершения работы над «Китайским кварталом* и отнюдь не потому, что разозлился на Боба Эванса. Я должен был ехать в Италию, ставить оперу «Лулу» Альбана Берга на фестивале в Сполето.
После двадцатилетнего перерыва я снова с восторгом работал в театре, сердце у меня начинало учащенно биться от одного запаха грима, к тому же и сам городок был очень красив. Сполето — горное местечко с узкими средневековыми улочками, римским амфитеатром, с очень красивыми театрами XVIII века. Фестиваль здесь — главное событие года, так что задача мне предстояла нелегкая. Я волновался, потому что прежде мне не доводилось ставить оперу, однако был приятно удивлен, обнаружив, что реализовать свои намерения проще на сцене, нежели перед камерой. В этом большая заслуга американского дирижера Кристофера Кина и высокопрофессиональных исполнителей. Меня поразило, сколь высокие требования предъявляются к оперным певцам. Они, в отличие от киноактеров, еще до начала репетиций прекрасно знали свои партии.
Премьера прошла безупречно. Успех принес мне новые приглашения ставить оперы.
Но я не мог зарабатывать себе на жизнь постановкой опер. После успеха «Китайского квартала» на меня посыпались предложения и из Голливуда. Мы с Жераром Брахом приступили к реализации одной из наших давних задумок. Назывался наш проект просто «Пираты» и с самого начала был задуман как приключенческая комедия. В этом жанре я своих сил еще не пробовал. После того как мы столь удачно поработали с Джеком Николсоном, мне хотелось увидеть его в главной роли яростного, но милого пирата Капитана Реда. Для себя же я написал довольно крупную роль лейтенанта Фрога. «Китайский квартал» не только укрепил мои собственные позиции, но и сделал Джека звездой.
Вопросы финансирования я хотел решать вместе с Энди Браунсбергом и Жан-Пьером Руссамом. Однако Энди нашел себе ментора из среды римской аристократии, некоего принца, употреблявшего опиум. Энди тоже начал курить, но потихоньку, так что сначала мы даже ничего не заподозрили. Он стал ленив, потерял интерес к нашим общим делам, у него случались приступы сонливости или раздражительности.
Жан-Пьер Руссам тоже выказывал явные признаки физического и душевного разложения. Под влиянием своей новой подружки он пристрастился к героину. Я пришел в ужас. Столько моих знакомых разрушили себе карьеру, а то и жизнь из-за наркотиков. Стоило Жан-Пьеру появиться в Риме, как я тут же начинал читать ему нотации, убеждать его бросить это дело. Он либо наотрез отказывался, либо смеялся над моими страхами. Я с грустью понял, что о нем как о партнере в работе над «Пиратами» можно забыть.
Ориентировочно «Пираты» должны были обойтись в восемь миллионов долларов, но это меня не сильно беспокоило, потому что, как я считал, после успеха «Китайского квартала» любой продюсер ухватится за дуэт Поланский — Николсон.
И я не ошибся. Все крупные голливудские студии приглашали нас к сотрудничеству. Я выбрал «Парамаунт». Там решили, что «Пиратов» нужно ставить в Штатах. Мы с Энди готовы были перебраться туда, Жерар же предпочел остаться в Европе. С нашим домом в Риме мы распрощались. Теперь, когда там поднимали голову «красные бригады», он больше не был тем раем, что прежде.
«Парамаунт» тоже изменился. Большинство тех, кого я знал, ушли. Атмосфера стала какой-то обезличенной, бюрократической. После пересчета на голливудские расценки картина обходилась в 14 миллионов долларов, что очень не нравилось руководству студии. К тому же им не хотелось, чтобы я был одновременно и режиссером, и исполнителем. Их раздражало и то, что Николсон требует все более и более высоких ставок.
В конце концов я созвал совещание и объявил, что расторгаю контракт. По голливудским стандартам это был на редкость вызывающий жест, хотя, должен признаться, не будь у меня уверенности, что картиной заинтересуется кто-то еще, я бы так не поступил.
И действительно, место «Парамаунта» тут же заняла студия «Юнайтед Артисте». Но и здесь не все шло гладко. Они пересмотрели бюджет, урезали сроки, ужаснулись гонорарам Никол-сона, который требовал уже полтора миллиона. В отчаянии Энди поинтересовался у Джека, чего же тот все-таки хочет. Последовал жесткий и резкий ответ: «Я хочу еще больше».
Руководители «Юнайтед Артисте» тоже возражали против того, чтобы я сам играл в картине. Я попытался заполучить Дастина Хофмана, но тот не пожелал быть второй скрипкой при Николсоне. Меня попросили стать гарантом завершения фильма, то есть взять на себя ответственность за каждый цент, истраченный сверх бюджета, но при этом я не получал обычных в такой ситуации крупных гонораров. В довершение всего агент Джека Николсона потребовал по 50 тысяч долларов за каждый день, который его клиенту придется провести на съемках сверх намеченного срока.
И этот контракт я тоже разорвал. Рухнули наши радужные надежды, возникшие, когда проектом заинтересовались чуть ли не все студии. Последние события меня сильно разочаровали. Нам ничего не оставалось, как отложить «Пиратов» на год и попытаться организовать что-нибудь в Европе.
Я больше не мог сидеть без дела. Вот уже два года я не снимал фильмов, и у меня просто руки чесались. Зная, что студия «Парамаунт» купила права на роман Роланда Топора «Жилец», я предложил им свои услуги. Несколько дней спустя мы с Энди уже направлялись в Париж.
«Жильца» я поставил быстрее всего: с того момента, как я взял в руки роман, и до премьеры прошло всего восемь месяцев. По приезде в Париж я сразу же начал подготовительную работу и одновременно вместе с Жераром Брахом засел за сценарий.
Работа предстояла нелегкая, но я был в восторге оттого, что снова оказался в Париже. Я понял, что здесь мой дом, что здесь я хочу отныне жить. Я подал прошение о предоставлении мне французского гражданства на том основании, что здесь родился.
Я надеялся, что, возможно, Руссам будет сопродюсером «Жильца», но одного взгляда на него было достаточно, чтобы забыть об этой идее. От наркотиков он исхудал, квартира его превратилась в грязный притон. Он лишился своего дела, лишился денег.
Подобрать актеров для «Жильца» не составляло труда. Главную женскую роль получила Изабель Аджани. Я сам сыграл поляка Трелковского, застенчивого банковского клерка, больного шизофренией, которая приводит его к трансвестизму и самоубийству.
Изабель умела работать, обладала потрясающей способностью сконцентрироваться. Иной раз она даже слишком старалась, доводила себя до истерического состояния, и запас слез иссякал прежде, чем я успевал снять соответствующую сцену. Для меня «Жилец» стал очередным доказательством того, как сложно быть одновременно и режиссером, и исполнителем. Когда начинается съемка, уже невозможно контролировать движение камеры, следить за тем, как играют остальные актеры, а приходится полностью отдаваться роли.
Отчасти благодаря слухам, отчасти из-за того, что это был первый фильм, который я снимал во Франции, «Жилец» еще до завершения привлек к себе немало внимания и удостоился приглашения в Канн. Это поставило перед нами почти нечеловечески сложную задачу уложиться в поставленные сроки, но все мы горели желанием успеть.
Все шло хорошо, пока министр культуры не попросил устроить для него неофициальный просмотр. Хотя я и не стремился показывать ему незаконченный вариант, отказаться я не мог. Я был очень раздражен, когда он пришел в сопровождении симпатичного молодого человека. В результате появилась статья во французском еженедельнике «Экспресс», в которой фильм поносили на чем свет стоит. Молодой протеже министра, журналист по профессии, воспользовался возможностью, чтобы набрать очки перед конкурентами.
Еще до показа в Канне к фильму сложилось предвзятое отношение. Я пользовался международной известностью, но во Франции до сих пор оставался фигурой почти мифической. Теперь же, когда я поставил там фильм, я стал жертвой уже наблюдавшегося мной явления. Критики обожают «открывать» таланты. Но, вознеся их до небес, те же критики с не меньшим удовольствием свергают кумиров с пьедесталов, ими же самими воздвигнутых. Все это я испытал на собственной шкуре, когда «Жильца» показывали в Канне в мае 1976 года.
После выхода фильма в прокат последовало несколько резких рецензий. Кассового успеха не было. Один критик писал, что я играю ту же роль, что Катрин Денёв в «Отвращении», но «зрителю все же не хватает Катрин Денёв». Другой утверждал, что я подал прошение о французском гражданстве с целью представлять в Канне «Жильца». Это вообще абсурд. Во-первых, документы были оформлены лишь два месяца спустя. Во-вторых, я мог ставить французский фильм и будучи китайцем.
Во Франции к нему отнеслись по-разному. Зрителю не понравилось, что Аджани играет сварливую женщину, не понравилась смесь французских и американских актеров, да и сама история тоже не понравилась. Последнее остается на моей совести. Оглядываясь назад, я понимаю, что безумие Трелковского выявляется недостаточно постепенно, что галлюцинации возникают слишком неожиданно. Где-то посередине фильма происходит неприемлемое изменение тональности. Даже утонченные киноманы не любят смешения жанров. Трагедия должна оставаться трагедией. Комедия же, если она переходит в драму, почти всегда обречена на провал.
Холодный прием, оказанный «Жильцу», отбил у меня охоту немедленно браться за новый фильм. Да и в любом случае я должен был заниматься театральной постановкой, о которой договорился в Сполето в 1974 году. Баварская Штаатсопер пригласила меня ставить «Риголетто» в Мюнхене.
Хотя некоторых пуристов и возмутило, что «Риголетто» поручили ставить какому-то кинорежиссеру, их выпады в прессе не помешали поклонникам оперы выстраиваться в длинные очереди за билетами.
В то же время в Мюнхене проходила неделя моды. Город кишел манекенщицами со всех концов света, особенно много их было в моем отеле.
Как-то немецкий репортер пригласил меня в ресторан вместе с двумя девушками. Обе были молоды и очень красивы. Одна была как-то странно одета. Я поинтересовался, как ее зовут. «Друзья называют меня Настя», — сказала она.
По-английски она изъяснялась с трудом, я же вообще не говорил по-немецки. Ночью, после множества дискотек, все мы вчетвером оказались у меня в номере. Оставив Настю с репортером, я повел блондинку к себе в спальню. Когда я вернулся, репортер исчез. Настя дремала в кресле в гостиной. Я взял ее за руку и отвел в спальню.
Втроем мы больше сексом не занимались, хотя я часто встречался и с той, и с другой девушкой. Настя же интересовалась мной все больше и больше. И косметика, и прически, и наряды — все у нее было чудное. Она была очень сдержанна и недоступна. Этакий одинокий волк. Однако как-то раз, сидя напротив нее в мюнхенском баре и изучая ее лицо, я кое-что понял. Внешность у Настасьи Кински была уникальна. Если существует такая вещь, как «звездность», она ею обладала.
Настасья познакомила меня с матерью, которая завела разговор о карьере дочери. Та уже снялась в паре непримечательных картин. Настасья, конечно же, обладала внешностью, гарантирующей успех в кино, но создавалось впечатление, будто все, включая карьеру, ей безразлично. Не понимала она и того, сколь важно хорошо владеть английским, чтобы сделать международную карьеру. Я заявил, что ей необходимо пойти в театральную школу, но прежде надо решить проблему с английским. Я сказал, что пока живу в Париже, могу предоставить в ее распоряжение свой лондонский дом. Реакция ее матери застала меня врасплох. «Я не могу отпустить ее одну, она еще слишком молода». Вот тогда-то я впервые узнал, сколько ей лет на самом деле. Ей было всего пятнадцать.
За три месяца, что я провел в Мюнхене, мы не раз занимались любовью. Настасья была странной девушкой. Она предпочитала, чтобы мужчины держались от нее на расстоянии, терпеть не могла, когда они ухаживали или бегали за ней. Она была хладнокровной, самостоятельной, наблюдательной, быстро замечала слабые места у других, отличалась едким юмором и необыкновенной зрелостью для своих лет. В день, когда мы встретились, я подумал, что она на пару лет старше своей подруги, которой было семнадцать.
В Мюнхене, я начал работу над несколько необычным проектом. Французский журнал Vogue пригласил меня редактировать рождественский номер 1976 года — честь, от которой не отказываются. До меня такого приглашения удостаивались Хичкок, Феллини, Марлен Дитрих и Сальвадор Дали. Сотрудничество с Vogue было столь престижно, что многие манекенщицы и фотографы рады были поработать для журнала чуть ли не задаром. Я знал, что деньги получу чисто номинальные.
Я начал курсировать между Мюнхеном и Парижем по делам Vogue. Я отвечал за текст, фотографии и общий вид номера. Кроме того, мне нужно было подготовить серию фотографий на экзотическом фоне для рекламы дорогих безделушек. Я остановился на теме «Пиратов», а местом решил выбрать Сейшельские острова.
— Кто будет фотомоделью? — поинтересовался редактор Робер Кайе.
— Этого имени вы еще не слышали, — ответил я. — Настасья Кински.
Сейшельские острова стали кульминацией в нашей с Настасьей идиллии. Мы жили там, будто дикари, о которых, правда, прекрасно заботились. Праслен — тропический рай в миниатюре. Там мы и обосновались в маленьком отеле, которым владел француз. В конце рабочего дня он ставил для нас на пляже плетеные столы и угощал свежевыловленной жареной рыбой и ледяным шампанским.
Хотя мы с Настасьей не рекламировали наши отношения, скрыть их было невозможно. Настасья много времени проводила в одиночестве, бродила по серебристым пескам или просто глядела на море, но с течением времени становилась менее замкнутой, более общительной. Думаю, ей запомнилось то время, что мы провели вместе на Праслене. Мне, по крайней мере, запомнилось.
На Сейшельских островах Гарри Бенсону, прирожденному комику, пришла в голову мысль сфотографировать меня, зарытым по шею в песок, когда на меня будут накатываться волны прилива. Такова была популярная среди пиратов прошлых времен форма казни. Я тоже разделял всеобщее мнение, что подобная фотография будет прекрасно смотреться на обложке, так что в нужный момент я забрался в яму, и меня засыпали. Гарри самозабвенно щелкал затвором, пока на меня набегали волны. «Хватит!» — выкрикнул я.
— Еще только один кадрик! — умолял Гарри.
Вода быстро прибывала. Когда Гарри объявил, что удовлетворен, вся наша команда, стоявшая рядом с лопатами, бросилась меня откапывать. Они откопали меня по грудь, по пояс, по бедра. Мне оставалось лишь выйти из ямы, но я не мог. Как только на меня набегала волна, я чувствовал, что могу освободиться, но как только она откатывалась, мои ноги снова засасывало в песок. Глупо будет вот так вот умереть, подумал я.
Все решили, что я паясничаю. Потом начали лихорадочно меня откапывать. Наконец, я напряг каждый мускул и все же сумел вырваться.
Я не был в Польше пятнадцать лет. Рождество 1976 года мне захотелось провести в Кракове вместе с отцом и Вандой. Хотя я, наконец, получил новое гражданство, мне совершенно не хотелось размахивать перед ними своим французским паспортом.
Ванда с отцом тепло встретили меня, а потом я совершил ностальгическое путешествие по Кракову. Я чувствовал себя, будто Рип Ван Винкль. Город был таким знакомым — каждая дверь, витрина магазина, кафе вызывали поток воспоминаний. Но город был и совершенно чужим. Черные изъеденные фасады крошились, целые улицы были оцеплены в целях безопасности. Мой любимый Краков разрушали алюминиевый и сталелитейные заводы Новой Гуты. Ужасающие кислотные выбросы разъедали прекрасные здания эпохи Ренессанса, разрушали неповторимые витражи костелов.
Петр Скрынецкий руководил теперь сатирическим кабаре. Биллизанка все еще работала в местном театре. Ренек Новак, как обычно, метался между второстепенными театральными и киноролями. Митек Путек, чьи родители ненадолго приютили меня, прежде чем отправить к Бухалам в Высоку, был теперь капитаном полиции.
После Рождества я вернулся в Гштаад. Ставить оперы, издавать модные журналы, совершать сентиментальные путешествия — все это здорово, но вот деньги, полученные после «Китайского квартала», быстро иссякали, а «Жилец» не особенно способствовал тому, чтобы поправить мое финансовое положение. Мой новый агент Сью Менгерс устроила мне контракт с «Коламбия Пикчерс» на экранизацию триллера Лоренса Сандерса «Первый смертный грех» за 600 тысяч долларов.
Оказалось, что экранизировать книгу труднее, чем я полагал. События в ней развивались стремительно, но роман не был лишен слабостей как в сюжете, так и в характеристике персонажей, которые не бросались в глаза в печатном издании, но вылезут на экране. В книге рассказывалось о руководителе издательства, который под воздействием темных сил превращается в убийцу и бродит по улицам Манхэттена, размахивая ледорубом. Многое построено на процедуре оформления задержания (убийцу дважды задерживают за мелкое хулиганство, но потом отпускают) и на том, как в нью-йоркской полиции ведется учет. Мне
необходимо было знать, как работает нью-йоркский полицейский участок, как оформляют задержания, как детективы производят арест и описывают десятки тысяч вещественных доказательств по делам об убийствах.
ГЛАВА 26
Все неприятности начались с рождественского номера Vogue.
Я чуть не утонул и, как выяснилось, зря. На обложке так и не появилось фотографии, где я по шею закопан в песок. В последний момент Робер Кайе решил, что шикарнее будет сделать простую обложку цвета морской волны с заголовком «Vogue Романа Поланского». Судя по тому, каким успехом пользовался номер, который сразу стал раритетом, он не ошибся.
Джеральд Азариа, редактор журнала Vogue hommes, надоедал мне, упрашивая дать интервью. Я взамен предложил ему сделать серию фотографий девушек — сексуальных, дерзких, очень человечных. У меня как раз снова проснулся интерес к фотографии. Азариа сразу же за это ухватился.
Перед самым моим отъездом в Лос-Анджелес ко мне заглянул Анри Сера, брат Саймона Хессеры. Он сказал, что у него как раз есть на примете подходящая для меня девушка — сестра его подружки. Сандра была очень хорошенькой, мечтала стать манекенщицей, уже снялась в нескольких рекламных роликах на телевидении.
Анри говорил, что девушки вместе со своей матерью Джейн живут в Сан-Фернандо-Вэлли, и дал мне их телефон.
В Лос-Анджелесе ко мне присоединился Херкьюлес Белвилл.
В отеле «Беверли Уилшир», где я остановился, меня навестил Ибрагим Мусса, агент, которого я знал еще в Риме. Ему очень понравились фотографии Настасьи в Vogue, и он тут же захотел заключить с ней контракт. Его не смутило, что ей нужно изучать и актерское искусство, и английский, так что мы решили вместе финансировать ее переезд вместе с матерью в Лос-Анджелес и расходы на экспресс-курс по английскому языку. Я выхлопотал для нее стипендию в Институте Ли Страсберга в обмен на лекцию, которую там прочитал.
Прошло несколько дней, прежде чем я позвонил по номеру, оставленному мне Анри Сера. Мне ответила Джейн, мать Сандры. На следующий же день, в воскресенье, я отправился в Сан-Фернандо-Вэлли.
После восторженных слов Анри Сера Сандра меня разочаровала. Она была примерно одного роста со мной, тоненькая, довольно изящная, с неожиданно хриплым голоском. Она была хорошенькая, но не более того.
Мы назначили время для съемок. Когда я вновь появился у них в доме, посреди комнаты стояла круглая вешалка со всевозможными нарядами. Сандра в джинсах внимательно следила, как я отбирал наряды.
Сложив вещи в машину, мы отправились на холмы, которые начинались сразу за домом. Вскоре я понял, что вне дома, без Джейн и ее любовника Боба Сандра была совершенно другой, оживленной, разговорчивой. Неподалеку на мотоциклах носились мальчишки. Сандра сказала, что знает кое-кого из них.
Я попросил ее переодеться. Она сняла блузку и взяла другую. Лифчика на ней не было, но чувствовала она себя совершенно спокойно и ничуть не смущалась. Грудь у нее была красивая. Я снимал, как она переодевается, снимал ее без блузки. Мотоциклисты столпились ярдах в двадцати-тридцати и глазели, разинув рты. Я подумал, ей бы лучше опять надеть блузку. «Они меня не волнуют», — заявила она. Я настоял, считая, что это деланное безразличие - попытка казаться более опытной и зрелой, чем она есть на самом деле.
Через несколько дней я полетел в Нью-Йорк. Представители «Коламбия Пикчерс» договорились, чтобы мне разрешили провести некоторое время вместе с двумя полицейскими — Эланом Гудменом и Лу Пересом. Они оказались честными, прямыми людьми и оказали мне огромную помощь, отвели в «тяжелый» участок посмотреть, как оформляется задержание, отвечали на мои бесконечные вопросы о том, как ведется расследование убийств. Элан и Лу знали мои фильмы, их общество оказалось приятным. Мы часами разговаривали в разных ресторанах. Но куда бы мы ни отправились, я замечал, что они инстинктивно занимают места спиной к стене и лицом ко входу.
Вернувшись в Лос-Анджелес, я позвонил Сандре и извинился за свое отсутствие.
Когда мы собирали веши для следующих съемок, я попросил ее взять самые узкие свои джинсы. Сандра захотела взглянуть на фотографии, которые я сделал в прошлый раз. Я сказал, что покажу их ей позже.
В машине я протянул ей слайды и сказал, что если ей что-то не понравится, достаточно просто отложить их в сторону.
В дороге мы разговорились. Она рассказала мне о своей семье, о своем парне, о школе.
Я поинтересовался, когда она впервые занималась сексом. - В восемь лет.
Это меня потрясло. Я взглянул на нее, желая убедиться, что она говорит серьезно. Она не шутила. - А с кем?
- Да просто мальчик с улицы. В этом возрасте даже не понимаешь толком, что происходит.
Говорила она абсолютно небрежно. Эта тема явно не имела для нее большого значения. Я припарковал машину перед домом Джека Николсона. Дверь открыла Хелена. Я представил Сандру, которая отправилась осматривать дом. Я поинтересовался, где Анжелика Хьюстон, подружка Джека. Хелена сказала, что та скоро придет. Хелена тоже работала над сценарием, так что мы обсудили друг с другом наши проблемы и сошлись на том, что тяжелее всего писать финал.
Появилась Сандра и попросила чего-нибудь выпить. В холодильнике я нашел бутылку хорошего французского шампанского «Кристалл». Мы выпили все втроем.
Внимание Сандры привлекла шикарная сауна джакузи, и она сказала, что с удовольствием опробовала бы ее.
— Потом, сначала продолжим фотографироваться, — сказал я.
Я фотографировал ее на фоне окна, потом попросил снять блузку. Она не возражала. Я сделал несколько ее снимков с бокалом шампанского в руке.
Я попросил ее переодеться. Она выбрала Длинное мягкое платье с капюшоном, принадлежавшее сестре. Пока я на коленях возился с камерой, она сняла джинсы. Я не собирался пялиться на нее, пока она переодевалась, но и не заметить ее наготы, когда она надевала платье, тоже не мог. Теперь мы говорили мало, и я ощущал возникшее между нами эротическое напряжение. Мы перешли на кухню, где я сфотографировал ее сидящей на столе и облизывающей кубик льда или откусывающей кусочек сахара.
Прежде чем фотографировать Сандру в джакузи, я решил позвонить Джейн. Съемки затягивались дольше, чем я предполагал. Если Джейн будет недовольна и захочет, чтобы девушка сразу же вернулась, я просто отвезу ее Домой. Ну а если нет, тем лучше.
По телефону Сандра говорила с матерью совершенно спокойно. Она сказала, что мы в доме Джека Николсона, что сделали уже много снимков, а сейчас она как раз собирается опробовать его сауну. Здесь я взял трубку и спросил: «Ничего, если Сандра опоздает к обеду?» Джейн сказала, что на обед все равно нет ничего особенного.
Сандра разделась и залезла в джакузи, а я пошел за фотоаппаратом. Когда я начал фотографировать, вода доходила ей до талии. «Горячо», — сказала она. Я попробовал воду пальцем. Вода действительно была горячая, но Сандра вскоре привыкла. Она стала двигаться в воде, сказала, что ей нравится, потом села так, что вода лилась прямо ей на голову. С мокрыми волосами вид у нее был не из лучших.
Стало слишком темно, и я отложил фотоаппарат. «А ты разве не залезешь?» — удивилась она.
Я сказал, что для меня слишком горячо, лучше поплавать. Пару раз я проплыл бассейн из конца в конец и остановился напротив джакузи. Сандра как-то странно смотрела на меня. Она сказала, что не слишком хорошо себя чувствует.
— В чем дело? — спросил я.
Она ответила, что у нее разыгралась астма.
— Я не знал, что у тебя астма.
Я спросил, взяла ли она что-нибудь с собой — ингалятор или еще там что-нибудь. Она ничего не захватила.
— Не стоит так долго сидеть в пару, особенно, если у тебя астма. Иди лучше в бассейн, — посоветовал я.
Она вылезла из джакузи и направилась к бассейну. Попробовав воду одной ногой, она сказала, что ей слишком холодно. «Лучше я немного отдохну, а то как бы мне в обморок не грохнуться», — сказала она. Я поинтересовался, что мне делать, если она потеряет сознание. Она бросила что-то насчет искусственного дыхания. Я последовал за ней в дом.
Мы помогли друг другу вытереться. Она сказала, что ей лучше. Очень нежно я принялся ее целовать. Спустя некоторое время я отвел ее к дивану.
Не оставалось сомнения в том, что опыта Сандре было не занимать, да и стеснительной ее тоже не назовешь. Она раздвинула ноги, и я проник внутрь. Она мне ответила. И все же, когда я спросил ее, приятно ли ей, она отделалась своим любимым «нормально».
Пока мы все еще занимались любовью, я услышал, как подъехала машина. Потом она будто бы проехала дальше, так что мы продолжили.
Вдруг Сандра замерла. На телефонном аппарате загорелась лампочка, что означало, что в другой комнате кто-то звонит.
«Анжелика?» — крикнул я. Та откликнулась, не прерывая разговора. Судя по голосу, она была в гостиной. Сандра быстро оделась и отправилась собирать веши. Чувствуя себя неудобно в присутствии Анжелики, она пошла в машину. Я последовал за ней, по дороге представив ее и знаками показав, что еще вернусь. Сандра сидела в машине. Возвращаться она не желала. Я чувствовал, что должен еще раз зайти в дом. Когда Анжелика кончила разговаривать, я объяснил, что мы фотографировались и плавали. Я ничего не сказал о том, что мы занимались любовью, хотя, пожалуй, это было очевидно. На обратном пути Сандра много говорила. Она рассказала, что берет уроки игры на гитаре, рассказала о своем преподавателе драмы. Они как раз изучали «Сон в летнюю ночь». Я с трудом сдержался, чтобы не поморщиться, когда она начала декламировать Шекспира.
Мы доехали примерно за полчаса. Сандра влетела в дом первой. Джейн была в коридоре. Я сказал, что ничего не знал про астму. Она отмахнулась, что, мол, нечего беспокоиться. В гостиной сидел Боб, и я показал всем слайды.
Хотя они мало говорили, я почувствовал, что их отношение ко мне переменилось. Они явно были уже не так дружелюбно настроены. Заезжая за Сандрой, я ничего такого не заметил, но, с другой стороны, у меня и времени-то толком не было. Что бы ни явилось причиной перемены, я подумал, что мои фотографии тут ни при чем. Слайды вроде бы им понравились. Вечером мне позвонил Анри Сера. Он разговаривал с Джейн по телефону, та была в ярости. По ее мнению, снимки были ужасны. Я растерялся. Два часа назад она ничего подобного не говорила. Я попросил Анри приехать и взглянуть самому.
При встрече он почему-то нервничал. Я спросил, в чем дело, но он ничего определенного не ответил, а только посмотрел слайды. Ему они очень понравились. «Если Джейн и Бобу они не по душе, я сверну все это дело», — сказал я.
На следующий день мы с друзьями собирались идти в театр. В холле гостиницы ко мне подошел человек и показал полицейский значок. — Мистер Поланский? — спокойно начал он. — Я из полиции Лос-Анджелеса. У меня ордер на ваш арест.
ГЛАВА 27
— Мне бы не хотелось шумихи, — продолжил он. — Можем мы где-то спокойно побеседовать?
— Конечно, — ответил я, все еще не понимая, в чем дело. Полицейский был не один. Я поинтересовался, в чем меня обвиняют. Он ответил так тихо, что я разобрал одно лишь слово «изнасилование».
— Изнасилование? — в ужасе повторил я. Забыв обо всем, что я узнал в нью-йоркской полиции, я спросил, могу ли я позвонить своему адвокату.
— Простите, но бумаги еще не оформлены. Давайте поднимемся в комнату, у нас ордер на обыск.
Говорил он спокойно, без тени враждебности. У меня в номере сидел Херкьюлес.
— У меня неприятности, — сказал я. — У этих джентльменов ордер на мой арест.
Вывести его из равновесия очень нелегко, но я почти достиг успеха.
Мой номер обыскали. Мне напомнили о моих правах.
После уроков Гудмена и Переса я и так знал их наизусть. У меня было ощущение dйjа vu , я будто попал внутрь собственного фильма.
Упомянули про Сандру и Джейн. От меня не требовалось никаких заявлений, но меня спросили, знаю ли я, как могла возникнуть подобная жалоба.
Я честно сказал, что не имею ни малейшего представления. Я никак не мог связать то, что произошло накануне, со словом «изнасилование». Сказал, что знаком с Джейн и ее дочерью, описал свои посещения их дома и наши фотографические сеансы. Мне казалось, что подробное изложение обстоятельств оправдает меня.
Мне сообщили, что есть ордер и на обыск дома Джека Николсона, и предложили присутствовать. Я согласился.
Мы подъехали к воротам и позвонили, но ответа не последовало. Заставив поволноваться своих сопровождающих, я выскочил из машины и, перемахнув через забор, открыл ворота изнутри. Мы подъехали к дому Джека. Из окна высунулась Анжелика. Позднее я узнал, что они с Джеком как раз порвали отношения и она оказалась в доме случайно.
При обыске в ее сумочке нашли кокаин. В спальне в тумбочке обнаружили еще немного травки. Меня спросили, были ли мы с Сандрой в спальне. Я ответил, что нет.
В полицейском участке оформили мое задержание. Документы заполнял сержант в форме, сидевший за решеткой. Я уже видел, как это происходит с другими, и вот теперь это происходило со мной.
У меня взяли отпечатки пальцев, потом предложили кофе. «Нет, только глоток воды», — попросил я. Вот теперь пришло время звонить адвокату. Я позвонил Уолли Вулфу. Хотя была половина второго ночи, он не удивился, услышав мой голос. Потом я узнал, что один из тех, с кем я должен был идти в театр, уже звонил ему.
Уолли появился вместе со своим другом телепродюсером. Поскольку он не был адвокатом по уголовным делам, у него не было человека, к которому он мог сразу обратиться за деньгами. Своему другу он позвонил как раз потому, что тот всегда держал дома наличные. Залог был внесен в сумме двух с половиной тысяч долларов. Как только Уолли передал деньги, меня отпустили.
Я сел в машину Уолли, и мы направились в «Беверли Уилшир». Уолли включил радио. Все радиостанции сообщали о моем аресте за изнасилование. «В отеле будет полно газетчиков», — сказал Уолли. Мы развернулись и поехали к дому Мориса Азули. Мой мир рушился. Всю оставшуюся часть ночи я обсуждал ситуацию с Морисом. Он как мог успокаивал меня, но я понимал, что здорово влип.
Мне нужен был юрист по уголовным делам. В воскресенье Уолли Вулф отвез меня к человеку, который согласился представлять мои интересы. В последующие недели я хорошо узнал Дагласа Долтона, стал ценить его и как человека, и как профессионала. В первый же раз он не произвел на меня впечатления слишком доброго и веселого человека.
Когда мы втроем обсуждали обстоятельства дела, я, наконец, осознал масштабы катастрофы и ужаснулся. Я никак не мог с этим смириться. Ничто в жизни не подготовило меня к тому, что я окажусь преступником. Я будто узнал, что стал жертвой смертельного, но медленно прогрессирующего заболевания, от которого не будет легкого избавления. И тем не менее я был благодарен Долтону за то, что он изложил мне, как именно скорее всего будут развиваться события: обвинение, большое жюри присяжных, обвинительный акт, суд. Мне теперь было на чем сосредоточиться. Основываясь на собственном опыте ведения подобных дел, Долгой посоветовал продолжать работать, как прежде, и ни с кем не обсуждать происшедшее. Вполне возможно, что за мной установят наблюдение.
Следующие две недели я никуда носа не высовывал от Мориса Азули. Ни о чем, кроме того, что меня ждет, я думать не мог, но мне все же нужно было закончить сценарий. В те первые недели после ареста я большую часть времени проводил дома, выходил лишь для пробежек или звонков по телефону-автомату на случай, если в доме телефон прослушивался.
Мое обвинение проходило в суде Лос-Анджелеса. Туда нагрянула целая армия репортеров. Сам процесс обвинения длился лишь несколько минут. Помню, судья хриплым голосом что-то говорил в микрофон. Для меня все прошло, как в тумане. Дагу Долтону даже пришлось потом рассказать мне, что именно там происходило. Судья приписал мое дело к суду Санта-Моники. Большое жюри присяжных должно было состояться 24 марта. Поскольку это чисто американское изобретение, Долтону пришлось объяснить мне, что оно означает. Я узнал, что присяжным должны быть представлены доказательства и показания свидетелей и что окружной прокурор должен убедить их, что у него достаточно оснований требовать надо мной суда. Подробности заседания станут известны лишь защите.
Главным свидетелем на этом слушании, естественно, была Сандра. Она показала, что перед тем как заняться с ней сексом, я дал ей кваалюд (галлюциноген). Сандра признала, что до этого уже дважды занималась сексом и один раз пробовала кваалюд. На сей же раз, заявила она, у нее от кваалюда кружилась голова, и она симулировала приступ астмы, чтобы я отвез ее домой.
Большое жюри обвинило меня по шести пунктам: спаивание несовершеннолетней, совершение распутного действия, незаконные половые сношения, извращение, педофилия, изнасилование при помощи воздействия наркотиков. Но как сказал Долтон, мы теперь знаем, с чем нам предстоит бороться. Без свидетельских показаний Анжелики Хьюстон позиция у окружного прокурора весьма шаткая. Через несколько дней мы узнали, что с Анжелики сняли все обвинения в хранении наркотиков взамен дачи свидетельских показаний в пользу обвинения. В общем-то, я не могу винить ее, хотя горькое чувство осталось.
На заседании выяснилось, что Сандра имитировала приступ астмы. Астмы у нее в жизни не было. Чтобы ее не разоблачили, она по возвращении первой вбежала в дом и попросила мать подтвердить, что у нее астма, если кто вдруг спросит. До сих пор не могу понять, зачем она это сделала.
Я очень надеялся, что если дело дойдет до суда, то выяснятся все подробности. Я знал, что не напоил Сандру, что когда мы уходили, бутылка шампанского была лишь наполовину пуста. Оживленное поведение Сандры по дороге домой свидетельствовало, что она не находилась ни в состоянии опьянения, ни под воздействием наркотиков. Если верить тому, что она мне рассказывала, ее сексуальный опыт сильно отличался от того, что она поведала большому жюри присяжных.
Я стал парией. «Мы не потерпим насильника в своем агентстве», — говорила Сью Менгерс. Позднее она изменила свое мнение, но в те дни его разделяла большая часть Голливуда. Только настоящие друзья не отступились от меня.
Я даже бегать больше не мог — боялся, что меня узнают.
В начале апреля, когда интерес к делу немного угас, я перебрался в «Шато Мармон», начал ходить в рестораны и в гости, хотя понимал, что чаще всего меня приглашали из любопытства. За одну ночь я пересек черту, разделяющую порядочных людей и подонков. Я воображал себе разные катастрофы, но такого никогда не мог себе представить: что меня сажают в тюрьму, моя жизнь и карьера рушатся, и все из-за того, что я занимался любовью.
Психологически же я был на стороне закона и порядка. Я испытывал большое уважение к американским институтам и считал США единственной по-настоящему демократической страной в мире. Теперь же из-за того, что в какой-то миг я не сдержался, я поставил под угрозу свою свободу и будущее в стране, имевшей для меня самое большое значение. Иногда мне казалось, что ничего этого на самом деле не происходит, что это дурной сон. Но газетные заголовки, ощутимое изменение в отношении ко мне многих знакомых, отказ «Коламбия Пикчерс» от работы над «Первым смертным грехом» — все это говорило о том, что мои проблемы вполне реальны.
В первый раз я предстал перед судьей Санта-Моники Лоренсом Риттенбэндом 15 апреля. Телевизионщики, фотографы, репортеры набросились на меня, как дикие звери. Были в суде в тот день и ученицы средней школы. С не меньшим рвением они бросались на меня в погоне за автографами. Произошло смехотворное сражение, когда девочки подрались с репортерами за места. Мне официально предъявили обвинение по всем шести пунктам, я не признал себя виновным, после чего мне снова разрешили выйти под залог.
Когда я позвонил Азариа, тому самому, который выпрашивал у меня интервью и уговаривал взяться за то самое задание, из-за которого я теперь попал в беду, он отказался подойти к телефону. Я обратился к Роберу Кайе, но тот ответил: «У вас с Азариа не было никакого письменного соглашения». Да, действительно не было. На редактуру рождественского номера Vogue тоже не было почти до тех пор, пока он не появился в киосках.
Я понял, что меня предали. Пришлось отступить.
Вскоре Настасья с матерью прилетела в Лос-Анджелес. Ибрагим Мусса, как мы и договаривались, подписал с ней контракт, и мы поделили расходы. Она сразу же начала заниматься английским и поступила в Институт Ли Страсберга. Приятно было снова ее увидеть. Хотя мы больше не были любовниками, дружеские отношения между нами сохранились. Несмотря на то, что я чувствовал себя по отношению к ней, как старший брат, Долтон предупредил, что мы не должны оставаться наедине в гостиничном номере. Я понимал, что за мной постоянно следит пресса и, возможно, власти.
Долтон не был уверен, как лучше поступить: настаивать ли на суде или согласиться с приговором. Он считал, что если часть обвинений будет снята, лучше признать себя виновным и согласиться с приговором. Если же снять наиболее тяжкие обвинения не удастся, мне лучше предстать перед судом.
Появление Сандры в суде развеет всякие легенды насчет того, что она похожа на тринадцатилетнюю девочку. Всем присутствующим станет ясно, что она физически зрелая девушка, которой легко можно было бы дать восемнадцать. Судья даже опасался, что скоро она вырастет выше меня.
В последующие недели после нескольких совещаний с адвокатами Сандры было решено принять приговор и отказаться от наиболее тяжких обвинений. Если подвергнуть Сандру перекрестному допросу, то выявившиеся факты могут пагубно сказаться на ее будущем. Если же Сандра вообще не появится в зале суда, то дело просто придется закрыть.
Мне тоже не хотелось, чтобы девушка выступала на суде. Дело было не только в том, что, признав себя виновным, я мог отделаться более мягким приговором. Я понимал, что и так уже причинил девочке достаточно вреда.
Если с меня будут сняты наиболее серьезные обвинения, то мне скорее всего не придется садиться в тюрьму. Даже если мне и придется немного отсидеть, то скорее всего меня не вышлют из страны за моральное разложение. Это имело огромное значение, потому что мне хотелось жить и работать в США.
Я услышал первые хорошие новости. Взвесив все «за» и «против», Дино Де Лаурентис решил предложить мне сделать римейк «Урагана». Благодаря Сью Менгерс я получил миллионный контракт — самый крупный на сегодняшний день. Это было приятное событие. После того как рухнуло соглашение с «Коламбией», я ломал голову над тем, как свести концы с концами. Мои расходы на адвокатов быстро росли.
Уже работая во Франции над сценарием, я получил и неприятные известия. Судья Риттенбэнд, холостяк преклонных лет, очень высоко ценил свои светские связи в Голливуде и мнение своих друзей по элитному клубу, членом которого был. Он, не стесняясь, обсуждал в клубе мое дело. По мнению же клубных завсегдатаев, я был ничуть не лучше обычного растлителя малолетних. Оказалось, что для судьи очень важно, чтобы о нем хорошо отзывались в газетах.
Мне хотелось, чтобы главную женскую роль в «Урагане» сыграла Настасья. Хотя Дино и был в восторге от ее внешности, он сомневался, успеет ли она до начала съемок в достаточной мере овладеть английским. Муссе, в свою очередь, не терпелось ее пристроить, и он организовал ей контракт на съемки в немецком фильме. Деньги были хорошие, но сама по себе картина ничего особенного не представляла и могла лишь повредить ее карьере.
8 августа была восьмая годовщина смерти Шэрон. Я пошел положить цветы на ее могилу. Когда я опустился на колени на пустынном кладбище, из-за кустов выпрыгнул какой-то тип и начал делать фотографии. В тишине щелчки затвора прозвучали, будто автоматная очередь. Я развернулся и ушел. Фотограф тоже. Но зрелище того, как он небрежно удаляется, превратило мое отвращение и боль в ярость. Я нагнал его и потребовал пленку.
— Я не виноват, — сказал он. — Редакторы требуют от нас подобных фотографий.
Он говорил с сильным немецким акцентом.
— Понятно, ты просто выполнял приказ.
Я сорвал у него с шеи фотоаппарат и, вынув пленку, оставил камеру у кладбищенского служителя. Репортер тут же отправился в полицию с жалобой на ограбление. Его претензии были отвергнуты.
Состоявшееся 9 августа слушание по моему делу имело решающее значение. Суда все-таки не будет. Пять из шести обвинений были сняты, осталась лишь формулировка о «незаконном половом сношении», что необязательно является уголовным преступлением. Я признал себя виновным.
Вынесение приговора было назначено на сентябрь. Из-за того, что в тот злополучный день Сандре еще не было четырнадцати (четырнадцать лет ей исполнялось через три недели), по закону требовалось психиатрическое освидетельствование с целью установить, не являюсь ли я сексуальным маньяком. Оно должно было проводиться двумя психиатрами, одним — со стороны защиты, другим — обвинения. На основании их выводов, бесед с Сандрой и ее матерью было рекомендовано приговорить меня к штрафу и отпустить на поруки.
Риттенбэнд назначил вынесение приговора на 19 сентября. Но ему хотелось, чтобы до тех пор я все же провел некоторое время в тюрьме. Необходима якобы психиатрическая диагностика в условиях тюремного заключения. Максимальный срок такого обследования — девяносто дней, но обычно оно не длится больше пятидесяти. После этого судья намеревался отпустить меня на поруки.
Узнав об этом, я сразу же поставил в известность Дино и предложил разорвать наш контракт по поводу «Урагана». Он сказал, что, во-первых, мне могут дать отсрочку для завершения предварительного этапа работы, а во-вторых, съемки можно отложить на пятьдесят дней, пока я буду сидеть в тюрьме.
Меня направили на обследование в Калифорнийский институт в Чино, но дали отсрочку на девяносто дней.
Я отправился на остров Бора-Бора завершать подготовительный этап. Для меня в моем положении это было, наверное, идеальное место. Там почти не было газетчиков; кроме работы, заниматься было практически нечем. До последних дней своего пребывания на острове я вел уединенный образ жизни, но перед самым отъездом познакомился с потрясающе красивой таитянкой. К несчастью, наш идиллический уик-энд был последним для меня на этом острове.
В Лос-Анджелес я вернулся сравнительно бодрым. Я решил явиться в Чино на два дня раньше срока, чтобы избежать присутствия прессы. Накануне Том Ричардсон устроил для меня прощальный ужин. Я, понятно, жутко боялся, но старался не подавать виду. А пока мы праздновали, газетчики и телевизионщики устраивались поудобнее вокруг тюрьмы, готовясь к ночному бдению. Подозреваю, что их предупредил судья Риттенбэнд.
ГЛАВА 28
Я надеялся, что мое прибытие в Чино пройдет незамеченным, но у приемной собралась толпа репортеров и фотографов. Они последовали за мной внутрь, отталкивая Долтона, который держал судебное предписание над головой, чтобы его не вырвали у него из рук. Это шествие окончательно доконало меня. Я пытался держаться молодцом, но сил у меня уже не было. Я растерялся, меня переполняли дурные предчувствия, я понятия не имел, что меня ждет.
Единственное, что я помню, — это хаос. Тюремная охрана пыталась удержать прессу на расстоянии, искали какие-то бумаги. Помню, как я распрощался со своими адвокатами, как меня вывели через заднюю дверь и посадили в машину. Спереди расположились два охранника в форме. Один из них обратился ко мне сквозь решетку. «Ну и влип же ты!» Не знаю, имел ли он в виду прессу или то, что я отправлялся в Чино.
Мы подъехали к сооружению, напоминавшему стадион. «Футбольное поле» окружало двухэтажное здание. Во дворе отдыхали заключенные. Пока я, словно в тумане, проходил по двору, они кричали мне «Привет, Поланский! Эй, Поланский! Как дела?» Репортаж о моем прибытии в Чино транслировался по телевидению в живом эфире, и его все смотрели.
Получилось так, что я явился в тюрьму прямо с телеэкрана.
От первых часов в Чино у меня остался лишь калейдоскоп впечатлений. Я ничего не мог толком понять, не знал, как себя вести. Тощий заключенный в синем отвел меня к стойке, где кладовщик забрал мою одежду и выдал тюремную униформу. Ботинки он вернул — у него кончилась тюремная обувь моего размера. Другой заключенный повесил мне на шею табличку, на которой значился номер, фамилия и дата прибытия. Потом он включил свет и сфотографировал меня. Третий стал брать у меня отпечатки пальцев, но так перепачкал нас обоих чернилами, что надзиратель сам взялся за дело.
На протяжении всей этой процедуры (а оформление заняло больше часа) мне беспрестанно давали «ценные» советы и наставления.
Когда меня вели к камерам, двор уже опустел. Мне выдали мыло, туалетную бумагу и тюремный устав, а затем проводили по коридору с металлическими дверьми по обеим сторонам. Охранник открыл одну из них, жестом велел мне войти внутрь и захлопнул дверь за моей спиной. Я оказался один в маленькой бетонной камере, которую заполняли звуки рок-н-ролла, передававшегося по радио. Я стоял и думал, сколько смогу выдержать, если музыка беспрерывно будет бить мне в уши.
Я осмотрелся. В камере, выкрашенной в нежно-голубой цвет, была узкая металлическая койка с тоненьким матрасом. Были краны с горячей и холодной водой, над раковиной висело на удивление большое зеркало Рядом находился толчок. Над койкой — окошко, причем каждый кусочек его стекла удерживался стальными переборками. Отсюда открывался вид на пустырь и сторожевую башню, на горизонте едва-едва можно было различить забор из колючей проволоки. Я обнаружил, что отсеки окна можно было открывать при помощи круглой рукоятки. К несказанному облегчению, я нашел еще одну кнопку на стенке под полкой. музыку все-таки можно было выключить.
В камере отвратительно воняло Я начал методично чистить ее туалетной бумагой. В разгар моих трудов дверь распахнулась по сигналу дистанционного управления. Я не знал, что следует делать в таких случаях, так что просто ждал. Раздался голос: «Поланский, выходи» Я вышел в коридор. Вход был теперь отгорожен решеткой, за которой стоял охранник с двумя заключенными.
— Вот эти ребята хотят тебе кое-что передать, — сказал он.
Я подошел к решетке.
Один протянул мне пачку сигарет.
Я сказал, что не курю.
— Шоколад?
— Да, спасибо.
Он передал мне плитку. Охранник принес чашку кофе. Он объяснил, что этих двоих скоро выпускают, так что им незачем было сводить счеты в отличие от «всех этих змеюг». Им просто хотелось сделать мне что-то приятное в мой первый день. Мне сообщили, что я останусь в одиночке, пока тюремный комитет не решит мою участь.
В шесть утра вдали раздался приближающийся топот ног. Потом открылась дверь моей камеры, и чей-то голос спросил: «Чай или кофе?» Мне сунули в руки поднос с едой. Это было больше похоже на обед, чем на завтрак: куски свинины под соусом, хлеб, маргарин, кукурузные хлопья, бутылка молока. Есть все нужно было ложкой. Следующая трапеза была в одиннадцать тридцать. Я понял, что какие бы трудности ни подстерегали меня, с голоду я не умру. Я не чувствовал голода, но решил съесть все до последней крошки — не хотелось показаться неблагодарным. После завтрака, пока я мылся, душевую для всех закрыли. Я должен был пребывать в полной изоляции.
— Хочешь прибраться? — спросил надзиратель. Он показал мне, где хранятся швабры и щетки, и я пожалел о своих довольно бесплодных попытках навести чистоту при помощи туалетной бумаги.
Вечером я предстал перед тюремным комитетом. Его члены были настроены ко мне отнюдь не враждебно, но их сообщение меня не обрадовало. Обсудив положение, они порекомендовали мне усиленный режим на весь срок заключения. Если позволить мне выходить во двор, я буду подвергаться повышенной опасности, но не из-за совершенного мною деяния, а из-за своей известности. «Вы представляете собой естественную мишень, — объяснил начальник тюрьмы. — Это место ничем не отличается от прочих. Люди здесь жаждут известности, потому что это дает им возможность занять определенное положение. Ради этого они могут даже прикончить вас». При желании я мог бы выразить протест, и его должны были рассмотреть, но я решил этого не делать. Это означало согласие с некоторыми неудобствами — я не смогу выходить не только во двор, но и в библиотеку и в спортзал. Однако это не была полная изоляция. Меня перевели на тот ярус, где обитали заключенные, которые, как и я, содержались на особом режиме.
Мало-помалу я освоился. В каждом отсеке здания располагалась комната дневного отдыха: несколько стульев, стол, телевизор, были также душевая и два яруса, доступ в каждый из которых можно было отсечь стальной решеткой.
Особый режим предписывался убийцам полицейских, заключенным игрокам, которые не выплатили свои долги, доносчикам и тем лицам, для которых прочее тюремное население могло представлять опасность. Как ни странно, уже через несколько дней я почувствовал себя в Чино вполне счастливым. Во-первых, кончилось томительное ожидание. Во-вторых, здесь не было прессы. Я ощущал покой, умиротворение, много читал, много думал.
Я выработал для себя распорядок дня, который не давал мне скучать. В частности, вызвался мыть коридоры и научился хорошо управляться со шваброй и метлой. Я работал после завтрака и поздно вечером, когда остальные уже расходились по камерам. Одним из преимуществ было то, что уборщики имели возможность досмотреть фильм по телевизору до конца вместо того, чтобы отправляться в камеру на середине действия.
В тюрьме я снова начал бегать — сорок пять минут ежедневно взад-вперед по коридору. Некоторые заключенные сочли меня сумасшедшим, другие же присоединились, когда я начал заниматься зарядкой, но делали только отжимания. Они никак не хотели понять, что нужно развивать также мышцы ног и живота.
Я писал письма карандашом на дешевой линованной бумаге и получал кипу почты. Критик Кен Тайнен и актриса Кэндис Берген присылали письма с соболезнованиями, послания Сью Менгерс содержали все последние сплетни, от писем отца разрывалось сердце. Охранники должны были подвергать цензуре всю почту, но когда дело дошло до польского, они сдались и разрешили мне читать письма просто так. Приходили послания от девушек, с которыми я когда-то встречался, от знакомых, с которыми не виделся с тех пор, как уехал из Польши. Пришло даже письмо от Элана Гудмена, одного из моих случайно знакомых нью-йоркских полицейских. «Дорогой Роман, — писал он. — Мы с Лу думали о вас и жалели, что это Рождество вы встречаете в тюрьме. Надеемся, что Новый год положит этому конец. Нам очень больно, когда друг попадает в беду».
Тюремная жизнь была скучна и однообразна. Заключенные сидели в комнате для отдыха, резались в домино, смотрели телевизор. Я удивился, обнаружив, как мало они увлечены телевидением. В основном смотрели новости, какой-нибудь фильм, и всё. В разговорах главной темой были не секс или свобода, а тюремные сплетни: кого выпускают, кого куда переводят, какие надзиратели лучше. Незначительные события вдруг приобретали огромную важность. Я, точно зачарованный, смотрел, как муха передвигается по стене, ничто на свете не заставило бы меня причинить ей зло. Однажды утром я с огромным удивлением узнал, что часть надзирателей — женщины. Как ни странно, к ним относились с большим уважением и слушались их лучше, чем их коллег-мужчин.
Мой первый посетитель Даг Долтон был потрясен, узнав, что я сижу в одиночке. Однако я заверил его, что дал согласие по собственной воле. Долтон мог приходить ко мне в любое время. Остальным же посещения разрешались раз в пять дней. Я скоро привык к традиционному обыску, которому подвергался после каждого визита. Надзиратели заставляли меня раздеться и обыскивали в поисках наркотиков Незадолго до моего прибытия один из заключенных проглотил принесенный с воли презерватив с героином. Презерватив прорвался с фатальным исходом. Но, несмотря на обыски наркотики в Чино были в ходу.
Сначала я ждал дней посещений, потом же как все заключенные, стал относиться к ним почти безразлично. Навестить меня хотело огромное количество народа, среди которых были и случайные знакомые, и совершенно чужие мне люди. Когда же предприимчивые журналисты попытались повидаться со мной под видом близких друзей, я составил список лиц, которых хотел бы видеть, и попросил больше никого не пускать.
В середине января меня навестил Дино Де Лаурентис и сообщил, что декорации готовы, техническая группа тоже. Но он добавил, что был вынужден пригласить другого режиссера — шведа Яна Троллера, так как не мог предположить, каков будет исход моего дела. Я прекрасно понимал его решение.
Вскоре я увидел, что, как всякий человек, чьи представления о тюрьме почерпнуты исключительно из кинофильмов, я ничего о ней не знаю. В кино заключенных обычно показывают нагловато-грубыми здоровяками. Большинство же обитателей Чино, напротив, были маленького роста, имели ничем не примечательную внешность. А сюжеты кинолент бледнели в сравнении с реальными историями, которые мне здесь рассказывали.
Лухан, невысокий вежливый мексиканец, появившийся в нашем блоке вскоре после моего прибытия, получил в свое распоряжение целый ярус. Он был наемным убийцей и по заданию мексиканской мафии прикончил шестнадцать человек в различных тюрьмах. Почему-то такая работа ему надоела, и он решил дать показания против своих бывших хозяев. В ответ мафия перебила всю его семью, кроме жены и дочери, которые скрывались под постоянным прикрытием полиции. Сам он пребывал в полной изоляции, даже еду ему готовили отдельно, чтобы избежать отравления. Выйдя на свободу, Лухан подвергнется пластической операции, получит новые документы и кругленькую суму, чтобы обосноваться где-нибудь в укромном месте, но угроза убийства будет преследовать его всю жизнь.
Однажды, после того как я отпустил какое-то саркастическое замечание относительно шефа лос-анджелесской полиции, интервью с которым транслировалось по телевидению, ко мне подсел незнакомец, худой, бледный мулат.
— Хочешь, я его порешу?
— Что-что?
— Я выхожу на следующей неделе. Могу его замочить. Обойдется тебе в пять тысяч.
Кроме священников и раввина со мной беседовали два психиатра и психолог. Женщина-психолог дала мне кучу всяких письменных тестов, где нужно было из множества ответов выбирать один. Еще она предложила мне два листа бумаги и попросила нарисовать мужчину и женщину. Я столь прилежно посещал занятия в Кракове, что по привычке изобразил их обнаженными. Когда я сказал об этом Дагу Долтону, у него вырвалось: «О черт!»
— А что я должен был делать? Прикрыть их фиговыми листочками?
Надзиратели никогда не били и не оскорбляли заключенных. Они старались управляться с ними как можно мягче, избегая ненужных и бесполезных споров. Они эффективно выполняли свою работу.
Когда я отсидел почти половину срока, один из заключенных шепнул: «Роман, тебя выпустят 29 января». Я так и не узнал, откуда это стало ему известно, но он оказался прав. 28 января мне посоветовали начать собираться, но никому об этом не говорить. Утром 29 января я сложил свои пожитки, вернул тюремную одежду, получил костюм, в котором поступил сюда.
На улице в машине меня ждали Даг Долтон и Уолли Вулф. Выходя, я был почти в таком Же тумане, как и при поступлении в Чино, только на сей раз я радовался, что нет никаких фотографов и репортеров. Мои нестриженые волосы и борода прекрасно смотрелись бы на первых полосах газет. Долтон остановился у какого-то кафе. Шла первая половина дня, посетителей было немного. Сидя у длинной стойки, я был уверен, что из-за бороды меня невозможно узнать. Я сделал заказ. Принеся счет, официант поинтересовался: «Это всё, мистер Поланский?»
Мне никого не хотелось видеть, но я в тот же вечер позвонил Дино Де Лаурентису. Он сразу же приехал и предложил мне снова стать режиссером. Он уже переговорил с Яном Троллером, и тот был готов уступить мне режиссуру. Предложение было очень соблазнительным и трогательным, но я по-прежнему не знал, что задумал судья Риттенбэнд. Долтон должен был встретиться с ним на следующий день, так что после их разговора я обещал Дино дать окончательный ответ.
Долтон полагал, что время, проведенное мной в Чино, и составит весь срок моего тюремного заключения. Однако при встрече с Риттенбэндом выяснилось, что судья снова изменил свои намерения. 16 сентября Риттенбэнд говорил Долтону, что обследование в Чино и станет моим наказанием. Теперь же он заявил, что намерен вновь упечь меня за решетку. «Меня слишком сильно критикуют», — признался он Долтону. К тому же он выразил удивление, почему я провел в Чино лишь сорок два дня вместо возможных девяноста. Он прекрасно знал, что в среднем подобное обследование занимает сорок семь дней.
Прессе же он пел совсем другую песню. Он обещал выпустить меня через сорок восемь дней, если я соглашусь на добровольную депортацию.
Мы обсудили ситуацию с Долтоном и Уолли Вулфом. У них просто слов не было. Оба не были уверены, что судья Риттенбэнд смягчится или же отпустит меня после того, как я отсижу причитающиеся девяносто дней.
Поскольку судья совершенно ясно дал понять, что намерен помешать мне в дальнейшем жить и работать в США, и поскольку свои сорок два дня в Чино я отсидел, по-видимому, зря, сам собой напрашивался вопрос: зачем мне, собственно, здесь оставаться? Естественным ответом было: незачем. В офисе Дол-тона меня всегда охватывала клаустрофобия. Я поднялся и пошел к двери.
— Минуточку, куда вы? — окликнул меня Долтон.
— Ничего-ничего, потом поговорим, — отозвался я.
Собрав сумку, я поехал в офис к Дино, где рассказал, что готовит судья. «Хватит, — сказал я Дино. — Я отсюда сматываюсь».
«Ох этот судья! Che chazzo!» Дино поинтересовался, есть ли у меня деньги. У меня не было.
Он послал своего помощника раздобыть наличные. Тот принес тысячу долларов, которые Дино сунул мне в руку. Мы обнялись.
От Дино я направился прямо в аэропорт Санта-Моники, чтобы лететь в Мексику, но передумал, развернулся и поехал в аэропорт Лос-Анджелеса. Примчавшись за пятнадцать минут до отлета самолета в Лондон, я купил последний билет. Времени хватило только на то, чтобы позвонить секретарше насчет оставленной в аэропорту машины.
В сумерках мы взлетели. Под нами расстилался Лос-Анджелес. Мне было все равно, что произойдет со мной дальше. Буду заниматься чем попало, лишь бы не жить так, как последний год. Я пережил позор и травлю в прессе, дважды терял режиссерский контракт, отсидел в тюрьме. Возбуждение мое было почти маниакальным. Всю дорогу я глаз не сомкнул.
В Лондоне было промозгло и пасмурно. На меня навалилась депрессия. Даже не распаковав вещи, я позвонил Долтону и сообщил, что нахожусь в Англии.
Сказать ему было особенно нечего, и понятно почему. Я поставил его в щекотливое положение. Никогда еще его клиенты не сбегали из страны.
Я бродил по нетопленым комнатам своего дома, обдумывая следующий шаг. Что-то было не так. Я сейчас еще не чувствовал себя в безопасности.
В тот же вечер я полетел в Париж.
На следующее утро Долтон выступил в суде и проинформировал судью, что я покинул страну. Судья Риттенбэнд был обескуражен, но отложил вынесение приговора до 14 февраля. Долтон взялся за это время убедить меня вернуться.
Вместе с Уолли Вулфом они прилетели в Париж и попытались меня уговорить. Но мои намерения были непоколебимы.
Судья Риттенбэнд был склонен 14 февраля осудить меня in absentia и сказать речь для прессы. А тем временем в интервью и на пресс-конференциях он столь явно выказывал свою враждебность ко мне, что Долтон подал прошение о дисквалификации судьи на том основании, что тот пристрастен, предубежден против меня и что нет никаких шансов на справедливый вердикт. В заявлении говорилось о том, сколь часто менялось отношение судьи к моему делу, как он принимал то одни решения, то прямо противоположные, указывалось на сделанные им для прессы заявления и намеки на высылку из страны, а также на прочие нарушения калифорнийского закона.
Риттенбэнд был потрясен заявлением Дол-тона и заявил, что отказывается от дела.
Мое дело передали судье Полу Брекинриджу. «Я в жизни никого не приговаривал in absentia и сейчас не намерен», — заявил он, снял дело с повестки дня и сказал: «Если он когда-нибудь вернется, мы заново рассмотрим это дело».
Вот каково положение на сегодняшний день. Если я вернусь в Соединенные Штаты, меня тут же арестуют и даже под залог не выпустят. Повторное слушание дела может означать еще одно диагностическое обследование в Чино. То, что я бежал от правосудия, тоже будет принято во внимание, равно как и заявление с обвинением Риттенбэнда в предвзятости и непрофессиональном поведении. Да и все равно возвращение мое достаточно проблематично. Вскоре после того, как я прибыл в Париж, мою многоразовую американскую визу аннулировали.
ГЛАВА 29
На противоположной стороне улицы велись реставрационные работы. Все здание было закрыто строительными лесами, на которых, будто вороны, притаились фоторепортеры с телеобъективами, караулившие каждое мое движение. Самые настойчивые угнездились там надолго и ночевали в спальных мешках.
Я закрыл ставни, задернул занавески, превратив квартиру в склеп с искусственным освещением. Но жить так было невозможно. Я чувствовал себя еще более загнанным, чем в Лос-Анджелесе после ареста. Я понимал кое-что в фотожурналистике и знал, что лучший способ разрядить напряжение - сделать так, чтобы моя фотография как можно скорее появилась в газетах.
Я позвонил шведской журналистке Свеве Вигевоно, которая когда-то делала мои фотопортреты. После недавнего развода она осталась с маленьким ребенком, и деньги ей не помешали бы. Я договорился о встрече. В сопровождении Пола Руссама, брата Жан-Пьера, я спустился на первый этаж, а оттуда юркнул в гараж и забился в багажник машины. К счастью, фотографы еще не пронюхали, что выезд из гаража был на боковой улочке за углом.
Свева уже ждала меня в кафе у стойки. Я подкрался и положил руку ей на плечо. Я все еще не сбрил бороду, к тому же был в темных очках и шляпе. Она меня не узнала и оттолкнула руку с видимым отвращением. «Что такое? — усмехнулся я. — Я-то думал, тебе нужны фотографии».
Фотографии Свевы возымели желаемое действие. Ее конкуренты прекратили бдение, но я еще несколько дней продолжал скрываться. Я с удивлением обнаружил, что человек, спрятавшийся в багажнике «Мерседеса», может вести с шофером вполне осмысленную беседу.
В общем, и общественное мнение, и пресса во Франции были настроены ко мне более лояльно, чем в Соединенных Штатах. Через несколько недель меня оставили в покое. Я сбрил бороду и начал вести более-менее нормальное существование.
Я оценил свое финансовое положение. Оно оказалось отчаянным. Я провел не одно экстренное совещание с братьями Руссам и их сводным братом Клодом Берри. На одной из наших встреч мы решили снимать «Тэсс».
Это было не столь скоропалительное решение, как могло бы показаться. Я многие годы носился с этой идеей. Слова, сказанные Шэрон о книжке, которую она забыла в Лондоне, не выходили у меня из головы. Я снова и снова возвращался к ней и знал уже чуть ли не наизусть. В разгар неприятностей в Лос-Анджелесе я попросил Настасью прочитать книгу, считая, что по своим внешним данным и актерскому Потенциалу она изумительно подойдет для главной роли.
Клод Берри решил стать продюсером фильма И хотел, чтобы я был режиссером. У нас не было еще ни сценария, ни актеров. Мы не представляли, где будем снимать, знали лишь, что во Франции, а не в Англии, где меня могли выдать американцам.
Чтобы поведать историю, сочиненную Томасом Харди, необходимо было подобрать соответствующую натуру, напоминавшую Дорсет XIX века. Передать ритм повествования было можно, только используя обстановку как неотъемлемую часть фильма, показывая бег времени и изменения в самой Тэсс при помощи зримых, почти физически ощутимых перемен во временах года. Нам придется снимать чуть не круглый год. Такое затянутое расписание съемок обойдется чрезвычайно дорого.
Все еще не окончив работу над сценарием с Жераром Брахом, я взял отпуск, чтобы сделать несколько фотографий Настасьи в романтическом платье в стиле XIX века в лесу Фонтенбло. Во время Каннского фестиваля 1978 года Клод Берри опубликовал одну из них как рекламу в «Вэрайети» со смелой и простой подписью «Тэсс Романа Поланского».
Было вполне логично сделать «Тэсс» англофранцузской копродукцией с преобладанием английских актеров, так что мы предложили Тимоти Берриллу стать сопродюсером. Он начал с поисков опытного драматурга, который согласился бы работать вместе с нами над английской версией сценария. Это было очень важно, так как у Харди в критические моменты действие обходится без диалогов.
С актерами проблем почти не было. Я решил отослать Настасью в Англию поучиться у Кейт Флеминг, преподавателя риторики в Национальном театре Было решено, что если Настасья успеет вовремя овладеть дорсетским диалектом, она роль получит. Играть Алека и Эйнджела я пригласил Ли Лосона и Питера Фирта.
Первый день съемки обычно задает тон для всей оставшейся работы. Очень важно найти правильное соотношение темпа и подробности, юмора и задора. 7 августа, в первый день работы над «Тэсс», я поднялся до рассвета, распахнул окно и увидел, что льет дождь.
Ливень хлестал весь день. Нужно было снимать сцену, когда в жаркий летний день Алек д'Эрбервилль угощает Тэсс клубникой. По небу плыли свинцовые облака, и пришлось соорудить навес, дабы уберечь розовый сад, актеров и камеры от дождя. Теплицу необходимо было покрасить, но маляры работали строго по правилам. Они отказались выехать из Парижа до девяти, прибыли в одиннадцать, пунктуально сделали перерыв на обед и в конце дня уехали, чтобы успеть в Париж к концу рабочего времени. После их отъезда мы всей группой докрасили теплицу. Несмотря на погоду и работу по правилам, сцена в теплице поражает красочностью летнего дня, что свидетельствует о мастерстве нашего оператора Джеффри Ансворта.
Из-за того что съемки «Тэсс» продолжались так долго, наша съемочная группа стала чем-то большим, нежели просто коллективом людей, временно собравшихся вместе ради работы. В нашей жизни возник собственный ритм, в котором присутствовали рождение и смерть, любовные романы и разводы, веселье и трагедия. Мы, как цирк-шапито, путешествовали летом по Нормандии, осенью и зимой по Бретани, а потом снова по Нормандии. В моей жизни это был особенно важный эпизод, потому что все происходило вскоре после Чино. На меня это оказало благотворное воздействие. Восемнадцать дней ушло только на разъезды. Нам повезло с шеф-поваром, который мог подать обед в одном месте, а ужин уже где-нибудь миль за сорок-пятьдесят. Во время натурных съемок еда для французов — священнодействие. В первый же день в Нормандии мы целиком заняли ресторан. И когда полк официантов разносил блюда с устрицами, крабами и креветками, я нахально заявил Клоду Берри, что собравшиеся пируют за его счет.
Начальные кадры фильма снимались на деревенском перекрестке, точь-в-точь таком, какой мог бы вообразить себе Харди. Я наткнулся на него совершенно случайно. Наши продюсеры скинулись и подарили мне гоночный велосипед. Смешно, подумал я, что прошло столько времени, прежде чем у меня появилась такая замечательная машина. Я снова начал кататься и во время одной из прогулок и обнаружил это замечательное местечко.
Из другой деревни получился превосходный Эмминстер, родина Эйнджела Клэра. Мы изменили общий вид целой улицы, заменив в домах окна на английские с частым переплетом, убрав телевизионные антенны на крышах и электрические провода. В таком виде улица оставалась несколько месяцев, и за неудобства нам пришлось хорошенько заплатить жителям. Церквушка в деревне тоже была вполне в английском стиле, не считая колокольни. Мы скрыли ее при помощи огромного зеркала. Отражавшееся в нем небо великолепно сочеталось с небом за колокольней, так что получилась отличная английская деревенская церковь.
В Бретани разыгралась трагедия. Как-то в воскресенье Джеффри сказал, что плохо себя чувствует, и пожаловался на изжогу. Тимоти Беррилл отправился купить ему каких-нибудь таблеток от несварения желудка. Вечером Джеффри сказал, что пообедает в своей комнате. Я собирался спуститься в ресторан, когда ко мне в дверь забарабанили: «Быстрее, Джеффри без сознания».
Джеффри лежал поперек кровати, наполовину сполз на пол. Губы посинели, глаза неподвижно уставились в одну точку. Стремясь привести его в сознание, я сунул ему под нос нашатырный спирт. Никакого эффекта. Он не дышал. Я не мог нащупать пульс. Приложил ухо к груди. Ничего. Мой ассистент начал дышать ему рот в рот. Кто-то предложил массаж сердца. Я старался изо всех сил, а тем временем вызвали «скорую». Те семь минут, что она ехала, были самыми долгими в моей жизни.
Я понял, насколько бесплодны были мои собственные попытки делать массаж сердца, когда за работу взялись прибывшие профессионалы. Взглянув на Джеффри, они тут же стащили его на пол и вставили клин между зубов. Санитар начал изо всех сил давить ему на грудь ладонями: пять быстрых движений, потом пауза, потом все сначала.
— Вы так ему ребро сломаете, — испугался я.
— Тем лучше, — сказал он, но портативный кардиограф по-прежнему вырисовывал ровную линию.
Мы сидели в холле гостиницы, не в силах ни спать, ни оставаться в одиночестве. Мы еще долго оставались там в оцепенении и после того, как стало ясно, что Джеффри мертв. Ему было шестьдесят два.
На следующий день было решено продолжать съемки. Место Джеффри временно занял его ассистент. Трудно было качать работать без него. У нас будто не одного человека, а полгруппы не хватало, но нам все же удалось проработать целый съемочный день.
Джеффри был настолько яркой индивидуальностью, что все встретили прибывшего ему на замену Гислэна Клоке с подсознательной враждебностью. Клоке почувствовал это отношение и постепенно, мягко и тактично, преодолел его.
Трагедия до некоторой степени потеряла свою остроту, и мы снова смогли действовать как единая команда.
«Тэсс» обошлась в двенадцать миллионов и стала самым дорогим фильмом, когда-либо снимавшимся во Франции. Просто потому, что снималась так долго. Мы работали почти в восьмидесяти разных местах, много времени уходило на передвижение и монтаж декораций. Погода вновь и вновь нарушала наши планы. Говорили, что стоимость фильма удвоило мое экстравагантное поведение. Это неверно. Даже самая крупная моя «экстравагантность» — реконструкция Стоунхеджа — обошлась дешевле, чем стоила бы перевозка всей нашей группы в Англию.
Из-за забастовок мы потеряли чуть не месяц съемочного времени.
Как выяснилось впоследствии, Клод Берри допустил ошибку, пообешав, что в Германии премьера состоится 31 октября. Он настаивал, чтобы во Франции фильм вышел в прокат не позже 1 ноября. И наконец, стремясь привлечь потенциальных покупателей в США, он начал показывать им предварительные варианты, что никогда не доводит до добра.
Из-за того что были назначены жесткие сроки, нам приходилось делать слишком много всего одновременно. Нужно было подготовить международную версию, чтобы немцы могли сделать дубляж. Мы работали над французским и английским вариантами. Все три версии должны были совпадать с точностью до кадра. Работа шла сначала по двенадцать, потом по восемнадцать часов в день, потом круглосуточно.
Когда я, наконец, сделал черновой монтаж и показал его Клоду Берри, тот закричал: «Слишком длинно! Надо на час сократить, но премьера все равно состоится 31 октября!»
Премьера в Германии обернулась катастрофой. Настасья, которая позвонила мне после просмотра, сказала, что прием был настолько холодным и враждебным, что у нее возникло желание спрятаться под стул. Критика ехидничала. Один рецензент назвал фильм в лучшем случае правдивой документальной картиной о молочном животноводстве XIX века. Все сожалели, что я не удовольствовался тем, что удавалось мне лучше всего, — фильмами ужасов.
Премьера в Париже прошла лучше, появилось много положительных отзывов и рецензий. В кинотеатры стояли очереди, но не те, на которые рассчитывал Клод Берри. «Тэсс» шла почти три часа, что означало три сеанса в день вместо четырех и соответственно потери в прибыли. В офисе Клода царило похоронное настроение. Немецкие рецензии сделали свое дело, и никаких конкретных предложений о прокате из США не поступало. Клод винил во всем меня.
Мы с Клодом поговорили по душам. Я сказал, что из-за установленных им сроков у меня не было времени выполнить монтаж так, как мне хотелось бы. Если бы мне предоставили такую возможность, я смог бы несколько сократить фильм, не нарушив атмосферы, но о том, чтобы вырезать сорок пять минут, не могло быть и речи. Вспомнив, что Сэм О'Стин сотворил с «Ребенком Розмари», я предложил Берри нанять его. Лучше него никто не сможет вырезать час из фильма.
Прилетел Сэм. Мне не хотелось стеснять его своим присутствием. Я предпочитал оказаться как можно дальше от всего этого и вместе с друзьями отправился в Гималаи.
Поход, начавшийся как увеселительная прогулка, вскоре превратился в серьезное восхождение. Я мог думать лишь о том, как поставить одну ногу перед другой, и о том, что нам приготовят на обед. Вскоре я понял, что лучшего лекарства не придумаешь — ни о чем не думать, а лишь дивиться несравненному ландшафту гор.
Когда я вернулся в Париж, мне показали версию О'Стина. Несмотря на талант Сэма, оставалось ощущение, будто смотришь фильм через часть. Как ни скверно я себя чувствовал из-за неминуемого банкротства Берри, я просто не мог позволить ему показывать урезанный вариант. У меня не было сомнений, что укороченный фильм хуже. В «Тэсс» был свой ритм, который невозможно сохранить при резком сокращении длительности. Да к тому же «Тэсс» и так уже неплохо шла во Франции. Кассовые сборы постепенно, но неуклонно возрастали. Фильм вышел и в других странах и пользовался там значительным успехом.
Коппола был готов прокатывать фильм в США, но с условием некоторых переделок. Я поинтересовался, чего именно он хочет. А хотел он сделать центром повествования саму Тэсс, а также изменить титры и первую сцену, убрать заключительную, переснять некоторые эпизоды. Когда я показал свои записи пожеланий Копполы Клоду Берри, тот счел их фантастическими. Я заметил, что если последовать совету Копполы, потребуется еще полмиллиона.
Больше разговор о Копполе не заходил.
Наконец, через год с лишним после европейской премьеры, к фильму начала проявлять интерес «Коламбия». Здесь считали, что хоть доходов «Тэсс» и не принесет, зато может завоевать несколько наград. Чтобы иметь право быть выдвинутым на «Оскар», фильм должен быть в коммерческом прокате хотя бы неделю в двух американских кинотеатрах.
Зрители хлынули смотреть фильм, едва его начали демонстрировать. Время проката в обоих кинотеатрах было продлено. «Тэсс» выдвинули на «Оскар» по одиннадцати категориям. Благодаря запоздалому признанию критики, фильм все же добился коммерческого успеха. Кошмарные видения Клода Берри о полном разорении стали рассеиваться. Таких хороших отзывов в США я еще никогда не получал. Критики Лос-Анджелеса признали меня лучшим режиссером года. «Оскаров» получили Энтони Пауэлл, Пьер Гуффруа, Джеффри Ансворт и Гислэн Клоке.
Однако признание пришло слишком поздно. Мне к тому времени было уже почти все равно. Если бы «Тэсс» совсем провалилась, у меня возникла бы потребность немедленно поставить новый фильм, чтобы доказать себе, что я еще на что-то способен. А так после девяти месяцев счастья работы над картиной и двух лет мучений я настолько разочаровался, что вообще не хотел больше снимать кино. Я начал говорить о себе как о «бывшем» кинорежиссере.
ГЛАВА 30
К решению вернуться в театр меня подтолкнуло стечение обстоятельств (тяжелейшая работа над «Тэсс», невозможность снять «Пиратов»), приехать же в Польшу — изменения в политическом климате.
В последние годы я отклонил ряд предложений снимать в Польше. Я знал, что из-за политического режима буду не в силах оставаться там достаточно долго. Теперь же, под влиянием «Солидарности», менялся сам режим, и когда Тадеуш Ломницкий, которого я в юности боготворил, пригласил меня поставить пьесу в Варшаве, я немедленно согласился. Не говоря уж о чисто профессиональных соображениях, я не мог устоять перед соблазном своими глазами взглянуть на ситуацию в Польше.
В глубине души я всегда верил, что однажды свобода вернется, и не только в Польшу, но и в другие страны советского блока. Никакая тоталитарная система, какой бы жестокой она ни была, не способна бесконечно удерживать власть. Правда, я считал, что пробуждение должно начаться с самого Советского Союза и что произойдет это уже не на моем веку. В свете же последних событий я вижу, что, вероятно, ошибался.
Я решил, что буду постановщиком и исполнителем одной из ролей в пьесе Питера Шеффера «Амадеус». Больше всего меня привлекала в ней потрясающая театральность. Если для успеха кинофильма необходим натурализм, успех в театре зиждется на недомолвках, иллюзии, условности.
Меня заинтересовала и сама тема — противостояние таланта и посредственности. Нравилось мне и то, как Шеффер показывает, что гениальным людям не обязательно укладываться в рамки наших представлений о них. Человек может писать утонченную моцартовскую музыку и при этом ругаться, грубить и просто вести себя по-мальчишески. Эта роль очень привлекала меня как актера, да и внешность у меня подходящая. Итальянский режиссер Лилиана Кавани даже хотела, чтобы я сыграл эту роль в кино, отмечая, что мы оба низкорослые, подвижные люди с похожим профилем.
Я сам приобрел права на «Амадеуса» — у театра Ломницкого не было валюты. Поскольку и мне должны были платить польскими злотыми, художественное самовыражение влекло год значительных финансовых жертв.
У Ломницкого, который должен был играть Сальери, возникли проблемы из-за его партийного прошлого. Он был членом партии в течение тридцати лет, последние восемь являлся членом Центрального Комитета, был ректором Варшавской национальной драматической школы. Теперь все это ставилось ему в вину. С первых же спектаклей «Амадеус» шел с аншлагом, критики им восхищались. Я вздохнул с облегчением, потому что знал, до какой степени кое-кому хотелось, чтобы моя работа провалилась. Примерно месяц я играл главную роль, и за это время у меня в гримерной перебывали, казалось, все, кого я когда-либо знал.
В один из выходных я отправился в Краков, чтобы окунуться в прошлое. Я заглянул в Театр юного зрителя, на радиостанцию, где меня впервые наняла к себе Биллизанка, в маленькую квартирку, где жил с четырех лет, в дом, где чуть не погиб от бомбы в последние недели войны, в квартиру Виновского, где впервые узнал женщину. Каждый камешек, уголок, звук, запах пробуждал свои воспоминания.
Я собрался с духом и пересек Вислу, чтобы побродить по тем местам, где когда-то было гетто. Там, где находился эсэсовский сторожевой пункт, теперь располагалась автозаправка. Площадь Згоды, где стояли главные ворота, называлась теперь площадью Героев гетто. Мне показалось даже, что я обнаружил то место, где в последний раз пробирался на волю под колючей проволокой.
Совершил я и сентиментальное путешествие в Высоку. Узнать ее было нельзя. Там, где некогда стояли соломенные крестьянские хибарки, теперь возвышались двухэтажные дома, по асфальту катили автобусы. Среди полей виднелись телеграфные столбы. Правда, дом Бухалы я нашел очень легко. Его давно бросили, и он уже успел развалиться. Я позвонил в дверь нового дома по соседству, представился и справился о своей приемной семье. Но соседи ничего не знали, зато позвали других, которым что-то было известно. Пан и пани Бухала умерли.
Мысли мои все время возвращались к разрушенной хибаре. Именно тогда, когда я жил в этом нищем доме в полном одиночестве без всяких перспектив на будущее, что-то подтолкнуло меня на тот путь, по которому пошла потом вся моя жизнь. Что это было? Что заставило меня превратить мир фантазий в мир реальный?
Лежали ли в основе всего эротизм, тяга к тем женщинам, с которыми я никогда бы не встретился, оставаясь обитателем краковского гетто или крестьянским пареньком из Высоки?
Думаю, дело не в этом.
Мне, скорее, кажется, что все мои выходки, моя дикость и сила порождены чувством удивления перед самой жизнью. В основе моей работы, моих фантазий лежит желание сделать приятное, развлечь, поразить, насмешить людей. Мне нравится валять дурака, расхаживать по всемирной сцене. Если бы я мог прожить жизнь заново, то уделил бы больше времени игре и меньше режиссуре.
Но сожалеть о прошлом столь же абсурдно, как и строить планы на будущее. Отец всегда упрекал меня, что я транжир и не умею организовать свою жизнь. Я не жалею о выброшенных на ветер огромных суммах. Мне претит мысль о том, чтобы умереть с хорошим счетом в банке. Жизнью (и деньгами) нужно наслаждаться.
Однако после смерти Шэрон (хотя внешне может показаться, что это и не так) я не могу от души наслаждаться жизнью.
В минуты невыносимой личной трагедии некоторые находят утешение в религии. Со мной же произошло обратное. С убийством Шэрон исчезла всякая религиозность, которая у меня была. Окрепла моя вера в абсурд.
Я все еще изображаю из себя профессионального эстрадного актера, разыгрываю комические истории, много смеюсь, люблю общество веселых людей, но в самой глубине души знаю, что дух веселья покинул меня. Я будто тружусь без всякого смысла. Мне кажется, я потерял право на невинность, на чистое наслаждение прелестями жизни. Мне дорого обошлись детская доверчивость и верность друзьям.
Я знаю, многие считают меня злобным, распутным карликом. Мои же друзья и женщины знают, что это не так.
Некоторых женщин притягивает дурная слава, многие, особенно после лос-анджелесской истории, стремятся со мной познакомиться. Узнав же, что я не таков, как им расписывали, они испытывают разочарование. Обо мне так часто говорили неточно, несправедливо или просто лживо, что у тех, кто со мной не знаком, сложилось совершенно превратное представление обо мне.
Именно в Высоке, погружаясь в прошлое, я впервые подумал о том, чтобы изложить правду о себе на бумаге. Конечно, понимаю, что как бы усердно и правдиво ни старался я выполнить эту задачу, многие по-прежнему предпочтут карикатуру реальности, но, по крайней мере, я дам им возможность по-другому взглянуть на вещи.
Я находился в Париже и занимался репетициями французской версии «Амадеуса», когда пришло сообщение из Польши о вводе военного положения. Это стало еще одним водоразделом в моей жизни. Я воспринял это как новую национальную трагедию. Однако я своими глазами видел расцвет «Солидарности», видел, что свобода живет в сердцах поляков, видел их мужество и стойкость перед лицом коммунистической тирании.
Это пробудило воспоминания о годах моей собственной юности. О том времени тоже стоит рассказать.
Сейчас для этого как раз подходящий момент.

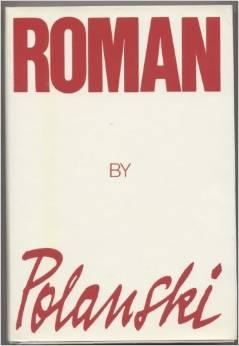




Комментарии к книге «Роман», Роман Полански
Всего 0 комментариев