Дмитрий Володихин РЮРИКОВИЧИ
ГОСУДАРИ, ВОЕВОДЫ, СВЯТЫЕ
Династия Рюриковичей правила Русью семь с половиной веков.
Судьба нашей страны намертво сплетена с судьбой этого рода. Принадлежавшие к нему личности оказали заметное влияние на политику, культуру, веру, быт русского Средневековья. Их именами наполнены учебники, фильмы, исторические романы. Их живописные изображения висят в картинных галереях и украшают стены храмов. О их деяниях по сию пору спорят историки. Через жизни Рюриковичей видна жизнь русского народа — ведь они его известнейшие представители.
Генеалогическое древо Рюриковичей — кровеносная система, по которой веками текли живые соки государства Российского.
В конце IX столетия на Руси появится сам родоначальник династии, а в 1610 году потеряет власть последний государь из этого разветвленного семейства. Но еще очень долго вельможи Рюриковичи будут стоять у подножия русского трона и влиять на державные дела. Русская история знает сотни выдающихся личностей из рода Рюрика. Это ведь не только правители, но еще и знаменитые полководцы, православные святые, политические деятели, просветители, писатели и поэты — хотя помнят в первую очередь именно государей…
Очень трудно отобрать три с половиной десятка биографий из целого моря знаменитых Рюриковичей. За пределами этого списка обязательно останется немало ярких персон, достойных самого пристального внимания. Но те, кого можно назвать «звездами» первой величины, люди — вехи исторического процесса, на страницах этой книги «портреты» получили.
Конечно же к памяти каждого из них автор этих строк прикасался с почтением. Герой ли он, злодей ли, великий реформатор или же великий неудачник — в любом случае история его жизни составляет драгоценную частицу той культурной почвы, из которой выросло современное русское общество. И, следовательно, требует внимательного отношения, душевного труда, естественной деликатности. С другой стороны, априорное уважение к великим личностям прошлого должно соединяться с полной честностью в рассказе о их деяниях. Автору остается надеяться, что он, работая над книгой, не отступил от этого рецепта.
Очерки, посвященные одним Рюриковичам, — больше по объему, другим — меньше. И дело тут не только в историческом масштабе каждой конкретной фигуры. Важнее другое. По некоторым эпохам исторические источники предоставляют больше сведений, по некоторым — меньше. Невозможно уравнять, например, князя Михаила Черниговского, великого князя Ивана Калиту и царя Федора Ивановича. Первый из них действовал в середине XIII века, второй правил в середине XIV века, а третий царствовал на исходе XVI столетия. Чье значение для русской истории, для русской культуры, для православия больше? Трудно сказать. Тот, кто дольше правил? Но этот критерий — формальный. Что же касается неформальной стороны дела, то княжение первых двоих относится ко времени, скудно представленному в летописях и иных исторических памятниках. Особенно скверно обстоят дела с известиями о ранних государях московской ветви Рюриковичей, в том числе об Иване Калите. А 14 лет царствования Федора Ивановича отменно реконструируются по тем же летописям, документам, сочинениям иностранцев и т. п. О нем известно в десятки раз больше, чем об Иване Калите. Таким образом, если попытаться «уравнять объемы», то получится странный перекос: биографические очерки об одних Рюриковичах до отказа наполнятся живыми «показаниями источников», само время их зазвучит на разные голоса, в то время как на долю других останутся горсточка твердо установленных фактов да бесконечное мертвенное теоретизирование. Ничего доброго в подобном подходе нет. Гораздо честнее, думается, больше рассказывать о тех, о ком сама история рассказывает больше.
Вот почему статьи, посвященные ранним Рюриковичам, как правило, намного меньше тех, которые относятся к Рюриковичам Московского государства. Ведь последние полтора века в судьбах Рюриковичей на Русской земле отражены в исторических памятниках на порядок подробнее.
Автор выражает горячую благодарность С. В. Алексееву за помощь в работе над книгой.
РЮРИК Основатель династии
Разветвленное древо потомков Рюрика в своем корне имеет несколько кратких известий русской летописи о первопредке. Сведения, изложенные там, весьма скудны. Подлинно научных теорий, остроумных гипотез и совершенно анекдотического бреда воздвигнуто вокруг ничтожных по объему свидетельств столько, что совокупность сей умственной работы можно сравнить с городом, выстроенным вокруг яблони.
По сведениям летописца, в 859 году вся территория будущей Руси оказалась поделена на несколько зон данничества по отношению к соседям. Варягам платили северные племенные союзы славян и финно-угров — чудь, меря, кривичи, словене. Хазарам платили те, кто жил южнее: вятичи, поляне, северяне. Очевидно, такое положение вещей не устраивало ни славянские племена, ни финно-угорские. Они искали перемен.
И вот под 862 годом «Повесть временных лет» сообщает: «Изгнаша варяги за море и не даша им дани и почаща сами в собе володети (иными словами, управлять своей землей самостоятельно. — Д. В.). И не бе в них правды. И вста род на род, и быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся. И реша: „Сами в себе поищем собе князя, иже бы володел нами и судил по праву“. И идаша за море к варягам, к руси, сице бо ся звахуть[1] и варязи суть, яко се друзии зовутся свие, друзие же урмане, англяне, друзии готе, тако и си. Реша руси чудь и словени и кривичи: „Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдете княжить и володеть нами“. И избрашася три братеники с роды своими и пояша по собе всю русь. И придоша старейший Рюрик, седе Новегороде, а другие Синеус на Белеозере, а третий Изборсте — Трувор. И от тех варяг прозвася Руская земля. Новгородци ти суть людья новгородци от рода варяжска. Преже бо беша словени. По дву же лету Синеус умре и брат его Трувор. И прия власть Рюрик. И раздая мужем своим грады: овому Полотеск[2], овому Ростов, другому Белоозеро. И по тем городом суть находницы варязи. А первии насельницы в Новегороде — словене, в Полотьски — кривичи, в Ростове — меря, в Белеозере — весь, в Муроме — мурома. И теме всеми обладаша Рюрик».
Из всех лет княжения Рюрика до сведения летописца дошло лишь одно крупное событие. Новгородскому правителю служили «два мужа», не имеющих отношения ни к его семейству, ни вообще к варяжской знати, — Аскольд и Дир. Они отпросились со своими родами к Константинополю (то ли в поход, то ли на службу императору). Двигаясь вниз по течению Днепра, они обнаружили «городок» племенного союза полян, основанный, по легенде, братьями Кием, Щеком и Хоривом. «Городок» Киев платил дань хазарам. Аскольд с Диром и множеством варягов осели в Киеве, взяв тут власть вместо хазар. Рюрик, князь Новгородский, до конца княжения не вмешивался в киевские дела. Возможно, даже не имел представления о том, что происходит столь далеко — на среднем течении Днепра.
А уже под 879 годом обнаруживается краткое известие: Рюрик умер, передав княжение и попечительство над своим маленьким сыном Игорем некому родичу Олегу.
Каждое слово в этих кратких известиях получило по нескольку толкований. Каждая фраза имеет множество трактовок.
Так, в точности неизвестно, кто такой Рюрик и откуда его призвали на княжение. Выводили его из пруссов, из свеев, из западных славян-ободритов и т. п. Последняя версия пользовалась одно время широкой популярностью: в связи с историей Рюрика в разных источниках всплывают имена западнославянского правителя Гостимусла и новгородского «старейшины» Гостомысла, в коих подозревают одно лицо. Видимо, какая-то славянская «струя» могла пройти через биографию Рюрика, например, родство со славянскими правителями через брак или по женской линии.
Гипотеза, получившая признание большинства специалистов, состоит в следующем: Рюрик древнерусских летописей — конунг Рёрик, выходец из династии Скьёльдунгов, к которой принадлежали короли данов. Иногда его не совсем правильно именуют Рёриком Ютландским. Рёрик королем не бывал, более того, его владения на Ютландском полуострове, где закрепились даны, были незначительны по территории и удерживались им недолго. Франкские короли за военные услуги даровали Рёрику области, относящиеся к Фризии и Зеландии (территория современных Нидерландов).
Биография этого правителя, бешеного пирата и неустанного вождя завоевательных походов, довольно подробно отражена западноевропейскими источниками. Но между 863 и 870 годами в ней возникает лакуна. Многие специалисты предполагают, что именно в эту пору славяне и позвали к себе неукротимого варяжского вожака. Тогда получается, что Русь он покинул не в 879 году, а намного раньше, и не в виде души, отлетающей для встречи с Господом[3], а как вполне здравствующий, хотя уже и не юный государь Фризии. Между 873 и 882 годами он действительно скончался. Но вот на Руси ли? Бог весть.
Откуда его призвали и какую именно ветвь скандинавов он привел с собой — также вопрос, который не имеет четкого ответа. В одном из вариантов «Повести временных лет» говорится, что прежде Новгорода Рюрик являлся правителем Ладоги (ныне — село Старая Ладога). А Ладога, или, как называли ее скандинавы, Альдейгьюборг, — город с очень непростой историей. Его основали еще до прихода славян выходцы из Северной Европы, скорее всего, даны или пришельцы из современной Южной Швеции. Их поселение возникло не позднее 50-х годов VIII века. Оно скоро сделалось центром торговли, кораблестроения и… воинских набегов на окрестности. Поэтому между скандинавами и славянами завязалась борьба за обладание Ладогой. Когда славяне «изгнаша варягов за море», они, скорее всего, ликвидировали ладожскую военную базу беспокойных соседей. Но позднее варяги еще вернутся туда. И, очень возможно, Рюрик, призванный на Русь, первое время, по старой памяти, княжил именно там. По одной из версий, Рёрик-Рюрик не имеет отношения к Ютландии и Фризии, он выходец из местной, то есть ладожской, династии скандинавов; эта версия не получила широкого распространения в научных кругах, но имеет свой резон.
Возвращаясь к Рёрику Ютландскому: Новгород, куда его «перевели» позднее, — очевидно, не совсем тот город, который сейчас носит это название. В древности резиденцией князей, правящих Новгородом, являлось Городище — укрепленное поселение в двух с лишним километрах от современного центра города. Позднее его прозвали «Рюриковым городищем». Оно возникло раньше торгово-ремесленного городка, переросшего в X–XI веках первоначальный, древний город местных славян и отобравшего у «старика» имя. И Рюрик, скорее всего, правил Северной Русью именно отсюда, из Городища.
В Ладоге ли он вокняжился, сразу ли попал в Новгород, вопрос не настолько важный по сравнению с другим: откуда Рюрика призвали? Из его фризских или зеландских владений? С Готланда? С территории современной Норвегии? Дании? Южной Швеции? Северной Германии? Если речь идет о Фризии и тем более о Зеландии — той, которая на территории Нидерландов, то это, мягко говоря, области, куда славянским послам пришлось бы добираться далековато… Удачливого варяжского лидера они могли отыскать и поближе. У Рёрика Ютландского, если это действительно он, хватало причин утратить свои земли — он вел бурную, полную опасностей жизнь, то завоевывал новые территории, то терял их, а заодно лишался и давно обретенных им областей. Таким образом, его могли отыскать, обезземеленного и лишившегося милости франкских королей, где-нибудь поближе к стране Гардарики — так скандинавы именовали земли, на которых вырастет Древнерусское государство. А потом конунг мог вернуться и возвратить себе кое-что из прежних владений. Но это — чисто теоретически.
Летописец вполне определенно исключил из числа народов, какие можно было бы считать «варяжской русью», англов, свеев, урман (так именовались норманны в целом, но в первую очередь норвежцы), готов (скорее всего, готландцев). Кто же остался? Во-первых, южношведский племенной союз гётов, которых иногда ассоциируют с ютами. Во-вторых, даны — в то время один из могущественнейших народов Европы. Рёрик — дан по крови. Владением данов в ту пору являлся остров Зеландия (не имеет отношения к Нидерландам, относится к территории современной Дании). Древним центром данов, имеющим сакральное значение, был город Роскилле, название которого верно произносится как Рускилле. Если Рёрик отступил сюда из прежних своих владений, расположенных намного западнее, то здесь он мог заниматься набором новых дружин. Аналогичным образом судьба могла привести его и на остров Рюген — владение западнославянского племени руян, время от времени оказывавшееся в подчинении у данов. Годится любая из этих гипотез, помимо них высказывались и иные, а точного ответа нет. И до Рюгена, и до Роскилле из Новгорода или Ладоги гораздо ближе, чем до Фризии, а также иных западных земель, коими владел Рёрик. Отсюда и русь, которая, всего вероятнее, — зеландские даны из Роскилле либо руяне. Притом, скорее, именно даны, ведь летопись относит «русь» к числу варяжских народов.
В отношении Синеуса с Трувором также высказывались самые разные предположения, вплоть до того, что их не признавали историческими личностями. По мнению нескольких крупных специалистов, слова «синеус» и «трувор» — отголосок не понятых летописцем-славянином древнешведских слов «синэ хюс» («свой дом») и «тру варинг» («верная дружина»). Вся фраза могла значить, что Рюрик прибыл на Русь со своим домом, то есть родом или семейством, и верной дружиной. Другой вариант: вместо «тру варинг» читать «тру эра» — «истинная слава». Стало быть, Рюрика сопровождали его семейство и честно заработанная слава. Еще один вариант: «тру вар» — «верным был» или «честным был». Возникает новый перевод: Рюрик явился с той частью своего семейства, которая проявила к нему верность.
Однако подобное толкование встретило немало возражений. И перевод выходит с натяжкой, и звучание этих слов в древнескандинавских языках было иным, и расставлялись в предложении они иначе, и сам Рюрик — дан, а не свей — вряд ли стал бы пользоваться языком иного народа. Тот же «хюс» означает, скорее, не «род», а именно «дом» в смысле «здание». Да и «варинг» не очень-то переводится как «дружина»…
К именам «Синеус» и «Трувор» придумано еще несколько «переводов». Но до сих пор не доказано, что это именно неправильно переведенные словосочетания, а не настоящие имена. Весьма возможно, Синеус и Трувор действительно существовали и Рюрик отдал им подчиненные княжения.
Подводя итоги, хотелось бы напомнить: Рюрик, кем бы он ни являлся, не стал правителем всей Руси. Он всего лишь оказался призван на княжение новгородцами и основал династию. Ни новой государственности он не создал, ни объединения восточнославянских земель под своей рукой не достиг.
Скандинавские народы находились примерно на той же стадии развития, что и восточнославянские. Они не могли «передать опыт государственного строительства», поскольку собственные государства у большинства из них сложатся позднее, чем на Руси. Между тем на восточнославянских землях ко времени призвания Рюрика уже существовали собственные протогосударственные объединения — племенные союзы, коалиции («конфедерации») племенных союзов и даже, по мнению некоторых специалистов, обширные «империи» — «каганаты». Не могли скандинавы без согласия и прямой военной помощи славян править ими, поскольку располагали слишком незначительными силами для успешного захвата огромных территорий. Они могли получать плату за использование их дружин для обороны славянских земель и за решение тех сложных дел, где требовался верховный арбитр, стоящий «над схваткой». Не при Рюрике, а гораздо позднее власть скандинавских пришельцев переродится из прерогатив военных вождей и судебных арбитров в прерогативы государей. К тому времени они успеют крепко ославяниться…
ИГОРЬ Лихоимец
В 879 году скончался Рюрик, правитель новгородский и ладожский. При кончине его никакого Древнерусского государства еще не существовало. Наследником Рюрика на его княжении стал Игорь, пребывавший в младенческом возрасте. «Умерило Рюрикови, — говорит летопись, — предаст княженье свое Олгови от рода ему суща, выда ему сын свой на руце Игорь, бысть бо детеск вельми». Олег был представителем рода Рюрикова, но не сыном и не родным братом Рюрика, а, может быть, племянником или двоюродным братом[4].
Олег совершил несколько больших походов: вместе с варяжской дружиной, ополчением словен, кривичей, мери и чуди он взял Смоленск, а затем Любеч. Расширив свои владения, Олег решился на более рискованный шаг.
Он привел воинство к «горам киевским», где правили тогда могущественные вожди Аскольд и Дир. Хитростью Олег заманил их в ловушку. В ту пору Игорь еще оставался маленьким мальчиком. Именем его Олег повелел убить Аскольда с Диром, как правителей некняжеского рода. Захватив Киев, сделав его столицей, он объединил юг и север Руси. Условно именно это событие, поставленное летописцами под 882 годом, считают истоком древнерусской государственности.
Здесь, на Киевщине, Олег начал «городы ставити», а также установил для мери, словен и кривичей дань в пользу варягов. Позднее он вооруженной рукой принудил к данничеству древлян и северян. Последние ранее платили тяжелую дань Хазарскому каганату, Олег же установил им более легкую. Радимичи заупрямились было, и тогда Олег определил им дань столь же обременительную, как и хазарская. С племенными союзами уличей и тиверцев киевский правитель начал войну, однако те оказали более упорное сопротивление. Когда от них удалось добиться дани — вопрос дискуссионный. Судя по летописи, в ту пору Олегу подчинялись, помимо Киева, Новгорода, Смоленска и Любеча, также Чернигов, Полоцк, Переяславль-Южный и Ростов.
На годы его княжения пришлось и не столь славное событие: через Киевскую землю прошел великий поток переселяющихся западнее «угров» (венгров). Грозное движение целого народа не привело к большой войне, но и остановлено быть не могло. Между тем венгры относились к славянам враждебно.
Игорь понемногу подрастал, во всем слушаясь Олега. Из Псковской земли, возможно, из местности близ Изборска, ему привели жену — Ольгу.
Под 907 годом летопись приписывает Олегу победоносный поход на византийцев. Он взял огромный выкуп да еще навязал грекам исключительно выгодные условия приема купцов-русов в Константинополе — Царьграде. Несколько лет спустя договор был возобновлен и расширен. Теперь он определял еще и порядок судопроизводства по поводу преступлений, касавшихся русов или их имущества и совершенных на территории Византии (912 год).
Вскоре после этого Олег скончался от укуса змеи — после тридцати трех лет княжения[5].
На протяжении всего Олегова похода на греков юный Игорь оставался в Киеве. Возможно, это был его первый опыт самостоятельного правления. Фактически Игорь, прямой законный наследник, оказался в роли Олегова соправителя, притом первенство сохранялось за Олегом. Возможно, это первенство являлось результатом большей опытности, удачи, авторитета, воинского дара и т. п. А возможно, в какой-то момент произошло разделение функций: Олег взял на себя роль «сакрального» вождя русов и предводителя их в больших военных предприятиях, Игорю же достались «текущие дела» государственного управления. За Олегом закрепилась репутация «Вещего», он был тесно связан с «волхвами» и «кудесниками». Даже смерть его, по легенде, была предсказана кудесником. Вероятно, в его ведении оказалось «жреческое сословие» со всеми специфически присущими ему делами. Игорь до кончины Олега мог пользоваться верховной властью лишь частично, а страна пребывала в состоянии «двоевластия».
Когда Олег ушел из жизни, на киевском престоле оказался взрослый мужчина. Наблюдая за делами правления весьма одаренного предшественника, он успел набраться от него опыта.
Согласно летописному известию, самостоятельное княжение Игоря началось в 913 году. Раннее летописание отличается крайней неточностью в датах. Все летописные даты за IX–X века имеют условный, в лучшем случае приблизительный характер. Вокняжение Игоря — не исключение, дата сего события соответствует исторической действительности лишь примерно.
Как только тяжелая рука Олега отпустила прежних данников Рюрикова рода, некоторые из них почли за благо отложиться от Киева. Первыми независимый характер показали древляне — огромный племенной союз, занимавший лесистые земли северо-западнее Киева. Они, как сообщает летопись, «…затворишася от Игоря по Олегове смерти».
Игорь отправился на древлян походом, победил их, а затем возложил дань больше прежней. Это, видимо, усилило напряжение, существовавшее между Киевом и Искоростенем — столицей древлянских князей.
Вскоре после древлянского похода на Русь вторгся многолюдный союз кочевых племен, главным образом тюркоязычных. Они запомнились летописцам под именем «печенегов». Степняки заключили с Игорем мир, обеспечив себе спокойные тылы, и отправились на Дунай. Позднее печенеги станут опасными врагами Руси. Когда отношения между Русью и Византией портились, греческие императоры использовали печенегов как инструмент вооруженного давления на Киев. Впрочем, иногда и русские князья вступали со степняками в союзнические отношения.
Через пять лет после заключения мира Игорю все же пришлось идти на печенегов войной. Очевидно, русско-печенежское пограничье оставалось немирным, оседлая Русь подвергалась набегам кочевников.
На протяжении двадцати лет русская летопись ничего не сообщает о правлении Игоря. Источники арабского и еврейского происхождения позволяют добрать информацию по крохам. Северное Причерноморье и Кавказ стали в ту пору излюбленным местом для набегов, совершавшихся из Киева. Между 909 и 914 годами отряды русов несколько раз вторгались в Прикаспий, выполняя то ли своего рода «заказ» Хазарского каганата, то ли союзнический долг по отношению к нему[6].
В 930-х годах (точнее сказать невозможно) русы получили от византийцев плату за нападение на Хазарский каганат. Они захватили хазарскую крепость Самкерц на Керченском полуострове. Но позднее хазарский полководец Песах совершил ответный набег на крымские владения византийцев. Поход закончился разорением трех городков и неудачной попыткой взять Херсонес. Затем Песах напал и на русское войско. Потерпев поражение, предводитель русов отдал всю добычу хазарам и обещал начать боевые действия теперь уже против Византии. Видимо, речь идет о неудачном походе князя Игоря.
Под 941 годом в летописи читается известие, служащее не к чести его. Князь напал на византийские владения с большим флотом. Ратники его опустошали северную часть Малой Азии на громадном пространстве. Это было настоящее бедствие для подданных императора. Русский смерч пронесся от провинции Понт до провинции Вифиния. Отряды русов появились у Гераклеи и Никомедии, на Мраморном море, то есть в опасной близости к самому Константинополю, а тысяча кораблей добралась до самой столицы «ромеев». Русы грабили, убивали, жгли церкви и села, подвергали чудовищным пыткам местных жителей. Болгары загодя сообщили византийским властям о приближении русов. Поэтому имперские полководцы быстро объединили силы нескольких балканских провинций для контрудара. В жестокой рубке эта сводная армия едва одолела свирепых пришельцев с севера. Русы вернулись на корабли и отступили в море. Но там их встретил византийский флотоводец Феофан. Он испугал греческим огнем рать Игоря, спалил часть «лодий», прочие же заставил уйти домой.
Киевский правитель, не стерпев позора, начал готовиться к новому походу, послал «по варяги многи за море». Князь надеялся на буйную силу варяжских дружин…
В 944 году Игорь выступил в поход с объединенной варяго-славянской армией, наняв еще и отряд печенегов. Часть воинства поплыла на «лодьях», другая же отправилась на конях. Император Роман I Лакапин, упрежденный о вторжении, предпочел откупиться. Игорь дошел с конниками до Дуная и здесь получил щедрое предложение византийцев. Рассудив, что лучше «взять злато и паволоки», не бившись, он принял дары императора, послал печенегов на болгар, а сам возвратился на Русь.
Годом позже стороны заключили мир. Новый договор оказался далеко не столь выгодным, как первый, утвержденный еще при Олеге. Игорь проявил себя как скверный полководец, слабый дипломат и человек, жадный до звонкой монеты. Мудрости и воинского дарования, присущих Олегу, он явно не имел.
Жажда обогащения в конечном итоге и погубила князя.
Владея золотом византийским, Игорь пожелал еще и с древлян взять большую дань, чем ранее. Алчность князя подстегивали богатства служившего ему воеводы Свенельда. Тот недавно совершил какое-то крупное военное предприятие и пришел в Киев со сказочной добычей. Историками делались предположения, согласно которым Свенельдова дружина совершила опустошительный набег на Бердаа — торговый центр в Прикаспии, принадлежавший североиранским государям. Некое воинство русов действительно захватило город в 943 году, удерживало его полгода или даже год, демонстрируя намерение закрепиться здесь навсегда. В 944 году оно совершило набег на соседнюю Мерагу. Но потом русы всё же отступили с добычей, более страдая от дизентерии, нежели от попыток местного правителя вытеснить их силой оружия. Весьма вероятно, что поход возглавлял Свенельд. Тогда его ратники, сохранив награбленное добро, имели все основания хвастаться в Киеве большим успехом.
В конце 945-го или начале 946 года Игорь отправился в последний свой поход, обуянный нестерпимым желанием лихоимства. Летопись повествует о его смерти без печали и даже с оттенком сочувствия врагам князя: «Рекоша дружина Игорева „Отроци Свенельжи изоделися… оружием и порты, а мы нази. Поиде, княже с нами в дань, да и ты добудеши, и мы“. И послуша их Игорь, иде в Дерева в дань и примышляше к первой дани, и насиляще им… Мужи его, возъемав дань, поиде в град свой. Идущее же ему вспять, размыслив, рече дружине своей: „Идите с данью домой. А я возвращуся похожу еще“. Пустив дружину свою домой, с малою дружиною возвратися, желая больша именья. Слышавше же деревляне, яко опять идет, сдумавше со князем своим Малом: „Аще повадится волк к овцам, но выносит всё стадо, аще не убьют его. Тако и се — аще не убьем его, то все ны погубит“. И пославша к нему: „Почто идеши опять? Поймал еси всю дань!“ И не послуша их Игорь. И вышедшее из града Изкоростеня деревляне, убиша Игоря и дружину его, бе бо их мало… Погребен бысть Игорь, есть могила его у Искоростеня-града в Деревах». По свидетельству византийского источника, Игоря разорвали на части, привязав к верхушкам деревьев и пригнув стволы к земле…[7]
В бесславной гибели Игоря Рюриковича виден прекрасный урок всем его преемникам. Русь его времени еще не получила правильной государственной организации. Это собрание областей, подчиняющихся Киеву и удерживаемых в данническом положении одной только силой. Но данничество не есть рабство: если перегнуть палку, держава, собранная Олегом, развалится, а правители ее подвергнут себя смертельной опасности.
ОЛЬГА И СВЯТОСЛАВ Реформатор и завоеватель
Княгиня Ольга не имеет кровного родства с Рюриком. Она — не Рюрикова рода. Однако судьба этой женщины оказалась неразрывно сплетена с судьбой ее сына Святослава. Пока он не подрос, княгиня являлась правительницей Руси. А когда Святослав вошел в возраст зрелости, обстоятельства далеко не сразу позволили ей сложить бремя власти. Сын дальние походы предпочитал устроению собственной земли. Вот и вышло: до поры его заменяла на киевском престоле мать, потом — сын.
Характеры эти двух людей, Ольги и Святослава, столь разные, взаимно дополняли друг друга. Рачительная хозяйка, первой начавшая вводить подлинно государственный порядок на Руси, Ольга не имела энергии к активной внешней политике, а неистовый боец Святослав, даровитый полководец, амбициозный завоеватель, горел покорением дальних земель, но не умел «вести хозяйство» своей громадной империи. Из них получился прекрасный тандем. И невозможно рассказывать о героическом периоде в истории Руси, приходящемся на середину X века, не объединив две эти фигуры в повествовании.
С именем Ольги связана мрачная поэтическая легенда о мести княгини убийцам ее супруга. Она рождена дружинной традицией слагать эпические сказания о подвигах и битвах, напоминает сагу и, возможно, была плодом творчества какого-нибудь варяжского скальда.
Соответственно, достоверность ее невелика. Да и события, давшие основу ее сюжету, произошли за много десятилетий до того, как на Руси появилось летописание, — даже если принять самые смелые гипотезы о времени его начала. Значит, история о мести Ольги могла многократно «преобразиться» в устах сказителей, покуда ученый монах не перенес ее на пергамен.
Легенда эта столь красива и столь страшна, что жаль подавать ее в пересказе. Пусть прозвучит она вся, от начала до конца, в летописном изложении:
«Ольга… была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кормилец его был Асмуд, а воевода Свенельд — отец Мстиши. Сказали же древляне: „Вот убили мы князя русского; возьмем жену его Ольгу за князя нашего Мала и Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим“. И послали древляне лучших мужей своих, числом двадцать, в ладье к Ольге, и пристали в ладье под Боричевым… И поведали Ольге, что пришли древляне, и призвала их Ольга к себе, и сказала им: „Гости добрые пришли“. И ответили древляне: „Пришли, княгиня“. И сказала им Ольга: „Так говорите же, зачем пришли сюда?“ Ответили же древляне: „Послала нас Деревская земля с такими словами: ‘Мужа твоего мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, потому что берегут Деревскую землю, — пойди замуж за князя нашего за Мала’“. Было ведь имя ему Мал, князю древлянскому. Сказала же им Ольга: „Любезна мне речь ваша, — мужа моего мне уже не воскресить; но хочу воздать вам завтра честь перед людьми своими; ныне же идите к своей ладье и ложитесь в ладью, величаясь, а утром я пошлю за вами, а вы говорите: ‘Не едем на конях, ни пеши не пойдем, но понесите нас в ладье’, — и вознесут вас в ладье“, и отпустила их к ладье. Ольга же приказала выкопать яму великую и глубокую на теремном дворе, вне града. На следующее утро, сидя в тереме, послала Ольга за гостями, и пришли к ним, и сказали: „Зовет вас Ольга для чести великой“. Они же ответили: „Не едем ни на конях, ни на возах и пеши не идем, но понесите нас в ладье“. И ответили киевляне: „Нам неволя; князь наш убит, а княгиня наша хочет за вашего князя“, — и понесли их в ладье. Они же сидели, величаясь, избоченившись и в великих нагрудных бляхах. И принесли их на двор к Ольге, и как несли, так и сбросили их вместе с ладьей в яму. И, склонившись к яме, спросила их Ольга: „Хороша ли вам честь?“ Они же ответили: „Горше нам Игоревой смерти“. И повелела засыпать их живыми; и засыпали их.
И послала Ольга к древлянам, и сказала им: „Если вправду меня просите, то пришлите лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские люди“. Услышав об этом, древляне избрали лучших мужей, управлявших Деревскою землею, и прислали за ней. Когда же древляне пришли, Ольга приказала приготовить баню, говоря им так: „Вымывшись, придите ко мне“. И натопили баню, и вошли в нее древляне, и стали мыться; и заперли за ними баню, и повелела Ольга зажечь ее от дверей, и тут сгорели все.
И послала к древлянам со словами: „Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие в городе, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и сотворю тризну[8] по своем муже“. Они же, услышав об этом, свезли множество меда и заварили его. Ольга же, взяв с собою небольшую дружину, отправилась налегке, пришла к могиле своего мужа и оплакала его. И повелела людям своим насыпать высокий холм могильный, и, когда насыпали, приказала совершать тризну. После того сели древляне пить, и приказала Ольга отрокам своим прислуживать им. И сказали древляне Ольге: „Где дружина наша, которую послали за тобой?“ Она же ответила: „Идут за мною с дружиною мужа моего“. И когда опьянели древляне, велела отрокам своим пить в их честь, а сама отошла недалеко и приказала дружине рубить древлян, и иссекли их 5000. А Ольга вернулась в Киев и собрала войско на оставшихся».
Насколько можно считать эту трагедию достоверным изложением событий, настолько — интуитивно! — хочется видеть в ней результат страсти, бушующей в груди несчастной женщины. Муж ее убит, а те, кто сгубил его, набиваются заменить любимого своим главарем… Как тут справиться с гневом? А ведь нравственные устои как варяжского, так и славянского язычества утверждают правильность и даже высокую моральную ценность мести!
Но, наверное, помимо темного очарования страстей, изнутри сжигавших княгиню Ольгу, следует учитывать и чисто прагматический аспект. Вокруг нее — варяжские воеводы и полянское боярство. Сплоченный круг людей, привыкших править, ни с кем не делясь возможностями, которые дарует высокое положение. Разве что с собственным князем. А древляне пытаются посадить им на шею своего князя, враждебного чужака! И, значит, прийти за ним в Киев, потеснить тамошнюю знать у кормила правления, прибрать к рукам источники ее доходов. Худшего хода они придумать не могли. Политическая элита Киевщины моментально сплотилась вокруг Ольги: убей! разрушь! отмсти! мы не желаем видеть среди нас ни одного из них! Тем более — князя, пришедшего со стороны.
Отсюда, вероятно, и происходит чудовищная свирепость Ольгиных поступков.
На следующий, по летописи — 946-й, год Ольга с сыном Святославом пошла на «Деревскую землю». Вряд ли мстительное чувство женщины оставалось в накаленном состоянии так долго. Новый поход под видом продолжения мести преследовал иную цель. Древляне со своей столицей Искоростенем, со своими князьями, со своей обособленностью представляли угрозу Киеву. Они ведь обитали по соседству, располагали большой воинской силой и к правителям киевским испытывали неприязненные чувства… Теперь появился идеальный повод уничтожить этот очаг опасной чужой силы.
Возможно, не столько Ольга, сколько боярство киевское и варяжская дружина настояли на безжалостной карательной акции.
Как сообщает летопись, древляне вышли против воинства княгини, решившись попытать счастья в поле. «И когда сошлись оба войска для схватки, Святослав бросил копьем в древлян, и копье пролетело между ушей коня и ударило коня по ногам, ибо был Святослав еще ребенок. И сказали Свенельд и Асмуд: „Князь уже начал; последуем, дружина, за князем“. И победили древлян. Древляне же побежали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном своим к городу Искоростеню, так как те убили ее мужа, и стала с сыном своим около города, а древляне затворились в городе и стойко оборонялись из города, ибо знали — убив князя, не на что им надеяться. И стояла Ольга все лето и не могла взять города, и замыслила так: послала она к городу со словами: „До чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и согласились на дань и уже возделывают свои нивы и земли; а вы, отказываясь платить дань, собираетесь умереть с голода“. Древляне же ответили: „Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего“. Сказала же им Ольга, что-де „я уже мстила за обиду своего мужа, когда приходили вы к Киеву, и во второй раз, а в третий — когда устроила тризну по своем муже. Больше уже не хочу мстить, — хочу только взять с вас небольшую дань и, заключив с вами мир, уйду прочь“. Древляне же спросили: „Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе мед и меха“. Она же сказала: „Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора по три голубя да по три воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжкой дани, как муж мой, поэтому-то и прошу у вас мало. Вы же изнемогли в осаде, оттого и прошу у вас этой малости“. Древляне же, обрадовавшись, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали к Ольге с поклоном. Ольга же сказала им: „Вот вы и покорились уже мне и моему дитяти, — идите в город, а я завтра отступлю от него и пойду в свой город“. Древляне же с радостью вошли в город и поведали обо всем людям, и обрадовались люди в городе. Ольга же, раздав воинам — кому по голубю, кому по воробью, приказала привязывать каждому голубю и воробью трут, завертывая его в небольшие платочки и прикрепляя ниткой к каждому. И, когда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей и воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда: голуби в голубятни, а воробьи под стрехи, и так загорелись — где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где бы не горело, и нельзя было гасить, так как сразу загорелись все дворы. И побежали люди из города, и приказала Ольга воинам своим хватать их. А как взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а прочих людей убила, а иных отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань»[9].
Утолив месть, разгромив источник угрозы Киеву, Ольга с тех пор не воевала. Более того, она решила исправить ошибку, совершенную покойным супругом. Земли, подвластные киевским правителям, всерьез опасались произвола при сборе дани — ее стремительного увеличения, взимания не в срок, разорительных пиров княжеской дружины в тех местах, куда княжьи ратники являлись за данью. А страх — всегда плодородная почва для мятежей и «котор». Ольга ввела порядок в хаос отношений между Киевом и его данниками. Иными словами, провела первую государственную реформу.
По словам летописи, для древлян княгиня установила тяжелую, но строго определенную дань. Две трети от нее шли в Киев, а треть — в Вышгород, резиденцию самой Ольги. Княгиня также указала места для ее сбора и «ловища» — местности, где правитель с дружиной имели право охотиться. На следующий год Ольга отправилась к Новгороду. По Мете и Луге она установила «погосты» — пункты, куда следовало свозить дань[10]. Правительница также определила, каков ее размер и где может охотиться князь с дружинниками.
Она действовала миром, желая поставить на регулярную основу взаимодействие центра державы с подвластными областями.
К 955 году летопись относит путешествие княгини Ольги в Константинополь. По другим источникам, это произошло осенью 957 года. Вторая дата более достоверна. К тому времени Святослав должен был подрасти и принять бразды правления — хотя бы отчасти. Поэтому не стоит видеть в плавании его матери к грекам визит главы государства.
Летопись не называет причин, по которым Ольга решила посетить византийскую столицу. Причины эти могли быть разнообразными: от необходимости обновить договор, заключенный покойным Игорем, до поиска выгодного брака для сына или еще кого-то из родни. Греческие источники свидетельствуют, что Ольгу сопровождали племянник (двоюродный брат?) и 43 купца. Это наводит на мысль о переговорах по торговым делам и о подборе знатной невесты племяннику. Византия поддерживала с Киевским княжеским домом тесные связи. Речь идет не только и даже не столько о походах русов на земли императоров. Между двумя странами шла оживленная торговля, велись переговоры о найме дружин для использования их на полях сражений Империи, составлялись договоры о действиях против общего врага — Хазарского каганата. Очевидно, накопились дела, для урегулирования которых понадобился столь высокий гость.
История, рассказанная летописцем, возвеличивает княгиню. Но она как будто нарочно составлена так, чтобы оттенить действительные резоны ее поездки, а также то, насколько Ольга решила поставленные задачи.
«И был тогда царь Константин, сын Льва[11], — говорит летопись, — и пришла к нему Ольга, и, увидев, что она очень красива лицом и разумна, подивился царь ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: „Достойна ты царствовать с нами в столице нашей“. Она же, поразмыслив, ответила царю: „Я язычница; если хочешь крестить меня, то крести меня сам — иначе не крещусь“. И крестил ее царь с патриархом. Просветившись же, она радовалась душой и телом; и наставил ее патриарх в вере, и сказал ей: „Благословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя сыны русские до последних поколений внуков твоих“. И дал ей заповеди о церковном уставе, и о молитве, и о посте, и о милостыне, и о соблюдении чистоты телесной. Она же, склонив голову, стояла, внимая учению, как губка напояемая; и поклонилась патриарху со словами: „Молитвами твоими, владыка, пусть буду сохранена от сетей дьявольских“. И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице — матери Константина Великого. И благословил ее патриарх, и отпустил. После крещения призвал ее царь и сказал ей: „Хочу взять тебя в жены“. Она же ответила: „Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается это — ты сам знаешь“. И сказал ей царь: „Перехитрила ты меня, Ольга“. И дал ей многочисленные дары — золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные; и отпустил ее, назвав своею дочерью. Она же, собравшись домой, пришла к патриарху и попросила у него благословения дому, и сказала ему: „Люди мои и сын мой язычники, — да сохранит меня Бог от всякого зла“. И сказал патриарх: „Чадо верное! В Христа ты крестилась и в Христа облеклась, и Христос сохранит тебя, как сохранил Еноха во времена праотцев, а затем Ноя в ковчеге, Авраама от Авимелеха, Лота от содомлян, Моисея от фараона, Давида от Саула, трех отроков от печи, Даниила от зверей, — так и тебя избавит он от козней дьявола и от сетей его“. И благословил ее патриарх, и отправилась она с миром в свою землю, и пришла в Киев…»[12]
Искала ли Ольга крещения в Константинополе? Вряд ли. Во всяком случае, это не могло быть главной причиной ее визита. Стать христианкой она могла, не покидая «стольного града», — отыскался бы священник. На Русь христианство начало проникать как минимум со второй половины IX века. К середине X века здесь прекрасно знали это вероучение, появились и первые храмы. Совершать дорогостоящее и опасное путешествие ради услуг иерея — бессмыслица.
Другое дело, что в самом Константинополе Ольга могла проникнуться доверием и восторгом в отношении Христовой веры. Богослужение в Святой Софии, одном из прекраснейших храмов мира, да хотя бы одно пребывание под ее сводами могли способствовать подобному движению души. Могло быть и по-другому: Ольга приняла крещение, желая использовать этот шаг в какой-то сложной политической игре. Остался лишь намек на реальную дипломатическую интригу: щедро одарив Ольгу, император попросил у нее прислать воинов, но та отказала.
Хотел ли на самом деле император Константин VII, женатый правитель зрелых лет, брака с иноземкой — регентшей при взрослом или почти взрослом сыне? Вот уж вряд ли.
Неизвестно, когда родилась Ольга, сколько жен было у Игоря, сколько его детей осталось в живых к тому времени, когда Игоря убили древляне. О молодых годах Ольги твердо установлено немногое: она происходила из варяжского рода[13], жившего на Псковской земле, и стала супругой Игоря еще при жизни Олега[14]. А значит, появилась на свет в конце IX, самое позднее — в первых годах X столетия. Редкий, скажем так, случай, когда дама весьма зрелых лет (к 957 году!) оказалась способна заворожить кого-либо до потери здравого смысла… В одном из современных фэнтезийных романов автор, сделав соответствующие вычисления и оторопев от получившихся цифр, объяснил страсть, якобы внезапно вспыхнувшую у Константина VII… проделками славянской ведьмы! И это, пожалуй, наиболее реалистичное объяснение… Но брачная тема, как уже говорилось, вполне могла звучать на переговорах. Просто она отразилась в сказаниях о путешествии Ольги искаженным образом, поставив в центр повествования княгиню, а не тех, с кем была реально связана.
Для Ольги крещение не стало пустой формальностью. Она отдалась новой вере всем сердцем.
Обычно в таких случаях примеру властителя следуют его слуги, приближенные и родня. Вернувшись домой, княгиня почувствовала, что становится примером для подражания. Тогда она попыталась учить христианству тех, кто прислушивался к ней[15]. Русский закон не возбранял принимать крещение желающим. Однако языческая среда издевалась над ними, называя их веру «уродством».
Так поступал и ее собственный сын Святослав. Ольга приступала к нему с увещеваниями. Она желала, чтобы князь разделил с нею радость, полученную вместе с крещением. Но тот отвечал: «Да надо мною дружина станет смеяться!» Княгиня парировала: «Ты крестишься, так и все крестятся вслед за тобой». Но тот решительно отвергал все ее уговоры, предпочитая оставаться язычником.
Что ей оставалось? Летописец с грустью говорит о тщетных попытках Ольги переубедить сына: «Ольга любила… Святослава и говаривала: „Да будет воля Божья; если захочет Бог помиловать род мой и землю Русскую, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне“. И, говоря так, молилась за сына и за людей всякую ночь и день, воспитывая сына до его возмужалости и до его совершеннолетия». Молитвы Ольги не останутся неуслышанными. Христианство встанет на Руси твердой ногой — правда, не при сыне ее, а при внуке.
К полутора десятилетиям, проведенным Ольгой во христианстве, восходит предание, согласно которому княгиня сначала поставила крест у слияния рек Псковы и Великой, а затем дала средства на основание там собора во имя Святой Троицы. Впоследствии Троицкая церковь станет главнейшей на всей Псковщине.
Сын Ольги Святослав вышел на политическую арену в 940-х годах. По византийским источникам известно, что он правил в Новгороде то ли в середине 940-х, то ли в конце десятилетия, но не позднее 949 года. И это удивительный для современного человека факт! Традиционно считается, что княжич родился в 942 году. Таково летописное известие. Тогда… на новгородское княжение мать отпустила его маленьким мальчиком. Да, так бывало: правители Руси нередко отпускали сыновей, достигших девяти-, одиннадцатилетнего возраста на княжение — как представителей своей власти. Конечно, с ними отправлялись бояре, воеводы, они-то и занимались делами, пока мальчик рос. Но… семь лет? Или даже меньше? Либо Святославу дали очень серьезных наставников, либо он родился несколько раньше. И альтернативные версии о дате его рождения есть: некоторые специалисты переносят ее к 920 году. Пока большинство историков придерживаются традиционной точки зрения, но почва для сомнений тут имеется.
По мнению летописца, далеко не бесспорному, Святослав возмужал и набрал дружину в первой половине 960-х годов. Именно к тому времени относятся два словесных портрета прославленного воителя. Первый из них с почтением нарисован был словами Святославовых ветеранов первому киевскому летописцу. Это портрет, сложенный из камней восхищения и скрепленный раствором тоски по ушедшему герою: «Был… он храбр, и ходил легко, как пардус[16], и много воевал. Не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, — такими же были и все остальные его воины. И посылал в иные земли со словами: „Хочу на вы идти“»[17].
А вот его же облик глазами врагов, византийцев: «Среднего росту, ни слишком высок, ни слишком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским носом, с бритою бородою и с густыми длинными висящими на верхней губе волосами. Голова у него была совсем голая, но только на одной ее стороне висел локон волос, означающий знатность рода; шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и диким. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами, с рубином, между ними вставленным. Одежда на нем была белая, ничем, кроме чистоты, от других не отличная».
Очевидно, миролюбие Ольги, ее христианская склонность избегать смертоубийства, войн, насилия порядком надоели киевской дружине. «Что за жизнь, — рассуждали, надо полагать, ратники, — без хорошей войны? Где добыча наша? Где слава? В песок уходят годы, а нам никак не дают напоить мечи кровью иноплеменников! Бабою управляемся, и сами стали как бабы. Было же времечко — крошили деревлян, о том песни спеты! Но добро, там с бою взятое, давно прожито. Отчего нет нам новой забавы? Кто сложит о нас высокое сказание, когда мы сидим сиднями, с печей не сходя?!»
Лютую страсть к вооруженной борьбе, к неистовству сечи, к добыванию богатства копьем и мечом заскучавшая дружина с особенной надеждой воспитывала в молодом князе. А когда возмужал он, так на него, наверное, смотрели как на исполнителя тайных желаний, как на освободителя от скуки мирного житья.
Первый большой поход Святослав совершил на вятичей в середине 960-х годов. Этот союз восточнославянских племен с небольшим добавлением племен балтских занимал колоссальную территорию к северо-востоку от Киева. Святослав дошел с войсками до Оки и Волги. Узнав, что вятичи платят дань Хазарскому каганату, князь на следующий год двинулся на хазар. Против него вышел сам каган (правитель) с войсками. В жестокой битве хазары были разбиты, под ударами Святославовой дружины пал их город Белая Вежа (Саркел).
По летописной хронологии, разгром Хазарского каганата приходится на 965 год. Это могущественное государство включало в себя Нижнее Поволжье, часть Крыма, степи Подонья, Северный Кавказ. Государственной религией хазарской державы с рубежа VIII–IX веков являлся иудаизм, хотя часть населения исповедовала ислам. Обширные славянские области, позднее вошедшие в состав Древней Руси, платили хазарам дань. Каганат постоянно вел войны и претендовал на полное господство в своем регионе. Однако поход Святослава нанес ему страшную рану.
Вятичи, освободившись от хазар, очевидно, не желали покоряться русам. Но были побеждены и начали платить дань Киеву. Летопись говорит о двух походах Святослава на вятичей, но, возможно, состоялся всего один — в 964 или 965 году: он-то и привел к покорению племенного союза Киеву.
Хазария начала было восстанавливать силы, однако новый поход Святослава в союзе с тюрками огузами (конец 968-го или самое начало 969 года) привел к гибели двух крупнейших хазарских городов — Итиля и Семендера. С тех пор Хазария более не играла сколько-нибудь значительной роли. История ее как великой державы была исчерпана.
Между двумя походами на хазар Святослав совершил самое громкое деяние во всей своей биографии.
В 968 году византийцы договорились с киевским правителем о совместных действиях против Болгарского царства. Его население составляли частично славяне, частично же пришлое тюркское племя. Два этноса понемногу смешивались, из их слияния родился болгарский народ. Болгары требовали от Константинополя дани. Император Никифор Фока пошел против них с войсками, но не преуспел. Тогда он отправил на Русь опытного дипломата — херсонита Калокира. Тот раздал в Киеве полторы тысячи фунтов золота (без малого 500 килограммов). Но более золота Святославу понравилась идея, завоевав болгарские земли, «удержать страну в собственной власти».
Византийский историк Лев Диакон повествует о дальнейшем: Святослав, «человек пылкий, отважный, сильный и деятельный, возбудил все юношество тавров[18] к сему походу. И так, собрав ополчение, состоящее из шестидесяти тысяч храбрых воинов, кроме обозных отрядов…», он отправился на Дунай. Калокир сопровождал его, удостоившись дружбы и доверия. Византийский вельможа вошел в свиту князя. Он действовал уже не как императорский дипломат, а как советник Святослава и, вероятно, мысленно примерял на себя императорский венец. Болгары выступили против русов с тридцатитысячным войском. Русы, сойдя с судов, «…простерли пред собою щиты, извлекли мечи и начали поражать их без всякой пощады. Они (болгары) не выдержали первого сего нападения, обратились в бегство и, к стыду своему, заперлись в Доростоле (укрепленный город)[19]. Тогда, говорят, предводитель их Петр, человек благочестивый и почтенный, тронутый сим нечаянным бегством, получил параличный удар и вскоре переселился из сей жизни». Известно, что незадолго до смерти болгарский царь Петр постригся в иноки. Кончину он встретил в монастыре. Его дети Борис и Роман очутились у Святослава в плену. Впоследствии киевский правитель использовал их как марионеточные фигуры. Борис сделался подчиненным ему правителем.
Осенью 968 года Доростол, Преслав[20] и другие болгарские крепости достались Святославу. Укрепившись на завоеванных территориях, он сейчас же потребовал дань с самих византийцев. И те, не имея воинской силы в сборе, видимо, какое-то время откупались от русов.
Так совершился величайший успех киевского правителя. Святослав ненадолго превратился в фигуру, перед которой трепетала вся Восточная Европа. Разбитые болгары боялись его больше, нежели старинных неприятелей греков. При первом признаке сопротивления он применял силу, а пленников сажал на кол.
Тогда Никифор Фока начал понимать, что призвал с севера племя куда более грозное, нежели привычный враг — болгары. Он затеял с бывшим неприятелем переговоры, желая установить союз против русов, им же приглашенных на Балканы. Но исправить положение император не успел: его самого убили заговорщики. На престол взошел новый император, выдающийся полководец Иоанн Цимисхий…
Год 968-й принес Киеву большую беду: пока Святослав гонялся за славой и приращением новых земель на Балканах, а затем по второму разу проходил с огнем и мечом Хазарию[21], Киев осадило великое воинство печенегов. В кольце блокады оказалась и Ольга с внуками. Киевляне едва смогли подать весточку из кольца осады. Воевода Претич с малой дружиной приблизился к городу и спугнул печенегов, принявших его за Святослава с главными силами. Он сообщил врагам, что сам князем не является, но господин его следует за ним с бесчисленным войском.
Киев был спасен от гибельной угрозы. Но для всего населения Южной Руси печенежское нашествие стало горьким уроком. Ратники уходили с князем за тридевять земель, оставляя свою страну без защиты! Как знать, не вернутся ли в самом скором времени степняки, пока еще обманутые словами Претича, но вполне способные быстро оценить реальную обороноспособность Киева?
Киевляне послали к Святославу гонцов со злыми словами, и, вернее всего, Ольга одобрила эти укоризны: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?» Услышав это, Святослав с дружиной вернулся из Хазарии в Киев. Он «…собрал воинов и прогнал печенегов в степь, и наступил мир».
Ненадолго приостановив свои далекие военные предприятия, Святослав принялся улаживать дела правления в «своей отчине». Князь давно не видел в Киеве истинного «стольного града» своей державы. Он предпочитал Киеву Переяславец. «То есть средина земли моей, — говорил Святослав, — яко тут все блага сходятся. От грек — злато, паволоки, овощеви разноличныя. Из чех, из угр — сребро и комони (кони. — Д. В.). Из Руси же — скора (кожи или меха. — Д. В.) и воск, и мед, и челядь». Князь соглашался оставить сына Ярополка государем киевским — но подчиненным своему переяславскому правительству.
Ольга опечалилась. Она сделалась к тому времени старухой, сын же, пренебрегая ее годами, спокойно бросал мать дома. На закате лет княгиня выпросила у сына одну невеликую милость: чтобы он ушел в новый поход лишь после того, как она простится с жизнью. Смертельная болезнь уже мучила ее, и короток выходил остаток ее жизни…
Ольга ушла на встречу с Царем Небесным через три дня после разговора с сыном, 11 июля 969 года. Княгиня велела похоронить ее по христианскому обычаю, под молитвословие священника, а устраивать после погребения состязания и пиры, как того требовала языческая традиция, запретила. Святослав, равнодушный к Христовой вере, не пожелал, однако, проявить ослушание. Некий «презвитер» проводил княгиню в последний путь.
Летописец так сказал о ней: «Была предтечей христианства на Руси, словно утренняя звезда перед восходом солнца».
Русская церковь почитает княгиню Ольгу как «равноапостольную». Главный день ее поминовения — 11 июля[22].
Осенью 969 года, еще при василевсе Никифоре, киевский князь вернулся на театр военных действий. Он стоял с сильными полками на Дунае и смертельно досадовал. Дома пришлось задержаться, и эта задержка стоила ему Болгарии!
Подданные взбунтовались против него — болгары больше не желали подчиняться русам. Возвратившись на Дунай, Святослав узнал: Преслав пал, греческие воеводы движутся против него, захватывая второстепенные города, а болгары переходят на сторону Никифора Фоки. Князь нанес стремительный контрудар. По словам летописца, «…пришел Святослав в Переяславец, и затворились болгары в городе. И вышли болгары на битву со Святославом, и была сеча велика, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам: „Здесь нам и умереть: постоим же мужественно, братья и дружина!“ И к вечеру одолел Святослав, и взял город приступом, сказав: „Это мой город!“ И послал к грекам со словами: „Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как и этот город“. И сказали греки: „Невмоготу нам сопротивляться вам, так возьми с нас дань и на всю свою дружину и скажи, сколько вас, и дадим мы по числу дружинников твоих“. Так говорили греки, обманывая русских, ибо греки мудры и до наших дней. И сказал им Святослав: „Нас двадцать тысяч“, и прибавил десять тысяч: ибо было русских всего десять тысяч. И выставили греки против Святослава сто тысяч и не дали дани. И пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Когда же русские увидели их — сильно испугались такого великого множества воинов, но сказал Святослав: „Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим — позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о себе сами позаботьтесь“. И ответили воины: „Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим“. И исполнились русские и греки друг на друга. И сразились полки, и окружили греки русских, и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки бежали. И пошел Святослав к столице, воюя и разрушая другие города, что стоят и доныне пусты»[23].
Грекам вновь пришлось откупиться.
Обе стороны преувеличивают силы друг друга. Греки насчитали в армии Святослава 60 тысяч бойцов, он же располагал 10 тысячами. Императорская армия при величайшем напряжении усилий могла выставить порядка 30 тысяч воинов, а Святослав увидел в одном лишь ее второстепенном корпусе, отряженном оборонять Константинополь, 100 тысяч.
Новый василевс предложил Святославу покинуть Болгарию. Тот запросил большой выкуп. Цимисхий отвечал гордо — тогда и Святослав проявил гордыню. Князь пообещал императорским послам, что явится под стены Константинополя.
Зимой — весной 970 года ни Святослав, ни Цимисхий не могли вести масштабные боевые действия. Оба были заняты другими делами. Киевский правитель набирал войско из союзных болгар и печенежских наемников. Цимисхий лихорадочно перебрасывал войска из Малой Азии в Европу.
Император рассматривал русов как очень серьезную угрозу, нависшую над его столицей с севера. А потому, как только под рукой его собрались солидные силы, отправил против него двух полководцев — Варду Склира и патрикия Петра со сдерживающим контингентом войск в 12 тысяч ратников.
Под Аркадиополем греческие полководцы вступили в сражение с русско-болгарской армией. Битва длилась долго и шла с великим ожесточением. Сначала отступил передовой отряд греков. Потом подверглись разгрому печенежские наймиты Святослава. Борьба основных сил долго не могла выявить сильнейшего. Но вот двое предводителей русов пали в битве. Их гибель лишила подчиненных воли к победе, и всё войско отступило, теряя порядок.
Очевидно, это был частный успех греков, поскольку Лев Диакон сейчас же добавляет: русы «…делали нечаянные набеги, грабили и без пощады опустошали Македонию и тем весьма много вредили римлянам (византийцам. — Д. В.). Начальство над войском тогда было поручено магистру Иоанну, человеку чрезмерно преданному лености и пьянству, в воинских делах неопытному и неискусному, от чего русы сделались надменнее и отважнее».
До конца 970 года борьба за Болгарию велась малыми силами и с переменным успехом. Цимисхий увяз в войне на другом фронте, ему пришлось увести победоносные отряды Склира.
Лишь много месяцев спустя император принялся спешным образом возвращать войска из Малой Азии. Он намеревался весной — летом 971 года нанести решающий удар. Когда установилась теплая погода, Цимисхий вышел с основными силами. Ему удалось собрать около пятнадцати тысяч пехоты и чуть менее конницы.
Неожиданно появившись близ Преслава, он отбросил заслон русов и осадил город. Византийцы взяли Преслав штурмом, после ожесточенного боя. Болгарский царь Борис, союзник Святослава, оказался у них в плену.
Оттуда Цимисхий двинулся к Доростолу. Святослав принужден был сконцентрировать армию для защиты города. Под его стенами произошло генеральное сражение. Оно длилось несколько часов. Русам пришлось отступить и укрыться в Доростоле.
Лето 971 года заняла тяжелая для обеих сторон осада Доростола. Византийцы использовали разного рода метательные машины. По Дунаю они привели флотилию кораблей, оснащенных зажигательной смесью — «греческим огнем». Святославова дружина отвечала дерзкими вылазками. Одна из них закончилась разгромом византийского обоза. Другая — смертью Иоанна Куркуаса, византийского начальника над баллистами и катапультами. На следующий день в стычке под стенами города погиб один из вождей русов — Икмор. Лев Диакон, устрашенный языческими обычаями русов, сообщает: «Как скоро наступила ночь и явилась полная луна на небе, то русы вышли на поле и собрали все трупы убитых к стене и на разложенных кострах сожгли, заколов над ними множество пленных и женщин. Совершив сию кровавую жертву, они погрузили в струи реки Истра (Дуная. — Д. В.) младенцев и петухов и таким образом задушили…»
Наконец Святослав вывел полки для последней битвы. Он уже не чаял победы, но решил не лишаться чести. «Русская мощь была до сего времени непобедима, — с такими словами, по мнению греков, обратился князь к соратникам, — сразимся мужественно за жизнь нашу. У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить победителями, или, совершивши знаменитые подвиги, умереть со славою».
Новая битва долго не приносила успеха ни одной из сторон. Удача как будто улыбнулась Святославу: пал один из предводителей императорского воинства, некий Анемас. Но в конечном итоге численное превосходство помогло Цимисхию. Святослав, раненый, вновь отступил в Доростол. Видимо, и греки потеряли так много, что продолжение кампании вызывало у них большие опасения.
Обе стороны, до крайности изнеможенные, на другой день начали переговоры. Святослав лично встретился с Цимисхием посреди Дуная в ладье. Князь договорился без боя сдать Доростол и всех военнопленных, а затем уйти на Русь, отказавшись от завоеваний. За это император гарантировал ему мирный проход через расположение своих войск и отводил корабли с «греческим огнем». Русам также давали хлеба на всё войско в дорогу. Торговые отношения между двумя странами восстанавливались в полной мере.
Смерть Святослава поучительна. Он возвращался домой, овеянный славой, но потерявший все захваченные области. Несколько лет героических усилий пошли прахом. В лучшем случае его воины уносили с собой часть добычи — деньги, коими византийская столица от них откупилась, да еще уводили пленников-болгар. Но князь вовсе не думал, что война закончена. Он мечтал прийти в Болгарию вновь, набрав большую силу…
Но пришел конец горделивому ратоборцу. Летописец рассказывает о гибели князя с оттенком поучения, впрочем, уместного для таких обстоятельств: «Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к порогам. И сказал ему воевода отца его Свенельд: „Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги“. И не послушал его, и пошел на ладьях. А переяславцы[24] послали к печенегам сказать: „Вот идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа“. Услышав об этом, печенеги заступили пороги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову, и перезимовал Святослав. Когда же наступила весна, отправился Святослав к порогам. Пришел Святослав к порогам, и напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него. Свенельд же пришел в Киев к Ярополку».
Великий воитель ушел из жизни весной 972 года — без славы и без пользы для Руси.
ВЛАДИМИР СВЯТОЙ Креститель
Жизнь крестителя Руси, великого князя Владимира, высвечена историческими свидетельствами на всем пространстве его зрелости и старости. Но детство будущего правителя тонет во тьме.
Неизвестно, когда у великого князя Киевского Святослава родился сын Владимир. По соображениям одних историков, это произошло между 942 и 955 годами, по соображениям других, — в конце 950-х, может быть, в 960-м. Его мать — ключница княгини Ольги Малуша, дочь некоего Малка Любечанина и сестра одного из Святославовых воевод, Добрыни. По законам Древней Руси ключник или ключница, ведавшие хозяйством знатного человека и потому носившие ключи от его складов, погребов, клетей, становились к нему в отношение рабства. Происхождение от «рабы» наложило отпечаток на всю судьбу Владимира Святославича.
Первое упоминание Владимира относится к 968 году или самому началу 969-го. На Русь вторглись печенеги, в то время как Святослав пребывал в дальнем походе на Дунае. Враги осадили Киев, где княгиня Ольга «затворися… со внуки своими Ярополком и Олегом и Володимером». Осада не принесла степнякам удачи, но вскоре после того, как печенеги ушли, скончалась Ольга.
В 969 году новгородцы попросили себе у Святослава князя, и тот дал им Владимира, отправив с ним Добрыню как опытного советника. Таково первое участие сына Малуши в делах большой политики.
Покуда юный Владимир рассуживал новгородцев и вел дела северорусской области, его отец Святослав не вылезал из войн на Дунае. Еще в 969 году вместо себя он посадил киевским князем старшего сына Ярополка. Сохраняя старшинство над всеми русскими княжениями, Святослав сделал своей столицей болгарский город Переяславец (Преслав). С течением времени дела его шли всё хуже, а в 972 году он погиб в бою с печенегами. Как только вести о его злой смерти дошли до Киева, старшинство меж русских князей перешло к Ярополку. Он не стал отбивать отцовы приобретения на Дунае, и к Киеву вернулся статус «стольного града».
Недолго сохранялся мир между братьями Святославичами. Неистовая эпоха, когда в силе и отваге состязались все, даже близкие родичи, когда не умели сдерживать ярость, когда главным законом становилась воля победителя, любила войну, пир, безжалостное кровопролитие, добычу, взятую мечом. В 975 или 976 году Ярополк пошел войной против брата Олега, сидевшего на княжении в Древлянской земле. Войско Олега потерпело поражение, сам он с дружинниками в ужасе бежал к городу Овручу и там бесславно погиб в давке на мосту перед крепостными воротами.
Владимир, услышав о печальном конце брата, заподозрил недоброе. Не желает ли Ярополк захватить себе под руку княжеские столы, принадлежавшие братьям, и пользоваться доходами со всей Руси? Опасаясь, что вслед за Олегом настанет и его черед, Владимир бежал за море, в Скандинавию. Там он провел несколько лет. Новгород тем временем заняли Ярополковы посадники.
Владимир вернулся на Русь с войском, состоящим из варягов. В ту пору он ничем не напоминал того милостивого правителя, каким станет десять лет спустя. Он обладал бешеной энергией, несгибаемой волей и неукротимой гордыней. Его бойцы вышибли из Новгорода посадников Ярополка. Через них младший брат передал старшему: «Владимир идет на тебя, пристраивайся противу биться».
Решив поставить в строй еще и дружину богатого Полоцка, Владимир посватался к Рогнеде — дочери тамошнего князя Рогволода. Тут планы его едва не пошли прахом. Вспомнив о древнем брачном обычае — разувании мужа, Рогнеда с гневом ответила: «Не хочу разути робичича». Иными словами, сын рабыни ей не подходил, не та у него кровь… Рогнеда предпочитала Ярополка. И отец ее, не принадлежащий роду Рюрика, явившийся из-за моря и правивший огромной областью, мог позволить своей дочери вольный выбор жениха.
Тогда Владимир в ярости пришел под стены Полоцка, взял город, убил Рогволода и его сыновей, а Рогнеду силою распластал на брачном ложе.
Оттуда варяжская армия Владимира вкупе с отрядами полочан двинулась к Киеву стремительным маршем. Внезапно появившись на подступах к городу, князь застал Ярополка врасплох. Тот не помышлял о битве в поле и успел лишь сесть в осаду со своими людьми.
Владимир, до сих пор проявлявший повадку разозленного медведя, показал лисью хитрость. Щедрыми посулами он сделал ближнего Ярополкова воеводу Блуда своим союзником. Тот предал своего господина. Воспользовавшись его злыми советами, Ярополк бежал из Киева и укрылся в маленьком городке Родне. Затем Блуд склонил его к мирным переговорам, а когда они начались, навел на варяжскую засаду. Ярополк погиб. Его приближенный Варяжко ушел к печенегам и долго наводил их на Русь, мстя за убийство своего князя.
Владимир утвердился в Киеве как победитель (лето 978-го) и увенчал свою победу тем, что силою взял на ложе вдову старшего брата…
В самом скором времени победитель столкнулся с новой проблемой. Те самые варяги, которые обеспечили ему военный триумф, потребовали громадный выкуп за Киев. Бывший вождь варягов не отказывал им, но и не платил, откладывая расчет. Он опасался вызвать мятеж и совсем не хотел связываться с той чудовищной военной силой, которую представляло собой скопище профессионалов войны. С другой стороны, ограбить город значило вызвать восстание самих киевлян, а ему тут еще править… В конечном итоге Владимир привлек на свою сторону наиболее толковых людей из числа варягов, раздав им города за службу. Самых злых и непримиримых князь отправил наниматься на службу к византийцам. Греческого императора он загодя предупредил: «Не держи их в городе, зло сотворят, расточи по отдельности в разные места и, главное, не пускай ни единого обратно».
Так «робичич» сделался великим князем Киевским и избавился от буйной варяжской вольницы. До сих пор его действия были политикой дикого зверя — сильного, умного, безжалостного.
Нерастраченная сила бурно играла в нем. Владимир Святославич одновременно владел пятью женами. К ним в придачу он расселил по трем княжеским городкам несколько сотен наложниц…
Под рукою великого князя распростерлась вся языческая Русь. В ней не существовало единства: каждая область почитала своих «божеств». На первом же году правления Владимир задумал большую религиозную реформу. Он решил свести всех главных языческих «божеств» в единый пантеон, желая тем самым избавить Русь от вероисповедного раздробления.
Летопись сообщает: «Постави [Владимир] кумиры на холму вне двора теремного. Перуна древяна, а главу его сребрену, а ус злат, и Хорса, Даждьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И жряху им нарицающе их „боги“. И привожаху сыны своя и дщери и жряху бесом (то есть приносили им жертвы. — Д. В.). И осквернаху землю требами своими, и осквернися кровьми земля Русская…»
Киевским кумирам приносили, среди прочих, и человеческие жертвы. Если жребий падал на отрока или девицу из христианской семьи (а на Руси уже были к тому времени христиане) и члены семьи противились языческому обычаю, то их убивали вместе с потомством.
На протяжении 980-х годов Владимир одержал несколько больших побед. Он отбил у поляков города Перемышль и Нервен, дважды разбил вятичей, не пожелавших платить дань, а затем завоевал землю балтского племени ятвягов. Воевода его Волчий Хвост нанес поражение радимичам. Война с волжскими болгарами далась тяжелее, но закончилась почетным миром.
Счастливый в военных предприятиях, великий князь потерпел поражение в любимой своей затее — религиозной реформе. Механическое соединение разных языческих «божеств» выглядело как попытка сделать салат из селедки, сливы и сметаны. Киевский пантеон никого не объединил.
Тогда Владимир Святославич задумался о том, чтобы заимствовать для своих подданных веру, которая уже стала великим объединителем иных народов и в наибольшей степени подходила бы для жизни и быта Киевской Руси.
Киев — перекресток торговых путей. Здесь сильна иудейская община. Здесь знают ислам по восточным соседям, принявшим его относительно недавно. Тут живут, пусть и в невеликом количестве, христиане. Летопись отразила искания князя в религиозной сфере: что избрать ему для Руси? От кого принять учителей? Кого не отвергнут напрочь дружина, бояре, приближенные, семья…
Почему его выбор остановился на восточном христианстве? Некоторые причины очевидны.
Во-первых, в семье князя уже имелись христиане. Бабка Владимира Святославича, княгиня Ольга, приняла крещение, а примеру госпожи, очевидно, последовала и ее свита. В отсутствие отца, вечно занятого войнами, походами, битвами, мальчик, надо полагать, испытал влияние бабки, учившей его азам Христовой веры.
Во-вторых, князя Владимира интересовал стратегический союз с Византией. Добрые отношения с Греческой державой обеспечивали гарантию самых благоприятных условий для русской торговли, связанной с Крымом, Константинополем, Балканами. Кроме того, византийцы своим серебром умело направляли боевую активность печенегов, и уже одно это давало очень серьезный повод ладить с Империей. Иными словами, выбор веры был накрепко связан с выбором главного направления внешней политики.
Очевидно, у Владимира Святославича имелась и другая, не столь очевидная причина остановить выбор на христианстве. Ислам приняли поздняя Хазария и Волжская Болгария — его противники, государства, построенные на совершенно чужой этнической основе. А в Европе того времени продолжалось триумфальное шествие христианства. Южные и западные славяне давно приняли его. В Скандинавии оно исподволь набирало силу, что не могло быть совсем уж безразличным делом для потомка Рюрика. Изо всех соседей-христиан самые впечатляющие культурные достижения могли продемонстрировать Византия и связанный с ней мир южных славян. Ни поляки, ни чехи, ни моравы, ни иные западнославянские народы, ни хорошо знакомые венгры ничем подобным ко второй половине X века похвастаться не могли. При этом явное неудобство представляло западнохристианское богослужение, которое велось на непонятной латыни. В восточном же христианстве к тому времени значительная часть церковной литературы получила перевод на язык, который сейчас называют церковно-славянским; это делало более легкими и приобщение к новой вере, и богослужебную практику. Проще говоря, у Византии было что взять в духовном плане, а связанные с нею славянские народы уже создали инструменты, с помощью которых нетрудно было передать Руси новые культурные навыки. Можно сделать вывод: восточное христианство оказалось для Руси ближе прочих вариантов этнически и по языку.
Договорившись о союзничестве с Империей, Владимир отправил на помощь василевсам Константину VIII и Василию II многотысячное войско[25]. С его помощью законные правители подавили мятеж полководца Варды Фоки. Ради укрепления союза великий князь изъявил желание взять в жены византийскую «принцессу» — сестру императоров-соправителей Анну. А брак с христианкой мог быть заключен лишь в одном случае: если сам Владимир Святославич примет христианство. Как оказалось, среди бояр и воевод Владимира хватало сторонников христианства. От них князь получил поддержку, когда, после долгого размышления, решил креститься.
Из Константинополя прибыл в Киев священник по имени Павел[26], совершивший обряд крещения. Новообращенный получил христианское имя Василий. Вместе с ним приняли новую веру дети, жены, слуги, часть бояр и дружинников.
Вот только… невесту не спешили отправлять из Константинополя. Владимир начал было переговоры на эту тему с правителем Корсуня-Херсонеса — богатого византийского города в Крыму, располагавшегося на территории нынешнего Севастополя. Демонстративно пренебрегая «принцессой» Анной, он предложил отдать ему в жены дочь корсунского «князя». Ведь церковное устроение на Руси могло быть налажено и через Корсунь, а не далекий Константинополь. Но ответом на предложение киевского правителя стал издевательский отказ.
При всей благожелательности Владимира Святославича у него оставался лишь один вариант, как получить свое по соглашению, оплаченному воинской помощью. Он осадил Корсунь. Долгая блокада города сделала свое дело: среди горожан нашлись те, кто счел сдачу более приемлемым итогом войны, нежели мучительные условия осады. Владимиру помогли. По одной из версий, это сделал некий священник Анастас. По другой — варяг на греческой службе Жадьберн. Возможно, в лагере осажденных сложилась целая «партия» сторонников русского князя.
В итоге Владимир Святославич вошел в город. Не сдержав гнева, он казнил тамошнего стратига с женой, а дочь его отдал в жены одному из своих сторонников. Печально, что мир между христианскими правителями удалось заключить лишь после того, как одна сторона пошла на обман, а другая добилась своего силой…
Византия вернула себе Корсунь, а Владимир получил Анну в жены[27]. Он не сразу покинул Корсунь, но лишь получив сначала уроки христианского «закона». В «Повесть временных лет» вошла легенда, согласно которой именно здесь великий князь принял новую веру; эту легенду приняли на веру и многие историки. Однако она не соответствует действительности: крещение совершилось еще в Киеве. Но именно корсунское духовенство обучало Владимира Святославича как новообращенного.
Вернувшись в Киев, князь ниспроверг языческих идолов, а потом крестил киевлян в реке Почайне, притоке Днепра. Сейчас же началось строительство нескольких небольших церквей. На Руси утвердилась церковная иерархия, возглавленная архиереем в сане митрополита. Вероятнее всего, первый из митрополитов киевских носил имя Леон. Архиепископ отправился к Новгороду Великому, епископы — в другие крупные города. Там произошло то же самое, что и в Киеве, — ниспровержение «кумиров» и крещение горожан.
Огромный шаг в судьбах Руси совершался с необыкновенной быстротой. На первых порах распространение христианства не вызвало сопротивления. Какое-то недовольство проявили новгородцы, но и оно, судя по всему, оказалось незначительным. В Ростове епископа не приняли, и там новая вера распространялась гораздо дольше, чем где бы то ни было, и с бóльшим трудом. В целом, христианство по всей стране принимали добровольно. Его не пришлось навязывать «огнем и мечом» — это поздний миф. Слабость и пестрота язычества, уверенная поддержка Церкви правителем, давнее знакомство с христианством в больших городских центрах сделали свое дело: Христова вера утвердилась на Руси скоро и почти бескровно.
На протяжении нескольких веков рядом с ней, то тайно, то явно, продолжало существовать язычество. Оно уходило медленно, борясь и прекословя, но в конечном итоге исчезло.
По словам историка и религиоведа С. В. Алексеева, «справедливо считать Владимира отцом Русской цивилизации. Введя христианство вместо разноголосицы племенных культов, он дал русской культуре сердцевину, ту высшую ценность, без которой цивилизации нет».
Большинство историков считают, что крещение произошло в интервале между 987 и 992 годами. Историческая традиция называет 988 год, и это весьма вероятная дата. Другая, еще более правдоподобная датировка — 989 год. Процесс массовой христианизации страны, начавшийся при Владимире Святом, главные свои вехи отсчитывает от нее.
Крещение Руси — не только принятие веры, но и принятие Церкви, поскольку вне ее жизнь христианина немыслима, спасение души невозможно. А принятие Церкви означает еще и множество политических, культурных, экономических преобразований.
Христианство предполагает постоянное участие верующих в богослужениях. А чтобы богослужения могли происходить, требуется многое. Прежде всего здание храма, церковные книги, иконы и утварь, необходимая для иерея, священнические одежды, хлеб и вино. Наконец, жилище для священника, диакона, их семей, а также всё потребное для того, дабы они могли нормально существовать. Иными словами, принятие Церкви означает не только начало забот о «высоком», но и большие хлопоты о повседневном. О том, что в терминах нашего дня относится к «материальному обеспечению».
Так вот, до Владимира Святого в Киеве уже существовали христианские храмы, например Ильинская церковь. Они предназначались для относительно небольшого круга людей. Христианство начало понемногу проникать на Русь еще во второй половине IX века. С тех пор в Киеве перебывало огромное количество купцов-христиан, Христову веру принимали члены великокняжеской семьи, отдельные дружинники. Многое ли требовалось для слабой и немноголюдной церковной сферы довладимировых времен? Но когда князь Владимир задумал обратить в христианство весь народ, настало время позаботиться о нуждах Церкви в совсем иных масштабах.
Прежде всего следовало возвести новые большие храмы. Первым и самым знаменитым из них стала соборная церковь Успения Божией Матери в Киеве. Ее начали сооружать вскоре после крещения киевлян. На средства князя Владимира строилось роскошное здание, отделанное мрамором и яшмой, украшенное богатыми мозаиками. Размерами оно намного превосходило маленькую Ильинскую церковь. Окончание работ летопись относит к 996 году. Возможно, это произошло несколько позднее — ведь, как уже говорилось, дата крещения, 988 год, условна, а от нее отсчитывалось всё остальное. Но в любом случае можно твердо говорить о том, что новый храм появился в Киеве в середине — второй половине 990-х годов. Иконы, сосуды и кресты для него доставили из Корсуня-Херсонеса, от византийцев.
«Повесть временных лет» сообщает: после завершения работ князь Владимир зашел под своды собора и долго молился Христу; затем он сказал: «Даю церкви сей Святой Богородицы от имения моего и от градов моих десятую часть». Правитель дал грамоту («написал клятву»), официально утверждавшую этот источник церковных доходов, и велел созвать людей на пышное празднование.
Отсюда и неофициальное название собора, принятое народом: Десятинная церковь. До наших дней она, к сожалению, не дошла, погибла в огне монголо-татарского нашествия 1240 года. Лишь фундамент ее показывают ныне туристам киевские экскурсоводы.
Первым настоятелем Десятинной церкви стал Анастас Корсунянин — доверенное лицо великого князя. Для него и для прочего храмового причта были поставлены особые палаты рядом с собором.
Другим источником средств, необходимых Русской церкви, стали так называемые «церковные суды». Сначала князь Владимир Святой, а затем его потомки в полном согласии с византийским законодательством утвердили право Церкви рассуживать дела по очень широкому кругу вопросов. В церковном Уставе Владимира Святого[28] говорится: «Се яз, князь Владимир… поразмыслил с княгиней Анною и со своими детьми… каких судов не подобает судить князю, ни боярам, ни судьям их, и дал те суды церквам всем, епископиям Русской земли: …развод, прелюбодеяние, уличение в нем, драка между мужем и женою до смерти, и если кто из родственников или свойственников сойдется, и ведовство, зелейничество[29], оскорбления, блуд, отрава, ересь, укус зубами, и если отца или мать бьет сын или дочь, братья или дети судятся за наследство, и церковный грабеж. И если мертвецов стащат, крест посекут, и если на стенах режут, и если скот, псов или птицу без великой нужды введут [в храм] или что неподобающее в церкви содеют». Церковь же должна была следить за тем, чтобы никто не испортил на торгу весы, гири, меры длины и объема. За всё это ей — на самом законном основании! — полагались отчисления в виде пошлин.
Но главным ресурсом существования Церкви на Руси оставалась выдаваемая князем «десятая часть» от его «жита», «стад», «торгов» и иных доходов.
Подобное положение вещей оказалось неудобным и для князя, и для духовенства. Правитель иногда не мог, а порой и просто не хотел как следует обеспечить Церковь, церковный же организм попадал в жестокую экономическую зависимость от государя. Зато юным приходским общинам Руси такой механизм взимания десятины был исключительно выгоден. В Западной Европе на протяжении VI–VIII столетий церковная десятина превратилась в обременительный налог, обязательный для всех прихожан. Это вызывало ярость и ненависть к священству. В эпоху Реформации такая десятина, наряду с индульгенциями, симонией и иными «сосудами скверны», сыграла роль страшной бреши в позициях католичества. У нас, на Руси, весьма долго десятину платил только князь. Для времен двоеверия, борьбы с мятежами волхвов и прочими прелестями языческой старины подобный порядок обеспечения Церкви оказался весьма полезным. Он лишал почвы настроения недовольства в обществе, настороженно относившемся к новой вере, избавлял от лишних конфликтов.
Помимо киевского князя, церковную десятину платили князья и других земель. Недостаток исторических источников лишает возможности точно определить, где, когда и в каких объемах получала Церковь средства. Информация на сей счет обрывочна, фрагментарна. Но кое-какие сведения до наших дней все-таки дошли. Например, точно известно: святой благоверный князь Андрей Боголюбский, государь владимиро-суздальский, выдавал десятину по правилам Владимира Святого, да еще и жаловал Церкви земли. Однако эпоху монголо-татарского нашествия и долгой политической раздробленности церковная десятина не пережила.
Причина проста. Древняя, домонгольская Русь богатела торговлей, а еще того более — пошлинами с купеческого транзита. Она купалась в привозном серебре. Русь эпохи владимирской, тверской и раннемосковской по сравнению с ней — нищенка. Она не контролировала крупные торговые артерии, регулярно подвергалась разорению от татарских набегов, наконец, платила дань-«выход» ордынским ханам. И главным ее богатством сделалась земля. Притом земля далеко не столь плодородная, как тучные пашни Русского Юга, а северная скудная землица, расположенная в полосе рискованного земледелия… Ни сам князь, ни его подданные не могли уделить из своих доходов сколько-нибудь значительную часть на Церковь. Что оставалось? Дать Церкви земельные угодья и позволить самой позаботиться о себе, поставив в своих владениях крепкое хозяйство.
И вот архиерейские дома, соборные храмы, а особенно иноческие обители стали получать обширные имения с селами, соляными варницами, рыболовецкими промыслами. Иной монастырь владел колоссальными земельными угодьями. Притом распорядиться ими монашеская обитель сплошь и рядом могла гораздо лучше, нежели светский вотчинник. По своей грамотности, по обладанию книжными сокровищами духовенство (прежде всего черное) стояло выше всех прочих слоев русского общества. Оно развивало инженерную мысль, ставило смелые экономические эксперименты, осваивало доселе непроходимые дебри.
После Крещения Руси Владимир княжил еще четверть столетия, сохранив энергию как политик и полководец, но избавившись от прежней своей жестокости, покончив с распутством.
Князь приучал себя к милосердию. Он сделался щедр и нищелюбив. Какое-то время он даже избегал казнить преступников, пытаясь вразумлять их лишь с помощью «вир» (штрафов). Летописец специально остановился на этом деле — ради урока будущим поколениям: «Умножились зело разбои. И сказали епископы Володимеру: „Вот умножилось число разбойников, отчего не казнишь их?“ Тот отвечал: „Боюсь греха“. Они же сказали: „Ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на милование. Следует тебе казнить разбойников, но прежде расследованию предав их дела“. Володимер же отверг виры и начал казнити».
Великий князь устроил школы. Для «обучения книжного» туда принудительно собирали детей знати. Шли на Русь ученые люди из Болгарии и Византии — переписывать церковные книги, переводить их, передавать опыт русским ученикам.
Важным шагом в политике Владимира Святославича стал выпуск собственной монеты. В IX–XI столетиях по территории Древней Руси проходили международные торговые пути первостепенной важности. Русские города богатели на собственных купеческих предприятиях и на налогах, взимавшихся со скандинавов, арабов, византийцев, гостей из Западной Европы. Просторы Руси усеяны сотнями кладов и погребений, содержащих иноземные монеты. Византийские золотые солиды, серебряные миллиарисии, медные фоллисы, западноевропейские грубоватые денарии, арабские тонкие дирхемы… Чужие деньги широко использовались в любых сделках — таков был естественный порядок вещей.
Но князь Владимир решил завести собственную монету. Она должна была, во-первых, подтвердить господство правящей династии и, во-вторых, познакомить подданных с символами новой для них религии. Кроме того, от ученых греков киевский правитель мог знать: император Константин, как сообщают церковные хроники, из соображений благочестия велел изображать на золотых монетах образ Христов и крест. Разве это не достойный пример для подражания?
Первые русские монеты из золота и серебра — «златники» и «сребреники» — выпускались недолго, всего лишь несколько десятилетий на рубеже X–XI веков. Сохранилось их менее трех с половиной сотен, причем абсолютное большинство составляют сребреники. Они изготовлялись при князьях Владимире Святом, Святополке Окаянном, Ярославе Мудром. Златники были фактически скопированы с византийских солидов — монеты широко распространенной в обращении того времени. Гораздо сложнее дело обстоит со сребрениками. Их большой тонкий диск напоминает арабские дирхемы. Но изображения на нем восходят к греческой традиции, давшей Руси христианство. С местными, разумеется, «поправками». Владимир Святой чеканил на сребрениках свой портрет — со скипетром, венцом правителя, нимбом и огромными усами. На другой стороне — Господь, который правой рукой делает благословляющий жест, а в левой держит Священное Писание. Сребреники Владимира явно делали киевские мастера, и эта работа была им в новинку. Техника изготовления монет оставалась несовершенной, а у поясного изображения князя Владимира вырастали маленькие ножки… Иначе, вероятно, подданные могли возмутиться: почему их государю «отрубили» половину туловища и ноги? Византийцев поясной портрет их императора ничуть не удивлял, а вот на Руси он вызвал непонимание… Впоследствии изображение Бога заменили на родовой знак правящей династии — трезубец, вид которого изменялся у преемников Владимира.
Вес и проба сребреников «гуляли» в широких пределах. Видимо, для международной торговли или платежей высокопоставленной знати специально выпускались монеты высокой пробы, то есть с высоким содержанием чистого серебра. Таких — меньшинство. Остальные содержат меньший процент серебра. Очень много сребреников в основе своей, как ни парадоксально, медных! Эту медь слабо «облагораживала» ничтожная серебряная примесь, или, как говорят нумизматы, «следы серебра». Медных сребреников примерно 70–80 процентов от общего числа, а высокопробных — менее 5 процентов. Это неудивительно. При отсутствии собственных запасов благородных металлов казне приходилось хитрить и экономить. А может быть, «худыми» деньгами расплачивались с варяжскими наемниками…
В 990-х годах великому князю пришлось много раз садиться в седло, совершать дальние походы, сражаться. Именно тогда он покорил белых хорватов, занимавших Верхнее Поднестровье.
Политический стиль Владимира Святославича резко меняется. Прежде он думал о завоеваниях, о походах за добычей, а теперь — о защите собственных земель. Для обороны от печенегов великий князь ставит по степным окраинам Киевской Руси новые укрепленные линии с крепким частоколом, сооружает малые крепости и крупные узловые пункты.
В 991 году по его воле в Белгороде была построена мощная крепость. Из других городов сюда привели множество людей.
Несколько позднее воинство Владимира отразило большой печенежский набег. У брода через реку Трубеж располагался город Переславль — еще один опорный пункт против степи. Его заново укрепили, готовя к роли могучего стража, стоящего на важном направлении.
В 996-м печенеги разбили Владимира Святославича, но стратегия наступления на степь крепостями не подвела великого князя. Скоро печенежское войско явилось под Белгород, осадило его, но взять не смогло (997).
На западе вырос Владимир Волынский — оплот власти киевского князя на землях волынян.
Великий князь наладил сторожевую службу — так, чтобы стремительная печенежская конница не получила ни единого шанса незаметно подобраться к большим городам Южной Руси. Мужественных людей, служивших в отдаленных крепостицах-заставах, совершавших малыми «сторожами»-дозорами глубокие рейды в степь, народная память превратила в непобедимых былинных богатырей.
В далекой Норвегии киевский правитель помог утвердиться своему воспитаннику — Олаву Трюгвассону. Тот призвал своих подданных креститься. Помогая Олаву, Владимир Святославич прежде всего желал избавить Русь от буйных толп викингов, являвшихся оттуда на разбой и охотно становившихся участниками любой распри. Отчасти это упование оправдалось, отчасти же нет. Викингская банда, возглавленная врагом Олава, взяла штурмом и разграбила Ладогу. А в 1000 году Олав, проиграв решающую битву, погиб. Тогда на Руси приютили иного вождя викингов, Олава Толстого. Он поселился в Ладоге и оттуда совершал разорительные походы на свеев, данов, эстов.
В 1009 году против киевского правителя взбунтовался один из племенных вождей, дальний родич великого князя. Собрав большое войско, он явился под стены столицы, но здесь погиб во время поединка с одним из варягов, служивших Владимиру.
Наконец, под занавес правления великий князь Киевский столкнулся с доселе небывалой угрозой. На земли Руси вторглась огромная армия поляков, в союзе с которыми выступили немцы и печенеги[30]. Удар чужой силы привел к разорению западных областей Киевской державы. В то же время союзники рассорились с печенегами и не взяли ни одного крупного города. Весьма значительное воинство не совершило ничего великого.
На последнем году жизни большая печаль посетила Владимира Святославича. Сын Ярослав, поставленный княжить в Новгороде, отказался присылать положенные выплаты. С тяжелым сердцем Владимир Святославич начал готовиться к военному походу — усмирять сыновье непокорство. Но посреди хлопот, связанных с организацией похода, великий князь разболелся и умер.
Это случилось 15 июля 1015 года.
При Владимире Святом и его сыне Ярославе Мудром Киевская Русь испытала расцвет. Собственно, именно они создали правильную государственность на месте архаичной, полупервобытной державы, которая представляла собой рыхлое собрание земель, соединенных одной лишь военной силой.
Древняя Русь обязана Владимиру Святославичу двумя великими деяниями. Во-первых, он крестил своих подданных, дав им всем, на колоссальном пространстве, единство веры и накрепко связав их с миром высочайшей культуры — Восточнохристианской цивилизацией. Во-вторых, он придал обороне от кочевых народов масштаб общегосударственной системы. Тем самым густонаселенные области Центральной Руси получили возможность благополучно развиваться в условиях мира.
«Империи Рюриковичей», возведенной усилиями этих двух великих правителей, суждено было впоследствии развалиться на полунезависимые княжения. Но виноваты ли Владимир и Ярослав в будущем раздроблении державы? Вряд ли. При том уровне развития связи, транспорта, военного дела, при общей слабой населенности Руси и неразвитости государственных институтов разве мог один-единственный великий князь управлять всей громадной территорией? А посадив на княжеские столы своих детей, братьев, верных служильцев, он получал возможность опереться на их волю и энергию. Однако у правителя, получившего княжение временно, сейчас же возникал соблазн удержать его навечно, передать его по наследству, позаботиться о семье… Политическая раздробленность являлась для Руси неизбежностью, вне зависимости от того, сколь хорошо правили князь Владимир и его ближайшие преемники.
Справедливо оценивал деятельность Владимира Святославича историк С. В. Алексеев: «Владимир вовсе не был безупречным политиком и дипломатом. Кстати, был совсем неплохим полководцем, при всем своем миролюбии — за всю жизнь проиграл лишь одну битву. Ошибки же его и проступки в его политике проистекали где от суровых нравов полуязыческой эпохи и собственной вспыльчивости, где, напротив, от простой человеческой доброты и Божьего страха. Если бы он их не совершал, то нашлись бы всё равно охотники обвинять его и в мягкотелости, и в жестокости. Но то, что при всех своих правительских недостатках князь всё же добился столь значимых результатов — не в его ли пользу? А может, в пользу сопутствовавшей ему высшей милости? Владимир оказался подлинным устроителем Русской земли, зиждителем Русской цивилизации, первым творцом простоявшего тысячу лет величия. Слава его заслужена мирскими трудами. Но это следствия, а не причина. Славен Бог во святых своих».
Князь Владимир прославлен Церковью в лике «равноапостольных». День его поминовения в церковном календаре — 15 июля.
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ Книжник
Редко случается так, что биография и характер сына словно слеплены с отцовских образцов. Дети столь часто хотят жить иначе, чем родители! Тем более — иначе править, если это отпрыски порфирородных особ… Но иногда такое случается. Личность и судьба Ярослава Мудрого в очень большой степени — повторение и углубление того жизненного пути, той психологической метаморфозы, которые произошли когда-то с его родителем — Владимиром Святым. Да и результат их деятельности трудно разделить надвое, настолько второй продолжал созидательную деятельность первого. Если первый строил Русское государство, крестил народ русский, то второй дал державе писаный закон, а народу — высокую книжную культуру христианства. Сын продолжил дело отца, только пошел дальше по избранному им пути.
Смолоду Ярослав отличался тем же неукротимым нравом, что и Владимир. Да и в усобицах ему пришлось участвовать не менее родителя своего.
Летопись сообщает дату его рождения — 978 или 979 год[31]. Его мать, Рогнеда Рогволодовна из рода полоцких князей, со второй половины 980-х находилась в состоянии «почетного развода» с мужем. Но дети ее считались законными наследниками отца. Все они прошли крестильную купель, хотела того или не хотела мать. Князь Ярослав получил в крещении имя Георгий. Всем «Рогнедичам» достались богатые и почетные княжения. К Ярославу отец относился наилучшим образом — недаром он сначала получил из рук отца ростовский княжеский стол, а потом, перепрыгнув через головы старших братьев, оказался в Новгороде — втором «по чести» после Киева городе Руси.
Неизвестно, кого из двенадцати сыновей, считавшихся законными, Владимир хотел поставить после своей смерти старшим правителем — киевским князем. У него имелся богатый выбор. Старший сын его Вышеслав скончался задолго до того, как отец почувствовал приближение последнего срока. Изяслава Владимир не любил и опасался. Но и он умер в далеком Полоцке задолго до старости родителя. Святополк — не понятно чье дитя. Его произвела на свет вдова великого князя Ярополка, изнасилованная Владимиром после захвата Киева. Таким образом, по крови это мог быть и отпрыск Ярополка, коего несчастная женщина уже носила во чреве, и сын Владимира, насильника. Владимир признал его законным сыном, однако на любовь молодого человека полагаться не мог — слишком уж много тьмы содержалось в тайне его происхождения. И действительно, уже стоя у смертного одра, Владимир должен был расследовать заговор, устроенный Святополком.
Претендовать на первенство, помимо Святополка, мог и Ярослав — следующий по старшинству сын Рогнеды, и Борис — любимое дитя, коему отец на старости лет подчинил свою дружину, послав отражать набег печенегов.
Ярослав очень рано почувствовал вкус самостоятельного правления. Отца он не видел годами, сидя в дальних северных городах, мать умерла, когда ему было около двадцати лет, а жизнь скоро научила принимать решения независимо от чьего бы то ни было совета. Бог весть, когда сделался он хромым. Но от того не стал робким.
Летом 1015 года Владимир скончался. Незадолго до того Ярослав поднял против него мятеж — отказался платить дань с Новгорода. Ему грозила карательная экспедиция из Киева. Он даже набрал варягов для ее отражения. Но смерть сразила отца посреди хлопот о снаряжении войска…
На Киеве вокняжился Святополк — старший по рождению. Он чувствовал себя на престоле неуверенно. Киевская знать предпочла бы ему Бориса. К Святополку относились с подозрением: зять сильнейшего из польских князей, Болеслава Храброго, он мог наводнить Киев ставленниками своего тестя. Так, по большому счету, и вышло.
Братья — во всяком случае некоторые из них — согласились покориться Святополку. Но страх и неуверенность толкнули его на чудовищные поступки, благодаря которым он получил злое прозвище «Окаянный», то есть окаинившийся, уподобившийся братоубийце Каину.
Летопись в подробностях рассказывает о его деяниях: «Святополк сел в Киеве после смерти отца своего, и созвал киевлян, и стал давать им дары. Они же брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их были с Борисом. Когда Борис уже возвратился с войском назад, не найдя печенегов, пришла к нему весть: „Отец у тебя умер“. И плакался по отцу горько, потому что любим был отцом больше всех, и остановился, дойдя до Альты. Сказала же ему дружина отцовская: „Вот у тебя отцовская дружина и войско. Пойди, сядь в Киеве на отцовском столе“. Он же отвечал: „Не подниму руки на брата своего старшего: если и отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца“. Услышав это, воины разошлись от него. Борис же остался стоять с одними своими отроками. Святополк же, исполнившись беззакония, воспринял мысль Каинову и послал сказать Борису: „Хочу с тобою любовь иметь и придам тебе еще к полученному от отца владению“, но сам обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. Святополк пришел ночью в Вышгород, тайно призвал Путшу и вышгородских мужей боярских и сказал им: „Преданы ли вы мне всем сердцем?“ Отвечал же Путша: „Согласны я и вышегородцы головы свои сложить за тебя“. Тогда он сказал им: „Не говоря никому, ступайте и убейте брата моего Бориса“. Те же обещали ему немедленно исполнить это… Святополк же окаянный стал думать: „Вот убил я Бориса. Как бы убить Глеба?“ И, замыслив Каиново дело, послал, обманывая, гонца к Глебу, говоря так: „Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет: сильно он болен“. Глеб тотчас же сел на коня и отправился с малою дружиною, потому что был послушлив отцу. И когда пришел он на Волгу, то в поле споткнулся конь его на рытвине, и повредил Глеб себе немного ногу. И пришел в Смоленск, и отошел от Смоленска недалеко, и стал на Смядыне на корабле. В это же время пришла от Предславы[32] весть к Ярославу о смерти отца, и послал Ярослав сказать Глебу: „Не ходи: отец у тебя умер, а брат твой убит Святополком“. Услыхав это, Глеб громко возопил со слезами, плачась по отце, но еще больше по брате, и стал молиться со слезами, говоря так: „Увы мне, Господи! Лучше было бы мне умереть с братом, нежели жить на свете этом… Если доходят молитвы твои к Богу, то помолись обо мне, чтобы и я принял ту же мученическую кончину. Лучше бы было мне умереть с тобою, чем жить на этом полном лжи свете“… И когда он так молился со слезами, внезапно пришли посланные Святополком погубить Глеба. И неожиданно захватили посланные корабль Глебов, и обнажили оружие. Отроки же Глебовы пали духом. Окаянный же Горясер, один из посланных, велел тотчас же зарезать Глеба. Повар же Глеба, именем Торчин, вынув нож, зарезал Глеба, как безвинного ягненка»[33].
Еще один сын Владимира, Святослав, бежал к венграм, желая укрыться от гибели. Но его и там настигли подосланные старшим братом убийцы.
Помимо летописи, до наших дней дошел иной, весьма путаный скандинавский источник — «Эймундова сага»[34]. Многое рассказано в ней совершенно иначе. Например, к запретному плоду братоубийства первым устремляется здесь сам Ярослав, а образы Святополка и польского правителя Болеслава сливаются в один. На первый взгляд сага дает прекрасный материал для тотального пересмотра летописной версии событий, но… какая цена ее свидетельствам, если ее записали через 200–300 лет после свершения дел, о коих она повествует?
Ярослав, человек самостоятельный, отважный и гневливый, и мысли не допускал о бегстве. У него под рукой ходила варяжская дружина, нанятая против отца. Буйные варяги дрались с новгородцами, творили насилие, а потом и сами недосчитались товарищей, легших под мечами вольнолюбивых горожан. В отместку Ярослав истребил «лучших мужей» новгородских…
И суток не минуло, как дошла к нему весть от Предславы: Владимир мертв, Святополк — великий князь Киевский, Борис убит по его приказу. Смерть заглянула в самые очи Ярославу Владимировичу. Поссорился с новгородцами? Самое время! Кто теперь, как не их отважное северное ополчение, убережет его от гибели? Или бежать? Бежать! Ярослав заплакал от отчаяния. Но потом взял себя в руки, созвал вече и прямо сказал: мой отец в гробу, а брат — душегуб, кровь рода на руках его. Ужаснувшись, новгородцы решили встать за своего правителя, пусть и свирепого, но давно знакомого и к тому же освободившего их землю от киевской дани. Дрались с его варягами? Дрались. Хорошо подравшись, ныне помиримся. «Хотя, князь, и иссечены братья наши, — можем за тебя сражаться!» — ответили ему новгородцы.
Два войска, Ярослава и Святополка, встретились у Любеча, на Днепре, осенью 1016 года. Новгородцы переправились через реку, оттолкнув лодки: так показали они, что ищут либо победы, либо смерти. Святополк бежал, не дождавшись конца битвы. Вслед за ним, дрогнув, начали разбегаться киевляне. Ушли, так и не начав боя, союзные им печенеги. Полный разгром!
Великий князь Киевский укрылся от гнева своего брата у поляков, при дворе тестя. Ярослав же первый раз вошел в Киев как правитель.
Два года спустя Болеслав со Святополком привели польскую армию на Русь. Войско Ярослава не выдержало их напора. Едва сохранив при себе четырех ратников, Ярослав бежал в Новгород.
Но Святополк скоро лишился главной своей опоры — иноземного войска. Ратники Болеслава, вставшие «на прокорм» по городам, скоро надоели местным жителям. Кормить чужую армию — кому в радость? Опасаясь потерять всякую самостоятельность, Святополк велел убивать рассеявшихся поляков. Тогда Болеслав отвернулся от него. Забрав остатки войска, он ограбил киевское боярство (прихватив заодно и сестру Святополка), погнал киевлян пленниками, отобрал у зятя большую область с Червенскими городами. После его ухода великий князь Киевский остался обобранным до нитки.
Между тем новгородцы собрали деньги и выставили новое войско. Уж очень не хотелось им принимать «гостей» из Киева — отвечать за свое восстание, за победу под Любечем, платить полную дань. Под стягами Ярослава они опять попытали счастья на Киевщине. Святополк, выдавленный новгородской ратью из «стольного града», пошел за помощью к печенегам. Приведя их на Русь, он встретился с северным ополчением на реке Альте и вновь проиграл. Теперь ему пришлось навсегда покинуть Русь. Умер Святополк на чужбине[35].
Так, в 1019 году Ярослав окончательно утвердился на киевском престоле.
Правда, ему пришлось выдержать еще один натиск со стороны родной крови. Младший брат, Мстислав Владимирович, не признал его старшинства. А еще до него взбунтовался племянник — Брячислав Полоцкий. Брячислав совершил рейд к Новгороду, захватил и разграбил город, служивший главной базой Ярослава. Тот ответил молниеносно. За неделю Ярослав прошел всю Русь. Ударил на Брячислава, разбил наголову и заставил бежать.
Но Мстислав Владимирович, опытный воин, покоритель северокавказских племен, оказался гораздо опаснее. Летописец с восхищением передает мнение современников об этом выдающемся полководце: «Был же Мстислав могуч телом, красив лицом, с большими очами, храбр на ратях, милостив, любил дружину без меры, имения для нее не щадил, ни в питье, ни в пище ничего не запрещал ей». Его волей поднялся Спасский собор в Чернигове[36], где позднее и похоронили самого князя.
Мстислав хотел было забрать себе Киев, пока старший брат пребывал в Северной Руси. Он придвинул к городу свои полки, привел также касогов[37] и хазар. Но киевляне не убоялись его. Как видно, не по душе пришлась им перспектива открыть ворота перед разноплеменным воинством. Городские жители не пустили к себе Мстислава. Тогда он занял Чернигов. Ярослав, не имея возможности вновь укрепить войско новгородцами — слишком уж пострадала их земля от недавнего нашествия Брячислава, — опять нанял варягов. Мстислав в ответ поставил в строй неистовых воинов из Северской земли. Грянула битва под Лиственом: «Мстислав… исполнил дружину и поставил северян прямо против варягов, а сам стал с дружиною своею по обеим сторонам. И наступила ночь, была тьма, молния, гром и дождь. И сказал Мстислав дружине своей: „Пойдем на них“. И пошли Мстислав и Ярослав друг на друга, и схватилась дружина варягов с северянами, и трудились варяги, рубя северян, и затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И была сеча сильна, и когда сверкала молния, то блистало оружие, и была гроза велика и сеча сильна и страшна. И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, побежал с Якуном, князем варяжским, и Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел за море. Мстислав же чуть свет, увидев лежащими посеченных своих северян и Ярославовых варягов, сказал: „Кто тому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела“. И послал Мстислав за Ярославом, говоря: „Сиди ты на своем столе в Киеве, поскольку ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона [Днепра]“. И не решился Ярослав идти в Киев, пока не помирились. И сидел Ярослав в Новгороде, а в Киеве были мужи Ярослава»[38].
Лишь в 1026 году произошло примирение. Ярослав с новым войском, взамен разбитого, без опасений добрался до Киева. Тогда-то он и решился, с позиций сильного правителя, а не жалкого беглеца, договариваться о мире. Половина Руси — Западное Поднепровье с Киевом да Новгород — досталась Ярославу. Вторая половина — Восточное Поднепровье с Черниговом и Тмутаракань — Мстиславу. Объединение страны произошло лишь в 1036 году, после мирной кончины Мстислава.
Пролив столько крови, помня о жуткой междоусобной войне прежних лет, эти два политических лидера Руси научились находить общий язык. Так, в 1031 году они совершили совместный поход на Польшу. Им удалось вернуть Червенские города, а население Киевщины, ополовиненное Болеславом, пополнилось за счет пленников. Позднее дружины братьев совершили другой совместный поход — в Закавказье. Но он закончился неудачно.
Захваченных силой меча поляков Ярослав «посадил» на земли неподалеку от Киева — по реке Рось. Годом раньше он взял город Белз. Очевидно, полона хватало, чтобы на южном рубеже Руси, небезопасном от печенежских набегов, могли появиться новые опорные пункты. Добавив поляков к местным жителям, дав бойцов из своей дружины, Ярослав принялся ставить новые города в Поросье (1032). Совершенно так же отец его когда-то укреплял городами оборону юга. Ярослав, одержав дорого давшуюся победу над степняками близ Альты, на своей шкуре почувствовал, сколь прав был отец в своей градостроительной деятельности. Другой раз печенеги дошли до Киева. Ярослав спешно вернулся из-под Новгорода, храбро вышел в поле против осаждающих и дал бой. Новгородцы бились совместно с давними своими соперниками киевлянами. Между ними встал отряд варягов. Объединенная Русь встретила бешеный напор кочевников, и «бысть сеча жестокая». Много часов бились между собой Русь со Степью. Лишь на закате конные лавы злых пришельцев, утомленные и обескровленные, в ужасе перед северной твердостью рассыпались, побежали. Печенегов рубили досыта.
Но более никто не хотел допускать их к самому сердцу страны. Ярослав начал возобновлять оборонительную систему отца, наращивать ее, выводить из состояния упадка, к которому всегда и неизбежно приводит долгая смута. В 1037 году, вскоре после разгрома печенегов, он принялся строить вокруг Киева новые укрепления: город разросся, прежние стены не вмещали всех его улиц.
Поздние годы его правления отмечены политическим благополучием. Держава Русская сильна, независима, города ее — словно чаши, до краев наполненные хмельным медом дружин. Ярослав может щедро тратить воинскую силу, ведя активную внешнюю политику. У него есть кем восполнять потери.
В 1030–1040-х годах великий князь четырежды ходил на север — против балтских и финно-угорских племен: чуди, ятвягов, литвы, еми. Даже страшный конский мор не отобрал у него победу над емью. В 1030-м, победив чудь, он основал город Юрьев на месте малой крепостицы местных племен[39].
В 1041 году Ярослав совершил большой поход на польское племя мазовшан. Воины его двигались по рекам на ладьях. Шесть лет спустя он повторил поход, и мазовшане потерпели тяжелое поражение. Их князь погиб. Ярослав отдал мазовшан под руку своего союзника и свойственника — польского короля Казимира I Восстановителя, женатого на его сестре[40]. Тот взамен собрал со всех подвластных ему областей русских пленников, угнанных когда-то Болеславом, и отдал киевскому другу.
Почувствовав себя могучим государем, Ярослав даже испробовал прочность Византийской империи. В середине XI века Византия находилась не в лучшем состоянии. Политический кризис трепал ее. Тем не менее греки начали нарушать договоры, ранее заключенные с русскими князьями. Сын Ярослава Владимир, а также воевода Вышата возглавили большую рать, предназначенную к набегу на владения василевсов. В 1043 году киевское воинство добралось на ладьях до устья Дуная. Отдохнув, оно устремилось оттуда к Константинополю. Пройдя мимо императорской столицы, русы вышли в Мраморное море. Началось морское сражение, и ход его складывался не в пользу князя Владимира. Не успела битва завершиться, как грянула буря, выбросившая часть флотилии на берег. Шесть тысяч ратников остались на берегу без предводителя, без помощи дружины, без запасов. Мужественный Вышата, высадившись к ним с корабля, сказал так: «Если буду жив, то с ними, если погибну, то с соратниками». Греческий император Константин Мономах послал вдогонку остальным, сохранившим ладьи, слабую эскадру всего лишь из четырнадцати кораблей. Владимир разбил греков, а потом хоть и с малой, да все же с победой вернулся на Русь. Но от того успеха не добавилось ему с отцом ни богатства, ни доброго имени. Брошенные же на произвол судьбы бойцы Вышаты оказались в плену. Множество несчастных воинов подверглось ослеплению. Вышата, как и обещал, вернулся на Русь со своими людьми, но лишь через три года, когда установился мир между Киевом и Константинополем. И он — единственный из всех участников войны, коему следовала почесть от народной молвы.
Христианская Византия являлась естественной союзницей христианской Руси. И как только константинопольские или киевские правители забывали это, как только одна из сторон пыталась вернуть времена буйных варяжских походов за добычей к заморским соседям, а другая проявляла высокомерие к северным варварам, так сам Бог, кажется, отучал их от скверных идей.
Больше всего великий князь запомнился современникам как устроитель дел Церкви и великий «книжник». Это, последнее, — главное, чем отличался он от предков. Отец его многое сделал для Церкви, сын и тут повторял отца. Но тягой к «винограду словесному» Владимир Святой отмечен не был. А вот его отпрыск бесконечно удивлял родню, киевскую знать и наемных варяжских князей необыкновенной любовью к образованным людям да пергаменным книгам.
В 1037 году он заложил в Киеве собор Святой Софии[41] и Благовещенскую надвратную церковь. В 1043-м его сын Владимир начал строительство собора Святой Софии в Новгороде — очевидно, по согласованию с отцом. Ярослав Владимирович основал монастыри Святого Георгия и Святой Ирины. Когда на Суздальской земле волхвы (языческие жрецы) подняли мятеж, он лично отправился туда с войском, пленил волхвов, частью изгнал, частью же казнил. В ту пору над Ярославом еще нависала серьезная угроза междоусобной войны с братом Мстиславом; несмотря на это, бунтом волхвов князь занялся без малейшего промедления. Церкви он дал новый устав, расширявший ее прерогативы по сравнению с тем, что установил его отец.
Но летописец, со спокойным одобрением отзываясь о строительных затеях Ярослава и о скором усмирении волхвов, впадает в изумленную восторженность, когда поет хвалу киевскому правителю совсем по другому поводу. Вот слова летописи, наполненные пламенной благодарностью книжника рясофорного книжнику державному: «Любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же любил черноризцев и к книгам имел пристрастие, читая их часто и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и перелагали они с греческого на славянский язык и на письмо. Переписали они и собрали множество книг, которые наставляют верующих людей, и наслаждаются они учением Божественного слова. Как если один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, — так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же Ярослав, сын Владимиров, посеял книжные слова в сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное… Ярослав… как мы уже сказали, любил книги и, много их написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам. Украсил ее иконами бесценными, и золотом, и серебром, и сосудами церковными, и возносят в ней к Богу положенные песнопения в назначенное время. И другие церкви ставил по городам и по местам, поставляя попов и давая от богатств своих жалованье, веля им учить людей и постоянно пребывать в церкви, потому что попам достоит всегда наставлять людей, ибо им поручено это Богом. И умножились пресвитеры и люди христиане. И радовался Ярослав, видя множество церквей и людей христиан, а враг сетовал, побеждаемый новыми людьми христианскими»[42].
Ярослав Владимирович позаботился о том, чтобы Русь обрела пока еще тонкий, но постепенно растущий слой образованных людей. А создав его, очень быстро получил новое качество в культуре. Русь начала мыслить себя. Русь начала познавать себя. Иными словами, вглядываться в устройство мира, в историю человечества, отыскивать свою роль во вселенской мистерии христианства.
При Ярославе, скорее всего, началось русское летописание — то ли при Десятинной церкви, то ли при соборе Святой Софии. При его детях оно прочно угнездилось в семье черноризцев Киево-Печерской обители. Этот прославленный монастырь вырос из немногочисленной иноческой братии, которая собралась вокруг Антония Печерского — любечанина, побывавшего на святом Афоне. Там его благословили устроить монашескую общину на Руси. Вернувшись, он поселился в пещерке, которую выкопал священник Иларион из домовой церкви Святых Апостолов великокняжеской резиденции в Берестове. «Малое стадце» сошлось к обиталищу Антония в ту пору, когда Ярослав уже входил в возраст ветхости. Илариона же, по словам летописи, «мужа благочестивого, книжного и постника», киевский правитель сделал главой Русской церкви (1051). Это был первый митрополит Киевский из русских. Прежде Константинополь присылал своих ставленников, Илариона же утвердил на митрополии собор епископов Руси.
Иларион создал первое крупное произведение, относящееся к русской богословской мысли, — «Слово о законе и благодати». Там судьба мира сконцентрирована вокруг главного события — обретения Нового Завета, завета любви и благодати. Судьба же Руси обретает иной стержень — Крещение при Владимире Святом. «И совлек с себя князь наш — вместе с одеждами — ветхого человека, отложил тленное, отряс прах неверия — и вошел в святую купель. И возродился он от Духа и воды: во Христа крестившись, во Христа облекся; и вышел из купели просветленный, став сыном нетления, сыном воскресения» — так писал Иларион, повествуя о начале новой жизни для Руси.
Не увлекся бы Ярослав книжной мудростью, не стал бы он покровительствовать ученым людям — так и не появилось бы у нас Илариона, а вслед за ним иных богословов, риторов, историописателей.
Подчиняя Русь христианскому идеалу, Ярослав видел перед собой общество, опьяненное этическими нормами дохристианской эпохи. Крестить — мало! Богослужения вести с размеренной регулярностью — мало! Даже насадить монастыри — все еще мало… Ежели оставить в людях ту языческую темень, в которой они жили веками, ту грубость нравов, то немилосердие, ту мстительность, которые окрашивали жизнь древнерусского общества в кровавые тона, христианство завянет, как цветок на каменистой почве. Сам Ярослав Владимирович и братья его были сделаны из того же теста. Отец едва-едва начал прививать им трудные нравственные образцы Христовой веры. Потомство его всё еще с радостью отдавалось буйству мечей, пляскам властолюбия, не видя в том ничего худого. И лишь со временем, уже в изрядном возрасте, оно начинало меняться: души, пусть и с промедлением, скрипя, застревая, поворачивались к Христу. А как же те, из кого слагалась нижняя часть в пирамиде русского общества? Требовалось дать им закон, твердый писаный закон, выволакивающий из эпохи хаотического насилия.
При Ярославе и по его воле родился первый русский свод законов — «Русская Правда». Прежде закон если и существовал, то лишь в форме обычая, передаваемого из уст в уста. Теперь великий князь, желая быть добрым христианином, утвердил единые нормы для всех, предав их пергамену.
«Русская Правда» ограничивала право кровной мести. Потомки Ярослава отменят ее совсем, но для начала требовалось хотя бы поколебать ее статус общепринятой нормы. Для самых тяжких уголовных преступлений вводились строго определенные штрафы. Судопроизводство получило несколько важных правил.
Ремесленники, мостившие города, обрели твердый тариф на свой труд. А общины, вынужденные содержать княжеских судебных чиновников («вирников»), — четкое представление о своих обязанностях по отношению к ним.
Древнейший вариант «Русской Правды» включал в себя менее двадцати статей. Но позднее этот скромный источник породит полноводную реку средневекового русского законодательства.
Судьба Ярослава Владимировича сложилась гармонично.
Смолоду жестокий воитель, честолюбец и мятежник, в зрелом возрасте он принял на себя ответственность за огромное «хозяйство» державы и понес его достойно, а под старость обернулся крепко верующим христианином, мудрым книжником, законодателем. Всё в его судьбе приходило вовремя. Даже смерть. Сила его ушла, дряхлость явилась, а души уже касались теплые ветра вечности. В 1054 году, прощаясь с семьей на смертном одре, Ярослав Владимирович еще успел сказать детям: «Имейте любовь между собой».
В 2005 году его имя было внесено в святцы Русской православной церкви. Святой благоверный князь поминается 20 февраля — в день его кончины.
ВЛАДИМИР МОНОМАХ Восстановитель порядка
О судьбе и подвигах князя Владимира Всеволодовича (1053–1125) известно больше, чем о жизни любого другого русского правителя домонгольской эпохи. В летописях он предстает в первую очередь князем-воином, правившим городами и землями, не сходя с седла. Князь страстно любил охоту, прославился большим дипломатическим талантом и крупными государственными преобразованиями… Мало кто помнит, что Владимир Всеволодович был канонизирован в чине святого благоверного князя и имя его вошло в «Собор всех святых, в земле Российской просиявших». Но для современников и ближайших потомков Владимир Всеволодович был прежде всего образцом христианского правителя, а уж потом всё остальное — полководцем, дипломатом, великим охотником и т. п. И его личность осталась в русской истории как пример государя, подчиняющего интересы своего рода, своей земли да и собственные интересы той истине, которую принесло на Русь Крещение.
Он родился у переяславского князя Всеволода Ярославича, по материнской же линии приходился внуком византийскому императору Константину IX Мономаху. Отсюда и звучное прозвище — Мономах.
Князю Владимиру выпало жить в ненастную эпоху. Ему назначен был долгий век, 72 года — очень много по меркам русской древности! Вся молодость, все зрелые годы князя пришлись на смутное время: Русь погружалась в бесконечный лабиринт кровавых междоусобных войн, а окраины ее терпели страшный урон от степных пришельцев-половцев.
Виднейшие князья Рюрикова рода поделили между собой города и области Руси. В Киеве, на великокняжеском престоле, сидел старший из Рюриковичей, но полновластием он не обладал. В его распоряжении находились громадные доходы от богатейшей Киевщины, сильная дружина да право номинального первенства. Однако действительное старшинство следовало поддерживать силой оружия, умными союзами с влиятельной родней, добрыми отношениями с киевской городской общиной. Великого князя, если он оказывался слишком слаб или же слишком нерасчетлив, могли выбить из Киева ближайшие родственники.
Смерть любого из старших Рюриковичей приводила к переделу богатых княжеских столов внутри семейства. Помимо Киева большой доход сулили Чернигов, Переяславль-Южный, Смоленск, Муром, Ростов и т. д. Право на княжение в любом из этих городов можно было обосновать двумя способами: местом в лестнице старшинства Рюриковичей либо военной мощью. Князья Рюрикова рода в таких случаях не стеснялись скрещивать мечи с племянниками, дядьями, не говоря уже о дальней родне. То один из них, то другой обращался за поддержкой к половцам и приводил их на Русь, вышибая соперников с богатых столов. Особенно прославился по этой части князь Олег Святославич, прозванный «Гориславичем» за лютую привычку «аргументировать» свои претензии с помощью половецких сабель.
Половцы приходили, грабили, жгли, уводили «полон», разоряли крестьян. Не один, не два и не три — десятки половецких походов наносили раны ослабевшему телу Руси. Пришельцы с радостью пользовались княжескими раздорами, то и дело являясь к Киеву, Чернигову, Переяславлю по приглашению русских князей и при почетном «эскорте» их дружин.
Между тем из-под пера Владимира Мономаха выходит поучение, адресованное сыновьям, где он цитирует Псалтирь библейского царя Давида: «Оружие извлекают грешники, натягивают лук свой, чтобы пронзить нищего и убогого, заклать правых сердцем. Оружие их пронзит сердца их, и луки их сокрушатся. Лучше праведнику малое, нежели многие богатства грешным. Ибо сила грешных сокрушится, праведных же укрепляет Господь. Как грешники погибнут, — праведных же милует и одаривает. Ибо благословляющие его наследуют землю, клянущие же его истребятся. Господом стопы человека направляются. Когда он упадет, то не разобьется, ибо Господь поддерживает руку его. Молод был и состарился, и не видел праведника покинутым, ни потомков его просящими хлеба. Всякий день милостыню творит праведник и взаймы дает, и племя его благословенно будет. Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки веков».
А к своему горчайшему неприятелю и убийце сына князю Олегу Святославичу он обращается в письме со словами, исполненными христианской мудрости: «Кто молвит: „Бога люблю, а брата своего не люблю“, — ложь это. И еще: „Если не простите прегрешений брату, то и вам не простит Отец ваш небесный“… Но всё наущение дьявола! Были ведь войны при умных дедах наших, при добрых и при блаженных отцах наших. Дьявол ведь ссорит нас, ибо не хочет добра роду человеческому. Это я тебе написал, потому что понудил меня сын мой… прислал он ко мне мужа своего и грамоту, говоря в ней так: „Договоримся и помиримся, а братцу моему Божий суд пришел. А мы не будем за него мстителями, но положим то на Бога, когда предстанут перед Богом; а Русскую землю не погубим“. И я видел смирение сына моего, сжалился и, Бога устрашившись, сказал: „Он по молодости своей и неразумению так смиряется, на Бога возлагает; я же — человек, грешнее всех людей“». Владимир Мономах совсем недавно узнал о кончине сына, о том, как другой его сын, вошедший в русскую историю под именем Мстислава Великого, бился с Олегом Святославичем и одолел его. Мстислав, победитель, просит безутешного отца: «Помилосердствуй, да будет мир!» И Владимир Мономах смиряет гнев, смиряет гордыню, сам пишет обидчику: «Помиримся».
Когда, в какое время он пишет эти слова?! Ведь еще недавно кровная месть была разрешена по закону! «Русская Правда» несколько ограничивала ее, но отнюдь не запрещала. Языческий обычай, уповающий на право силы, говорил: отомсти! А христианский, только-только набирающий силу на Руси, требовал иного: прости, откажись от мести! На того, кто шел по второму пути, будь он сколь угодно храбр, смотрели как на человека, проявившего непонятную слабость. Не отомстил? Глупец! Тряпка!
Владимир Мономах научился прощать. Научился ставить мир превыше любой выгоды, которую только можно добыть мечом. Научился отстранять от себя соображения прямой и очевидной корысти, если для их осуществления требовалось очертя голову бросаться в очередное междоусобие.
Не всю жизнь он провел в праведниках. Да это и невозможно для князя! По собственным словам Владимира Всеволодовича, он с тринадцати лет принял на себя бремя княжеских трудов: участвовал в 83 больших военных предприятиях, не вылезал из сражений с половцами, 19 раз заключал с ними мир, в разное время захватил в плен несколько сотен знатных степняков, из них примерно сотню пощадил, а 220 утопил или иссек мечом. Ему приходилось лить чужую кровь постоянно. Да и в междоусобных войнах, со своими, с единоплеменниками и единоверцами, бывало, Владимир Всеволодович проявлял большую жестокость. Вот его собственные слова: «…На ту осень ходили с черниговцами и с половцами… к Минску, захватили город и не оставили в нем ни челядина, ни скотины». Сказано — красноречивее некуда.
Иной скорбный случай — князь дал клятву и нарушил ее…
Тогда к Переяславлю подступили половецкие вожди, давние противники Руси. Но на сей раз они явились с доброй целью. Летопись сообщает: «Пришли половцы, Итларь и Кытан, к Владимиру мириться. Пришел Итларь в город Переяславль, а Кытан стал между валами с воинами; и дал Владимир Кытану сына своего Святослава в заложники, а Итларь был в городе с лучшей дружиной. В то же время пришел Славята из Киева к Владимиру от [великого князя] Святополка по какому-то делу, и стала думать дружина… с князем Владимиром о том, чтобы погубить Итлареву чадь, а Владимир не хотел этого делать, так отвечая им: „Как могу я сделать это, дав им клятву?“ И отвечала дружина Владимиру: „Княже! Нет тебе в том греха: они ведь всегда, дав тебе клятву, губят землю Русскую и кровь христианскую проливают непрестанно“. И послушал их Владимир, и в ту ночь послал Владимир Славяту с небольшой дружиной… между валов. И, выкрав сперва Святослава, убили потом Кытана и дружину его перебили». На следующий день Итларя «с чадью» заманили в ловушку и всех уничтожили.
Многого ли добились таким вероломством? В самое скорое время русский город Юрьев запылал от рук половецких.
Но не напрасно дал Бог Владимиру Всеволодовичу столь долгую жизнь. Чем больше видел он вокруг себя свирепости, чем больше сам склонялся к жестоким мерам против своих врагов, тем больше понимал: доброго итога душегубство дать не способно. Пролил кровь — прольют и твою, а не твою, так близких тебе людей. Обманул — будешь обманут. Не пожалел врага — и сам жалости не увидишь. Собрал большую силу — найдется еще ббльшая. Поэтому в зрелые годы князь сумел побороть собственную гордыню и с делами большой политики управлялся, покорившись смирению.
На протяжении длинной политической карьеры Владимир Мономах занимал то один, то другой княжеский стол. Правил в Ростове, Владимире-Волынском, Турове, Смоленске, Чернигове, Переяславле-Южном. Несколько раз мог занять Киев, но отказывался. Главной причиной отказа становилось нежелание сражаться с родней. В военной-то силе недостатка он не испытывал.
Так, однажды великий князь Святополк оказался замешан в скверной истории: на его княжьем дворе, с его согласия, схватили князя Василька Ростиславича. Позднее несчастный Василько подвергся ослеплению. Такого прежде не случалось в роду Рюрика! Владимир Мономах со своей дружиной и войсками двух других князей поступил к Киеву, требуя от великого князя дать ответ за его злодеяние. Святополк изготовился бежать из города. Но, по словам летописи, «не дали ему киевляне бежать, но послали вдову Всеволодову и митрополита Николу к Владимиру, говоря: „Молим, княже, тебя и братьев твоих, не погубите Русской земли. Ибо если начнете войну между собою, поганые станут радоваться и возьмут землю нашу, которую собрали отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбростью, борясь за Русскую землю и другие земли приискивая, а вы хотите погубить землю Русскую“. Всеволодова же вдова и митрополит пришли к Владимиру, и молили его, и поведали мольбу киевлян — заключить мир и блюсти землю Русскую и биться с погаными. Услышав это, Владимир расплакался и сказал: „Воистину отцы наши и деды наши соблюли землю Русскую, а мы хотим погубить“. И уступил Владимир мольбе княгини, которую почитал как мать… Владимир был полон любви». Мог бы занять место Святополка? Мог. Всё шло к тому. Но не стал грязнить душу.
В конце концов, великокняжеский престол сам упал к нему в руки, как перезрелый плод, задержавшийся на ветке.
16 апреля 1113 года умер князь Святополк Изяславич. После похорон «устроили киевляне совет, послали к Владимиру (Мономаху. — Д. В.), говоря: „Пойди, князь, на стол отчий и дедов“. Услышав это, Владимир много плакал и не пошел (в Киев), горюя по брате», — а больше того опасаясь, вероятно, нового междоусобия. «Повесть временных лет» рассказывает о волнениях, охвативших столицу Руси: «Киевляне… разграбили двор Путяты тысяцкого, напали на евреев, разграбили их имущество. И послали вновь киевляне к Владимиру, говоря: „Пойди, князь, в Киев; если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет, это не только Путятин двор или сотских, но и евреев пограбят, а еще нападут на невестку твою, и на бояр, и на монастыри, и будешь ты ответ держать, князь, если разграбят и монастыри“. Услышав это, Владимир пошел в Киев… Сел он на столе отца своего и дедов своих, и все люди были рады, и мятеж утих».
Успокоение мятежного Киева произошло не само собой. Владимир Всеволодович знал причину, вызвавшую волнения: горожане страдали от ростовщичества, принявшего небывалый размах и покрываемого старой властью. Князь устроил в Берестове, под Киевом, государственное совещание. Там присутствовали его старшая дружина, тысяцкие из Киева, Белгорода, Переяславля-Южного, а также местное боярство. На совещании было принято решение: ограничить проценты («резы») по долгам, то есть ввести прибыль, получаемую ростовщиками, в разумные пределы. Свод законов «Русская Правда» обогатился новыми статьями на сей счет, они получили общее название «Устав Владимира Всеволодовича». Только тогда порядок в городе был полностью восстановлен.
С высоты изрядного возраста и огромного опыта — нравственного, политического, военного — Владимир Мономах мог поучать детей: «Убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-либо, дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам придется крест целовать братии или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души своей. Епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них благословение, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; все это, что ты нам дал, не наше, но твое, поручил нам это на немного дней… Лжи остерегайтеся, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело… А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего».
Собственные соблазны, собственные грехи и собственные беды, следовавшие за грехами, дали ему понимание: не убивай, не гордись, не клянись, а если все же поклялся — соблюдай клятву ради души своей.
Эта смиренная мудрость Владимира Мономаха в конечном счете привела и к самому большому успеху всей его жизни: одолению половцев. Не за один год и не за один поход, но сила степняков оказалась сломленной.
Пока между русскими князьями шли свары, пока они не оказывали друг другу помощи, эта задача оставалась нерешаемой. Даже когда они собирались в единое войско, но не могли управлять им в добром согласии, случалось, терпели ужасающие поражения. Так, 1093 год принес черную весть всей Руси: общие силы князей Святополка Изяславича, Владимира Мономаха и его брата Ростислава разбиты половцами на реке Стугне. Горе! Сколько дружинников полегло! Сам князь Ростислав Всеволодович погиб. А причина одна: не установилось «лада» в княжеской коалиции.
Трижды собирались князья на большие «съезды» — в Любече (1097), Уветичах (1100) и Долобске (1103). Учились договариваться друг с другом. Получалось с трудом…
Всякий раз Владимир Всеволодович говорил остальным о выгодах согласия, мира, объединения сил. Наконец Долобский съезд проломил стену всеобщей вражды. После него русские князья, собравшись воедино, нанесли половцам несколько тяжелых поражений. Их натиск на Русь ослаб.
Как верный сын Церкви, Владимир Мономах строил новые храмы в Киеве, Ростове, Смоленске. Судя по археологическим данным, при нем появилась церковь Спаса на Берестове под Киевом. Он же возвел Борисоглебскую церковь на реке Альте близ Переяславля-Южного — там, где когда-то принял смерть святой Борис.
При нем почитание святых князей Бориса и Глеба, долго и трудно складывавшееся в 70—80-х годах XI века, расцвело. В княжение Владимира Всеволодовича и, скорее всего, не без его влияния возникла окончательная редакция «Сказания» о святых братьях. В 1115 году он пригласил к себе князей Давыда и Олега Святославичей. По словам летописца, князья «решили перенести мощи Бориса и Глеба, ибо построили им церковь каменную, в похвалу и в честь и для погребения тел их. Сначала они освятили церковь каменную мая 1, в субботу; потом же во 2-й день перенесли святых. И было сошествие великое народа, сшедшегося отовсюду: митрополит Никифор со всеми епископами… с попом Никитою белогородским и с Данилою юрьевским и с игуменами…». После этого три дня гулял народ киевский на княжеские деньги, три дня бесплатно кормили нищих и странников. Позднее Владимир Всеволодович «оковал» раки с мощами серебром и золотом.
Скончался великий воитель тихо, от старости и хворей. Отправившись в богомолье к Борисоглебской церкви, князь встретил там свой последний срок 19 мая 1125 года. Останки его нашли упокоение в соборе Святой Софии Киевской.
ЕВФРОСИНИЯ-ПРЕДСЛАВА ПОЛОЦКАЯ Просветительница
В древнерусском летописании едва-едва отыскиваются сведения о ближайшей родне святой Евфросинии Полоцкой. О ней же самой нет ничего. Но в духовной жизни Руси она сыграла первостепенную роль. Княжна, сызмальства знавшая роскошь и негу, не только постриглась в монахини, но и прославилась как сторонница весьма строгого соблюдения иноческих правил, основательница новой обители. В то же время она покровительствовала искусству, способствовала духовному просвещению. Это необычное сочетание — чистой, сильной, самоотверженной преданности иноческим правилам и деятельной тяги к утверждению своего идеала — создает весьма обаятельный образ.
Год рождения святой Евфросинии не известен. Историки называли разные даты от 1101 до 1120 года. Наиболее вероятно, что она появилась на свет между 1101 и 1105 годами. Девочке дали имя Предслава, соответствующее княжескому происхождению. Ее отец — князь Ростислав (в крещении Георгий) Всеславич[43], сын знаменитого политика и полководца, вошедшего в древнерусскую историю как Всеслав Чародей. Всеслав и его потомки относились к двум знаменитым династиям русского Средневековья — Рюриковичам (той ветви, которая берет начало от Владимира Святого) и Рогволодовичам (единственной уцелевшей их ветви, восходящей к Рогнеде Рогволодовне, жене Владимира Святого). Рюриковичи-Рогволодовичи правили богатейшим княжеством со столицей в Полоцке. Этот мощный торгово-ремесленный центр возник еще во дорюриковы времена как племенная столица кривичей. Он являлся одним из крупнейших на Руси, власть его князей распространялась на громадную территорию. Полотчина всегда и неизменно проявляла «особость» по отношению к Киеву и Новгороду. Это была полунезависимая область с древним влиятельным боярством и сильными традициями вечевой демократии. Непонравившегося князя полочане могли изгнать из города. Но в любом случае Полоцкое княжение — одно из самых завидных на Руси и по «чести», и по военно-политическим ресурсам, и по экономическому процветанию.
Княжна Предслава росла красавицей. Для женщин Руси XII столетия 12 лет — обычный брачный возраст. Когда Предслава достигла его, отец решил отыскать дочери достойную партию. Судьба княжон того времени — быть разменной монетой в играх политического или династического характера, средством укрепления связей с союзниками, придания большей прочности договорам со вчерашними врагами.
Но сама княжна не желала брачных радостей. Ей ближе оказался «виноград словесный» Священного Писания и церковных книг.
Как сообщает житие, она втайне от родителей устремилась в монастырь, увлеченная размышлениями, далекими от мудрости мирской: «Что бо успеша преже нас бывший родове наши? И женишася, посягаша и княжиша, но не вечноваша; житие их мимо тече и слава их погибе, яко прах и хужее паучины. А иже прежния жены, вземше мужскую крепость, поидоша в след Христа, жениха своего, предаша телеса своя на раны, и главы своя мечеви, а другыя аще железу выя своя не преклониша, нъ духовным мечем отсекоша от себе плотскыя сласти, предавше телеса своя на пост и на бдение и коленное покланяние и на земли легание, то тии суть памятей на земли, и имена их написана на небесех, и тамо с аггелы безпрестани славят Бога».
Игуменья, ее родственница (вдова дяди, князя Романа Полоцкого), увидев цветущую красу Пределавы, а паче того убоявшись гнева со стороны ее отца, сначала отказала княжне в пострижении. Но девушка явила столь твердую волю и столь мудрое понимание иночества, что та в конце концов сдалась на ее уговоры.
Примерно в середине 1110-х годов[44] княжна Предслава умерла для мира, а на ее место пришла монахиня Евфросиния. Князь Георгий печалился о ее судьбе и гневался на ее «пронырство», но переменить ничего не мог. Оставалось смириться…
Прожив какое-то время в обители близ города, святая Евфросиния превзошла всех сестер общины в посте, молитвах и ночных бдениях. Набравшись иноческого опыта, она упросила епископа Полоцкого Илью разрешить ей затвор в каменном «голбце» (маленьком чулане или погребе[45]) при соборе Святой Софии — огромном храме, первенствующем среди церквей Полоцкой земли. Здесь она резко ограничила себя в пище, а затем взялась за чрезвычайно тяжелую работу — переписывание церковных книг. Променяв роскошь, обеспеченную детям княжеского рода, на монашеское одеяние, она смирила себя до того, что работала как писец по найму и раздавала нуждающимся деньги, полученные за труды.
Последнее говорит, во-первых, о том, что бывшая княжна владела грамотой и любила книжную премудрость, и во-вторых, о том, что она приобрела редкий навык книгописания. В ту пору книги стоили весьма дорого. Их писали на пергамене — тонко выделанной телячьей коже. Книгописец работал чрезвычайно медленно, не столько выписывая, сколько вырисовывая каждую букву. Высокие, прямые, стоящие отдельно друг от друга «уставные» буквы пергаменных книг требовали умения и тщания. Изготовление одной-единственной книги считалось своего рода духовным подвигом. Писец, завершая работу и откладывая перо, счастливо вздыхал, словно переплыл море и пристал к родному берегу. Святая Евфросиния совершала такой духовный подвиг неоднократно, притом в исключительно тяжелых условиях.
Называя ее просветительницей Полоцкой земли, ныне часто имеют в виду устройство школ, создание книгописных мастерских. В действительности же дар просвещения, принятый ею свыше, означал совсем другое. Житие говорит ясно: «Еуфросиниа… сердце свое напаяше Божиа премудрости. Еуфросиниа неувядающий цвет райскаго сада. Еуфросиниа — небопарный орел, попарившия от запада до востока, яко луча солнечнаа, просветившия землю Полотьскую…» Эта женщина вовсе не занималась «ликбезом» или налаживанием школьного дела. Она просвещала Полотчину своим нравственным примером, своей духовной строгостью, абсолютной, неколебимой преданностью Христу. Ее просвещение — не знанием, а верой.
Надо помнить: Русь XII века оставалась полухристианской страной. Томили ее пережитки языческой старины, мучили бунты волхвов, терзали древние жестокие обычаи, долго не уступавшие место новым христианским. Полоцк, вечно живший наособицу, со времен Всеслава Чародея славился как место, прочно укорененное в древней тьме. Явилась святая Евфросиния — и жизнью своей, всей жизнью во Христе, а не только писцовой деятельностью, пролила свет на землю Полоцкую.
По словам жития, труды ее были прерваны чудом: явился ангел и призвал высокородную инокиню в местность к северу от Полоцка, где на епископской земле располагалось некое сельцо. Там, очевидно, стояло владычное подворье с небольшим монастырем об одной «церьковце» — Спасской. Издавна храм сделался местом погребения полоцких епископов.
Тот же владыка Илья перевел Евфросинию с еще одной инокиней к Спасской церкви. Более того, призвав правящего князя Полоцкого Бориса (дядю бывшей княжны) и его брата Георгия (отца ее), он при свидетелях передал инокине сельцо с землею окрест Спасского храма. Это случилось в 1120-х годах, не позднее 1128-го.
Очевидно, князь Борис сочувствовал племяннице: он сам явил необыкновенное благочестие, повелев вырезать на огромных гранитных валунах свои моления о помощи, обращенные к Богу. Возможно, его сочувствие или даже денежное пожертвование помогли епископу проявить мягкость в таком сложном деле, как передача владычной земли в другие руки…
Переехав на новое место, святая Евфросиния упросила отца дать ей сестру Городиславу в научение грамоте. Но вместо грамоты учила ее «спасению души», а затем сделала инокиней, принявшей имя Евдокия. Отец рассердился на Евфросинию, но не в его воле оказалось расстричь вторую дочку.
Слава Евфросинии как ревностной монахини плыла по всей Пол отчине, волнуя сердца тех, кто искал Царствия Небесного больше, нежели земного благополучия. Побежденная этим зовом, к ней явилась двоюродная сестра Звенислава — дочь полоцкого князя Бориса. Принеся «всю свою утварь златую и ризы многоценны», она принялась молить о пострижении. Скоро не стало Звениславы, зато родилась инокиня Евпраксея. Именно она, видимо, принесла в обитель средства, необходимые для большого строительства.
Рядом с прежней Спасской церковью святая Евфросиния велела заложить новую, каменную. Ее за 30 недель воздвиг полоцкий зодчий Иоанн. Церковь дошла до наших дней. Внешний вид ее, когда-то исполненный совершенной красоты, изуродован позднейшими перестройками, зато чудесные фрески XII века до сих пор пребывают в сохранности. Историки датируют сооружение храма временем от 1143 до 1158 года. В нем находится каменная каморка, когда-то служившая святой Евфросинии кельей.
«Видевши же преподобная Еуфросиниа манастырь свой украшен и всего блага исполнен, — продолжает житие, — умысли создати вторую церковь камену Святей Богородици. И ту свершивши и иконами украси, и освятивши, предаст ю мнихом, и бысть монастырь велий. Видевши же блаженная манастыря два устроена превелика зело и пребогата, и рече в собе: „Слава Тобе, Владыко, благодарю Тя, Святый! Что есмь восхотела, то дал ми еси, и скончал еси, Господи, желание сердца моего“».
Древнейший из двух монастырей, с коими связана судьба святой Евфросинии, возродился в наши дни. Большая Спасо-Евфросиньевская обитель находится на окраине Полоцка и пребывает в цветущем состоянии[46]. Второй монастырь, ею основанный, Богородичный, исчез еще в древности.
Святая Евфросиния заботилась о духовном украшении своих монастырей. Ее слуга Михаил ездил с «многоценными дарами» в Константинополь, к императору Мануилу I Комнину и патриарху Луке Хрисовергу. Он привез оттуда икону Богородицы Эфесской, создание которой церковная традиция приписывает евангелисту Луке. (Речь идет, скорее всего, о «списке», то есть копии с древнего образа, сделанной в середине XII века византийскими мастерами.) Святой образ доставили в Полоцк. Здесь он нашел приют в недавно устроенном Богородичном монастыре и облекся в ризы из золота и драгоценных камней.
Спасскому храму святая Евфросиния предназначила иной дар. В 1161 году по ее заказу полоцкий ювелир Лазарь Богша создал великолепный шестиконечный крест полуметровой высоты. Золото, серебро, жемчуг и драгоценные камни, пошедшие на его изготовление, стоили 100 гривен серебром, работа самого мастера — еще 40 гривен — целое состояние! Внутри креста хранились частицы мощей, доставленных из Византии. Творение Богши стало одной из главных святынь Полоцкой земли. К несчастью, летом 1941 года при запутанных обстоятельствах военной поры он исчез и с тех пор не обнаружен.
На склоне лет, чувствуя скорую кончину, святая Евфросиния решила исполнить мечту всей жизни — совершить паломничество в Святую землю. Там еще держалось Иерусалимское королевство крестоносцев, хотя Господь и отсчитывал ему последние годы существования. И полоцкая игуменья устремилась туда, щедро расходуя уходящие силы.
Перед отъездом она постригла во инокини двух дочерей своего брата, князя Вячеслава, и передала власть над обоими монастырями Евдокии.
Вместе со святой Евфросинией в Иерусалим отправились ее брат Давыд[47] и Евпраксея.
По дороге в Святую землю она встретила императора, идущего войной на венгров. Тот, оказав ей «великую честь», отправил в Константинополь. Ласковое отношение к Евфросинии объясняется тем, что она находилась с императором в близком свойстве — ее тетка стала женой дяди Мануила I Комнина. Посетив столицу Византийской империи, Евфросиния обошла тамошние храмы, посетила Святую Софию и получила от патриарха благословение. Оттуда ей оставалось совсем уж недалеко до Святой земли.
Подъезжая к Иерусалиму, она послала к здешнему владыке слугу с просьбой открыть ей ворота, через которые когда-то въехал сюда Христос. Слуга добился позволения.
«Пришедших ко вратом, паде на земли, глаголющи: „Господи Иисусе Христе! Не вмени ми сего в грех, занеже изволих по стопам Твоим ходити и внидох во святый град сий!“ И целовавши врата и сущии с нею, и вниде во град, и иде ко гробу Господню. И пришедши, поклонися, и целова гроб Господень и сущии с нею. И покади гроб Господень златою кадильницею и многоразличными фимияны, и изыде, и обита у Святое Богородици в Руском манастыри», — сообщает житие.
Святая Евфросиния хотела добраться до реки Иордан, чтобы прикоснуться к священным ее водам, да сил уже не оставалось. Бог поставил предел ее благочестивым желаниям. Недуг пришел к старой женщине, не позволяя покидать ложе. Ей оставалось лишь молиться. Но сжалился над ней Высший Судия: паломники, побывавшие на Иордане, привезли ей драгоценной воды оттуда. «Она же с радостию воставши и приемши и пивши, и облияся по всему телу своему, и возлегши на ложи, и рече: „Благословен Бог, просвещая всякого человека, грядущаго в мир. В векы молюся человеколюбивому Богу…“». Испытав последнюю радость в своей земной жизни, святая Евфросиния скоро предала душу Богу. Ее тело похоронили в Богородице-Феодосиевском монастыре.
Традиционно принятая в исторической литературе дата кончины святой Евфросинии — 24 мая 1173 года. Недавно историками была предложена другая, уточненная дата: 24 мая 1167 или 1168 года. Но она оспаривается и большинством специалистов не принимается.
Скорее всего, очень быстро, еще до конца XII века, сложилось почитание Евфросинии как святой.
Не минет и двух десятилетий, как Иерусалим ускользнет из рук крестоносцев. Султан Саладин выгонит из города христиан. Русские иноки, уходя, заберут с собой мощи преподобной Евфросинии как великую святыню. Добравшись до Киева, монахи захоронят их в Благовещенском пещерном храме. Лишь через семь с лишним столетий государь Николай II позволит перенести святые мощи в Спасский храм Спасо-Евфро-синьевского монастыря, построенный когда-то трудами самой преподобной. Это произойдет в 1910 году. При советской власти мощи переживут печальную одиссею, но осенью 1943 года вернутся на прежнее место, где ныне и пребывают.
История святой Евфросинии получила чрезвычайную популярность на Руси. До наших дней дошло более 130 рукописных копий ее жития. Ее почитали необычайно — строгую монахиню, возлюбившую духовное просвещение и книжную премудрость.
ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ Искатель престолов
Судьба Юрия Владимировича, правителя Северо-Восточной Руси, парадоксальна. Это настоящий «полевой командир», кондотьер, и если сравнить монумент, поставленный в память о нем на Тверской улице Москвы, и памятники настоящим итальянским кондотьерам, то аналогия — бог весть, случайная ли? — сейчас же сделается очевидной. Его политическая биография — история жизни отчаянного завоевателя, непримиримо борющегося за дальние земли. Не напрасно его прозвали Долгоруким: князь вечно тянулся с севера к Южной Руси. Но когда Юрия Владимировича не отвлекали бесконечные захватнические планы, в нем просыпалась иная сторона его личности. Он проявлял себя как неутомимый строитель, мудрый и заботливый хозяин своего княжества. Бурная хроника походов Юрия Владимировича оставила потомкам очень мало пищи для благодарного чувства; зато его вторая ипостась породила добрую славу. Такую… которой он сам вряд ли дорожил бы.
Кондотьер-строитель… необычная, яркая личность.
Дата его рождения неизвестна. Седьмой то ли восьмой сын великого Владимира Мономаха, он появился на свет в 1090-х годах, не ранее 1093-го. Точнее сказать невозможно.
В 1107/08 году русские князья, разбив половцев, заключили с ними мир. В знак дружбы Владимир Мономах женил своего сына Юрия на дочери хана Аепы. Вот первое его появление на сцене большой политики.
В 1120-м или самом начале 1121 года Юрий ходил на волжских болгар «…и полон взял мног и полк их победил». Вот первое его достижение.
Юрий Владимирович на протяжении нескольких десятилетий правил обширной Ростово-Суздальской землей. Позднее именно отсюда, из северного лесного края, вырастет государство Россия. Но в первой половине XII столетия ростовский княжеский стол намного уступал в чести южнорусским. Глушь, дичь, невероятное отдаление от узловых областей древнерусской культуры и политики. Когда именно Юрий Владимирович вокняжился здесь, сказать невозможно. Звучали разные предположения, но даты в источниках нет, и нет никакой возможности определить ее даже приблизительно.
В летописи ясно говорится: Ростов и Суздаль — «отчина» князя. Иными словами, он получил ее от отца. Владимир Мономах скончался в 1125 году. Отсюда напрашивается вывод: именно тогда его сын и получил свое княжение — по наследству. Во всяком случае, не позже этого года. Но ведь родитель мог дать ему под управление далекую малонаселенную область и гораздо раньше. Киево-Печерский патерик сообщает, что сын Владимира Мономаха был «на руках», то есть на поруках (пользовался помощью) боярина Георгия Шимоновича. А советники упоминаются в летописях как сопровождающие лица князей, если сами князья отправляются на удел в отроческом возрасте. Отсюда другая версия: княжич удостоился правления огромной областью сразу после того, как вступил в брак (1108). Супружество столь высокого политического уровня требовало придать солидности мужу высокородной половчанки. Брак же тогда заключали хоть в четырнадцатилетием возрасте. Но теоретически мальчик мог оказаться в Ростове и до брака…
Историческая литература пестрит высказываниями, согласно которым в 1125 году Юрий Владимирович перенес столицу княжения из Ростова в Суздаль. Это очень сомнительно: до второй половины 1130-х летопись упоминает Ростов как центр подвластной князю области.
После смерти старшего сына Владимира Мономаха, незаурядного политика Мстислава Великого (1132), началось большое княжеское междоусобие. В нем принял участие и Юрий Долгорукий. Он силой захватил Переяславль-Южный, выбросив с тамошнего княжения собственного племянника. Но поскольку утвердился он в городе беззаконно, то после восьми дней княжения сам вынужден был уйти. Так повелел ему старший брат, а ныне великий князь Киевский Ярополк.
Три года спустя Юрий все-таки получил Переяславль у старшего брата, отдав ему взамен часть северной своей «вотчины» — Ростов и Суздаль. Ведь большая крепость на юге, богатый Переяславль, — гораздо более «честное» княжение, нежели лесные дебри на окраине Руси. Вся жизнь сосредоточивалась на Киевщине, там оставался главный перекресток большой стратегической «игры». А Переяславль стоял по соседству с Киевом, не то что Ростов — тьма внешняя…
Южная Русь еще не ослабела, не изнемогла от бесконечных свар жадного княжья, главные центры русской культуры, экономики и политики еще не переместились на периферию Руси. Это произойдет несколькими десятилетиями позднее.
Надолго князь Юрий в Переяславле опять не задержался. В то время братья Владимировичи вели кровавую войну с князьями из ветви Ольговичей[48]. Битва следовала за битвой. Перипетии этой усобицы заставили Ярополка вновь вывести младшего брата с переяславского стола. Очевидно, пришлось ему вернуться на немилые северные просторы. С 1137 года он уезжает из Южной Руси в Ростов и опять княжит в Ростово-Суздальской земле. В 1139 году, вероятно, участвует в походе старшего брата Ярополка на Чернигов. Несколько лет спустя Юрий меняет свою столицу: к середине 1140-х вместо Ростова таковой стал Суздаль.
Прошло несколько лет. Умер Ярополк, его злейшие враги Ольговичи заняли Киев и принялись теснить сыновей Мономаха.
Собственная вотчина Юрия Владимировича оказалась под ударом: войско Ольговичей вторглось на подвластные ему земли и подвергло их тотальному разграблению (1141). Сына его Ростислава Ольговичи выгнали с новгородского княжения. Все обширное семейство потомков Мономаха оказалось в утесненном положении.
Тогда Юрий вынужденно заключил со своими врагами союз. Собственные братья и племянники не хотели видеть его в Южной Руси, а опасность, исходящая от борющихся с ними Ольговичей, была ему не нужна[49]. В 1146 году — после вокняжения в Киеве его племянника Изяслава Мстиславича — Юрий заключил договор со Святославом Ольговичем, князем Новгород-Северским, и отправил тому в поддержку своего сына Ивана; Святослав наделил того Курским княжением. Затем Юрий послал в помощь Ольговичам своего сына Глеба с дружиной. Позднее — Ростислава, но тот изменил отцу и пристал к противоположной партии. Тщетны были его упования: да, отца его теперь считала врагом ближайшая родня, да, против него устраивали походы[50], но на сына-изменника смотрели косо и не верили ему. Новые друзья скоро прогнали Ростислава, притом напоследок ограбили его.
Летопись сообщает о милосердии, проявленном к «блудному сыну» Юрием Владимировичем: «И пришед к отцю Ростислав, сказав вся приключишаяся ему. И слышав отец его, сжалися, рек: „Тако ли мне нету части в земли Русстей и моим детем?!“». Словами «земля Русская» в ту пору обычно обозначали Южную Русь — Киевщину, Переяславщину и соседние с ними области. Юрий Владимирович горевал и гневался, что ни ему, ни его отпрыскам, даже порвавшим с ним, не позволяют получить в тех благодатных местах княжение, хотя бы второстепенное. Он воспринимал сложившееся положение вещей как оскорбление его семейству, растянувшееся на долгие годы.
Летом 1149 года на юг двинулась союзная армия Юрия и Ольговичей. Половцев призвали на поддержку. Близ Переяславля войско встретилось с силами коалиции Мономашичей. Великий князь Изяслав Мстиславич лицемерно объявил дяде: «Если б ты пришел сам, с детьми, выбрал бы себе любую волость, какая понравится. Но ты на меня привел половцев и врагов моих Ольговичей. Хочу с тобой биться». Естественно, никто не поверил его словам. Киевляне хоть и сочувствовали Изяславу, но оказывали поддержку с тяжелым сердцем. Великому князю советовали отступить по своей воле, дабы «землю… избавить от великой беды», но он упорствовал. Полки столкнулись, и «бысть сеча зла». Юг был побежден Севером. Изяслав бежал сам-третей, то есть всего с двумя спутниками. Юрий же занял Переяславль, отдал его сыну Ростиславу, а сам вошел в Киев и сел на «великом княжении».
На Киевщине не знали и не любили северного князя. Изяслав, замиренный и прощенный, вновь был призван киевлянами. Его соперника выгнали из города в 1150 году, дабы вернуть власть Изяславу. Но Юрий, собрав силы, вновь выдавил гораздо более скудного воинством Изяслава. Переменчивые киевляне на сей раз, убоявшись, стали разбегаться от своего государя, не дав ему помощи. Тот призвал на Русь венгров и в 1151 году опять завоевал «великое княжение» с их помощью. Тогда и Юрий опять привел на него большую армию: свою дружину, дружины сыновей, союзных Ольговичей, половецкие отряды… Но на сей раз его разбили и вынудили отступить.
В 1152 году Изяслав и Юрий заключили между собой мирное соглашение. Побежденного Юрия обязали вернуться в Суздаль, а сына позволили оставить в Переяславле. Это было щедрое и разумное предложение. Если бы стороны его придерживались, Южная Русь наконец-то могла бы умириться.
Но Юрий мечтал о Киеве. Дважды правя этим великим городом, он не мог победить вожделение опять вокняжиться там. Его собственный сын Андрей, верный помощник, храбрый полководец, в гневе оставил его. Он сказал отцу: «Мы на том целовали крест, что ты отправишься к Суздалю!» И, блюдя клятву, Андрей ушел в свою северную вотчину — город Владимир на Суздальской земле. Дальнейшая грызня за Киев его больше не интересовала. Он оказался мудрее родителя: вооруженной силой того всё равно принудили уйти на север.
Смирился ли сам отец? Пожелал ли он на том успокоиться? Ничуть не бывало. Что Юрий, что Изяслав — два великих упрямца, легко укладывавших в землю тысячи людей ради своих амбиций.
Юрий Владимирович собрал со всей своей далекой вотчины полки — ростовцев, суздальцев, рязанцев. Рать его двинулась проторенной дорожкой под стены Киева. Скоро явились на помощь половцы. На полдороге русско-половецкое воинство осадило Чернигов, но взять его не сумело. А Изяслав уже шел с полками выручать город… Деморализованное новой неудачей войско Юрия отступило, и половцы покинули его.
На следующий год неуемный Юрий попытался повторить поход, но продвижение полков остановил небывалый конский падеж, вызванный каким-то заболеванием. Той же осенью 1154 года скончался непримиримый его враг Изяслав. На Киевщине сейчас же началась суета, один претендент на «великое княжение» сменял другого…
Юрий, оставив сына Мстислава княжить в Новгороде, с силой неудержимой стихии пошел на юг. Цель его жизни оказалась близка как никогда. Сидевшему тогда в Киеве правителю он передал послание: «Мне отчина Киев, а не тобе!» Юрий Владимирович мог изъясняться высокопарными фразами ничуть не хуже покойного предшественника, Изяслава, — уже и Киев, откуда его дважды изгоняли, сделался ему «отчиной»! Оппонента вразумило, скорее, многолюдство полков Юрьевых, чем громкое его заявление. Покоряясь, он ответствовал: «Не створи ми пакости, а се твой Киев…»
Юрий Владимирович вошел в «стольный град» без боя. Первое, что он сделал, — позаботился о своей многолюдной семье. Сыну Андрею дал Вышгород, Борису — Туров, Глебу — драгоценный Переяславль, а Василька посадил в Поросье — землях на реке Рось. Два его старших сына, Ростислав и Иван, давно лежали в могиле. Впрочем, им обоим отец когда-то добыл княжения. А потому мог считать долг перед своим родом до конца исполненным.
Сына Василька с подчиненными Киеву кочевниками-берендеями скоро пришлось отправить против половцев, напавших на Поросье. Неприятеля счастливо отбили. Затем Юрий Владимирович разумно откупился от более масштабного половецкого набега: не та была Русь после череды усобиц, чтобы рисковать, вступая в борьбу с большим половецким войском. Следующий раз половцы явились в малой силе и, увидев киевского правителя с полками, бежали. Вскоре они пришли на «снем» (съезд) и заключили мир.
Великий князь помирился с большинством своих «внутренних врагов», отнесся к ним милостиво. До какой степени дерзок и упрям был Юрий Владимирович, завоевывая Киев, до такой же степени явил он разум и миролюбие, когда сам утвердился там.
15 мая 1157 года государь киевский, участвовавший во множестве битв, мирно окончил свои дни. Останки князя упокоились близ Киева, в Спасском храме на Берестове. Сын его, Андрей, проявляя к отцу почтение, достроил каменную церковь Спаса в Переяславле-Залесском, заложенную еще родителем.
Помнит ли кто-нибудь ныне походы Юрия Долгорукого, борьбу его за Киев, свары с родней? Да помнит ли кто-нибудь хотя бы и добрые его дела — примирение с врагами, сбережение Руси от половцев на закате его жизни? Кроме специалистов да еще, пожалуй, самых дотошных любителей исторического знания, никто.
Но фигура эта поистине знаменита. Вот только известность Юрию Владимировичу принесло отнюдь не то, что сам он, вероятно, считал делом своей жизни, — овладение Киевом. Прославили его полезные начинания, относящиеся к правлению князя на нелюбимой Ростово-Суздальской земле. Иными словами, то, чему сам он придавал куда меньше значения.
Юрий Владимирович невероятно много строил. Щедрой рукой он основывал новые города, возводил крепости, ставил храмы. Не привязываясь к северной вотчине своей, он все же вел себя там как настоящий хозяин. И в первую очередь заботился об укреплении границ.
При нем появились города Кснятин, Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров. С меньшей достоверностью строительной деятельности князя приписывают Городец, Звенигород, Гороховец, Кострому, Тверь.
В Переяславле-Залесском князь начал сооружать величественный Спасский собор, дошедший до наших дней (1152).
Тогда же в городке Кидекше появилась каменная Борисоглебская церковь.
В Юрьеве-Польском он возвел большой каменный храм, простоявший около столетия. Во Владимире — храм Святого Георгия. В Суздале — каменную Спасскую церковь.
Наконец, имя его навеки связано с ранней историей Москвы. Первый раз Москва — еще не город, но, скорее всего, богатое село, где располагались одна из резиденций Юрия Владимировича и, видимо, его палаты на случай большой княжеской охоты, — упоминается в летописи под 1147 годом. В ту пору лучший друг и добрый союзник Юрия, князь Святослав Ольгович Новгород-Северский, терпел изгнание из своей вотчины. Его покинули прочие сторонники, он скитался с дружиной по лесным окраинам. Сын Юрия Владимировича Иван, отданный в поддержку Святославу, скончался 24 февраля 1147 года. В отчаянии Святослав явился к городу Лабынску в устье Протвы и там получил дорогие подарки, а вместе с ними ободряющее послание от Юрия: «Не тужи о сыне моем, ведь его Бог забрал. Другого сына тебе пришлю». Вместе двое союзников совершили поход: Юрий взял Торжок, а Святослав совершил удачный набег на Смоленщину[51].
О последующих событиях летопись сообщает в подробностях: «Прислал за ним Гюрги (Юрий) и рече: „Приди ко мне, брате, в Москов“. Святослав же еха к нему с детятем своим Олегом, в мале дружине, пойма с собою Володимира Святославича; Олег же еха наперед к Гюрги и дал ему пардуса. И приеха по нем отец его Святослав. И тако любезно целовастася, в день пяток, на Похвалу святей Богородицы[52], и тако быша весели. Наутрии же день повеле Гюрги устроити обед силен. И створи честь велику им, и дал Святославу дары многи с любовию, и сыновьям его Олегу и Володимиру, и мужей Святославле учреди[53], и тако отпустил их. И обещался Гюрги сына пустити к нему, якоже и створи». С помощью суздальского войска, возглавленного сыном Юрия Глебом, его союзник вновь одерживает победы, а Глебу достается удел его брата, Курск.
В 1156 году по приказу Юрия Владимировича сын его Андрей поставил мощную деревянную крепость на Боровицком холме. С тех пор Москва сделалась заметной на политической карте Руси. Поэтому вполне справедливо, что с 1954 года в центре города стоит памятник Юрию Долгорукому. Пусть его и недолюбливают искусствоведы, зато он стал родным для жителей столицы. Москва бережет имя того, кто стоял у истоков ее величия.
Кондотьер, да свой.
АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ Верный сын Церкви
Правление князя Андрея вызвало в исторической литературе споры, большей частью связанные с его ролью «единодержца». Иными словами, предтечи русских царей. Разбирая его биографию, чаще всего говорят о политических комбинациях князя, направленных к единству и усилению Северо-Восточной Руси. Но так действовал не он один; Всеволод Большое Гнездо был в этом смысле ярче и удачливее. Зато судьба князя Андрея разворачивалась под знаком большого благочестия. Бог весть, в чем он был сильнее — в делах политических или в делах веры. Во всяком случае, Русской церкви он дал чрезвычайно много.
Андрей Юрьевич был сыном князя Юрия Долгорукого и дочери половецкого князя Аепы. Год рождения княжича — 1111-й — известен по источнику, достоверность которого вызывает сомнения. Но поскольку других данных нет, остается принимать его.
Смолоду Андрей Юрьевич помогал отцу в его бесконечных военных предприятиях на юге Руси. Летописи показывают его человеком бесстрашным, любившим сечу, весьма искусным полководцем. Из рук отца он время от времени получал невеликие уделы: Дорогобуж-Волынский, Вышгород. Недолго княжил на Рязанщине.
Достигнув зрелого возраста, Андрей Юрьевич переменился. Он уже с осуждением смотрел, как отец проматывает людей и богатства собственного Ростово-Суздальского княжения, всеми силами стараясь заполучить киевский «великий стол». Андрей начал понимать: судьбы Руси всё менее зависят от Киева и всё более — от обширной лесистой области, коей владел его родитель на севере. В некоторых случаях он уже не оказывает родителю поддержки…
Наконец, получив по второму разу Вышгород, князь Андрей решительно отказался от своей доли на юге. Не спросив соизволения у отца, он уезжает на север, взяв с собой чудотворную икону Божией Матери, которая впоследствии получит имя «Владимирской» (1155). Впрочем, решительного разрыва с отцом не произошло. Тот, вероятно, удивился столь явному пренебрежению его дарами, но доволен был иметь верного помощника в коренных своих владениях.
Смерть Юрия Долгорукого в 1157 году сделала Андрея полновластным распорядителем Ростово-Суздальской земли.
Здесь он ведет себя совершенно не так, как родитель. Юрий Долгорукий добывал столы не только и даже не столько себе, сколько многолюдному своему семейству. А потому легко отдавал взятые с бою города и земли родичам на праве удельного держания. Сын же его видел, к каким распрям неизбежно приводит удельное раздробление Руси. Он постарался сделаться единовластным государем унаследованного княжества. Уделы он давал исключительно редко и крайне незначительные. Братьев и сыновей не торопился оделять землей в своем княжестве, а чуть только ощущал их недовольство, возможность ссоры, немедленно отдалял от себя. Мог даже отправить в ссылку, прочь с подвластной ему территории. Всякое сопротивление своей воле подавлял решительно и беспощадно, не жалея ни родичей, ни бояр, ни простого народа.
Применяя «ежовые рукавицы» к собственному семейству, Андрей Юрьевич получил возможность широко использовать всю силу своего княжества. Единодержец Северо-Восточной Руси, он, во-первых, стал грозой восточного противника Руси — волжских болгар, а во-вторых, завоевал признательность Церкви как щедрый жертвователь на ее нужды.
Что касается болгарских дел, то летопись сообщает о двух походах. В 1164 году «…иде князь Андрей на болгары с сыном своим Изяславом и с братом своим Ярославом и с муромским князем Гюргем. И поможе им Бог и Святая Богородица на болгары: самех иссекоша множество, а стяги их поимаша, и одва в мале дружине утече князь болгарскый… Взяша град их славный Бряхимов, а прежде 3 городы их пожгоша». Из дружины Андрея Юрьевича не погиб ни один ратник. Князь брал с собой в поход икону Богородицы Владимирской и в победе своей увидел ее чудо. В 1172 или 1173 году сын Андрея Мстислав отправлен был против того же неприятеля. Планировался поход целой коалиции, к владимирцам обещали присоединиться муромские и рязанские полки. Но из-за зимнего непогодья союзники саботировали идею общего похода. По образному выражению летописца, они «идучи не идяху». Тогда малая дружина одних владимирцев совершила стремительный набег, взяла с полдюжины сел и некий болгарский городок, а затем повернула домой. Болгары, увидев малочисленность русских, погнались за ними силой в шесть тысяч конников, но не догнали.
Андрей Юрьевич любил Церковь, основывал новые иноческие обители, проявлял большую щедрость к духовенству. Он терпеть не мог пьянства, чем, вероятно, отличался от большинства князей-современников. По словам летописца, князь охотно раздавал милостыню. Образованностью Андрей Юрьевич напоминал своего деда Владимира Мономаха. Князь покровительствовал книжникам и сам являлся духовным писателем. Так, его перу принадлежит «Слово о милости Божией», связанное с победой над волжскими болгарами. Приязнь к духовенству перемежалась у князя Андрея с мечтами прославить любимую Владимирщину, твердый оплот его власти. 8 апреля 1158 года «…заложи Андрей князь в Володимери церковь камену Святую Богородицу… и дал ей много имения: и слободы купленыя… за даньми, и села лепшия, и десятины в стадах своих, и торг десятый…». К 1160 году церковь была достроена, а к исходу августа 1161-го — расписана фресками. Князь «…украси ю дивно многоразличными иконами и драгим каменьем бес числа и сосудами церковными». Росписью и отделкой храма занимались мастера «из всех земель». Так рассказывает летопись о самой масштабной архитектурной затее Андрея Юрьевича — возведении громадного златоверхого Успенского собора. Конечно, искреннее христианское чувство соседствует здесь со стремлением показать: уходит древняя слава киевская, ныне Владимир украсится постройками, превосходящими величие киевской старины! Ему показалось мало одной только чудесной громады Успенского собора. В 1164 году закончилось строительство храма на Золотых вратах Владимирской крепости (они получили свое название по створкам ворот то ли из золоченой, то ли просто из ярко начищенной меди). Началось сооружение Спасской церкви. Владимир первенствовал в его строительных затеях. Но толика почтения досталась и Ростову: там при Андрее Юрьевиче появился белокаменный Успенский собор.
Князь мечтал о собственной митрополии для Владимира, но ни в Константинополе, ни в Киеве не добился осуществления своих планов. Патриарх Константинопольский того не пожелал, а митрополит Киевский — тем более. Желание обособиться от Киева отчасти диктовалось распространением в Южной Руси диковинного богословского направления, шедшего от иерархов-греков и позднее отметенного Церковью.
Так, в 1164 году в Суздальской земле разразился скандал, названный летописцем «ересью». Епископ Леон, ранее поставленный в Суздаль не по правилам[54], вдруг объявил, что не следует есть мясо на Рождество, Крещение и иные «Господские» праздники, если они падают на постные дни — среду или пятницу. Перед лицом князя Андрея произошел богословский диспут, где Леон потерпел поражение. Андрей Юрьевич выпроводил его из княжества. По словам летописца, епископ сделал новую попытку возобладать в диспуте уже в присутствии византийского императора Мануила I Комнина, но проиграл и там. За свою дерзость Леон был наказан самими греками[55].
Пять лет спустя, возможно, в связи с предыдущими баталиями вокруг «леонтианской ереси», вспыхнул новый конфликт. Некий «пронырливый и гордый льстец» Федорец, «ложный владыка», сделался епископом без поставления в Клеве. Когда-то Андрей Юрьевич видел в нем подходящую кандидатуру для Владимирской митрополичьей кафедры, но особой митрополии во Владимире не возникло. Федорец занимал кафедру епископа Владимиро-Суздальского, не имея на то законного подтверждения. Но, во-первых, митрополит Киевский считал своим долгом ставить епископов на Руси самому (а Федорец ему подчиняться не желал). А во-вторых, сей лукавец скоро показал недостойные свойства своей личности. Этот волк в святительской одежде вымогал «имение» у паствы, не гнушаясь пытками. Князь велел ему идти «ставиться» к митрополиту. Тот воспротивился и даже наложил интердикт на владимирские храмы: «Церкви все… повеле затворити и ключи церковные взял, и не бысть ни звонения, ни пения по всему городу». В мае 1169 года князь изгнал его из своей земли. Митрополит Киевский Константин увидел в Федорце не только лихоимца, но также злого еретика, богохульника. Его ослепили, урезали ему язык и отрубили правую руку.
Много хлопот доставили Андрею Юрьевичу новгородские дела.
Успехом его стал захват Волока Дамского, считавшегося тогда новгородским владением. В 1160 году новгородцы, поссорившись со Святославом Ростиславичем из-за жестокостей его отца и изгнав князя, попросили у Андрея к себе на княжение сына. Андрей хотел дать им брата Мстислава, но послы вечевой республики не согласились. Тогда он отправил в Новгород «сыновца», то есть племянника, — Мстислава Ростиславича. Тот в условиях новгородской вольницы продержался недолго. В феврале 1170 года князь Андрей послал с сыном Мстиславом большое войско к Новгороду, пытаясь подчинить вольный город себе. Новгородцы разбили суздальцев и, презирая «низовского» правителя, демонстративно распродали пленников. У Андрея, однако, оставался способ привести вечевую республику к покорности: он перекрыл новгородцам подвоз хлеба. Те сдались, и позднее Андрей Юрьевич дал им на княжение сына Юрия. Кажется, к исходу жизни он начал понимать отца, раздававшего земли сыновьям и другим родичам. Сыновья князя Андрея к тому времени умерли — все, кроме Юрия. И любящий отец отдал ему самое дорогое свое завоевание — смирившийся Новгород.
Дела киевские вынудили Андрея Юрьевича к двум походам, вероятнее всего, для него нежеланным. Он крепко сидел в своем Владимире и с давних лет не думал о завоеваниях на юге. Но само положение одного из ведущих политиков страны заставило князя действовать противно его устремлениям.
В 1169 году Андрей Юрьевич собрал войско из дружин одиннадцати князей, полков суздальских, ростовских и владимирских. Командование он вручил сыну Мстиславу. Армия эта направилась к Киеву. Мстислав Андреевич три дня осаждал «стольный град», который крепко обороняла дружина тамошнего князя Мстислава Изяславича. Северянам удалось сломить сопротивление осажденных. Сам киевский правитель ускакал «с малой дружиной», а супруга его, сын и большинство ратников попали в плен. На протяжении трех суток город подвергался разграблению, притом храмы и монастыри исключением не стали. Летописец, оправдывая действия северорусского воинства, пишет, что они имели смысл Божьей кары за грехи митрополита, впавшего в «леонтианскую ересь» и даже запретившего в служении печерского игумена Поликарпа. Так или иначе, грязная вышла, отвратительная история. Оправдание ее выглядит некрасиво. Впрочем, нельзя забывать: киевский погром — дело рук Мстислава Андреевича, а не самого Андрея Боголюбского. Тот оставался на севере и души не замарал.
Изгнание врагов из Киева требовалось Андрею только для того, чтобы они не могли использовать ресурсы Киевщины для борьбы с его собственным княжеством. Андрей не заинтересовался Киевом, его сыновья и близкие родичи один за другим отказывались от здешнего «стола», очень хорошо понимая: всё самое важное для них сосредоточено во Владимиро-Суздальской земле. Если прежде политическая жизнь Руси сходилась в великий перекресток именно в стенах киевских, то теперь новые центры сосредоточивали ее на себе. Владимир быстрыми шагами обгонял Киев. Из Владимира, волей Андреевой, второстепенные князья его рода ставились теперь на управление Киевщиной.
Когда неприятели Андрея лихим ночным набегом достигли Киева, ворвались за стены и пленили его младшего брата, он исправил дело привычным способом. На юг отправилась вся воинская сила его земли во главе с воеводой Борисом Жидиславичем, а также новгородцы с князем Юрием Андреевичем. Двадцать князей с дружинами присоединились к армии Андрея Боголюбского! Киев сейчас же был оставлен его врагами, правда, осада их твердыни, Вышгорода, закончилась неудачно.
Неудача эта роковым образом ударила по представлению о могуществе, о практическом всевластии Андрея Юрьевича на Руси.
Князь зашатался на столе своем. Внутренний враг, сильный и непримиримый, счел новые обстоятельства удобными для того, чтобы подтолкнуть правителя к крушению и гибели.
Боярство Ростово-Суздальской земли составило против него заговор. Андрей Юрьевич успел крепко рассориться с ним. Он явно предпочитал древнему Ростову относительно молодой Владимир. Здесь он возвел высокие земляные валы с могучими каменными воротами. Рядом с Владимиром, в Боголюбове, князь выстроил белокаменную резиденцию и храм Покрова на Нерли поблизости. Лишь невеликая часть княжеской резиденции дошла до нашего времени[56]. Покровская же церковь, лишившись крытых галерей и звонницы, по сию пору восхищает гармонией архитектурных форм. Отсюда и прозвище Андрея Юрьевича — Боголюбский. Отец его любил Суздаль и Кидекшу, возвышал тамошнюю область, но старших бояр своего родителя Андрей Юрьевич удалил от себя. Кидекшу он отдал в удел младшему брату Борису. Боголюбово давало ему возможность до поры держать древнее влиятельное боярство на расстоянии от себя. Он, кажется, предпочитал управлять через людей, прямо зависевших от него, или же через лично им поставленных должностных лиц — младших дружинников, «мечников», «посадников», «тиунов». А это с еще большей силой накаляло отношения между ним и боярами.
Главными действующими лицами заговора являлись некий Анбал Ясин (княжеский ключник — управитель хозяйства), Яким Кучкович и Петр, зять боярина Кучки, ранее казненного. Петр верховодил убийцами, коих набралось 20 человек. С боярским родом Кучковичей связана древняя легенда: отец Якима Стефан владел селами на месте будущей Москвы; он попал в немилость к Юрию Долгорукому, лишился владений, а потом — жизни, но сыновья его остались на службе у Суздальского княжеского дома; с одним из них, возможно, расправился Андрей Боголюбский. У Кучковичей имелись очень серьезные причины ненавидеть этот род.
Ночью заговорщики вломились в спальню Андрея Юрьевича. Тот, человек не робкого десятка, кинулся к мечу, который должен был висеть на стене. Но Анбал Ясин заранее убрал клинок…
Толпа заговорщиков, обступив Андрея Юрьевича, принялась рубить его саблями и мечами. Когда окровавленное тело рухнуло на пол, убийцы вышли из княжеского покоя. Однако государь их еще оставался жив. В полубессознательном состоянии он захрипел, застонал и пополз по каменной лестнице вниз, а потом сделал попытку спрятаться под нею. Тут его и нашли. Роковой удар нанес глава всей расправы, Петр. Он отрубил правую руку князю. Тот, страшно изувеченный, истек кровью. Душегубство совершилось 29 июня 1174 года в Боголюбской резиденции.
Княжеские палаты, оставшись бесхозными, сейчас же подверглись разграблению. Всю казну Андрея Юрьевича вынесли сами заговорщики, а также подоспевшие им «на помощь» прислуга, горожане…
По словам летописца, после убийства князя «много зла створися в волости». Сказалась нелюбовь к администрации, посаженной князем для управления своей землей, да еще страх перед тем, что все эти милостники Андрея Юрьевича поднимутся для отмщения: «Посадников его и тиунов его домы пограбиша, а самих избиша, детцкые[57] и мечники избиша, а домы их пограбиша». Князь, строгий правитель, следил за соблюдением законов. Полудикая земля, еще недавно слушавшая только племенных князьков, отвечала ему на это глубоко затаенной злобой. Теперь гнев на подручников Андрея Юрьевича разом вспыхнул повсюду…
Труп князя, изувеченный и опозоренный, местные клирошане, трепеща от ужаса, отнесли на ковре в домовую часовню. Не стесняясь холодеющего тела, убийцы вытаскивали дорогое добро наружу. Несколько дней бушевали мятеж и нестроение по окрестностям Боголюбова. Те, кто любил покойника, всё это время не решались к нему подойти, боясь за собственные жизни. Наконец игумен Богородице-Рождественского монастыря Феодул, сопровождаемый владимирскими доброхотами князя, пришел за мертвой его плотью. Андрея Юрьевича повезли к Успенскому собору, выстроенному когда-то его трудами, и там погребли «с честью».
Церковное почитание князя установилось рано. Благодетель духовенства Владимирской земли удостоился долгой традиции торжественных панихид на месте его погребения. В XVII столетии имя его попало в святцы, а в 1702 году Андрея Юрьевича официально канонизировали в чине благоверных князей. Ныне православная общественность активно обсуждает идею признать его небесным покровителем разного рода служб, связанных с государственной безопасностью.
ИГОРЬ СВЯТОСЛАВИЧ Беглец
Некоторых Рюриковичей прославили мудрое правление, реформы, введение новых законов; некоторых — великие победы на поле брани; иных — святость и благочестие. Новгород-северский князь Игорь Святославич парадоксальным образом получил широкую известность благодаря тяжелому поражению. Его сделал знаменитым неизвестный автор эпической поэмы — «Слова о полку Игореве». История князя Игоря и судьба поэмы связаны нерасторжимо.
Игорь Святославич родился в 1151 году. Он принадлежал могущественной ветви Рюрикова рода — Ольговичам. Их родословие восходило к дерзкому воителю, авантюристу и крамольнику XI века, князю Олегу Святославичу, прозванному Гориславичем — так именует его «Слово о полку Игореве». Главным владением Ольговичей являлась Черниговщина, они занимали также зависимые от нее области, а порой брали силою Киев и Новгород.
Из этих обширных владений Игорю Святославичу достался Новгород-Северский.
Что представляло собой Новгород-Северское княжество? Степное приграничье, небольшая и не особенно богатая область, стол не из главнейших на Руси, но, правда, и не захолустье. Иными словами, это было второразрядное княжество, важное лишь постольку, поскольку оно представляло собой щит от половецких набегов в сердцевину Руси. Тот, кто занимал здешний стол, автоматически принимал роль князя-вои-на, князя-пограничника.
Игорь подходил для Новгорода-Северского идеально. По происхождению своему он являлся наполовину половцем — по матери и бабке. Следовательно, понимал, чего ждать от кочевых соседей. С половцами он умел ладить: бывало так, что Игорь сражался против них, а бывало и так, что рассматривал их как добрых союзников. Наконец, в его характере, очевидно, имелась склонность к походам, битвам, дерзким рейдам вглубь неприятельской территории.
В молодости князь принял участие в большом походе Андрея Боголюбского на Киев и добыл себе прибыток при разграблении города. Однако позднее междукняжеские распри не приносили Игорю Святославичу славы. Так, его борьба с князем Рюриком Ростиславичем закончилась полным поражением.
Против половцев он первый раз ходил в 1171 году и вернулся с победой. Первая половина 1180-х принесла ему еще два успеха. Из похода, совершенного весной 1183 года, князь привел большой полон. Несколько месяцев спустя Игорь Святославич вновь ударил на степняков и разгромил отряд из четырехсот бойцов. Оба раза он выступал с малыми силами, но удача сопутствовала ему.
В 1184 и 1185 годах большое коалиционное войско русских князей дважды разбивало половцев. В этих походах Игорь Святославич не участвовал, но был о них очень хорошо осведомлен.
Боевые удачи — свои и чужие — вероятно, вскружили голову северскому князю. Половцы, многократно битые, представлялись не слишком опасным врагом. Поэтому в апреле 1185 года Игорь Святославич пошел на них войной, сколотив собственную маленькую коалицию. С ним отправились на кочевников князья Всеволод Трубчевский, Святослав Рыльский, а также Владимир Путивльский. Из Чернигова пришла помощь — отряд служилых кочевников-ковуев.
Казалось бы — значительная сила! Но немноголюдный Новгород-Северский не мог дать крупного войска, и уж того меньшими ратями обеспечивали своих правителей маленькие удельные городки Трубчевск, Рыльск, Путивль. Князей вышло в поход целых четверо, да воинство их далеко не дотягивало до армий Киевщины или Черниговщины.
Поначалу русским полкам везло: передовой отряд половцев они счастливо опрокинули в бою близ реки Сюурлий. Разведка обнаружила большие силы неприятеля, и у Игоря Святославича оставался шанс немедленно отступить, сохранив и славу первой победы, и жизнь воинов. Но Святослав Рыльский пожаловался на усталость коней: его дружина рисковала отстать при движении вспять. Игорь вынужден был встать на ночевку.
Между тем ресурсы к сопротивлению у половцев отнюдь не исчерпались. Степняки собрали войско со всей своей земли и ударили на князя Игоря.
Утро решающей битвы принесло русским полкам тяжелое испытание. «Когда же занялся рассвет субботнего дня, — рассказывает летопись, — то начали подходить полки половецкие, словно лес. И не знали князья русские, кому из них против кого ехать — так много было половцев. И сказал Игорь: „Вот думаю, что собрали мы на себя всю землю Половецкую — Кончака, и Козу Бурновича, и Токсобича, Колобича, и Етебича, и Тертробича“. И тогда, посоветовавшись, все сошли с коней, решив, сражаясь, дойти до реки Донца, ибо говорили: „Если поскачем — спасемся сами, а простых людей оставим, а это будет нам перед Богом грех: предав их, уйдем. Но либо умрем, либо все вместе живы останемся“. И сказав так, сошли с коней и двинулись с боем. Тогда по Божьей воле ранили Игоря в руку, и омертвела его левая рука. И опечалились все в полку его: был у них воевода, и ранили его прежде других. И так ожесточенно сражались весь день до вечера, и многие были ранены и убиты в русских полках. Когда же настала ночь субботняя, всё еще шли они сражаясь. На рассвете же в воскресенье вышли из повиновения ковуи и обратились в бегство. Игорь же в это время был на коне, так как был ранен, и поспешил к ним, пытаясь возвратить их к остальным полкам. Но заметив, что слишком отдалился он от своих, сняв шлем, поскакал назад к своему полку, ибо уже узнали бежавшие князя и должны были вернуться. Но так никто и не возвратился, только Михалко Юрьевич, узнав князя, вернулся. А с ковуями не бежал никто из бояр, только небольшое число простых воинов да кое-кто из дружинников боярских, а все бояре сражались в пешем строю, и среди них Всеволод, показавший немало мужества. Когда уже приблизился Игорь к своим полкам, половцы, помчавшись ему наперерез, захватили его на расстоянии одного перестрела от воинов его».
Потеряв вождя, русская рать окончательно и безнадежно потерпела поражение близ реки Каялы.
Все прочие князья, помимо Игоря, также оказались в плену. Из русского войска ушло от гибели и плена всего 15 ратников, а из ковуев — еще меньше.
Великий князь Киевский Святослав Всеволодович, узнав о поражении Игоря, срочно принялся собирать полки: «Послал Святослав к Давыду[58] в Смоленск, со словами: „Сговаривались мы пойти на половцев и лето провести на берегах Дона, а теперь половцы победили Игоря, и брата его, и сына; так приезжай же, брат, охранять землю Русскую“. Давыд же приплыл по Днепру, пришли и другие на помощь и расположились у Треполя, а Ярослав[59] с полками своими стоял в Чернигове». Изготовился к обороне переяславский князь Владимир Глебович. Помочь обещал и Рюрик Ростиславич — правитель большого удела на Киевщине со столицей в Овруче.
По образному выражению Святослава, Игорь с соратниками, «не удержав пыла молодости, отворили ворота на Русскую землю». Половецкие реки хлынули на Русь. Ободренные победой над Игорем, степняки искали отмщения за прежние неудачи.
Одно их войско окружило Переяславль-Южный и разбило дружину князя Владимира Глебовича. Самого его, тяжелораненого, едва вытащили из боя горожане. Святослав двинулся Владимиру на помощь. Половцы отступили от Переяславля. Однако без добычи они уходить не собирались. Степные пришельцы осадили городок Римов, вошли в него и полонили тамошних жителей. Отбить полон не удалось…
Другой половецкий поток разорил окрестности Путивля, сжег городской острог и окрестные села.
Так чем запомнился князь Игорь современникам и потомкам? Летописец всего несколько строк уделил удачным его походам — столь незначительны они по масштабу. А вот о разгроме северского войска летопись повествует с исключительной подробностью. Это вовсе не рядовое событие. Ведь неудача на Каяле действительно отворила ворота для вражеского нашествия. Пылали села, опустошались города, текла кровь князей и дружинников, не имевших никакого отношения к Новгороду-Северскому и к его незадачливому правителю. Игорь Святославич навлек на всю Русь большое несчастье — вот его «слава».
Виновник несчастья томился у пленивших его врагов, сокрушался о грехах своих и размышлял, какими злодеяниями навлек он такое попущение бед от Господа. Для духовного окормления князь даже вызвал к себе священника с причтом из Русской земли.
Вскоре, однако, Игорю Святославичу удалось бежать из плена. Сын его Владимир Путивльский оставался в плену еще долго, но, женившись на дочери князя Кончака, вернулся на Русь и он.
К 1191 году княжество и дружина Игоря Святославича до такой степени оправились от потерь, что он решился вновь выйти с полками на кочевников. Этот поход планировался, очевидно, как своего рода личный реванш князя за прежний позор. Поход удался: по словам летописца, Игорь Святославич «с братьею… ополонишася скотом и коньми».
Несколько месяцев спустя, «на зиму», сборная армия многих князей Ольговичей вышла в степь, чтобы повторить удачный опыт Игорева набега. Первым среди правителей коалиционного воинства назван Игорь Святославич — вождь, к которому вернулась удача. На сей раз он повел себя осторожнее, чем в 1185-м.
Парадоксальным образом обстоятельства сложились весьма схоже с тем, что произошло в черные дни шестилетней давности… Вторжение Руси не стало для неприятеля неожиданностью. Степь сумела подготовиться к отпору. Половцы, для вида уступив поле, сконцентрировали огромную силу. Они ждали наступления русских полков, заманивали их глубже в свои владения, готовили им ту же ловушку. Их разведка доставляла вести о движении Ольговичей. Наученный горьким опытом, на сей раз Игорь умело вывел своих ратников из-под удара численно превосходящих степняков. Он предпринял ночное отступление. Половцы, не сумев предугадать этого маневра, пустились в погоню, когда было поздно — русская рать уже ушла.
Никогда, помимо злосчастного 1185 года, Игорь Святославич не становился фигурой первого плана в истории Руси. Это был смелый боец, рыцарственный правитель и добрый христианин, а военачальник… посредственный. В лучшем случае — опытный, но лишенный дарования. Дрался честно, звезд с неба не хватал, в молодости являлся лихим удальцом, к зрелости научился напрасно не рисковать воинством. За отвагу и тяжкие будни приграничья Бог вознаградил его. Проведя два долгих десятилетия на второстепенном княжении, Игорь Святославич удостоился великой чести: в 1198 году ему достался Чернигов — один из «старших столов» Руси. Но это случилось уже на закате его жизни. В 1201 или 1202 году князь-воин мирно скончался.
История его несчастливого похода в поэтическом изложении стала известна лишь на исходе XVIII века. Очень скоро она превратилась в загадку, над которой бились и бьются десятки ученых.
Единственная известная науке рукопись «Слова о полку Игореве» хранилась у архимандрита Иоиля (Быковского), отставного настоятеля ярославского Спасо-Преображенского монастыря, а также ректора семинарии. Через «комиссионера» ее приобрел граф А. И. Мусин-Пушкин, крупный коллекционер и знаток русских древностей. В 1812 году рукопись погибла от огня московского пожара. Однако первое издание «Слова» с переводом и комментариями вышло из печати за 12 лет до исчезновения рукописи.
Эпическая поэма представляет собой блистательный образец древнерусской литературы. Ее текст разошелся на крылатые слова, ее мерный ритм завораживает, а звучащая в ней горечь от княжеских «котор» по сию пору наполняет болью русские сердца.
Однако еще в XIX столетии появились сомнения по поводу древности поэмы. Скептически высказывались насчет ее возраста столь значительные фигуры, как историк М. Т. Каченовский и славянофил К. С. Аксаков, французский ученый Л. Леже. Следующий век принес новые сомнения в подлинности «Слова»: против нее высказались французский славист А. Мазон, крупный советский медиевист А. А. Зимин, знаменитый американский славист Эдвард Кинан, считавший, кстати, и переписку князя Курбского с Иваном Грозным поздним памятником…
Автором «мистификации» в разное время называли графа А. И. Мусина-Пушкина, чешского просветителя Й. Добровского, историка H. М. Карамзина, архимандрита Иоиля, поэта В. К. Тредиаковского и т. п.
В «Слове» находили несоответствия языку эпохи, галлицизмы, политическую ангажированность (связанную с наступлением екатерининской России на Речь Посполитую и Крымское ханство), даже увлечение романтическими подделками под древнюю эпику, характерными для Западной Европы.
В середине XIX века в научный оборот вошла еще одна древнерусская эпическая поэма — «Задонщина». Она схожа со «Словом о полку Игореве» многими деталями, она даже содержит прямые отсылки к его тексту и откровенные цитаты из него. «Задонщина» бесспорно датируется концом XIV века — временами Дмитрия Донского или же Василия I. Скептики задались вопросом: что здесь образец, а что — подражание? Первым ли было «Слово»? Не являлось ли оно своего рода творческим развитием «Задонщины»? Или даже компиляцией на основе «Задонщины»?
Сторонники традиционной датировки «Слова» считают, что поэма появилась в конце XII века, возможно, по горячим следам Игорева похода. Аргументы скептиков ими большей частью разрушены. Прежде всего, филологи (Р. О. Якобсон, В. П. Адрианова-Перетц), проанализировав текст «Слова», пришли к выводу о его принадлежности домонгольской эпохе и полном отсутствии там галлицизмов. А. А. Зализняк положил надгробный камень на могилу лингвистических аргументов скептического направления. Подводя итоги, он с иронией заметил: если бы некто действительно взялся писать поэму-«мистификацию» в конце XVIII века, о, это был бы научный гений; он столь безупречно следовал особенностям древнерусского языка XII столетия, что сумел «предугадать» те из них, которые наука откроет… через много лет после публикации «Слова».
К тому же укоризны скептиков разбивались в щепы при столкновении с двумя убийственными контраргументами.
Во-первых, «Слово о полку Игореве» — великое поэтическое произведение, эпический текст необыкновенно высокого уровня, а вторая половина XVIII столетия — пустыня русской поэзии. Нет там ни одной фигуры, приближающейся по уровню дарования к анонимному автору «Слова». Разве что Гавриил Романович Державин, но нет никаких нитей, связывающих его с историей «Слова».
Во-вторых, какой патриот, какой идеолог русского главенства на бывших землях Речи Посполитой и в Северном Причерноморье станет сочинять эпический текст о разгроме второстепенного князя? До Игоря и после Игоря половцев успешно громили; порой степняков били так, что они затихали на десятилетия. Так зачем нужно напоминание о победе половцев над русскими? И кому потребовались плач об усобицах и воспевание единства… в политических реалиях абсолютно единой Российской империи?
Да и увлечения романтизмом в «Слове» не видно. Игорь Святославич — не Роланд, триумфальной гибели за государя он не удостоился. В его истории мало красивого, больше назидательного: согрешил князь, удостоился наказания свыше, раскаялся, отпущен Богом из плена… Сюжет отнюдь не романтический, он по духу ближе к церковному поучению. Где оно у Оссиана, с коим сравнивали неведомого автора «Слова»?
К настоящему времени построения скептиков можно считать разгромленными.
Но…
Остались варианты «промежуточной датировки» поэмы. До сих пор некоторые несообразности «Слова» не получили объяснения. Автор его, явно принадлежащий кругу знатных людей, боярскому или княжескому роду, проявляет хорошую осведомленность о событиях, связанных с походом Игоря. И вдруг он делает странную ошибку: вкладывает в уста великого киевского князя Святослава призыв о боевой готовности, обращенный к смоленскому князю Давыду и овручскому князю Рюрику, — после того, как половцы разбили у Переяславля-Южного дружину тамошнего князя Владимира и ранили его самого. А Давыд-то к тому времени уже явился на защиту Киева со своими ратниками. Да и Рюрика звать не стоило: он был рядом и участвовал в походе на помощь Переяславлю… Что это — поэтическая вольность современника или невнимательное отношение к летописям отдаленного потомка?
Здесь приведен лишь один пример подобного рода несообразности, но в исследовательской литературе их названо немало.
Л. Н. Гумилев видел в «Слове» своего рода политический памфлет второй половины XIII века, где под именем половцев скрываются татары. И филологические аргументы против его рассуждений не работают — не столь уж много различий между языком конца XII и второй половины XIII века. Остается под вопросом одно: зачем автору времен Александра Невского и Даниила Галицкого «шифроваться» от Орды, подобно интеллигенту сталинских времен? Летописцы того времени открыто писали об ордынцах вещи скверные, ругательные, ничуть не боясь их мести. Надобно еще доказать, что ханов сколько-нибудь пугала русская литература даже в самых критических ее проявлениях, что они вообще сколько-нибудь интересовались ею.
Другой вариант «промежуточной датировки» вытекает из самого сюжета «Слова». На нем стоит остановиться особо, поскольку эта версия способна избавить судьбу «Слова о полку Игореве» от многих загадок.
Создание весьма значительной по объему поэмы о неудачном походе второстепенного князя легче всего объясняется непосредственной реакцией на недавние события. Современник, ужаснувшись произошедшему, принялся размышлять о причинах поражения. Поэтический дар его, раздраженный печальными обстоятельствами, зазвучал в тонах героизма, печали и покаянного размышления о грехах. Тут и объяснять-то ничего не надо.
Однако в истории Руси случались события, когда именно такой сюжет оказывался востребованным не на эмоциональном, а на рациональном уровне. Так, бегство Василия I из Орды явно перекликается с побегом князя Игоря из половецких станов. Василий Дмитриевич, пробираясь на Русь, совершил во второй половине 1380-х долгую «одиссею». Приняв московский стол от отца Дмитрия Донского, он столкнулся с серьезными политическими проблемами. 1390-е годы — время жесточайших усобиц. Москва с великим трудом и большими потерями присоединяла Нижний Новгород. В самой великокняжеской семье установились довольно натянутые отношения между Василием I, князем Владимиром Андреевичем Серпуховским и, видимо, князем Юрием Дмитриевичем Звенигородским. А гроза ордынская никуда не исчезла: Москва помнила и триумф на поле Куликовом, и срам Тохтамышева разорения. Идейная программа поэмы очень и очень близка Московской Руси конца XIV столетия. Так не являлось ли «Слово о полку Игореве» политическим памфлетом совсем другой эпохи, а именно — 1390-х годов? Памфлетом, призывающим к единению Московского княжеского дома?
Конечно, в той мере, в какой к поэтическому произведению вообще применимо понятие «памфлет». Наверное, правильнее было бы говорить о заряде поучительных рассуждений, содержащемся в поэме. Такой заряд — осуждение междукняжеских свар и призыв сообща противостоять угрозе со стороны грозного степного народа — в высшей степени «родной» для времен Василия I.
Москва второй половины XIV — начала XV века испытывает расцвет художественной культуры, так что плодородная почва для появления шедевров тогда существовала…
Язык «Слова», несколько архаичный для XIV века, мог быть осознанной «стилизацией» под благородную старину. «Задонщина» создавалась в то же самое время, и близость между ней и «Словом» в этом случае легко объясняется. Рязанский боярин Софоний, упомянутый там то ли как автор самой «Задонщины», то ли как автор неких выдающихся поэтических произведений, послуживших образцами для ее создания, мог в действительности являться автором «Слова о полку Игореве».
Как знать, возможно, в удельной, раздробленной Руси существовала разветвленная традиция эпической поэзии. Если так, то многие произведения могли быть объединены общими композиционными приемами, стандартными «этикетными» выражениями, широко распространенными образами. Но от сего разнообразия дошли до наших дней единичные памятники, и о состоянии всей совокупности сегодня так же трудно судить, как об узорах мозаики, от которой сохранилось по кусочку смальты из дюжины… Другие-то жанры древнерусской литературы пострадали в неменьшей степени: деревянная Русь худо сохраняла всё то, что написано на пергамене и на бумаге, слишком уж часто она страдала от пожаров…
Эти гипотезы вовсе не являются прямым вызовом традиционной датировке «Слова» концом XII века. Она по-прежнему остается «базовой». Автор вкладывает в свои рассуждения иной смысл. Изучение «Слова» еще далеко не завершено. Возможность «промежуточных датировок» не исключена, такие варианты требуют кропотливого исследования. Допустима и даже полезна академическая дискуссия вокруг всего этого круга вопросов, не выходящая за пределы чистой науки.
К сожалению, спор вокруг датировки «Слова» крепко испорчен идеологическими мотивами. Он стал очередным пунктом разногласий между лагерями «западников» и «почвенников». Отсюда его неестественная острота, которая лишь вредна для научного анализа проблемы. Сейчас она несколько притупилась, и следует спокойно приступить к «перебору версий».
Ведь история «Слова о полку Игореве» давно переросла биографию самого князя Игоря и стала одной из самых увлекательных загадок русского Средневековья.
ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО Самовластец
Биография князя Всеволода Юрьевича интересна прежде всего тем, что в ней отразилась великая перемена в судьбах Руси. Во времена Владимира Святого, Ярослава Мудрого и даже Юрия Долгорукого Южная Русь безусловно преобладала над Северной во всем. Киевщина, Черниговщина, Переяславщина — вот богатейшие земли и «честнейшие» княжения. Ростовской землей брезговали — третьестепенный стол! Но к концу XII столетия старинное политическое устройство Руси затрещало по швам под натиском новой молодой силы. Ожерелье северо-восточных городов с их неплодородной землей, долгими холодными зимами и дремучими лесами неожиданно сделалось оплотом богатства и власти. Тамошние правители уже не стремились в Киев, они пренебрегали когда-то первенствующим княжением, они даже научились судьбу его определять издалека, не вылезая из своих чащоб. Окраина Руси, выселки, глушь, неожиданно возобладала над центром ее. И самым могущественным государем во всей грозди северных земель того времени являлся именно Всеволод Юрьевич.
Среди многочисленного потомства Юрия Долгорукого он был последним сыном. Столь невыгодное положение в «лестнице старшинства» обещало ему прозябание вдали от богатых княжений. И действительно, первые десятилетия своей жизни он провел в тени отца и брата Андрея — двух грозных правителей.
Появившись на свет в 1154 году, он очень мало видел отца. Если младший сын и научился у него чему-нибудь, так это прежде всего страсти к монументальным строительным затеям. А вот старший брат Андрей, решительно отказавшийся от борьбы за Киев, оказал на Всеволода Юрьевича колоссальное влияние. Политика Андрея сделалась политикой Всеволода.
Между тем Андрей Боголюбский брата не любил. Тот родился от другой жены Юрия Долгорукого, знатной византийки, к тому же был моложе на четыре десятка лет. Какие с ним вести дела?! Отец мечтал раздать северные свои владения младшим сыновьям, в том числе и Всеволоду, старшим же искал престолов на юге. Андрей распорядился по-своему. Мачеху с младшими сыновьями он просто вышиб в Византию (1162), и те несколько лет провели в непочетной ссылке. Потом он все-таки вернул родичей, чтобы сделать из младших братьев верных подручников. Так, Всеволод участвовал в большом походе на Южную Русь в 1169 году, когда был захвачен и подвергнут жесточайшему разгрому Киев. Сам князь Андрей и его сыновья пренебрегли Киевом — они не стали там княжить, уступив его младшей родне. Переходя от одного правителя к другому, Киев достался, наконец, князю Михалку Торческому, предпоследнему сыну Юрия Долгорукого. Тот с легкой душой отправил туда княжить младшего среди Юрьевичей — Всеволода (1173). Молодой князь продержался в Киеве менее полутора месяцев, а потом его пленили враги. Михалку пришлось его выкупать…
Политика Андрея — крайне жесткая, самовластная, а порой и просто свирепая как в отношении знати, так и в отношении простого люда, первое время не находила отклика в душе Всеволода. Но, во всяком случае, она ему запомнилась.
В 1174 году Андрея Боголюбского умертвили собственные бояре. Младшие братья, игравшие при нем незавидную роль, выдвинулись на первый план. Два года Суздалыциной правил Михалко Юрьевич, затем скончался и он. 1176 год принес младшему из братьев Юрьевичей власть над всей Северо-Восточной Русью. За эту власть он боролся сначала как союзник Михалка, а потом как его преемник, преодолевая жесточайшее сопротивление «старших городов» княжения. Ростовцы и суздальцы ненавидели Андрея Боголюбского. Тамошняя верхушка (прежде всего бояре) желала себе в правители кого угодно, только бы он был по крови как можно дальше от Андрея. Первое время Всеволод пытался выйти из сложного положения мирными методами. За него стояли «молодые» города, в первую очередь тот же Владимир и Переяславль-Залесский, значительная сила! Князю хотелось поладить без большой крови. Он даже предлагал своему неприятелю, ставленнику боярства князю Мстиславу Ростиславичу, разделить княжение, не бившись. Видимо, не желал уподобляться покойному Андрею…
Однако обстоятельства заставили его покорять неуемных врагов огнем и мечом. Битва за битвой он повергал своих противников и только так мог их успокоить. С тех пор Всеволод Юрьевич редко пытался проявлять мягкость, отыскать компромисс. Князья Рюрикова рода к концу XII века разучились решать большие политические проблемы по-родственному. Только мечом! Горделивое племя истребляло само себя и крушило собственную землю — Русь. Тот, кто проявлял мягкость, выглядел слабаком. На него ополчались все. Всеволод Юрьевич просто «встроился» во всеобщий порядок: железом и кровью, так железом и кровью! Он начал править, достигнув 26-летия, имел к тому времени обширный политический опыт, располагал незаурядным воинским талантом, а вместе с тем — умственным складом прагматика.
Победив войско бояр ростовских на реке Кзе в 1177 году, Всеволод Юрьевич пленил уцелевших, отобрал у них деревни, богатство, скот. Ростовцев возглавлял князь Мстислав Ростиславич. Присутствие его дружины не помогло делу — она также потерпела поражение.
Силой установив на Владимиро-Суздальской земле свою власть, добившись полного подчинения от всех ее областей, Всеволод Юрьевич все годы правления поддерживал единство, завоеванное высокой ценой. Оно давало князю возможность свободно оперировать экономическим потенциалом и воинской силой Ростова, Суздаля, Владимира, Переяславля-Залесского, Юрьева-Польского, Белоозера, Костромы, Москвы, Твери, Кидекши и других городов. Автор «Слова о полку Игореве» риторически обращался к нему: «Ты можешь Волгу веслами раскропить, а Дон шеломами вычерпать!» Князь мог вывести в поле столько воинов, сколько не сумел бы поставить в строй никакой другой русский правитель.
Таким образом, Всеволод Юрьевич владел инструментом, позволявшим ему править самовластно на своей земле и столь же самовластно вмешиваться в дела соседей.
До вокняжения Всеволода Новгород Великий мог выбирать себе князей и прогонять неугодных. Новый владимирский князь железной рукой подчинил себе вечевую республику. С 1182 по 1211 год, за исключением кратких перерывов, там княжили его ставленники, главным образом сыновья. Когда вольные новгородцы пытались противиться воле Всеволода, он выступал в поход и бил по «мягкому подбрюшью» Новгородчины — Торжку с Волоком Ламским. В один из таких походов за неуплату дани он взял Торжок штурмом: «…и мужи повязаша, и жены и дети на щит и товары побраша, хоромы и городок (крепость. — Д. В.) пожгоша».
Восточные соседи Руси не смели поднять руку на владимирского князя. В 1184 и 1186 годах Всеволод Юрьевич громил волжских болгар. Первый раз русские дружинники положили в бою более тысячи неприятельских ратников, второй раз взяли богатый полон. В 1199 году князь двинулся на половцев, и те бежали, не решаясь биться. Русская рать дошла до низовьев Дона.
Киевский князь Святослав пытался было бороться с могуществом Всеволода Юрьевича, но военные предприятия не принесли ему успеха. Две большие армии постояли друг напротив друга у реки Влёны, да и разошлись. После кончины Святослава Киев оказался «сферой влияния» северного правителя. Киевский «великий стол» Всеволод мог «дать» кому-то из своих родичей или сторонников. Мог потребовать себе, а потом передать полезному человеку понравившийся ему крупный удел на юге Руси. На протяжении многих лет князь вольно распоряжался южнорусскими княжениями. А когда кто-нибудь пытался захватить Киев и укрепиться там самостоятельно, то всё равно должен был испрашивать позволение у Всеволода.
В середине 1190-х годов черниговский князь Ярослав противопоставил себя Всеволоду. Но когда полки северного властелина явились на Черниговщину и «землю… пусту сотвори», Ярослав предпочел «поклониться».
Самым яростным и самым опасным врагом Всеволода Юрьевича стали рязанские князья. С ними северорусский государь обходился без дипломатии: видя неповиновение, бросал туда большое воинство и заставлял принять все его условия, какими бы тяжелыми они ни были.
Всеволод Юрьевич очень хорошо помнил, что Рязань рядом. Она создает угрозу сердцевине его владений. В те годы, когда власть его над Владимиро-Суздальской землей оставалась еще нетвердой, именно рязанский князь Глеб Ростиславич нанес Всеволоду Юрьевичу несколько страшных ударов. Сначала он сжег Москву, затем опустошил Владимирскую волость — оплот всей власти Всеволода. Решающая битва произошла на реке Колокше. Сильная рязанская дружина осталась на поле битвы, а предводители ее и знать попали в плен. Всеволода Юрьевича одолевал тогда соблазн: умертвить опаснейших своих противников. Подчиняясь христианскому чувству, он отогнал от себя это желание, не послушал бояр и купцов владимирских, требовавших расправиться с пленниками. Но и отпускать знатных узников не решился. В конечном итоге он вспомнил византийский политический обычай, известный ему по годам изгнания, проведенным у греков: ослепил некоторых пленников. Кого именно — летопись не позволяет понять. Скорее всего, князя Мстислава Ростиславича, захваченного вместе с рязанцами, — собственного дядю. Глеба он сгноил в узилище. Сыну же Глеба Роману позволили вернуться домой, когда тот обещал во всем подчиняться победителю.
Через десять лет тот же Роман и его братья решили затеять свару с младшими детьми покойного Глеба. Те, в свою очередь, попросили помощи у Всеволода Юрьевича. Старшим давно надоело влияние Владимирской Руси на рязанские дела, и они решили действовать самостоятельно. Всеволод сначала послал часть дружины, потом поднял в поход союзных князей, затем попросил о мирных переговорах власть святительскую… Перебрав все доступные методы, но не добившись подчинения, князь в конечном итоге избрал оружие. В 1187 году он перешел с полками Оку, «взяша села вся и полон мног, и возвратишася восвояси опять, землю их пусту створивше, пожгоша всю». С тех пор земля Рязанская встала к нему в полное подчинение.
Через 20 лет Всеволод узнал о новой угрозе со стороны Рязани. Тамошние князья завязали тайные переговоры с Черниговом, находившимся во враждебных отношениях с державой Всеволода. Князь пошел на Рязанщину с войсками, взял город Пронск и у стен самой Рязани едва умолен был не брать город на щит. Он увел в оковах весь Рязанский княжеский дом и утвердил в качестве правителя своего сына Ярослава. Новые подданные, целовав крест, восстали и предали мучительной смерти людей молодого князя-чужака. Тогда Всеволод вернулся, выпроводил рязанцев из их города, велев забрать с собой кое-какое имущество, а потом спалил Рязань дотла. Лишенных крова горожан князь отогнал к Владимиру как пленников… Самовластен владимирский страшен бывал, когда гневался.
Но для княжества, подвластного Всеволоду Юрьевичу, жесткость его политики оборачивалась большой пользой. За всё время правления князя его земля совершенно не страдала от внутренних усобиц и очень незначительно — от внешних вторжений. Она выглядела как континент покоя в океане бушующей Руси.
Всеволода Юрьевича и его старшего брата Андрея и по складу личности, и по политическому почерку можно считать предтечами московских государей, особенно тех, кто правил нашей страной в пору централизованного Русского государства. Они искали единства для подвластных им земель, устанавливали непререкаемое подчинение и в то же время отличались крепкой верой, нищелюбием, благочестием. Всеволод Юрьевич, помимо того, что занимался масштабным крепостным строительством в Суздале, Переяславле-Залесском и Владимире, основывал новые монастыри, возводил каменные храмы. Лучшими памятниками его правлению стали величественные соборы Владимира — Рождественский, Дмитриевский (в честь святого покровителя князя — святого Димитрия Солунского) и Успенский Княгинина монастыря[60]. По сообщению летописи, из Солуни во Владимир были доставлены «сорочка» и мироточивая «доска гробная» святого Димитрия (речь может идти о надгробной плите, ее фрагменте или об иконе, написанной на ней).
Летопись возносит хвалу князю Всеволоду по его смерти: «Много мужествовав и дерзость имев, на бранех показав. Украшен всеми добрыми нравы, злыя казня, а добромысленая милуя: князь бо не туне меч носит — в месть злодеем, а в похвалу добро творящим. Сего имени токмо трепетаху вся страны, и по всей земле изыде слух его (то есть разносилась слава о нем. — Д. В.). И вся зломыслы его вда Бог под руце его, понеже не возношашеся, ни величашеся о собе, но на Бога все возлагаше всю свою надежду, и Бог покаряше под нозе его вся врагы его. Многы же церкви созда по власти своей… имея присно страх Божий в сердци своем, подавая требующим милостыню. Судя суд истинен и нелицемерен, не обинуюся лица сильных своих бояр, обидящих меньших… Любяше же помногу черноризецскый и поповский чины».
После кончины Всеволода Юрьевича его колоссальная держава распалась на полунезависимые удельные княжества. Не напрасно ему дали прозвище «Большое Гнездо»: жены родили ему более десятка детей, из них одних лишь сыновей — восемь! К моменту, когда немолодой князь почувствовал наступление последнего срока, шестеро сыновей оставались в живых. А долг перед родом требовал обеспечить отпрысков честью и богатством. Следовательно, дать им княжения. Старший, Константин, не хотел деления Владимиро-Суздальской земли на части, требовал себе всей державы, но родитель решил иначе. В итоге Константин, вместо Владимира, получил от отца Ростов и Ярославль, а Юрий — Владимир и формальное старшинство среди потомков Всеволода, хотя он и уступал годами Константину. Отец на смертном одре наказал строптивого сына, проявлявшего государственную прозорливость, но шедшего против семейных устоев… Следующему сыну, Ярославу, достался Переяславль-Залесский; Владимира отец наделил Юрьевом-Польским.
Вскоре после кончины Всеволода Большое Гнездо сыновья его передрались и положили в кровавых битвах множество народа.
С тех пор установился порядок: старший князь сидит во Владимире, владея, как правило, еще одним или несколькими городами. Князья помоложе или «ниже честью» владеют иными областями, но по смерти старшего могут претендовать на занятие Владимира со всеми «тянущими» к нему исстари землями — «великим княжением». Этот порядок стоил озер крови…
Его реформирует лишь Иван Великий.
МИХАИЛ ЧЕРНИГОВСКИЙ Мученик за веру
Странная судьба у этого правителя. Вся жизнь его ничем не выбивается из истории междукняжеских распрей, походов, договоров заключенных и договоров нарушенных, пиров и прочих дел правления, наполнявших жизнь правящего класса на Руси. И только за считаные часы до наступления последнего срока биография князя чудесным образом переворачивается, будто песочные часы, оказавшиеся в чьей-то высокой руке.
Михаил Всеволодович был сыном Всеволода Святославича Чермного[61], поменявшего на протяжении жизни несколько княжений, и Марии — дочери могущественнейшего из польских князей Казимира II. Княжич родился в 1179 году. Долгое время он ничем не правил, во всяком случае, в летописях об этом нет известий.
Первый княжеский стол в тяжкой распре добыл ему отец. Сев на Киевском великом княжении, Всеволод Чермный выгнал князя Ярослава Всеволодовича (отца Александра Невского) из соседнего Переяславля-Южного и отправил туда своего сына Михаила. Отпрыск воинственного родителя продержался там всего несколько месяцев на исходе 1206 года. Затем и его самого, и отца силой выбили с княжения. Всеволод собрал большую рать, соединив свою дружину с дружинами родни и союзников, призвал половцев и опять вокняжился в Киеве. Достался ли его сыну Переяславль во второй раз, неизвестно. Впрочем, круговерть междоусобной войны на следующий год опять лишила Всеволода Чермного великокняжеского стола. Так что даже если его сын по второму разу вокняжился на Переяславле, то совсем ненадолго.
Лишь к 1210 году большое кровопролитие на юге Руси утихло. «Партия», которой принадлежал молодой князь Михаил, помирилась с неприятелем и в награду за смирение вновь получила Киев. Несколько лет спустя Всеволод Чермный скончался. С тех пор и на протяжении долгих лет Михаил Всеволодович вел скромную, в политическом смысле малозаметную жизнь.
Она резко изменилась в 1223 году. Большая коалиция русских князей в союзе с половцами приняла первый удар монголо-татарского воинства на Калке. Черниговские князья привели свои полки и… вместе со всеми потерпели поражение. Среди прочих правителей Русской земли лег в землю и дядя князя Михаила Мстислав, князь Черниговский. В лихую годину племянник занял его место на Черниговском столе: вся Русь горевала о погибших на Калке…
Черниговское княжество являлось тогда чуть ли не самым обширным и одним из богатейших на Руси. Кроме того, оно раскинулось в самом центре русских земель. Таким образом, Михаил Всеволодович оказался среди ведущих политиков страны.
Столь значительный статус означал и очень беспокойную жизнь. Так, в 1226 году по неясным причинам началась большая его распря с Олегом Курским. К счастью, соседние князья и митрополит Кирилл поспособствовали скорому примирению противников. Возможно, сказалось и миролюбие самого Михаила, насмотревшегося на картины междоусобной бойни двадцатью годами ранее.
Могущественным союзником черниговского правителя стал великий князь Владимирский Юрий (Георгий) Всеволодович. Выдав свою дочь Марию за его племянника Василька (1227), Михаил Всеволодович имел все основания радоваться большим политическим выгодам, происходившим от этого брака: ему и его сыну время от времени доставалось княжение в богатом Новгороде. Однажды он проявил там человеколюбие, ослабив податное бремя в условиях большого голода.
Когда Михаил Всеволодович осмелился перечить воле Юрия, тот, нимало не стесняясь свойством, двинулся походом на Черниговщину. Михаил Всеволодович, принужденный к уступкам, с тех пор не мог и мечтать о Новгородском княжении. Но, во всяком случае, это еще не была большая война. Весной 1231 года русские князья, в том числе и Михаил Всеволодович, собрались на съезд в Киеве, праздновали поставление епископа в Ростов, а потом дружно пировали в Киево-Печерской обители.
Буря разразилась, когда Михаил Всеволодович входил, по понятиям того времени, в старческий возраст. Главная «ось напряженности» пролегала вовсе не по линии Чернигов — Владимир. Гораздо более острые противоречия накапливались на юге Руси. Год от года усиливался энергичный, дерзкий, разворотливый князь Даниил Романович, владыка Галича и Волыни, по совместительству близкий сосед Черниговщины. В 1228 году Михаил Всеволодович неудачно выступил против него, однако и тогда масштабного конфликта не случилось. А вот 1234 год стал началом великого шторма, на протяжении нескольких лет жестоко терзавшего всю Южную Русь. Конфликт, то разгоравшийся, то гасший на землях небольшого Галицкого княжества[62], поджег великое вооруженное противостояние, вырвавшееся далеко за его пределы.
Михаил Всеволодович вмешался в борьбу за стольный град Киев, за великое княжение. Поначалу он особо не преуспел и лишь вызвал в ответ масштабное вторжение в собственные земли. Подвластная ему область жестоко пострадала. Под натиском неприятеля едва не пал сам Чернигов. Война, однако, не прекратилась. Новое опустошение от русского, но вражеского меча досталось на долю многострадальной Черниговщины в 1236 году. Михаил Всеволодович не отступил. В то время он постоянно воюет и является самым упорным, самым опасным противником Даниила Галицкого.
1238 год — время его политического триумфа: он занял Киев и стал, пусть ненадолго, великим князем. Тогда же ему удалось отбить у Даниила Галицкого Перемышль. Больше никогда не достигнет Михаил Всеволодович столь значительных успехов.
…Пока на юге Руси шла упорная кровопролитная война, север подвергся нападению монголо-татар. Чернигов, завязший в собственных проблемах, измотанный, разоренный, но всё еще не прекративший боевых действий, ничем не помог северным соседям. А в 1238-м или самом начале 1239 года уже на самого Михаила Всеволодовича обрушился монголо-татарский молот. Как сообщает летопись, «взяша татары Чернигов, князи их выехавша в Угры (в Венгрию. — Д. В.), а град пожегше и люди избиша и монастыри пограбиша, а епископа Перфирья пустиша в Глухове, а сами идоша в станы свои».
Михаил Всеволодович долго скитался по чужбине, пытаясь заручиться поддержкой то поляков, то венгров. Киев он потерял так же, как и Чернигов. Не найдя помощи против татар, князь помирился с давним своим противником Даниилом Галицким, получил от него «в кормление» маленький Луцк, а после того, как монголо-татары разорили Киев, вернулся туда и воссел на призрачном престоле, в окружении развалин, залитых кровью. В 1242–1243 годах он пытается удержаться в Киеве, затем уходит оттуда и возвращается в полуживой Чернигов.
Несколько лет спустя наступает ему черед ехать в Орду, на поклон к Батыю. В ханской ставке пришлось побывать всем сколько-нибудь значительным русским князьям того времени… Там князь принимает смерть за веру, прославившую его в памяти потомков. Возможно, годы позора, странствий, лишений помогли Михаилу Всеволодовичу понять, сколь бренна слава земная, сколь быстро может упасть великородный человек с высоты своего положения. Дух его наполнился смирением и подготовился к подвижничеству.
Вот лаконичный рассказ летописи о гибели Михаила Черниговского в Орде:
«Того же лета Михайло, князь черниговскый, со внуком своим Борисом поехаша в татары, и бывши им в станех, послал Батый к Михаилу-князю, веля ему поклонитеся огневи и болваном их. Михайло же князь не повинуся велению… но укори его и глухыя его кумиры. И тако без милости от нечистых заколен бысть, и конец житию прият месяца семтября в 20 день [1246 года] на память святого мученика Евстафия. Батый же князя Бориса отпусти».
Иными словами, от князя потребовали поклониться языческим идолам и пройти меж двух зажженных костров — поступить так, как поступало большинство русских князей, являвшихся в Орду. Михаил счел подобное поклонение несовместимым с христианской верой, а «кумиры» объявил «глухими», то есть простым деревом, не несущим в себе ничего божественного. За верность Христу князь поплатился жизнью.
Повествование, величественное в своей краткости…
Позднее на Руси появится «Сказание о убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора»[63]. Оно гораздо красочнее и изобилует подробностями, коих лишен бесхитростный летописный пересказ трагедии, разыгравшейся в Орде. В «Сказании», например, приведен разговор, состоявшийся между князем Михаилом и вельможей Батыя Елдегой, коего хан послал к черниговскому правителю требовать покорности: «Елдега, приехав к Михаилу, сказал ему: „Так говорит царь: Как посмел повелением моим пренебречь — почему богам моим не поклонился? Теперь одно из двух выбирай: или богам моим поклонишься и тогда останешься жив и получишь княжение, или же, если не поклонишься богам моим, то злой смертью умрешь“. Тогда ответил Михаил: „Тебе, царь, кланяюсь, потому что Бог поручил тебе царствовать на этом свете. А тому, чему велишь поклониться, — не поклонюсь“. И сказал ему Елдега: „Михаил, знай — ты мертв!“ Михаил же ответил ему: „Я того и хочу, чтобы мне за Христа моего пострадать и за православную веру пролить кровь свою“. Тогда стал говорить ему, горько плача, внук его Борис, князь Ростовский: „Господин и отец, поклонись!“ Так же и бояре стали говорить: „Все за тебя и со всеми людьми своими примем епитимью“. И ответил им Михаил: „Не хочу только по имени христианином называться, а поступать как поганый…“». К сути произошедшего, по сравнению с летописью, здесь добавлено немногое. Вместе с Михаилом Всеволодовичем отказался поклоняться языческим идолам и его боярин Федор, также принявший смерть мученика.
Политик до мозга костей, нищий князь разгромленного княжества расстается с жизнью, храня от осквернения искру веры в своей душе… Да кто мог ожидать от него такого поступка?!
Дочь Михаила Всеволодовича Марья, вдова ростовского князя Василька Константиновича, способствовала тому, что в Ростове установилось церковное почитание ее отца. Ростовцы воздвигли храм во имя святых мучеников Михаила и Феодора.
История исповеднической смерти князя Михаила в Орде разошлась по всей Руси. Он стал не только святым, но еще и народным героем. Его чтили за мужество и крепкую веру далеко за пределами Ростовской земли. В середине XVI столетия Михаил Черниговский удостоился общерусского прославления. Его мощи перевезли из Чернигова в Москву. Ныне они находятся в Архангельском соборе Московского Кремля.
Судьба этого человека схожа с историей благочестивого разбойника, уверовавшего на кресте, видя рядом с собой Сына Человеческого. Иной раз на протяжении многих лет человек грешит — больше ли, меньше ли других людей, но, во всяком случае, не видно в нем признаков праведности. А в последний день, час да хотя бы в последнюю минуту он может повести себя так, что все грехи ему простятся и удостоится он Царствия Небесного.
Михаил Черниговский коротал век, ведя войны и отыскивая чести, славы, богатства своему роду. Крупный политик, но, в общем, дюжинный — удачи в его судьбе перемежались с неудачами, последние же годы прошли в унижении. А достался ему от Бога шанс выйти за пределы обычного круга княжеских забот, и вся жизнь его перевернулась, наполняясь новым смыслом.
Как не увидеть в этом взлете человеческого духа надежду и ободрение для всех, кто понимает свои грехи, но пока еще не может с ними справиться? Вера есть, значит, и надежда не отъята.
ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ Русский король
Королевский титул совсем не характерен для средневековой Руси, однако иногда русские князья принимали его. Владел им, например, полоцкий князь Андрей Ольгердович, крупный властитель XIV века. Но самый известный пример — коронование галицко-волынского правителя Даниила Романовича. Его королевство выросло из маленькой «вотчины», простерлось на колоссальной территории, располагало нешуточной военно-политической мощью. Некоторые исторические публицисты считают, что у этой державы был шанс вырасти в крупное независимое государство Восточной Европы. Русское королевство располагалось на рубеже культур — между православной Русью и католической Европой. Сила его отчасти зависела от западных соседей, отчасти же умерялась их политическими амбициями. В конечном итоге «исторический эксперимент» своего рода русско-европейского альянса не привел к положительным результатам. Держава Даниила Галицкого распалась, а королевская корона… растворилась над головами его потомков, словно магический артефакт, имеющий короткий век.
Княжич Даниил родился в 1201 году. Его отец, Роман Мстиславич, правитель галицко-волынский и великий князь Киевский, был неутомимым воителем, участником всевозможных свар, усобиц, межродственных войн и отличался лютой жестокостью. На закате жизни он добился небывалого могущества, большая часть Южной Руси оказалась под его контролем. Богатое и независимое боярство Галицкой земли стонало у него под пятой. Вторая жена князя Романа и мать Даниила пришла на Русь из-за рубежа. Она, скорее всего, принадлежала Византийскому императорскому дому Ангелов, по другой версии — венгерскому королевскому роду. Парадоксальным образом и византийские государи династии Ангелов, и правивший тогда в Венгрии Андраш II отличались бессердечной свирепостью. Так что ближайшая родня княжича Даниила могла научить его легкому отношению к разного рода кровопусканиям в борьбе за власть. Тем не менее, став правителем, он нередко проявлял милосердие к врагам, оказавшимся у него в руках.
В начале XIII века Даниил Романович принял участие в большой междоусобной распре, из которой выросла вся будущая его политика на много лет вперед. Эта вспышка вооруженной борьбы была связана с соперничеством разных сил за Галицкое княжение. Борьба за Галич станет стержневым направлением всей будущей деятельности князя. С маниакальной одержимостью Даниил Романович будет бросать всё новые и новые силы, стараясь закрепить за собой этот город… В 1205 году погиб его отец. Галичане с почетом доставили его мертвое тело в свой город, а потом безо всяких сомнений «целовали крест» его малолетнему сыну. Этому могли способствовать вдова покойного и его дружина. Но соседи отнюдь не собирались отдавать богатый и «честный» галицкий стол князю-младенцу.
Целая коалиция князей из династии Ольговичей пришла с войсками под стены Галича. Но областная знать, очевидно, предпочла слабого князя-ребенка сильным пришельцам. Город воспротивился неприятельскому притязанию и отбился.
Это не остановило соседей. Вся сила черниговская, смоленская и киевская пошла против Даниила, а с нею отряды степняковберендеев и поляков. Галичане с Даниилом Романовичем и его матерью Анной попросили помощи у венгерского короля. Тот явился с войсками, и война из-за Галича приобрела международный масштаб. Долгая борьба закончилась для Даниила печально. Земля возмутилась против него, боясь разорения от его неприятелей. Как говорит летопись, «Романович, видя мятеж в земле велик, убоялся и, дождавшись короля, бежал из Галича во Владимир, в вотчину свою». Однако иноземные союзники ему не помогли, вскоре князя выгнали и из Владимира-Волынского. Он потерял всё.
Для более робкого и менее волевого человека столь сокрушительное поражение означало бы, скорее всего, конец политической карьеры. Притом карьеры, которая, собственно, не успела начаться… Почти неизбежным стал уход князя-мальчика в тень, на задворки больших стратегических «игр». Но Даниил Романович не прощал обид, не упускал своего, не сдавался ни при каких обстоятельствах. Бог наделил его фантастической энергией и великой отвагой, а мать с отцом научили драться за власть не покладая рук. Он был готов рисковать, идти на авантюры, только бы не упустить лакомые города и области.
Местное (прежде всего галицкое) боярство не желало возвращения Даниила Романовича. Но когда он подрос, соседи — венгры и поляки — сделали его своим ставленником, то есть проводником влияния в галицко-волынских землях. Именно они привели отрока в Галич в 1210 году… откуда его очень скоро вышибли собственные бояре. Очевидно, проводившееся через правителя-юношу иноземное влияние их не устраивало.
Пять лет спустя венгры добыли ему Владимиро-Волынское княжение. Тогдашний галицкий князь Мстислав Удатный, великий полководец, отдал за него свою дочь Анну и сделал зятя ближайшим союзником. Прежние друзья поляки с венграми сделались теперь врагами Даниила. Бок о бок с тестем владимиро-волынский князь бился против монголо-татар на Калке (1223). Но потом рассорился с Мстиславом и вновь стал союзником поляков.
Этот человек руководствовался при выборе друзей только одним: текущим политическим интересом. Назавтра он мог поссориться с сегодняшним сторонником и пойти на него войной, послезавтра поддержать недавнего врага, затем попросить у него помощи, а чуть погодя — вновь разорвать союз.
Во второй половине 1220-х годов Даниил Романович принялся методично увеличивать свои владения. Добыл Чарторыйск. Присоединил, наконец, вожделенный Галич, отбил венгров, желавших отобрать этот город. Но… опять его подвела нелюбовь местных бояр. Они предпочитали кого угодно, только не Даниила. Против него строили заговоры, местная знать на время даже отдала Галич венграм, но потом все-таки вернула его князю. Позднее он ввязался в большую свару с черниговскими князьями и получил могущественного врага в лице Михаила Всеволодовича. В результате Даниил Романович вновь на время потерял Галич, затем вернул его и вдобавок отобрал у поляков Дрогичин.
Лет десять, с середины 1230-х годов, Даниил Романович не слезает с седла. Он воюет без конца, то сокрушая противников, то уступая им. Как полководец он добивается громкой заслуженной славы. Делом его непрестанной заботы становится укрепление городских стен: Галицко-Волынская земля сделалась проходным двором для чужих войск. И только мощные крепостные сооружения могли спасти богатые местные города от вражеских жадных рук.
В 1240 году Даниил Романович воспользовался тем, что главный его противник на юге Руси, князь Михаил Черниговский, лишился княжения под ударами татар и бежал к венграм. Исчезла грозная сила, мешавшая галицкому князю осуществлять его планы. Он выбил из Киева слабого смоленского князя Ростислава Мстиславича и посадил там своего тысяцкого Дмитра. Для державы, созданной усилиями Даниила Галицкого, Киев являлся полезным добавлением — богатый город на окраине. Что же касается призрачного старшинства среди русских князей, то галицкий правитель относился к нему как к неисправной игрушке: ни пользы, ни удовольствия, одни хлопоты. Великокняжеский титул для него, прагматика до мозга костей, значил немного.
1240 год — время такого же триумфа и преуспеяния для Даниила Романовича, как 1238-й — для его главного «оппонента» Михаила Черниговского. И триумф этот закончился точно такой же трагедией.
Монголо-татары осадили Киев, разбили стены «пороками»[64] и в жестокой сече сломили упорное сопротивление защитников. Дмитр оказался в плену. Затем победоносные тумены вторглись на земли новосозданной державы Даниила Галицкого. Сам князь бежал к венграм, как прежде Михаил Черниговский. Две его столицы, Владимир-Волынский и Галич, пали. Но некоторые города, превосходно укрепленные, выстояли. Так, неприятный сюрприз ожидал захватчиков у Кременца, который они не смогли взять. Тяжело дался и захват Колодяжена: эту твердыню не удалось захватить силой. Лишь убедив жителей открыть ворота, враг вошел внутрь и устроил бойню. Как видно, дорого стоило штурмовать мощные укрепления городов Юго-Западной Руси. Пленный Дмитр, видя опустошение своей страны, посоветовал неприятельскому командованию поторопиться с походом на соседнюю Венгрию, сказав, что возиться со здешними крепостями придется долго, а венгры успеют собраться с силами, организовать отпор. В итоге завоеватели прошли Галицко-Волынскую землю, нанеся ей большой урон, но не разорив до конца.
Даниил Романович не сразу понял, что монголо-татарское нашествие — беда глобальная, что последствия его не исчезнут ни через год, ни через десять лет. Вернувшись из Венгрии, он принялся давить своеволие галицких бояр. Устав от борьбы с ними, князь всё чаще обращал взоры к городу Холму (ныне Хелм, в Польше). Здесь он основал резиденцию, не имевшую, как Галич и другие старые города, древних племенных корней, древнего боярства, а потому абсолютно безопасную для князя. В сущности, он следовал курсом, который когда-то проложил Андрей Боголюбский, отдавший предпочтение новому Владимиру, а не Суздалю с Ростовом — многовековым оплотам влиятельного боярства.
В советской исторической литературе боярство чаще всего изображалось как реакционная архаичная сила, мешавшая князьям устанавливать единодержавный порядок на Руси. Но оценка деятельности этого общественного слоя не должна быть столь прямолинейной. Русские князья XII–XIII и, во многом, XIV веков истощали силы страны в междоусобных войнах, тратили деньги и людей, мало сообразуясь с интересами областей, доставшихся им под руку. Так что боярство, «толкаясь» с князьями, отчасти выправляло этот перекос, проводя требования своей земли. Как Даниил Романович, так и его отец мечтали об увеличении своих владений, без конца воевали, приводили к себе на помощь иноплеменников или же вызывали своей политикой их вторжения. Много ли имелось у их собственной аристократии поводов любить и уважать их?
К середине 1240-х годов Даниил Романович вырастает в фигуру общерусского масштаба. В 1245 году под Ярославом он разбивает коалицию венгров и черниговцев, попытавшуюся вытеснить его из Галича. Видя опасность от молодой и воинственной литвы, он то пытается умирить ее, женившись на племяннице литовского вождя Миндовга, то идет на врага войной. Но литва, покуда она не успела консолидироваться, — еще не самый серьезный противник его державы. Несколько походов князя на литву и ятвягов заканчиваются большим успехом.
Даниил Романович держит под своей рукой Владимир-Волынский, Галич, Холм, Дрогичин, Каменец, им же основанный Львов, несколько других городов, на время он даже берет под контроль обширное Турово-Пинское княжество[65]. Таким образом, князь располагает очень серьезными ресурсами. Он даже пытается сопротивляться Орде. И все же перед ее чудовищной силой Даниил Романович, со всеми своими городами и землями, в конце концов склоняет голову. Как писал историк М. О. Коялович, «едва ли не хуже смерти было для Даниила поклониться варвару-азиатцу». Но вскоре после победы под Ярославом он должен был посетить ставку Батыя и там принять унизительную зависимость от хана.
Зависимость эта его не устраивала никак. Даниил Романович планирует сколотить большой межгосударственный или как минимум междукняжеский союз против ордынцев. Его сын Лев женится на венгерской принцессе, а другой сын, Роман, — на наследнице австрийских герцогов, вдове маркграфа Баденского. Но вместо помощи с запада Даниил Романович сам увязает в тамошних войнах.
Он ищет союзников и на северо-востоке. Зимой 1250/51 года, по словам летописца, «оженился Ярославич Андрей [с дочерью] Даниловною Романовича». Венчание состоялось во Владимире-на-Клязьме. В то время Андрей Ярославич занимал великое княжение Владимирское. А значит, его брак получал громадное политическое значение: между Южной Русью и Северной протягивалась нить дружеских отношений. Она могла бы вылиться в нечто значительное, если бы Андрей Ярославич не поссорился с ордынцами, не был ими разбит и согнан с «великого княжения».
Ордынский полководец Куремса занимает одну из пограничных областей Галицко-Волынской державы. Ктшзь наносит ему поражение и очищает свои земли. Но перед Даниилом Романовичем встает гораздо более серьезная проблема: воинство Куремсы — лишь небольшая часть всей Орды. Грядет противостояние со всей ордынской силой.
Тогда он всерьез принимается искать поддержки на западе. Поляки и венгры многое множество раз помогали Даниилу Романовичу. Правитель огромного Южнорусского государства привычно надеялся на них. А если и они окажутся слишком слабы, если их слишком занимают собственные смуты, то почему бы не отыскать более серьезного союзника на том же направлении?
Даниил Галицкий ведет долгие переговоры с папским престолом и принимает из рук его легата королевскую корону. Горожане Дрогичина стали свидетелями коронации, которая совершилась в 1254 году. Папа Римский призвал государей-католиков собраться воедино и ударить по ордынцам. Короли и князья не спешили откликнуться на его призыв. Но ведь всякое большое дело требует изрядного времени, не так ли?
Новоиспеченный «король русский» ожидал какой-то действенной помощи, но не получил ее. С течением времени он осознал, что для Рима он всего лишь живое орудие для утверждения католицизма на Руси. Тогда всякие отношения с папством прекратились.
Неистовая дикая литва, даже если и соглашалась на союзнические отношения, действовала сама по себе и способна была разорить земли союзника из-за малейшей обиды. Завязав было с ней добрые отношения, Даниил Романович неожиданно оказался перед лицом новой большой войны. Он громит изменившую литву, сам теряет сына… Литва оказывается чуть ли не опаснее Орды, а близкое с ней соседство источает постоянную угрозу. В борьбе с литвой князь проявляет большую жестокость.
Что остается Даниилу Романовичу? То же, до чего додумался правитель Северной Руси Александр Невский: покориться Орде. Это значит — выполнять требования хана, платить дань, давать ему своих ратников и пытаться накопить силу для последующего освобождения, когда наступит удобный момент.
Ценой за примирение с ордынцами стало добровольное разрушение крепостных сооружений в нескольких городах и совместный поход против поляков — старинных доброжелателей Даниила Романовича. Позднее татарско-русские войска вторгнутся и в литовские пределы.
На седьмом десятке лет «король русский» правил большим государством, но должен был чувствовать себя на троне до крайности неуверенно. Его королевство, вассальное по отношению к Орде, оказалось зажато между своеволием ханов, растущей дерзостью литвы и мстительной энергией поляков. В 1264 году Даниил Романович скончался, передав титул сыну Льву. Создателю Русского королевства повезло, на его долю хватило относительно мирных лет; закат правителя был тревожным, но не содержал в себе ничего катастрофического.
Крушение его державы заложено было в крайне рискованной политике по отношению к литве и тщетных упованиях на поддержку западных соседей. Оно с неизбежностью созрело весьма быстро.
При потомках Даниила Романовича, еще больших авантюристах, нежели он сам, Русское королевство постепенно развалится, захлебнувшись в войнах. Во второй четверти XIV века оно исчезнет под натиском поляков и литовцев.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ Повелитель битв
Сколь много знает современный гражданин России о святом благоверном князе Александре Ярославиче? По большей части то, что написано в школьном учебнике. Да еще, пожалуй, помнит величественные сцены старого черно-белого фильма «Александр Невский». Память не отпускают жутковатое словосочетание «Ледовое побоище» и связанные с ним картины белых рыцарских плащей с большими крестами, жестокой рубки, льда, заваленного трупами…
Между тем молодой новгородский князь, одолевший немцев в Ледовом побоище, был прежде всего надеждой Руси в трагическую эпоху. Древнекиевская старина рушилась и гибла. На ее обломках возникали новый народ и новое государство. В тот переломный век Русь оказалась особенно уязвимой. Она могла исчезнуть, распасться под натиском внешних врагов. Князь Александр сыграл роль стража, давшего стране передышку, столь необходимую для выживания.
«Черные годы» — вот точное название той эпохи в истории Русской земли. После ураганного нашествия монголо-татарских орд Батыя в 1237–1240 годах, когда была перемолота русская сила и подверглись разорению десятки городов, начала складываться система тяжелой зависимости от ордынских завоевателей, державшаяся на страхе перед новыми вторжениями. Новгородские и псковские земли, к счастью, избежали опустошительного разгрома. Но они испытывали сильнейший натиск со стороны шведов, немцев, литовцев.
Русь превращалась во второразрядный регион Восточной Европы, слабела, раскалывалась на множество маленьких и немощных в военно-политическом отношении княжеств. Возможно, от окончательного распада и гибели ее спасли только усилия нескольких самоотверженных, одаренных и прозорливых личностей. Наиболее яркой из них являлся князь Александр Ярославич, прозванный Невским. Несколько лет ожесточенной борьбы за нерушимость новгородских и псковских рубежей принесли ему бессмертную славу. Главной битвой во всей его жизни, звездным часом на пути полководца и стало то самое Ледовое побоище — столкновение с немецким воинством на льду Чудского озера.
Родился князь Александр 13 мая 1221 года. Он был вторым сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича от торопецкой княжны Ростиславы. Первенец, князь Федор Ярославич, родился полутора-двумя годами ранее. Он скончается в возрасте тринадцати лет и позднее будет канонизирован в чине святых благоверных князей.
Их отец пользовался большим авторитетом в Великом Новгороде. Свободолюбивые и самовластные новгородцы несколько раз приглашали его княжить в свой город, затем ссорились, прогоняли и приглашали вновь. Из-за властного характера Ярослав Всеволодович с трудом уживался с новгородской вольницей. Но он имел дар военачальника и приносил победы из походов на шведов, немцев и литовцев. На его воинское искусство новгородцы крепко надеялись…
Уезжая из Новгорода, Ярослав Всеволодович нередко оставлял вместо себя молодых княжичей.
В 1228 году семилетний Александр был оставлен вместе со старшим братом Федором и опытными управленцами, боярином и тиуном, в Новгороде Великом — как официальный представитель отца. Первое его тесное знакомство с новгородцами состоялось в скверных условиях. Русский Север жестоко страдал от голода, случившегося из-за неурожая. Доходило до поедания собачатины и даже людоедства. Княжеские дружинники и «судьи» взимали «забожничье» — особую дань, оказавшуюся страшно обременительной в условиях общего разорения. Князя Ярослава в городе если не любили, то уж во всяком случае уважали. Он еще не одержал самых громких своих побед, но уже получил великую славу и большую благодарность, разбив огромную литовскую рать (1226). Поэтому новгородцы задумали миром просить у него отсрочки со сбором «забожничего» и отзыва «судей», разъезжавших по области от имени князя. К нему отправили гонцов с запросом. Но он не успел ответить. Голод вызвал в столице Северной Руси беспорядки, вылившиеся в вооруженную бойню. По боярским дворам прокатились грабежи. Мальчиков-княжичей едва увезли от этого несчастья. Весной 1229 года они покинули город, наполненный мертвецами и сотрясаемый разбоем.
Ярослав Всеволодович воспринял случившееся как обиду. А когда новгородцы пригласили на его место другого князя, отказался вывести свои отряды из пограничных крепостей Новгородчины. Однако город недолго сварился с князем: уже в декабре 1230 года его опять пригласили править.
В ту пору Александр Ярославич мог извлечь из буйства мятежных толп важный урок: даже при самом хорошем отношении к правителю вечевая республика не признает его полновластия, если не будет принуждена к тому силой. Новгородчина — зыбкая почва для любого князя. Она дает богатый доход, но может быстро поменять свое отношение и поискать себе другого князя, вместо прежнего, вроде бы столь почитаемого…
Отец вновь посадил княжичей в Новгороде, уйдя оттуда по иным делам. Его сын постепенно впитывал науку державных дел.
В середине 30-х годов XIII века отец стал брать Александра в походы.
Тогда новгородцам противостоял сильный и опасный противник — немецкий рыцарский Орден меченосцев, образованный в 1202 году. В его задачи входило захватить земли в Прибалтике (Ливонии) и обратить местное население в римско-католическую веру. Орден вел энергичное наступление. Рыцари покоряли языческие племена, но затем схлестнулись со вполне христианским Полоцким княжеством. Борясь с русскими князьями, немцы то удерживали меч от жестокого истребления, видя перед собой христиан, то забывали о христианском братстве и рубили, резали, вешали. Так, взяв городок Феллин (Вильянди), они повесили весь русский гарнизон. Вероисповедная близость очень мало тормозила их страсть к завоеваниям.
Закрепившись на приобретенном в первые годы натиска плацдарме, они попытались наложить руку на крупные городские центры. В 1224 году после кровопролитной осады рыцари взяли город Юрьев (позднее — Дерпт, ныне — Тарту). Десятью годами позднее под Юрьев с новгородской и переяславской ратью выступили отец и сын — Ярослав Всеволодович и Александр Ярославич. Недалеко от Юрьева немцы получили от них страшный удар. Рыцари отступили на лед реки Эмайыги (Эмбах). В жарком бою немецкое войско было разбито наголову. Тяжеловооруженные всадники проваливались под лед и тонули. Те, кто сохранил жизнь, бежали. Немцы оказались вынуждены в скором времени пойти на мир с Новгородом, приняв все продиктованные победителями условия. В 1236 году, когда и литовцы нанесли им поражение при Сауле (Шяуляе), власть их в Прибалтике повисла на волоске.
С 1236 по 1240 год Александр Ярославин непрерывно княжил в Новгороде, выполняя волю отца. Тот занял киевский великокняжеский престол и отчаянно нуждался в крепких тылах. Очень плохо дела его пошли в 1238 году. По Северо-Восточной Руси пронесся губительный вихрь Батыева нашествия. Города стояли в руинах, многочисленные князья легли в землю. Во время Батыевой рати пал и великий князь Владимирский Юрий — старший среди правителей северо-восточной части русских земель. Его место на великокняжеском престоле и занял Ярослав Всеволодович. Так обстоятельства вынудили Ярослава перенести столицу из Киева во Владимир. На Киевщине князь оставил наместника. Перебравшись назад, он постарался навести мало-мальский порядок в стране, приведенной к полному хаосу. Ему приходилось одновременно защищать Западную Русь от литовцев и налаживать отношения с монголами. Долгие, тяжелые поездки в Орду отнимали немало времени. Только сын, родная кровь, молодой, но уже набравшийся опыта воин, мог обеспечить ему покой и верность Новгородчины.
Огромная севернорусская область почти избежала ужасов монголо-татарского завоевания. Огонь коснулся ее по краям: пал Торжок, а после того победоносные тумены неглубоко вклинились в новгородские земли и скоро повернули вспять. Старший из оставшихся в живых сыновей Ярослава Всеволодовича, его ставленник в богатом Новгороде и вполне взрослый для дел правления человек автоматически стал одной из ключевых фигур на «шахматной доске» Северной Руси. На плечи Александра легла огромная ответственность: оборона новгородских границ от воинственных соседей. А те, надеясь воспользоваться сложным положением Руси, усилили нажим на Новгородчину.
В 1239 или 1240 году Александр Ярославич «срубил» с новгородцами ряд малых крепостей («городков») по реке Шелони. Тогда же он нашел себе жену — дочь полоцкого князя Брячислава по имени Александра. Венчание состоялось в Торопце, откуда происходила мать Александра Ярославича. Затем свадебные торжества продолжились в Новгороде. Этот брак имел и серьезную политическую подоплеку. Полоцк являлся тогда главнейшим центром русской обороны от немецкого натиска. Тамошний князь был исключительно ценен как союзник.
Бог дал Александру Ярославину дочь Евдокию и четырех сыновей — Василия, Дмитрия, Андрея и Даниила. Все они пережили отца. Трое последних стали выдающимися политическими деятелями.
В 1237 году по указанию папы Римского силы Ордена меченосцев были пополнены: его объединили с могучим Тевтонским орденом. Новые отряды рыцарей прибыли из Германии на подмогу. Но первый удар по Северной Руси нанесли не они, а шведы.
В 1240 году шведское воинство с присоединившимися к нему вспомогательными войсками из подвластного шведам финского племени сумь и народа емь потерпело от Александра Ярославича полное поражение в битве на реке Неве. Современный историк располагает всего двумя ценными памятниками, повествующими о Невской баталии. Это известие Новгородской Первой летописи и свидетельство Жития Александра Невского. Битва реконструируется по обоим источникам, хотя предпочтение отдается летописи: житийная литература не ставит своей задачей в точности передать ход событий, а потому менее точна. С другой стороны, составитель жития мог располагать источниками, не попавшими в руки летописца, а значит, нельзя полностью сбрасывать со счетов и его.
Летом 1240 года шведская флотилия во главе с ярлом Ульфом Фаси и зятем короля Эрика XI Биргером Магнуссоном вошла в устье Невы. С ними прибыло католическое духовенство — некие «пискупы». Скорее всего, шведские военачальники намеревались укрепиться в этих местах: поставить крепость, занять ее гарнизоном, понемногу поставить под контроль окрестности, в первую очередь — Ладогу. А значит, отхватить изрядный ломоть Новгородчины.
О расположении вражеского войска новгородцы были оповещены сторожей (дозором) во главе с ижорянином Пелгусием. Молодой энергичный князь, не дожидаясь помощи из далекого Владимира, со своими дружинниками, войском ладожан и новгородской ратью устремился навстречу неприятелю. Да и кого ему было ждать с юга, когда полки русские так поредели в борьбе с монголо-татарами? Шведский лагерь неподалеку от впадения реки Ижоры в Неву подвергся нападению в воскресенье 15 июля около десяти часов утра. Новгородский князь предпочел ударить, не дожидаясь сбора всех сил, сделав ставку на внезапность атаки. Этот расчет оправдался. В кровавой сече Александр Ярославич копьем ранил Биргера в голову[66]. Один из русских воинов подрубил опорный столб в шатре королевского зятя. Другой въехал на коне по мосткам на шведский шнек, рубя направо и налево; его сбросили в воду, но он уцелел. Третий испортил (прорубил борта?) несколько шведских судов. В конце концов шведы подались к кораблям, отдав свой плацдарм. Два корабля им пришлось наполнить мертвыми телами знатных («вятших») воинов, а иных, как говорят русские источники, похоронили в общей яме «без числа». Пали некий шведский военачальник Спиридон и, предположительно, один из епископов. За эту победу новгородцы и ладожане расплатились жизнями двух десятков своих бойцов, и в их числе четверых знатных людей.
Победа принесла Александру Ярославичу громкую славу. Этот успех и добавил к имени князя почетное прозвище «Невский».
В том же году Александр, поссорившись с новгородцами, покинул город. По воле отца он занял богатый княжеский стол в Переяславле-Залесском. Конечно, это не власть и не то влияние на дела большой политики, как в Новгороде Великом. Но переяславское княжение — весьма достойное, и его в разное время занимали крупнейшие политики Северо-Восточной Руси.
За время его отсутствия в Новгороде случилось немало бед. Немцы перешли в наступление, взяли Изборск, сожгли его и перебили весь гарнизон. Псковская рать, направленная против рыцарей, была разбита армией Германа — епископа Дерптского. Воевода Гаврила Гориславич погиб, сражаясь, а вместе с ним пало 600 псковичей. Вскоре вражеское войско осадило и сам Псков. Город подвергся страшному пожару, а окрестные села — разорению. Псковичи еще не оправились от поражения под Изборском, они не могли долго сопротивляться. Псков рыцарям не удалось взять силой, но там оказалась влиятельной пронемецкая партия с неким Твердилой Иванковичем во главе. Она отдала город немцам, разделив с ними власть над богатейшей областью. Одной из причин стала всеобщая нелюбовь псковичей к великому князю Ярославу. Его здесь считали опасным врагом…
Возгордясь и будучи уверенными, что их власти более ничто не помешает, немцы оставили в городе всего лишь двух рыцарей с относительно небольшим гарнизоном. Те псковичи, кто не желал для родного города подобной судьбы, бежали в Новгород с женами и детьми. Между тем русско-немецкое правительство Пскова принялось нападать на деревни в новгородских владениях.
Наращивая давление на Новгородчину, немцы взяли городок Тёсов и основали недалеко от побережья Финского залива крепость Копорье. Русские купцы стали жертвами рыцарского разбоя в 30 верстах от Новгорода.
Тогда новгородцы, чувствуя смертельную опасность, сочли за благо просить великого князя Ярослава о поддержке. Тот прислал им сына Андрея. Вероятно, Александр Невский в ту пору не искал примирения с новгородцами. А может быть, они и сами опасались его сурового характера. В любом случае недолгое княжение Андрея Ярославича не привело к доброму итогу. Он не сумел удержать неприятельский напор: литовцы, немцы и эсты бродили по Новгородчине, как по своей земле, угоняя скот.
Тогда смирился гордый город: попросил вернуть Александра. Полководец согласился и позднее получил от отца в помощь владимиро-суздальскую дружину во главе с младшим братом Андреем. В 1241 году Александр въехал со всей ратной силой в Новгород, и «рады быша новгородцы», измученные беспощадным врагом.
Ярославичи действовали стремительно: под их ударами пало Копорье. Вскоре был возвращен Псков, вражеский гарнизон которого оказался частично пленен, частично же истреблен. «Братьев»-рыцарей вышибли из города.
Русская армия ворвалась в земли эстов, союзных немцам. Целью нового наступления стали устрашение местных племен, захват добычи и демонстрация силы. Это видно из тактики русских войск: они пошли «в зажитие» и оказались «в розгоне». Позднее подобный образ действий стали обрисовывать двумя словами: «распустить войну». Это значит: разделить силы, пройтись малыми отрядами огнем и мечом по землям противника, неся разорение и разрушение, угнать его скот, взять пленников, забрать ценное имущество.
Епископ Дерптский, орденские власти и эстская знать принялись собирать войско для ответного удара. В самом скором времени войско выступило в поход. На основные силы неприятеля наткнулся отряд русских воевод Кербета и Домаша Твердиславича — брата новгородского посадника. Часть отряда погибла вместе с Домашем, другая попала в плен, но те, кто успел уйти от немецкой погони, предупредили Александра Ярославича о надвигающейся опасности. Тот принялся спешно стягивать отряды из «розгона» в единый кулак.
Главное же столкновение с немецкими рыцарями произошло 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера, «на узмени», недалеко от скалы Вороний камень[67].
Выбор места сражения объясняется не какими-то хитроумными тактическими расчетами, но весьма прозаическими обстоятельствами. Епископ Дерптский ставил своей задачей догнать русских, выбить с подвластной территории, лишить добычи и полона. Александр же Ярославич считал, что ему хватает сил противостоять дерптцам, а потому решил не уходить без боя. Оставалось найти место, где оба воинства могли развернуться для генерального сражения. В условиях, когда зимняя твердь сменяется весенней слякотью, очевидно, ничего лучше ледяной равнины Чудского озера не представлялось возможным отыскать.
Численность противостоящих армий не известна даже в самом грубом приближении. Одними историками высказывалось предположение, согласно которому орденское войско состояло из 10–15 тысяч бойцов, а ополчение новгородцев с княжескими дружинами — из 15–17 тысяч. Другие специалисты полагают, что эти цифры непомерно завышены.
В эпоху Высокого Средневековья силу войска в большинстве случаев определяли количеством рыцарской конницы. Тяжеловооруженный всадник несколько столетий играл на полях битв Европы роль настоящего танка. И дело не только в том, что рыцарь в кольчуге, бригандине[68] и на коне, также защищенном плотной материей, кольчужной попоной и металлической маской, был слабоуязвим, да и просто страшен для пехотинца. Рыцарь посвящал военному делу всю жизнь и являлся высоким профессионалом боя. Он прекрасно владел оружием, понимал тактику военных действий, имел богатый опыт боевых столкновений, был настроен на успех, поскольку слава, заработанная в сражениях и походах, поднимала его общественный статус.
Княжеский дружинник фактически являлся русским рыцарем. По части оружия и доспехов он мало чем уступал немецкому рыцарю. Более того, богатый боец из старшей дружины, носивший чешуйчатый (пластинчатый) панцирь, кольчугу под ним, шлем с полумаской и бармицей, щит, меч, копье, а порой еще и булаву, лук со стрелами или боевой топор, по тяжести вооружения превосходил шведского, да и немецкого рыцаря. В боевых условиях ему приходилось таскать на себе порядка 30 килограммов металла, и он играл роль точно такого же «живого танка», как и орденский «брат». Разница между ними состояла в том, что русский кавалерист больше полагался на меч, топор и булаву, а европейский предпочитал таранный бой на копьях. Соответствующие боевые навыки им прививались сызмальства.
Ополченец располагал намного более легкими (а то и вовсе никакими) доспехами и намного более слабым наступательным вооружением. Да и как боец он «стоил» на порядок меньше, чем рыцарь или дружинник. Слабо организованные толпы пехоты чаще всего не выдерживали натиска тяжеловооруженной конницы. Боеспособность ополчения и на Руси, и в Европе справедливо считалась невысокой.
Правда, здесь стоит сделать оговорку: ополченцы Новгорода и Пскова в боевом отношении стояли выше ополченцев «низовской Руси». Вечевые республики нередко отражали вражеский напор самостоятельно, бывало, и сами нападали на соседей, баловались ушкуйным промыслом. Собственно, и это наступление Александра Ярославича предполагало большое количество «охочих людей», то есть добровольцев, рассчитывающих на богатую добычу… Отсюда — давний навык северорусской пехоты к военному делу и отсутствие случайных людей в рядах войска. А обширные торговые связи новгородцев позволяли им обзавестись превосходным оружием.
Да и немецкая армия располагала вовсе не худшей пехотой. Сколько рыцари набрали ополченцев из немецких колонистов, ливов, леттов и эстов, определить невозможно. Может быть, двести, а может быть, десять тысяч. По русским источникам известно одно: пехота присутствовала на поле боя. Кроме того, понятно, что основную часть ополчения составляли эсты или, как их называли в русских летописях, «чудь»[69]. Этот народ был приучен к войне и сражался без конца то с немцами, то с литовцами, то с ливами, то с русскими на протяжении нескольких поколений. Иначе говоря, он мог придать крестоносному воинству значительную силу.
Следует принять как данность: с обеих сторон пехота состояла не из кроткого крестьянства с дрекольем, а из ратников, подготовленных к хорошему бою. И все-таки даже такое ополчение сильно уступало в боевом отношении дружиннорыцарской кавалерии.
Армии, пришедшие к Чудскому озеру, могли быть весьма многолюдными — за счет ополченцев. Но исход боя — и это прекрасно понимали обе стороны — решался ударами тяжелой кавалерии. А это по несколько сотен человек в немецком и русском воинствах. Всадников же, защищенных полным тяжелым доспехом, представляющих самый цвет воинства, скорее всего, считали десятками…
Орденское войско XIII века, по немецким источникам, могло выставить порядка полутора сотен рыцарей-братьев, несколько большее количество хорошо вооруженных оруженосцев и рыцарей-«сержантов», а также отряды союзных рыцарей, прибывших из других стран в надежде на прибыльную службу, славу, добычу… Притом основные силы Ордена оставались на другом театре военных действий. В самом лучшем случае Орден вывел на поле боя порядка пятидесяти рыцарей-братьев и, вероятно, втрое-вчетверо больше тяжеловооруженных кавалеристов из числа оруженосцев, сержантов, союзных рыцарей. К ним надо добавить относительно небольшие отряды дерптского епископа, совсем недавно укрепившегося на этой земле. В целом ряде немецких операций — у Изборска, под Псковом — принимали участие «мужи короля», то есть датское рыцарство, занявшее Северную Эстонию. Хватило ли датчанам времени прискакать на помощь Дерпту, сложный вопрос. Они не упомянуты немецкими источниками в битве на Чудском озере, но, возможно, какие-то незначительные их группы все же успели присоединиться к немцам. Итак, если поднять планку до пределов разумного, вероятно, всего с немецкой стороны участвовало порядка 200–500 кавалеристов. Очень значительная сила по меркам Западной Европы XIII века.
Известный историк военного дела А. Н. Кирпичников постарался уточнить, сколько именно рыцарей и не столь тяжеловооруженных всадников мог выставить Орден на поле боя в тот день. Он, в частности, пишет: «На основании сохранившихся письменных источников… построение клином (в летописном тексте — „свиньей“) поддается реконструкции в виде глубокой колонны с треугольным увенчанием. Подтверждает подобное построение уникальный документ — воинское наставление — „Приготовление к походу“, написанное в 1477 г. для одного из бранденбургских военачальников. В нем перечислены три подразделения-хоругви (Banner). Их названия типовые — „Гончая“, „Святого Георгия“ и „Великая“. Хоругви насчитывали соответственно 400, 500 и 700 конных воинов. Во главе каждого отряда концентрировались знаменосец и отборные рыцари, располагавшиеся в 5 шеренг. В первой шеренге в зависимости от численности хоругви выстраивалось от 3 до 7–9 конных рыцарей, в последней — от 11 до 17. Общее число воинов клина составляло от 35 до 65 человек. Шеренги выстраивались с таким расчетом, чтобы каждая последующая на своих флангах увеличивалась на два рыцаря. Таким образом, крайние воины по отношению друг к другу помещались как бы уступом и охраняли едущего впереди с одного из боков. В этом и заключалась тактическая особенность клина — он был приспособлен для собранного лобового удара и одновременно был трудно уязвим с флангов. Вторая, колоннообразная часть хоругви, согласно „Приготовлению к походу“, состояла из четырехугольного построения, включавшего кнехтов. Число кнехтов в каждом из трех названных выше отрядов равнялось соответственно 365,442 и 629 (или 645)… Рыцарский отряд XV в. мог достигать одной тысячи всадников, но чаще включал несколько сот комбатантов… У нас имеется также возможность более конкретно определить численность и ливонского боевого отряда XIII в. В 1268 г. в битве у Раковора, как упоминает летопись, выступал немецкий „железный полк великая свинья“. Согласно „Рифмованной хронике“, в битве участвовало 34 рыцаря и ополчение. Это число рыцарей, если дополнить его командиром, составит 35 человек, что точно соответствует составу рыцарского клина одного из отрядов, отмеченного в упоминавшемся выше „Приготовлении к походу“ 1477 г. (правда, для „Гончей“ хоругви, а не „Великой“). В том же „Приготовлении к походу“ приводится число кнехтов такой хоругви — 365 человек. С учетом того, что цифры головных частей отрядов по данным 1477 и 1268 гг. практически совпали, можно полагать без риска большой ошибки, что по своему общему количественному составу эти подразделения также приближались друг к другу».
Проще говоря, по мнению ученого, Орден вывел на лед Чудского озера примерно 400 бойцов, из них 35 рыцарей-«братьев». Что же касается ополчения, набранного у подвластных народов, то его размеры А. Н. Кирпичников не берется определить, что разумно: нет никаких, даже косвенных свидетельств, позволяющих решить этот вопрос.
Сюда стоит внести одну серьезную поправку. Сами немцы подчеркивают поспешность сбора войск. Они не готовили завоевательный поход, они собирали силы для отпора наступающим новгородцам. Вот как описывает концентрацию немецких сил «Старшая Ливонская рифмованная хроника»:
В Дерпте узнали, что пришел князь Александр с войском в землю братьев, чиня грабежи и пожары. Епископ не оставил это без внимания, быстро велел мужам епископства поспешить в войско братьев для борьбы против русских. Что он приказал, то и произошло. Они после этого долго не медлили, они присоединились к силам братьев. Они привели слишком мало народа, войско братьев было также слишком маленьким.В такой обстановке никто поштучно не высчитывал, сколько рыцарей-братьев нужно для правильного выстраивания боевой колонны. Собрали тех, кого успели собрать, — рыцарей Ордена, рыцарей, служащих епископу Дерптскому, а также, возможно, договорились о поддержке с датчанами. Нет никаких оснований считать, что Орден вывел на поля «штатное» число тяжеловооруженных кавалеристов «Гончей» хоругви. Судя по потерям (о них речь пойдет ниже), на льду Чудского озера оказалось не менее тридцати рыцарей в полном доспехе. Более пятидесяти Орден, как уже говорилось, тогда не мог поставить в строй. Но кого-то дал епископ Дерптский, кого-то, чисто теоретически, могли прислать соседи — разумеется, это были небольшие отряды, несопоставимые с мощью Ордена. Поэтому, наверное, правильным будет оценить совокупную мощь орденско-дерптско-датской тяжелой кавалерии в 30–80 наилучшим образом вооруженных всадников при тех же 200–600 бойцах, не имевших столь же мощного защитного снаряжения, и значительном количестве эстского ополчения.
По мнению Дэвида Николла, автора широко известной книги «Lake Peipus. Battle on The Ice», армия епископа Дерптского состояла приблизительно из 1800 бойцов. В их число входило около 800 человек датско-немецкой тяжелой кавалерии («knights and sergeants», по выражению Николла) и тысяча эстов. Ядром конницы являлась «милиция» дерптского епископа. Николл считал, что в нее входило до 300 ратников-немцев, в союзе с коими выступало порядка тысячи эстов. Восточная часть датской Эстонии, с его точки зрения, могла вывести в поле 200 кавалеристов при поддержке отрядов из местных племен, а Тевтонский орден — 350 с тем же «гарниром» из «Estonian auxiliares». Но в походе, как он полагает, могла принять участие лишь часть этих сил. Русские же ополчение и дружина (со ссылкой на мнение «большинства историков»!) определены им по численности как шести-семитысячный корпус.
Тут всё гипотетично, и ни одна цифра не подтверждается ссылками на источники. Так что выкладки Николла выглядят до крайности сомнительно.
Терри Гор поднимает численность немецко-датско-эстского воинства до двух-двух с половиной тысяч бойцов и поддерживает цифру в шесть тысяч ратников на русской стороне. Но… с той же гипотетичностью, не приводя никаких доказательств.
Таким образом, нельзя опираться на соображения обоих историков, поскольку они не получили аргументации.
С восходом солнца противники сошлись.
Как уже говорилось, немецкие рыцари построились «свиньей» — глубокой колонной, начинавшейся тупым клином. В первом ряду шли в бой 3–5 опытных воинов, во втором — 7 бойцов, в третьем — 9, в четвертом — 11 и т. д. Подобное построение позволило вражеской коннице нанести сокрушительный удар по центру русской позиции. С его помощью рыцари успешно взламывали вражеское построение: после расчленения боевых порядков неприятеля его воинство теряло боевой дух, впадало в панику и разбегалось. Но в данном случае клинообразное построение оказалось самоубийственным…
Александр Ярославич подставил под удар орденского тарана новгородское ополчение — лучников и копейщиков. Пока передовые отряды рыцарей пробивались через плотный строй новгородской пехоты, лучшие силы русских — княжеские дружины — не трогались с места. Дружинники стояли позади ополчения, ожидая приказа к атаке.
Русские пешцы отступали, неся большие потери. Они оказывали яростное сопротивление, осыпая неприятеля стрелами. Однако мощи ударного клина ополченцы противостоять не могли. Тем более что справа и слева рыцарей поддерживала пехота. Не одни немецкие всадники бились на льду Чудского озера — рядом с ними, воодушевляясь их успехом, следовал рой эстов[70].
Стальной рыцарский строй разрезал построение новгородцев пополам и уткнулся в княжеский дружинный полк.
В разное время было высказано немало гипотез по одному малопонятному вопросу: почему рыцарский клин, разрубив центр русской позиции, не развернулся и не начал бить отдельные части? Некоторые специалисты считали, что за новгородским пешим полком князь поставил «санный обоз» — уткнувшись в него, рыцари потеряли строй и темп наступления. Другие полагали, что развороту помешали особенности местности: озерный берег с большими валунами, ямами, каменистым подъемом и т. п. Но источники ни о чем подобном не говорят. Скорее, немецкая сила столкнулась не с обозом и не с озерным берегом, а с княжескими дружинниками.
Конницу Александру Ярославичу удалось сберечь. Она вступила в сражение на втором этапе неутомленной и не понесшей потерь. Ее атака переломила ход битвы. Дружинники ударили рыцарям навстречу, а также в обход собственной пехоты — по левому и правому крыльям неприятельского войска. Этот маневр смешал ряды противника, сокрушил его самообладание и дисциплину. Эсты, защищавшие немецкую «свинью» с боков, не проявили особенной стойкости. Они предпочли разбежаться под напором дружины. При этом фланги рыцарского строя потеряли прикрытие, обнажились.
«И бысть сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от мечевых ударов, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылся он кровью» — так впоследствии напишет о страшном побоище на льду Чудского озера автор Жития Александра Невского.
А вот как видели происходившее на Чудском озере сами немцы:
Войско братьев было… слишком маленьким. Однако они пришли к единому мнению атаковать русских. Немцы начали с ними бой. Русские имели много стрелков, которые мужественно приняли первый натиск, [находясь] перед дружиной князя. Видно было, как отряд братьев одолел стрелков; там был слышен звон мечей, и видно было, как рассекались шлемы. С обеих сторон убитые падали на траву. Те, которые находились в войске братьев, были окружены. Русские имели такую рать, что каждого немца атаковало, пожалуй, шестьдесят человек. Братья достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели. Часть дерптцев вышла из боя, это было их спасением, они вынужденно отступили. Там было убито двадцать братьев, а шесть было взято в плен[71].Используя терминологию Второй мировой войны, немцы, покинутые «чудью», попали в «котел». Эстов, сумевших пробиться из окружения, новгородцы преследовали до противоположного берега озера, не давая перестроиться и контратаковать. Орденское войско стояло до конца и легло на месте.
В тот день Орден постигло тяжелое поражение. Судя по русским источникам, пало 400 одних только немецких воинов и еще 50 оказалось в плену. Не рыцарей, хотелось бы подчеркнуть, а просто немецких ратников, то есть и оруженосцев, и «кнехтов»-горожан из числа колонистов. Сколько полегло представителей покоренных немцами народов, определить невозможно. Причем летопись четко указывает: немцев в основном перебили, а «чудь» (эстов) гнали семь верст, но часть все-таки ушла. Очевидно, тем немногочисленным «дерптцам», которые, по словам «Рифмованной хроники», «вышли из боя», удалось скрыться в окружении огромных толп эстов.
Победитель всегда имеет склонность преувеличивать свои достижения, точно так же как и побежденный — преуменьшать свое поражение. Однако немецкие источники подтверждают факт разгрома: одних только рыцарей-«братьев» полегло два десятка, а шестеро оказались в русском плену[72]. Следовательно, ударный кулак неприятельской армии был раздроблен.
Пленников прогнали босыми и со связанными руками по льду. Немцев не столько терзали, сколько позорили, накрепко вбивая страх перед Русью. Войско победителей, тяжело нагруженное добычей, отягощенное полоном, медленно двинулось во Псков.
Видя псковичей, торжественно встречающих рать, князь сказал им: «Аще кто напоследи (впоследствии. — Д. В.) моих племенник (родственников. — Д. В.) прибежит кто в печали или так приедет к вам пожити, а не примете, ни почестете его акы князя, то будете окааини и наречетася вторая жидова, распеншеи Христа». В его словах содержится упрек: родню Александра Ярославича, а особенно его отца здесь недолюбливали. И князь призывал псковичей переменить такое отношение, помня о его заслугах перед городом.
Ледовое побоище решило исход большой войны. Орден вынужденно отправил в Новгород посольство во главе с Андреасом фон Стирландом; тот заключил мир, отказавшись от всех прежде завоеванных новгородских и псковских территорий. Собственно, оттуда рыцарей уже вышибли вооруженной рукой… Тогда же договорились о размене пленными.
В среде современных исторических публицистов искусственно поддерживается миф, согласно которому сражения, которыми прославился князь Александр, были столь ничтожны, что в западных хрониках они даже не упоминаются.
Эта идея родилась из чистого невежества. Битва на Чудском озере отражена в немецких источниках, например, в той же «Старшей Ливонской рифмованной хронике». Выше приводились обширные выдержки из нее. Известия о битве 1242 года есть и в более поздних немецких хрониках, вплоть до XVI века.
Основываясь на свидетельствах «Старшей Ливонской рифмованной хроники», отдельные историки говорят о незначительном масштабе сражения, ведь там сообщается о гибели «всего-то» двадцати рыцарей. Но здесь важно понять, что речь идет именно о «братьях»-рыцарях, выполнявших роль главной ударной силы. О потерях же среди их оруженосцев, кнехтов и набранных в войско представителей балтийских племен там не говорится ничего.
Что касается Невской битвы, то она действительно не нашла отражения в шведских хрониках. Но, по мнению И. П. Шаскольского, крупнейшего российского специалиста по истории Балтийского региона в Средние века, «этому не следует удивляться. В средневековой Швеции до начала XIV века не было создано крупных повествовательных сочинений по истории страны типа русских летописей и больших западноевропейских хроник». Иными словами, следы Невской битвы у шведов и искать-то негде.
На этом стоит остановиться подробнее. Историю Швеции середины XIII века излагает рифмованная «Хроника Эрика», созданная в XIV столетии. Так вот, на весь период с 1229 по 1250 год там отведено около сотни коротких стихотворных строк. Из всех шведских походов за пределы страны в хронике рассказано лишь об одном — Тавастландском. За два десятилетия! И даже это краткое изложение изобилует ошибками. Искать там битву на Неве просто смешно. Письменная культура шведов того времени столь скудна, столь бесхитростна, что из нее легко выпадают целые пласты их собственной истории.
Этими двумя сражениями — на Неве и Чудском озере — борьба за господство в Прибалтике и на землях Северо-Западной Руси отнюдь не ограничилась.
Ярославу Всеволодовичу и Александру Невскому нередко приходилось отбивать набеги литовцев, а в 1239 году русское войско изгнало из Смоленска обосновавшегося там литовского князя.
В 1245 году литва ворвалась на русские земли близ Торжка. Тамошний князь вышел биться с захватчиками, но потерпел поражение. Затем прибыл Александр Ярославич с новгородской ратью, отобрал весь полон и положил в ожесточенной схватке восемь литовских князьков. Новгородцы вскоре ушли, и князю с одной лишь собственной дружиной пришлось добивать литовские отряды, расползшиеся по приграничной области.
Позднее литва еще неоднократно совершала набеги на Новгородчину. Литовские отряды приходили чаще любых других неприятелей, жалили беспощадно и уходили, набрав пленников. Время от времени их громили, истребляли, но когда сил не хватало, литва уходила безнаказанно. Этот враг проявлял наибольшее упорство и наибольший пыл — ни немцы, ни шведы сравниться с ним не могли.
Папа Римский Иннокентий IV дважды обращался к Александру Ярославичу с предложением подчиниться папскому престолу, перейти в католичество и увидеть в Тевтонском ордене союзника в борьбе с татарами. Для начала требовалось построить католический Храм во Пскове. Князь, видимо, дал какие-то обещания, желая создать у римского первосвященника иллюзию успеха. Надо полагать, Александр Ярославич надеялся подобным способом хотя бы на время ослабить натиск на границы Северной Руси. Ни к каким практическим шагам переговоры не привели. Католичество не продвинулось у нас ни на пядь.
В 1253 году ливонские рыцари опять напали на земли Пскова. В Псковской земле сохранялась, по всей видимости, значительная партия, ориентировавшаяся на союз с немцами; порой псковичи вместе с орденскими рыцарями противостояли усиливавшимся набегам литовских князей… Однако в тот момент агрессивные намерения немцев стали очевидны. Рыцари сожгли псковский посад, но взять город не смогли и несли у его стен тяжелые потери. Явилось новгородское войско. Оно сняло осаду, а затем перешло реку Нарову, вторглось на территорию, подвластную Ордену, «и сотвориша волость их пусту».
В 1256 году в наступление на Новгород пошли шведы и датчане. Им удалось укрепиться на восточном берегу реки Наровы, основать там крепость. Но приближение русских дружин заставило их отступить. Вскоре последовал ответный удар. Полки Александра Невского совершили тяжелейший переход по льду Финского залива и вонзились вглубь шведских владений в Финляндии, прошлись по территории враждебной еми. Впоследствии папа Александр VI писал об этом походе, что русские и карелы напали на шведов и убили «многих из его (короля. — Д. В.) верноподданных, обильно пролили кровь, много усадеб и земель предали огню», а финнов «привлекли на свою сторону». Русская летопись коротко сообщает: «Поехал князь Олександр на емь с суздальцы и новгородци. И емь победи. И много полона приведе. И приеха с честью в свою отчину».
Хроника великой войны на северных рубежах Руси в середине XIII века напоминает раскаленную печь, в которую непрерывно подбрасывают сухие дрова, чтобы пламя не утихало.
Александра Ярославича нередко укоряют в том, что он обращал оружие только против Запада. А Запад-де не представлял угрозы для России того времени, в отличие от Орды, которую князь Александр использовал исключительно «для усиления личной власти».
Всё это, разумеется, пронизано идеологией Нового времени и к Средневековью никакого отношения не имеет. Вряд ли в XIII столетии можно говорить о «едином Западе». Возможно, правильнее было бы говорить о мире католицизма, но и он в целокупности был очень пестр, разнороден и раздроблен. Руси реально угрожал не «Запад», а Тевтонский орден, а также шведские завоеватели. И разбивали их на русской территории, а не дома в Германии или Швеции, и, стало быть, угроза, исходящая от них, являлась вполне реальной. Мудрено увидеть в тевтонских рыцарях союзника для противостояния татарам — они в большей степени интересовались не ордынской проблемой, а захватом Пскова и приграничных областей Новгородчины.
Существует миф: «повернув» к Востоку, а не к Западу, князь Александр заложил основы будущего разгула деспотизма в стране. Его контакты с монголами сделали Русь «азиатской державой».
Это уже и вовсе беспочвенная публицистика. С Ордой общались тогда все русские князья. После 1240 года у них был выбор: умереть самим и подвергнуть новому разорению Русь или выжить и подготовить страну к новым битвам, а в конечном итоге к освобождению. Кто-то очертя голову ринулся в бой, но 90 процентов наших князей второй половины XIII века избрали иной путь. И тут Александр Невский ничем не отличается от подавляющего большинства русских государей того периода.
Что касается «азиатской державы», то сегодня звучат разные точки зрения на сей счет. Правда же состоит в том, что Русь никогда ею не сделалась. Она не являлась и не является частью Европы или Азии либо чем-то вроде смеси, где европейское и азиатское принимает разные пропорции в зависимости от обстоятельств. Русь представляет собой культурнополитическую суть, резко отличную и от Европы, и от Азии. Точно так же как православие не является ни католицизмом, ни исламом, ни буддизмом, ни какой-либо иной конфессией, ни их смесью.
В 1246 году, возвращаясь на Русь из поездки в Каракорум, к правителю великой империи монголов, умер князь Ярослав Всеволодович[73]. Тогда и его сыну Александру пришлось первый раз «поехать в татары». Визитом к Батыю его мытарства не закончились. Пришлось отправляться в Каракорум. Вернулся князь, по разным свидетельствам, лишь в 1249-м или даже 1250 году, и «бысть радость велика в Новегороде». Вместе с ним возвратился и брат Андрей.
Источники глухо доносят до нас отголоски борьбы за великокняжеский престол, разгоревшейся после кончины Ярослава. Недолгое время в стольном граде Владимире удерживался дядя Александра Невского — князь Святослав Всеволодович. Затем великим князем стал младший брат Александра, Михаил Хоробрит. Потом другой младший брат, Андрей. К верховной власти он пришел не по старшинству, минуя нескольких претендентов, которые имели больше прав на престол. Пока Андрей распоряжался во Владимире, Александр, получивший от монголов княжение в Киеве и Новгороде, планировал наладить дела в далеком Киеве. Но там царили разор и безлюдье, так что планам его не суждено было осуществиться. К тому же в 1251 году его настигла тяжелая болезнь, от которой князь едва не скончался. Выздоровев, он отправился к хану — добиваться великого княжения на всей Руси. Выслушав Александра Ярославича, татары его отпустили «с честию великою, давши ему старейшинство во всей братьи его». К тому времени младший брат успел сделать непоправимую ошибку. Андрей Ярославич не умел уживаться с ордынцами и отказался служить хану. А значит, и выплачивать дань.
Прежде рассказа о том, что произошло после этого его шага, следует сделать важное отступление. Монголо-татарское иго часто воспринимают как сплошное мирное время от нашествия Батыя до битвы на поле Куликовом. Это совсем не так. В 140-летнем промежутке от первого события до второго уместились десятки жестоких столкновений между русскими и ордынцами. И сколько было нанесено по Руси ударов, иногда более сокрушительных, чем во времена Батыя! Каждое новое вторжение оставалось в народной памяти: «Неврюева рать», «Дюденева рать», «Ахмылова рать», «Федорчукова рать»… за каждым таким словосочетанием — горящие города, тысячи убитых и угнанных на чужбину русских.
Так вот, в 1252 году на Владимирскую Русь за непокорство и строптивость великого князя Андрея Ярославича и его брата Ярослава обрушились татарские тумены под командованием полководца Неврюя. Полки двух братьев были разгромлены в жестоком бою у Переяславля-Залесского, а сам великий князь бежал в Швецию, откуда вернулся лишь несколько лет спустя. Ярослава Ярославича приютила Ладога, а затем Псков. Погибли его супруга и воевода Жидислав. Земля же испытала новое разорение: ордынцы угнали множество пленников, забрали у крестьян скот.
Андрей Ярославич, таким образом, в безрассудстве и молодечестве положил русские рати без пользы. Он как будто претендовал на роль скорого губителя Руси…
Когда Русь исходила кровью от «Неврюевой рати», Александр Невский находился в Орде и не оказал братьям никакой поддержки. В те времена не существовало единой Руси. И братья являлись независимыми властителями в своих землях. Один из них, ранее несправедливо поступив по отношению к другому, вряд ли мог рассчитывать на подмогу от него в трудный час…
Историки, настроенные к Александру Невскому недоброжелательно, обвиняли князя в том, что он способствовал отправке карательной рати против младшего брата. Однако по сию пору никто не привел сколько-нибудь серьезных доказательств этой гипотезы.
После бегства Андрея, в 1252 году, Александр Ярославич стал великим князем. Он княжил более десяти лет, до самой своей смерти. Одной рукой ему приходилось отбиваться от западных соседей, другой — улещивать ордынцев, отводя опасность новых набегов и удерживая в повиновении младших князей.
Самой тяжелой и, как сейчас говорят, «непопулярной» задачей его правления стало — обеспечить правильное налогообложение в пользу Орды. Только так Александр мог избавить Русь от новой «Неврюевой рати». Но именно тот город, который более всего обязан его воинской доблести, хуже всего отнесся к перспективе платить ордынцам дань.
Заняв великое княжение, Александр Ярославич дал новгородцам юного сына Василия, как поступал когда-то его собственный отец. Василий честно дрался за Новгород с литвой и одержал победу. Но вече выгнало его. Вместо Василия новгородцы позвали к себе младшего брата Александра Ярославича — князя Ярослава, укрывавшегося от татарского гнева во Пскове. Разумеется, им хотелось отдать правление городом в руки взрослого мужа, а не отрока. Ярослав был старше Василия на полтора десятилетия, имел опыт боевых действий, хотя и неудачный. Великий князь разгневался: совсем недавно младший брат участвовал в антиордынском восстании, и его нынешнее княжение на Новгородчине для татар — словно красная тряпка для быка! Александр Ярославич явился с полками, принудил вечевую республику вернуть Василия и расстаться с Ярославом. Он также утвердил в городе власть своего ставленника — посадника Михалки. 1257 год принес черную весть: «низовская» Русь (Рязань, Владимир, Суздаль, Муром и т. п.) дала ордынцам «число». Иными словами, позволила собрать сведения для налогообложения[74]. Вслед за ними пришел черед Новгорода. Здешнее население, незнакомое с кошмаром ордынских набегов, не завоеванное монголо-татарами, не терпевшее власти их представителей-баскаков, возмутилось. Древняя новгородская вольница не допускала мысли о подобном унижении. Посадник Михалко приступил к горожанам с уговорами, но его не захотели слушать. Верный слуга князю Александру, он жизнью расплатился за попытки склонить Новгород к общерусскому порядку. Более того, сам князь Василий, княжич-отрок, поставленный на этот стол отцом, то ли убоялся поддержать его требование, то ли испытал сочувствие к новгородцам. Он просто ушел во Псков.
Тогда к Новгороду двинулся сам Александр Ярославич с «послами татарскими». Он не раз спасал эту землю от чужеземной власти. Но теперь гневу князя не было границ. Он-то видел, как гибла Русь под татарскими мечами, как великие полки в битвах с огромным войском ордынцев ложились, словно скошенные колосья, — видел не раз, не два и не три. И он, как никто другой, понимал: если дать волю новгородской вольности, карательная рать прибудет к стенам города незамедлительно. И ничего не останется ни от богатств Новгорода, ни от его гордыни. Полягут те смельчаки, коим теперь так мило рвать глотки на вече, в отдалении от смертоносных туменов.
Смирив Новгород, Александр Невский спас его.
Пришлось применить свирепые меры «убеждения». Колеблющийся, сомневающийся княжич Василий немедленно отправился на Владимирщину, а те, кто давал ему советы, жестоко поплатились: «овому носа урезаша, а иному очи выимаша, кто Василья на зло повел». С новгородцами, увидевшими силу, князь договорился миром, дал им другого сына — Дмитрия и получил от них дары для хана.
Полтора года спустя Александр Ярославич все-таки заставил горделивых вечевиков «дать число». Им пригрозили: «Аже не иметеся по число, то уже полкы на Низовской земле». И новгородцы покорились. Когда к ним приехали татарские «численники», город полыхнул было новым мятежом. «Меньшие» люди решили: «Умрем честно за Святую Софию и за домы ангельские». Но им противустало местное боярство: знать лучше понимала, чем грозит городу неповиновение. Численники получили охрану. «И почаша ездити оканьнии по улицам, пишучи домы християньскыя». Так Новгород превратился в данника Орды… Горько, грустно. Но прежде всего город остался цел. Головешки Новгорода — куда более печальный вариант развития событий, нежели Новгород, согласившийся платить татарские налоги…
Силы для отпора монгольской власти копились исподволь, под прикрытием безоговорочного подчинения ханам. В начале 60-х годов XIII века подошло время для пробного удара. В городах Северо-Восточной Руси бесчинствовали откупщики даней — магометане (бухарцы или выходцы из Волжской Булгарии), названные в источниках «бесерменами». От их поборов русские испытывали, как сказано в летописи, «лютое томление». В Ярославле у представителя ордынцев Кутлубия служил некий приспешник — бывший монах Зосима (Изосима), перешедший в ислам «пьяница» и «кощунник», особенно свирепствовавший вместе со своим хозяином. Однако ордынская власть над Русью в те годы заколебалась: между ханами начались кровавые распри, затянувшиеся на несколько лет. Именно тогда, в 1262 году, и вспыхнуло восстание, разом охватившее огромную территорию. В Ростове, Суздале, Владимире, Ярославле, Переяславле-Залесском и Устюге Великом «бысть вече», и Бог «вложи ярость хрестьяном во сердце». Откупщиков перебили или изгнали из городов, Кутлубий и Зосима также погибли, а тела их ярославцы «повергоша псом на снедение», то есть бросили на корм «псам и воронам».
О поддержке, которую оказал восставшим Александр Невский (если не о координирующей роли князя), свидетельствует строка в Устюжской летописи, где сообщается о посылке от его имени грамот, «что татар бити». В других летописях это сообщение отсутствует, поэтому историки относятся к нему с большой осторожностью.
В том же году по соглашению между русскими князьями было собрано общее войско, включавшее княжеский «великий полк», новгородский сводный полк, витебский, тверской, полоцкий полки и литовскую дружину в 500 человек. Эта армия могла достойно встретить ордынское нашествие[75].
Но в Орду отправился один великий князь «за христианы с погаными… перемогаться», вымаливать мир своей земле. То ли благодаря его усилиям, то ли из-за напряженной внешнеполитической ситуации, то ли ожидая встретить на Руси серьезное сопротивление, золотоордынский хан Берке не стал посылать карательную экспедицию. По одной из версий, Берке даже был заинтересован в изгнании откупщиков из русских городов, поскольку доход от откупов шел не ему непосредственно, а великому хану в далекую Монголию… Однако его вряд ли устраивало усиление одного из русских князей. В этом виделась излишняя, с ордынской точки зрения, самостоятельность «улуса». Александр Ярославич был надолго задержан им. На обратной дороге князь заболел, а возможно, его отравили. 14 ноября 1263 года, приняв схиму, он окончил земной путь в Городце.
Митрополит Кирилл так сказал о кончине великого защитника Руси: «Зашло солнце земли Русской!»
Великий князь Александр Ярославич канонизирован Русской православной церковью. Главные дни его поминовения приходятся на 30 августа и 23 ноября.
Тело его покоилось во владимирском Богородице-Рождественском монастыре. Петр I велел перевезти мощи Александра Невского в новую столицу. На протяжении 1723–1724 годов они хранились в Шлиссельбурге, а затем нашли окончательное пристанище. Им стала петербургская Александро-Невская обитель. Большевики вскрывали и увозили мощи, но на закате их власти мощи святого благоверного князя вернулись назад.
Императрица Екатерина ввела орден Святого Александра Невского в наградную систему Российской империи. Он предназначался для генералитета, высших сановников гражданской и придворной службы. 1917 год прервал историю его существования. Летом 1942 года советское правительство учредило орден Александра Невского, предназначенный для вручения командирам дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов. В наградной системе Российской Федерации он сохранился и является «действующим», однако всякую связь с воинской сферой утратил.
ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ Хозяин города
В 2003 году исполнилось 700 лет со дня смерти святого благоверного князя Даниила Александровича, основателя Московского княжеского дома. Тихий, мало кем замеченный юбилей. Этот человек не слишком известен в наши времена. Но для истории России, и особенно для истории русской столицы, он представляет собой одну из важнейших, ключевых фигур. Именно Даниил Александрович заложил фундамент московского доминирования в судьбе нашей страны. Именно ему прежде всех прочих государей великий город обязан своим блистательным возвышением. В то же время он был добрым и благочестивым человеком.
Волга вытекает из маленького источника и долго течет по Тверской земле, ничуть не выделяясь шириной и полноводностью среди прочих рек. И лишь через тысячи километров от истока она становится великой рекой. Так же было и с Россией. В «верховьях» колоссальной державы, поднявшейся во второй половине XV века, стоит небольшой деревянный городок Москва, форпост на окраине Владимиро-Суздальского княжества. Истоки московской мощи теряются в темных дебрях XII–XIII столетий — времени не самого благополучного для Руси и не самого мирного.
Москва загадочна.
Почему — Москва? Сейчас это мегаполис, один из самых знаменитых городов мира, столица колоссальной страны. Но почему именно она приняла на себя роль царицы русских городов и земель? Отчего не Тверь, не Великий Новгород, не Владимир, не Ростов, не Суздаль? Все они, помимо разве только Твери, намного превосходят Москву древностью, все они сделались богаты, когда о Москве и помину не было, все они успели примерить венец княжеского стольного города задолго до того, как в Москве появился собственный князь…
Первые полтора века своей истории Москва пребывала в ничтожестве. Богатое княжеское село. Затем маленький опорный пункт, выставленный владимиро-суздальскими князьями против Рязани, будто слабая карта, выложенная на стол в игре с большими ставками. Очень долго Москва творила себя, но осмыслить себя даже не пыталась. Высокоумные книжники заведутся тут лет через двести после того, как «град Москов» вообще начали замечать. Большую часть этого времени тут не вели собственных летописей. А потому от глубочайшей древности московской остались лишь смутные предания да те отрывочные свидетельства, которые оставляли соседи — те, кто свое летописание завел давным-давно. И правду сказать, то ли предания московского архея дошли, передаваясь из уст в уста, через много поколений до эпохи книжной, а тогда уже были записаны, то ли московские средневековые интеллектуалы сами домыслили прекрасные легенды о рождении великого града в лесной колыбели.
Будто бы в чащобах, стоявших когда-то на месте Белокаменной, отшельничали святые люди и охотились князья. Некий мифический князь Даниил Иванович столкнулся в охотничьих угодьях со странным созданием («зверь треглав, пестр пестринами, пречуден, красив»). «Пестринами» называли пятна. Суть их обилия, равно как и тайный смысл триглавия разъяснил Даниилу Ивановичу заезжий грек Василий: «На сем месте созиждется град превелик и распространится царствие треугольное», которое наполнится людьми от многих народов. Следуя за сим изысканным творением Бога, князь добрался до отшельничьих хижин, полюбил глухую, но прекрасную местность и начал тут большое строительство. В иных легендах обошлось без пестрого триглавца. Там больше страстей, грехов, большой политики. Мешанина из действительных исторических фактов, судеб великих персон, живших в XII, XIII и XIV столетиях, а также буйной фантазии, служившей связующим раствором везде, где время отгрызло вершки и корешки от истинных сюжетов, предстает в виде романтической истории князей Суздальского дома, борющихся с местным норовистым боярством. Мелькают имена князей Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Даниила Московского, княгини Улиты, бояр из рода Кучковичей. Уязвленная блудной похотью Улита натравливает юных любовников Кучковичей на своего супруга Даниила. Тот подвергается нападению лютых врагов на охоте и прячется от них в «срубце» — погребальном домике, предназначенном для упокоения другого человека. Там князь лежит рядом с мертвым телом, хоронясь от погони. Но убийцы находят его, пустив по следу любимого княжеского пса. Открыв его убежище, душегубы поднимают несчастного князя на копья… Впоследствии их, конечно, казнят, а «красные села», им принадлежавшие, становятся владением княжеского рода. Тут и возникает Москва.
Правду здесь очень трудно отделить от выдумки.
Действительно, на землях, где сейчас раскинулась Москва, в древности обитали племена, имевшие обыкновение помещать останки мертвецов в странного вида бревенчатые домики.
Действительно, бояре Кучковичи являлись упорными и беспощадными противниками Суздальского княжеского рода. Тот же князь Андрей Боголюбский погиб от заговора, в котором они принимали участие.
Действительно, недалеко от Боровицкого холма располагалась местность «Кучково поле», а сам город иногда называли «Кучковым». Значит, есть очень большая вероятность того, что в незапамятные времена лесистое междуречье Москвы и Яузы оказалось вотчиной боярина Кучки (или Кучка), а потом его детей.
Действительно, князья московские обрели на своей земле богатейшие охотничьи угодья и славились неистовой страстью к охоте. В Москве при Иване Великом святой Трифон явил «чудо о соколе» — помог отыскать драгоценную охотничью птицу, упущенную сокольничим. Поэтому в русской традиции его изображают с соколом в руке. В память о чуде святого Трифона воздвигнута одна из древнейших церквей Москвы — Трифоновский храм в Напрудном (последняя четверть XV века). В белых кречетах, как видно, на заре Московского государства вообще видели какую-то мистическую силу. И, возможно, — символ правящей династии. Соколиная охота всегда представляла собой аристократическое развлечение, способ времяпровождения для людей, относящихся к сливкам благородного сословия. Утверждая высоту своего рода, московские князья велят изображать на монетах человека с соколом в руке. Чаще всего — всадника. Такое изображение отыскивается еще на монетах великого князя Василия I (1389–1425). Возможно, бывало оно и на монетах Дмитрия Донского — их сохранилось не столь уж много, рисунок разобрать порой весьма трудно. Но это уже из области предположений. А раньше великого князя Дмитрия Ивановича никто на Москве не чеканил собственной монеты. Возможно, человек с охотничьей птицей в руке являлся символом Московского княжеского дома от его основания, и лишь потом на смену ему пришел «ездец» — всадник с копьем.
Но.
Князья Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский жили в середине — второй половине XII века, а Даниил Московский, о котором еще пойдет речь, правил городом в конце XIII — самом начале XIV. Не перешагнуть ему во времена отдаленных предков… По отчеству был он Александрович, а не Иванович. Предания по-разному именуют князя, ставшего жертвой заговора: то Андрей, то Даниил. Убили князя Андрея в Боголюбове, а не в чащобах московских. С жизнью он расстался через много лет после того, как на Боровицком холме появилась первая крепость. Что же касается Даниила Московского, то он и вовсе ушел на суд Господний мирно.
Народная память всё путает, всё мешает. Истина и ложь сплавляются ею в нерасторжимое единство. Сюжеты для нее важны, притчи о страстях и прегрешениях, а имена людей и обозначения дат могут «подставляться» в эти сюжеты с необыкновенной произвольностью. Всё, что относится к сиюминутному, невоспроизводимому, не имеющему никакого касательства к вечному повторению судеб, — лишено особенного значения. Мелочи, детали. Заменить одну на другую — грех невеликий. Лишь генеральный смысл истории истинно ценен.
Так вот: смутные, расплывчатые образы, сбереженные памятью людской, сообщают о борьбе и трагедии, легших в фундамент великого города. Пролилась кровь; зло было наказано; восторжествовала справедливость. Лишь после того ударили топоры «градодельцев». Москва вырастает из истории о разоблаченном и поверженном злодействе. Символ ее начала — победившая правда.
Но это — предания, образы. Что известно доподлинно?
Крупицы, самая малость.
Князь Суздальский Юрий Владимирович, прозванный Долгоруким, пирует тут со своим союзником — новгород-северским князем Святославом Ольговичем, а девять лет спустя велит поставить первый московский кремль на Боровицком холме. Эта деревянная крепостица превратила захолустное селение в город и… стоила ему чрезвычайно дорого. Раз город, значит — воин. А воин всегда заметнее пахаря, бортника или охотника. Он не скроется в тиши лесов, ему предназначено стоять на охране рубежей. И он, проиграв битву, падет…
Первыми Москву спалили не татары и не поляки, а ближайшие соседи. Рязанский князь Глеб осенью 1177 года подступил с дружиной к городу, сжег его, а потом предал огню близлежащие села. Тяготы кровавого междоусобия еще не раз посетят Москву. И по прошествии многих столетий правители города выработают у себя привычку — уничтожать любую мятежность безжалостно и наверняка. Москва, жестоко страдавшая от своих же, русских людей, впоследствии избавит всю страну от «вольностей», покупавшихся огнем и мечом. Иначе говоря, истреблением соседей и ограблением их земель… Что ж, город выстрадал это право.
Но города-воины имеют право на вторую жизнь, а то и на третью, четвертую… Так и Москва. Она возрождалась из пепла многое множество раз.
И после рязанцев. И после татар, впервые погубивших город в 1238 году. И после поляков, которые спалят ее в 1611-м.
Хорошее место. Река богата рыбой, лес — зверем, птицей да еще медом диких пчел. Земля плодородна. А большие беды, сламывавшие судьбы городов древних и великих, иной раз обходили стороной московскую глухомань. Люди возвращались раз за разом на пепелища, брались за плотницкий нехитрый инструмент, ставили новые хоромы, новые церкви, новые кремли. Жизнь побеждала. Москва — место, где из земли бьет наружу невидимый, но сильный источник жизни. Тут люди энергичны, упрямы, разворотисты и отважны, тут всё скоро плодится, тут быстро заживают самые глубокие раны.
Может, здесь-то и надо искать причину удивительного возвышения Москвы? Не в каких-то великих торговых маршрутах, якобы шедших через земли московские, — тут купеческих «магистралей» в древности вовсе не проходило. И не в лесах, якобы закрывавших город от чужеземных нашествий, — ничего они не закрыли ни от рязанцев, ни от татар. Проще: возлюбил Бог место красивое, дал ему богатство, за то и держались этого места насельники. А когда явился татарин с арканом и луком, больше досталось золотым градам на торных дорогах, меньше — малым их сородичам, милой Господу чащобе.
Москву сызмальства мало били. Били, конечно, жгли, грабили, но не смертным боем. Не как Киев и не как Владимир. Москве повезло. До нее очередь не дошла — быть раздавленной. Мелка мошка, да цела.
«Если есть охота представить столицу такой, какой была она в самом начале, — пишет современный историк А. В. Лaушкин, — поезжайте в подмосковный Звенигород, ровесник Москвы. Его древнейшая часть — Городок — расположилась на высоком холме. Под холмом вьется Москва-река. С Городка открывается дивный вид на просторные луга и дремучие леса за рекой. Посередине городища возвышается Успенский собор. Построенный в конце XIV века, он сохраняет черты владимиро-суздальской архитектуры XII–XIII веков… Такими же когда-то были окрестности Боровицкого холма, где впоследствии вырос Московский Кремль… Город поначалу был невелик. Там, где сейчас шумят бегущие от Красной площади улицы Китай-города — суетливая Никольская и чопорная Ильинка, — в конце XII века еще зрела волнуемая ветрами рожь да бегали промышлявшие на московских огородах зайцы из ближнего леса. Молодая Москва только начинала свой путь в неведомую даль времен».
Юность Москвы смолиста. Она прошла в сосновом раю. Один бор вставал за другим, если подняться на Боровицкий холм и оглядеть открывающиеся дали. И сам-то холм этот, как видно по названию, издревле был покрыт бором. Меж лесами открывались пряди неспешных, равнинных рек, разметавшихся по глухому болотистому краю, словно волосы красавицы, задремавшей на поляне. Заливные луга и косогоры обрамляли их неторопливый бег. Плыл над ними запах смолы, хвои, цветущих трав.
Аромат смолы усиливался, когда падали под ударами плотников великаны, зачарованные собственным отражением на речной глади. И зло шипела смола, когда пылали кремлевские стены, подожженные неприятельской рукой…
XII и XIII века приводили в Москву разных князей. Но все они видели в этой лесной дурнушке временное благо, не более того. Пересидеть на Боровицком холме скорбные коленца судьбы, дождаться более выгодных обстоятельств да улететь из сосновой обители на поиски солидной добычи — вот мысли и действия древнейших князей московских. Они тут больше гостили, чем княжили.
От начала Руси на протяжении многих веков князья наши были подобны стае ворон: перелетали с гнезда на гнездо, отыскивая для себя удел побогаче, клевали друг друга, не в силах смириться с богатством соседей, а когда самое уютное гнездо — великокняжеский стол — оказывалось вакантным, вся огромная стая с карканьем поднималась в воздух, устраивала побоище и вновь «переделивала» гнездовья. Кого интересовал укрепленный пункт в лесной глуши — Москва? Князья, которым доставалась эта земля, надолго тут не задерживались, отыскивая более почетные и богатые княжеские города.
Первая действительно крупная историческая фигура в московской истории, человек, способствовавший превращению «ручейка» в «реку», — князь Даниил Александрович (1261–1303). У него на глазах и отчасти его усилиями одна эпоха в судьбе Руси ушла в прошлое и сменилась совершенно другой. Его державная манера во многом определила стиль всей будущей московской политики.
В конце XIII столетия незавидный московский удел достался ему, младшему сыну Александра Невского. Его поставили княжить на Москве в младенческом возрасте. Лишь с 1277 года он — действительный полноправный властитель. Княжение Даниила принесло громадную перемену. Собственно, именно при нем и появилось Московское княжество как постоянно существующая, а не эфемерная политическая реальность.
Вся Северо-Восточная Русь тогда была страшно разорена Батыевым нашествием, данями и карательными экспедициями ордынцев. Старые города не могли дать ни прежнего почета, ни прежних доходов, ни прежней ратной силы. Люди уходили оттуда на запад — прежде всего в Тверь и Москву. Именно там набухали новые центры силы. Но старшие родичи Даниила Александровича, в том числе его братья, всё еще пытались играть в старинную «воронью игру». Стольный город Владимир манил их призрачной древней славой, землями, с которых еще можно было выжать кое-какие средства, а также формальным старшинством, положенным великому князю Владимирскому над прочими князьями.
Даниил Московский избрал иную политику. Он прежде всего был рачительным хозяином Московского края. Впоследствии его многие так и называли: «Хозяин Москвы». Он смиренно довольствовался той землей, которую Господь отдал ему под руку, не делал попыток сменить доставшееся ему княжение на другое, но упорно старался расширить владения, понемногу приобретая соседние города. В наши дни историки назовут эту стратегию «тихой экспансией». Очень точно! Пока братья Александровичи истощали силы в междоусобицах, водили на Русь ордынские рати, ссорились из-за великого княжения, Даниил тихо умножал собственное достояние. На этой стезе он и проявил свой политический дар.
Удачно выбрав союзников, он присоединил к Москве Можайск. Предположительно при нем же власть московского князя распространилась и на Дмитров[76]. Самым удачным приобретением князя стал Переяславль-Залесский.
Ради того, чтобы получить этот богатый город, Даниил Александрович пошел на сложную политическую комбинацию. Новгородцы, нуждавшиеся в князе — защитнике с сильной дружиной, предложили ему власть над городом. Это сулило значительные выгоды: Новгород обыкновенно принадлежал великому князю, старшему на Руси, поэтому княжение в нем считалось весьма почетным. За него боролись и даже вели настоящие войны. Теперь великие доходы от тамошнего княжения достались московскому князю и какое-то время обогащали его землю. Но Даниил Александрович совершил неожиданный и очень характерный для его политического почерка шаг: он уступил Новгородское княжение своему племяннику Ивану Переяславскому — и взамен приобрел прочный союз с ним. А впоследствии бездетный князь Иван завещал Переяславль-Залесский дяде. Конечно, нашлись охотники оспорить завещание, но Москва сумела защитить новое приобретение и дипломатическими методами, и вооруженной рукой.
Вместе с тем князь Даниил не был сторонником междоусобных браней. Он, бывало, выходил с полками, но предпочитал заключить мир. Русской земле, разоренной, обезлюдевшей, каждое новое пролитие крови стоило исключительно дорого… Московский князь очень хорошо понимал это, а потому воздерживался от братоубийственных столкновений. Видимо, именно от Даниила Александровича унаследовали эту нелюбовь к войнам большинство потомков — князей Московского дома. Общая их черта — уповать в большей степени не на военную силу, а на интригу и дипломатию. Они боролись за расширение Московского княжества хитростью, удачными «куплями» новых земель, выбором сильных союзников, а в поход снаряжались лишь по крайней необходимости. При всем том «свое» Даниловичи обороняли до последнего и если теряли что-нибудь, то впоследствии непременно возвращали.
От Даниила Александровича пошла династия людей сильных, упрямых, прижимистых хозяев, искусных дипломатов. Тут что ни личность, то яркий человек. Лучшие из Даниловичей предпочитали точный расчет пустому ухарству, умели выждать и нанести удар в наивыигрышных обстоятельствах, отыскивали наилучших помощников для осуществления своих планов, разумно использовали чужую силу себе на благо. Как прирожденные шахматисты, они играли в большую политику, высчитывая «ходы» на много лет вперед.
Другие княжеские семьи блистали подвигами. Древний дружинный дух, бродивший по Руси с отдаленных языческих веков, далеко еще не рассеялся. Бесшабашная лихость, удальство, богатая добыча и боевая слава милы были сердцу князей и их воинов. Историки особенно любят сравнивать династии тверских и московских князей, мол — вот герои, а вот пошлые скопидомы… Но тверская сила, неразумно растраченная тамошними князьями в боях и восстаниях, безвестно сошла с исторической арены. Московский дом силу не тратил, непрерывно копил… Тверские государи принадлежали к древней породе дружинных вождей, храбрецов и «резвецов», людей рыцарственных, но нерасположенных думать о благе собственных владений. Государи московские, скорее, политики. Личная слава их мало интересовала; для них важнее было процветание семьи и всей земли.
Сила Москвы постепенно росла. Поднималась от Батыева разгрома богатая Московская земля — земля бортников, рыбаков, земледельцев. А голос князя Даниила обретал всё больший вес на княжеских съездах — когда решалась судьба всей Руси Владимирской.
Не обходилось без ошибок. В 1293 году князю Даниилу не удалось спасти свой город от разорения. Ордынцы совершали очередную карательную экспедицию по Руси, грабили и жгли города. Москва как будто была ни в чем не повинна. Однако Даниил союзничал с братом, великим князем Владимирским Дмитрием Александровичем, а тот, в свою очередь, — с ханом Ногаем; в то же самое время соперник Дмитрия, городецкий князь Андрей, взял себе в покровители хана Тохту. Андрей призвал на своих неприятелей татар Тохты, возглавленных братом последнего Туданом (Дюденей русских летописей). Владения Даниила подверглись нападению, поскольку он числился во вражеском лагере. Даниил не предпринимал каких-либо активных действий против Андрея, а потому рассчитывал на милосердное отношение. Скорее всего, князю даже обещали обойтись с городом по-доброму, если он явит знаки покорности. Видимо, надеясь на это, московский государь велел открыть ворота перед ордынской ратью и… поплатился разгромом.
Впрочем, Москве удалось быстро подняться. Урок не был забыт. Историки считают, что около 1300 года Даниил Московский поставил новые, более мощные крепостные стены вокруг города.
У Москвы издавна сложились недобрые отношения с Рязанью. Собственно, прежде Москва служила своего рода козырем, который выставляли владимиро-суздальские князья против неистовых рязанцев. Здесь отлично помнили, как рязанский князь Глеб сжег Москву и окрестные села… Впоследствии возрожденная Москва послужила опорным пунктом для вторжений на Рязанскую землю. Московско-рязанская граница нередко изменялась то в одну, то в другую сторону. При Данииле Александровиче перевес склонился в пользу Москвы.
В 1301 году московские полки под городом Переяславлем-Рязанским нанесли сокрушительное поражение рязанцам и пленили их князя Константина. Сильная московская рать разбила татарский отряд, то ли нанятый Константином, то ли присланный его ордынскими союзниками[77]. Это, пожалуй, самое громкое военное деяние Даниила Александровича. Но важнее военной славы, не особенно ценимой князем, были его политические последствия. Историки полагают, что Коломна, прежде «тянувшая» к Рязани, именно тогда встала «под руку» Москвы. А это был стратегически важный пункт на доске бесконечного противоборства двух городов.
Младший из сыновей Александра Невского получил второстепенный удел, но сумел сделать из бедного лесного городка столицу мощного княжества, одну из ведущих сил всей Руси. В 42 года он скончался, будучи, может быть, самым могущественным из русских государей того времени.
Судьба Даниила Московского не закончилась, когда прервалось его земное существование. При жизни князь был благочестивым человеком и проявлял особенное внимание к нуждам Церкви. Археологи утверждают: именно при Данииле Александровиче в Москве был возведен первый каменный храм. Известно, что князь основывал на своей земле монашеские обители. Из них наибольшую известность приобрел ныне действующий московский Данилов монастырь, патриаршая резиденция (главный храм обители был освящен во имя преподобного Даниила Столпника)[78]. Здесь строитель Московского княжеского дома перед смертью постригся в монахи. Здесь же, в соответствии с завещанием Даниила, его и похоронили — на общем монастырском кладбище, «идеже и прочую братию погребаху». По другой версии, его погребли в кремлевской Михайло-Архангельской церкви.
Церковное предание сохранило рассказы о чудесах, происходивших на могиле князя через два века после его кончины. Однажды он и сам явился над могильным камнем юноше из свиты великого князя Ивана III, своего далекого потомка. 30 августа 1652 года были обретены его мощи, оставшиеся нетленными после трех с половиной столетий пребывания в земле. Их перенесли в храм. Позднее Церковь постановила почитать Даниила как святого. В 20—30-х годах XX века, когда монастырь переживал тяжелые времена, святой Даниил вновь являлся прихожанам и благословлял их. В 1920 году была снесена часовня Даниила Московского на Даниловском Валу, но спустя 78 лет ее восстановили, и сейчас она стоит лучше прежнего — недалеко от станции метро «Тульская».
Близ часовни, на пересечении Люсиновской и Большой Серпуховской улиц, высится десятиметровый памятник Даниилу Александровичу. В левой руке князь держит храм, в правой — меч. На голове его — венец с крестом.
В 2009 году подмосковное Нахабино украсилось церковью, освященной во имя святого Даниила.
Память святого Даниила отмечается Русской православной церковью 4 марта, а память обретения его мощей — 30 августа. На иконах святой благоверный князь Даниил Александрович изображается в монашеском одеянии, поскольку незадолго до кончины он принял иноческий образ. Его считают небесным покровителем и оберегателем Москвы.
Быть может, когда Бог желает прославить какую-нибудь землю, он делает своим орудием человека нешумного, неспособного производить блестящее впечатление геройством или красивыми речами, но искусно делающего назначенную ему работу. Таким и был святой Даниил Московский.
Митрополит Московский Платон в составленном им Житии святого Даниила говорит: «Сей-то первоначальный основатель положил начало нынешнему величию Москвы, проложив для этого тихими стопами только малую стезю. Ибо как и всякое здание, сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а только с большим искусством и старанием, получает особую твердость и нерушимо пребывает долгое время; и как дерево, много веков растущее, начав прежде с малого прутика, понемногу утолщается, и ветви его распространяются далеко окрест, так и граду этому надлежало возрасти от малых, но твердых начал, чтобы первый его блеск не омрачил очи завиствующих и чтобы в первое время не потрястись и не пасть ему скорее, чем оно возросло в свою высоту. Так предуготовил сей великий град основатель, дав ему, хотя малое, но не прерывающееся никаким дуновением ветра сияние, и предоставил большую славу его возвышения своему сыну великому князю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой».
МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ Защитник земли
Великий князь Михаил Ярославич относится к числу тех людей, у кого смертный час, исполненный величием и подвижничеством, на всю судьбу их накладывает благородный отпечаток. Прекрасный образ тверского князя памятен из поколения в поколение, поскольку в эпоху своекорыстия, предательства и душевного ничтожества он явил высоту самопожертвования. Михаил Ярославич отдал жизнь ради сохранения врученной ему Богом земли от гибели и разорения. Какой больший подвиг способен совершить правитель?!
Точная дата рождения Михаила Ярославича не известна. Он появился на свет через несколько месяцев после смерти отца, в самом конце 1271-го или самом начале 1272 года.
Михаил приходился третьим сыном тверскому князю Ярославу Ярославичу, занимавшему также и владимирский великокняжеский престол между 1264 и 1271 годами. В Твери Ярославу Ярославичу наследовал старший сын Святослав. О его правлении почти ничего не известно: конец XIII — начало XIV столетия — «темное время» в русском летописании. Крупицы твердо установленных фактов историкам приходится перемежать с домыслами и догадками. Имя Святослава Ярославича пропадает из летописей между 1282 и 1285 годами. Очевидно, в этом хронологическом промежутке он скончался и его сменил на тверском княжении Михаил. Ни он, ни его старший брат, наследуя Тверь, не получали великого княжения — другие князья боролись за право владеть им.
Тверской же землей Михаил Ярославич начал править в отроческом возрасте. Ранние его деяния позволяют нарисовать портрет государственного деятеля, с юных лет обладавшего большим умом и твердой волей.
Тверь, прежде мало страдавшая от татар, богатевшая волжской торговлей и укреплявшаяся потоками люда, который уходил из менее благополучных областей, к тому времени сделалась мощной силой. Может быть, самой значительной на Руси и уж во всяком случае значительнее Москвы. Молодой князь удачно использовал ресурсы, находившиеся у него под рукой.
В 1285 году он заложил каменный Спасо-Преображенский собор с медными «вратами» и мраморным полом. На такие расходы не решался в ту пору даже богатейший Новгород!
Вскоре большое литовское войско совершило грабительский набег на окраину Тверской земли. Тверичи, соединившись с соседями, догнали и наголову разбили литву.
В 1288 году возобновился старинный конфликт между Тверью и Переяславлем-Залесским. Переяславский князь Дмитрий Александрович занимал тогда великое княжение. Он потребовал от Михаила изъявить покорность; тот воспротивился, и тогда в пределы его княжества вошла армия могучей коалиции: переяславские полки, московские, ростовские, Городецкие… Кашинская волость подверглась опустошению, союзники взяли и город Кснятин, однако потом их движение затормозилось — Михаил Ярославич вышел с тверским войском против них. И, видимо, столь внушительно выглядела тверская сила, что великий князь решил обойтись без сражения. Стороны «сотвориша мир и разыдошася».
В 1293 году на Русь обрушилась карательная рать Дюдени (Тудана). Тверь не пострадала. Более того, она даже стала многолюднее — за счет народных толп, бежавших от ее соседей, разоряемых Туданом. Причина, по которой Тверь избегла ордынского набега, не ясна. Некоторые историки считают, что татары не решились сражаться с изготовившейся к бою тверской силой. Но скорее причина в другом. Михаил Ярославич, ездивший тогда в Орду, вернулся с охранной грамотой от хана Тохты[79], коему изъявил вассальную верность. На следующий год тверичам пришлось расплачиваться за такую защиту: в город явился татарский баскак Тохтамер и учинил «великую тягость». Очевидно, сбор дани сопровождался насилием и угоном в полон тех, кто не мог расплатиться.
На исходе XIII века «великий стол» во Владимире занял человек, которого ненавидела бóльшая часть Руси, — Андрей Александрович, князь Городецкий. Именно он привел воинство Тудана, давя своих соперников ордынской силой. Бедствие было столь ужасающим, что власть Андрея Городецкого воспринималась как власть тьмы, нечто безбожное, мерзкое. Его наместников выгнали из Новгорода. Даниил Московский и Михаил Ярославич оказались на стороне новгородцев. Первого из них вечевая республика пригласила на княжение, последний заключил с ней союз. Попытка Андрея Городецкого захватить Переяславль встретила согласованный отпор со стороны Даниила Московского и Михаила Тверского. В ту пору Тверь и Москва сделались союзниками. Почувствовав совокупную мощь двух молодых многолюдных городов, Андрей Александрович отступил.
В 1294 году Михаил Ярославич женился на княжне Анне, дочери ростовского князя Дмитрия Борисовича. К ее имени нередко добавляют эпитет «Кашинская», хотя Анна Дмитриевна никогда не была кашинской княгиней. В Кашине она провела, в лучшем случае, полтора года и там же скончалась (1368), пережив супруга на 50 лет. От их брака на свет появились четверо сыновей[80], и каждому из них предстояла яркая, насыщенная крупными политическими событиями жизнь. После кончины Михаила Ярославича его вдова оплакала разорение Твери татарами, гибель в Орде двух сыновей и внука, жестокую усобицу в семействе тверских князей, ускорившую гибель третьего сына, а перед смертью увидела величие и унижение последнего, младшего своего отпрыска. Ей перед многим пришлось смиренно склонить голову в нестерпимо долгой жизни… Но Анна Дмитриевна не ожесточилась, а лишь приобрела крепчайшую веру и большое благочестие. Она жертвовала свои земли тверским обителям, а затем сама постриглась во инокини. Предположительно бывшая княгиня стала одной из настоятельниц тверского Афанасьевского (Софьина) монастыря. Скончалась она в другой обители, специально для нее построенной младшим сыном Василием, — Успенском Кашинском монастыре. Житие сообщает о ней: «…И многу посту и воздержанию себе вдавши, кротостию и смирением украшашеся, нищих питая, и странных и убогих повелеваше в дом свой вводите и питати, и сирот, и вдовиц заступая». Впоследствии Русская церковь причислила ее клику святых и в Тверской земле почитание ее расцвело…
На рубеже XIII–XIV веков Михаил Ярославич сделался союзником Андрея Городецкого. У него имелся свой расчет: непутевый союзник мог завещать ему великое княжение. В конечном итоге так и произошло. В 1304 году Андрей Александрович умер, и Михаил Тверской заменил его на великокняжеском столе.
С этого момента начинается жестокое противоборство Москвы и Твери, стоившее обоим городам немало крови. Два сильнейших центра Северо-Восточной Руси должны были столкнуться в борьбе за первенство и, в перспективе, за право стать объединителем русских земель.
Эта борьба велась дипломатическими и военными средствами на протяжении многих лет. То москвичи разобьют тверскую рать, то тверичи осадят Москву. До 1317 года общий перевес — за Тверью. Москва несла территориальные потери.
Михаил Ярославич претендовал на роль единодержавного повелителя Руси. По силе характера, по масштабу мышления он способен был принять на себя такую ношу. Но пристрастие к решению главнейших противоречий вооруженной силой, по-львиному, в открытой борьбе и безо всякой пощады к побежденным, привело к тому, что у тверского властителя появилось множество врагов.
В 1317 году московский князь Юрий Данилович переиграл его политическими методами. Он лишил его благоволения Орды, а затем женился на сестре хана Узбека Кончаке, которая приняла крещение с именем Агафья. Юрий Данилович возвратился на Русь в сопровождении татарского представителя Кавгадыя с небольшим отрядом. Сплотив вокруг себя всех недовольных Михаилом князей, договорившись о союзе с Новгородом, Юрий Данилович двинул войска против Твери. Переговоры перемежались боевыми действиями. Михаил Ярославич готов был, смирившись, отдать великое княжение, но идти в уступках дальше он не желал. Тогда войска антитверского союза вторглись на его земли.
Тверской лев в последний раз показал свою силу. От его полков потерпели поражение новгородцы. Затем он устремился против московской рати. Большое сражение при Бортеневе принесло ему полную победу: Юрий бежал… но мнение Орды было всё еще на стороне московского князя.
Михаил Ярославич понимал, во что ему может обойтись сопротивление воле Узбека. Отряд Кавгадыя то ли участвовал в Бортеневской битве лишь на начальном этапе, а затем отступил, то ли и вовсе стоял неподалеку, наблюдая за сечей русских людей. Но в любом случае ордынцы требовали особой почтительности. После сражения Михаил Ярославич принял ханского посла с его «дружиной» как дорогих гостей, отвел в Тверь и там «взял мир». Иначе говоря, постарался проявить учтивость. Один вопрос оставался непроясненным: тверичи пленили Кончаку-Агафью. И не отдали ее Кавгадыю, когда отпустили ханского посла. Она осталась заложницей. Так и не увидев свободы, супруга московского князя умерла. Как — остается невыясненным. Ее могли в ярости изрубить сразу после битвы. Но могла она уйти из жизни и естественным путем — Тверская земля страдала тогда от «мора». Одна из летописей прямо говорит о ее судьбе: «убили злым зельем», то есть отравили. Юрий Данилович не сомневался в насильственной смерти жены: отсюда его неистовый гнев на тверского князя. Сторону разъяренного вдовца, несмотря на всю тверскую учтивость, принял и Кавгадый.
Невозможно со всей определенностью сказать, что произошло в Твери — сама ли скончалась сестра Узбека, отрава ли стала причиной ее гибели. И если кто-то учинил над несчастной женщиной злодейство, то виновен ли сам Михаил Ярославич, кто-то из его бояр или простой дружинник, нанесший смертельную рану по незнанию, — бог весть. Для душегубства имелась очень серьезная причина: появился бы у Кончаки-Агафьи сын, и не миновало бы его великое княжение; страшно Твери потерять владимирский престол, но еще страшнее посадить на него полутатарина, пугающего чужака с ордынской кровью в жилах…
Не похож Михаил Ярославич на убийцу женщин. Он бывал жесток и даже свиреп, но это свирепость льва, а не гиены. Выйти в поле, сразиться, разгромить, наказать, казнить, унизить противника — да! В его характере. Но тайно прикончить беззащитную пленницу? Вряд ли. Прежде того Михаил Ярославич не совершал поступков, схожих с чем-либо подобным. Всего вероятнее, какой-то услужливый разумник пожелал завоевать признательность государя, выполнив грязную работу без приказа, в надежде на то, что князь похвалит его. Если так, то поистине медвежью услугу оказал правителю хитрый боярин или дружинник.
Юрий Данилович призвал на помощь новгородцев и ринулся выручать супругу. Но назад ее не получил. Продолжение войны стало рискованным для измотанной Твери, а за спиной неприятельской коалиции стояла Орда. Пришлось договариваться — хан станет в их споре верховным арбитром.
Заключив перемирие с Юрием Даниловичем, Михаил Тверской с самого начала знал, что спасает свою землю дважды: от московских ратей и от ордынских. Если не соглашаться на то, чтобы сам Узбек рассудил двух врагов, боевые действия продолжатся, а силы Твери небесконечны, ее окрестности уже разорены. Если же согласиться, а потом обмануть, сама Орда явится рассуживать дело. И тогда тысячи полягут, другие тысячи отправятся в полон, города запылают, села опустеют, земля пропитается кровью.
Но идти в Орду значило — умереть. А ведь имелся и другой выход: бежать в Литву, во Псков, к шведам! Захватить с собой семью и княжескую казну, чтобы на чужбине жилось безбедно. Примут? Кто-нибудь да примет. Многих русских князей-беглецов привечали в дальних краях.
Вот только если князь спасется, то Тверь погибнет…
И Михаил Ярославич решил: надо идти ему в Орду одному. Может быть, хан заберет его жизнь и тем удовлетворится. Тогда не придет карательное войско под стены города.
Он взял благословение у тверского епископа Варсонофия, потом у своего духовника игумена Иоанна и отправился в путь. Жена провожала его до Нерли с младшим сыном, рыдала, расставаясь, и едва нашла в себе силы отправиться обратно. Старшие сыновья ехали с князем до Владимира. Там Михаил Ярославич встретился с великим человеком ордынским, Ахмылом. Между ними состоялся разговор.
Летопись рассказывает: «Зовет тя царь, — говорит Ахмыл, — поиде вборзе, буди за месяц; аще ли не будеши, то уже воименована на тебя рать и на твои городы. Обадил (оболгал. — Д. В.) тя… Кавгадый, глаголя: „Не бывати ему в Орде“». В то время Михаила представлял в Орде его сын Константин, княжич-отрок. Старшие сыновья и бояре посоветовали Михаилу Ярославичу отправить другого сына или кого-то еще, пока гнев хана не минул и злые слова Кавгадыя еще владеют его умом. Михаил Ярославич ответил им так, что слова его звучат в русской истории певучей бронзой, словно колокол на соборной церкви: «Видите чада моя, якоже не требует царь вас, детей моих и ни иного которого разве мене, но моея главы хощет. Аще бо яз где уклонюся, то вотчина моя вся в полону будет, множество християн избиены будут; аще ли после того умрети же ми есть, то лучше мне есть ныне положити душу свою за многие души».
В Орде состоялся суд, исход его был заранее предрешен. Смерть Кончаки и прямое вооруженное неповиновение ханскому послу обрекали тверского князя на казнь. Но столь чудовищной расправы, какую сотворили с Михаилом Ярославичем, никто не ожидал.
Ему повесили на шею тяжкую деревянную колоду и продержали в таком положении 26 дней. Перед смертью он молился и читал Псалтырь. Наконец к нему явились Кавгадый и Юрий Данилович с вооруженной свитой. Их слуги повергли Михаила Ярославича на землю, жестоко избили, а потом вырезали у него сердце. Это случилось 22 ноября 1318 года.
Смерть его не была напрасной: Тверь избежала ордынского разгрома.
Каким бы ни был Михаил Ярославич врагом Москве, что бы ни произошло с Кончакой-Агафьей в Твери, но то, что совершили с ним, — вещь страшная и никак не согласующаяся с христианской нравственностью. Понимая это, Юрий Данилович пожелал хотя бы после смерти ненавистного противника оказать ему подобающие почести. По его распоряжению тело Михаила Тверского из Орды перевезли в Москву. Здесь его похоронили в кремлевском храме Спаса на Бору. Но тверичи и прежде всех вдова князя пожелали получить его останки себе. Осенью 1320 года тело Михаила доставили в Тверь и погребли в Спасо-Преображенском соборе. Очень быстро на Тверской земле установилось почитание Михаила Ярославича как святого. С середины XVI века он — общерусский святой[81].
День памяти святого Михаила Тверского — 22 ноября.
Смертью Михаила Ярославича не прервалась грандиозная борьба между Тверью и Москвой. Еще дважды его сыновья получали ярлык на великое княжение. С 1322 по 1325 год Владимирский великий стол занимал его первенец — Дмитрий Грозные Очи. Но сделавшись убийцей московского князя Юрия Даниловича, он был казнен в Орде. Ему наследовал брат Александр, приведший на Русь большое татарское войско под предводительством Чолхана. Ордынский представитель вел себя оскорбительно. Русь претерпела много насилий и лихоимства от его людей. Наконец сами же тверичи восстали против Чолхана (1327). Князь присоединился к восстанию. Возглавил его и… поплатился за это головой.
Тверь еще возродится из пепла, вернет себе богатство и многолюдство, станет великим культурным центром Русской земли. Но ярлык на великое княжение Владимирское она уже не вернет себе никогда.
В истории средневековой России ученые выделяют несколько периодов, традиционно именуемых по названию области, которая в ту пору доминировала. Русь Киевская, Русь Владимирская, Русь Московская… Наверное, будет правильным считать, что между двумя последними эпохами стоит еще Русь Тверская. Она недолго продержалась, всего-то четверть века — с 1304 по 1327 год. Но оставила по себе величественную память.
ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ Забияка
Великому князю Юрию Даниловичу, с легкой руки писателя Дмитрия Балашова, досталась репутация правителя-сорвиголовы, авантюриста, дикого честолюбца без тени нравственности. Репутация, по большей части, ложная. В действительности это был умный и ловкий политик, хороший боец. Человек, правда, и на самом деле безнравственный, но отступивший от понятий о христианском долге не столько из честолюбия или корысти, сколько под давлением беспощадного врага.
Юрий Данилович унаследовал от великого отца, князя Даниила Московского, огромную державу. Вместе с братьями он пытался удержать ее от распада, от территориальных потерь. Но не обладал тем даром стратегического расчета и тем разумным миролюбием, которые были у родителя. А потому в конечном итоге надорвался под напором всё ухудшающихся обстоятельств.
Юрий Данилович родился, предположительно, в 1281 году. Он приходился старшим сыном Даниилу Московскому. После него у московского правителя родились еще четверо сыновей: Иван, Александр, Борис, Афанасий. Порядок их рождения не вполне ясен, специалисты не установили, например, был Иван Данилович вторым или четвертым сыном. Но то, что Юрий — первенец, надо считать твердо установленным фактом.
В 1303 году Даниил Московский скончался, оставив сыновьям одно из крупнейших княжеств Руси. Помимо собственно московских земель, Даниил Александрович поставил под свой контроль Переяславль-Залесский, Коломну с иными рязанскими землями; он княжил в Новгороде Великом да еще мог засылать своих наместников в далекую Кострому. Вскоре после его кончины Юрий Данилович ходил с войсками к Можайску и пленил смоленского князя, попытавшегося захватить город, который оказался составной частью Московского княжества.
Но князь Даниил ушел из жизни до того, как умер его старший брат — великий князь Андрей Городецкий. И со смертью последнего в 1304 году Даниловичи оказались в опасном положении. Старший из них, Юрий, по старинным русским обычаям престолонаследия не мог претендовать на великое княжение. Его права на сей счет можно назвать призрачными, хотя он и располагал реальной политической силой. Зато все права имел старший представитель Тверского княжеского дома — Михаил Ярославич. К тому же его кандидатуру одобрил прежний князь. За него выступил и митрополит Максим. А Михаил Ярославич являлся недругом Москвы. Его правление грозило Даниловичам разрушением державы, созданной их великим отцом. И они, унаследовав старую вражду, поневоле выступили в качестве противников Михаила Тверского.
Юрий Данилович устремился в Орду. Он требовал себе ярлык на великое княжение. Современный историк Н. С. Борисов предположил, что это требование московского князя являлось, по сути, блефом. Будучи готовым отказаться от него, Юрий, возможно, пытался выторговать целостность Московской державы. Тверские засады травили его, как зайца, пытаясь не пропустить в Орду. Вся Русь закипела — представители Твери и Москвы сцепились между собой за города и области. Кострому московские князья потеряли. Под Переяславлем они разбили тверскую рать боярина Акинфа Великого, который и сам погиб. С Рязанью, почуявшей, сколь уязвимой стала Москва, началась непримиримая борьба. В плену у Даниловичей сидел рязанский князь Константин, захваченный еще их отцом. Как видно, условия его содержания не отличались особой суровостью и ему разрешались внешние сношения. Узнав о том, что он завел враждебные переговоры с ордынцами, Юрий Данилович велел казнить князя. Собрав большуть рать, старший из Даниловичей отправился в опустошительный поход на рязанские земли. Коломну и прочие пограничные территории, на которые претендовала Рязань, ему удалось удержать. А вот Переяславль — нет. Михаил Тверской получил от Орды ярлык на великое княжение, после чего дважды ходил с полками под Москву — усмирять непокорный город. Уступая его силе, Юрий Данилович вынужденно отдал жемчужину в княжеском венце своего родителя…
Громада, собранная усилиями Даниила Московского, начала рушиться.
Более того, в семье Юрия Даниловича случился раскол: его братья Александр и Борис перешли на сторону Твери. Борис впоследствии вернется, а вот Александр — никогда. Возможно, хитроумная тверская интрига привела его к мысли выбить из-под старшего брата качающийся престол московский, да не вышло…
Михаил Ярославич, в сущности, ставил перед собой благую цель: объединить силы и ресурсы Руси под властью Твери. Откупаясь от татар, через какое-то время Русь подняла бы города, возродила хозяйство, разоренное прежними набегами, а потом, глядишь, и померилась бы силами с Ордой. Позднее ту же самую задачу поставят перед собой московские правители. Они увидят в Твери соперника, требующего узды, точно так же как прежде Тверь накидывала эту узду на Москву и прочие русские земли. Программа Михаила Тверского требовала твердой руки. Он действовал в том же ключе, в каком станут действовать Семен Гордый, Дмитрий Донской, Иван Великий. Притом не стеснялся, когда требовалось, подкрепить тверские рати силой ордынских отрядов, приводимых на Русь. Но Юрий Данилович все-таки одержал победу, казалось бы, в безнадежном положении…
Причина — большие ошибки, совершенные его оппонентом.
Михаил Ярославич бесстыдно давил на Церковь, желая поставить новым митрополитом своего кандидата. Благословленного константинопольским патриархом митрополита Петра он принимать не желал. А Москва с Петром подружилась и сделала его своим союзником.
Кроме того, тверской князь слишком часто надеялся на «чудодейственные свойства» открытой вооруженной силы. Будто лев, он стремился сломить неприятеля ударом могучей лапы, отобрать у него земли, серебро, унизить, растоптать. Как политик он не любил компромиссов и в большинстве случаев просто давил. Загнанный в угол неприятель зверел, нападал, продолжал биться, ибо ему не предлагали достойного выхода.
Наконец, Михаил Ярославич слишком рано и слишком самонадеянно решил, что может открыто сопротивляться Орде.
По мнению того же Н. С. Борисова, «московская политика данного периода может быть правильно понята только опосредованно, как реакция на деятельность великого князя Михаила Ярославича Тверского. Политика Михаила Тверского в 1305–1317 гг. отличалась наступательным, зачастую агрессивным характером». Быть может, приди к нему Юрий Данилович с повинной головой, признай первенство Твери, тот не стал бы с таким упорством нападать на Московское княжество. Но Юрий Данилович по характеру своему был воином, драчуном, забиякой. Он не искал смирения, а потому не желал унизиться и тем обеспечить себе мирную жизнь. Тем более он не хотел растерять отцовское достояние. И борьба двух княжеств продолжалась, то затихая, то вспыхивая с новой силой…
Со временем главной ее коллизией стал конфликт из-за Новгорода Великого. Новгородцы невзлюбили Михаила Ярославича за его склонность к произволу и за то, что он не оказывал им воинской поддержки. Они стали приглашать к себе князей, явно нежелательных с точки зрения Твери. В 1314 году Новгород пожелал увидеть своим князем Юрия Даниловича. Более того, новгородцы и москвичи совместно вторглись в Тверскую землю. Сын Михаила Ярославича Дмитрий, загородив им путь своей ратью, заключил мир. Но отец его, вернувшись из очередной поездки в Орду, стал вновь собирать войска. 10 февраля 1316 года у Торжка состоялась большая битва. На стороне Михаила Ярославича выступили полки Твери, других земель «низовской Руси», а также «ограниченный контингент» ордынцев. Противостояли ему новгородцы, жители самого Торжка и московские отряды во главе с младшим из Даниловичей Афанасием. «Сеча зла» закончилась поражением московско-новгородской коалиции. Запершись в Торжке, Афанасий начал переговоры. Но Михаил Ярославич арестовал всю группу переговорщиков во главе с Афанасием и отправил под стражей в Тверь.
Казалось бы — полная победа великого князя! Он имел возможность навязать Новгороду исключительно тяжелые условия мирного договора и сделал это. Гнев клокотал в нем. А гнев — плохой советчик. Не стерпев столь тяжкого нажима, новгородцы восстали опять. Новый карательный поход против них завершился большим позором для Твери: ее войска пострадали от «мора» (эпидемии), конского падежа, заблудились в болотах и… ничего не добившись, повернули вспять. Страдая от болезни, их вождь, кажется, утратил способность руководить полками…
Тем временем в Орде Юрий Данилович сумел расположить к себе хана Узбека и даже сделать своей женой его сестру Кончаку (в крещении Агафью). Он вернулся на Русь с новой супругой (первая, ростовская княжна, давно скончалась, оставив мужу девочку Софью) и татарским послом Кавгадыем. Теперь у Юрия Даниловича имелись все основания занять великокняжеский престол…
Переговоры его с Михаилом Тверским не привели к мирному соглашению. Тверской князь отдавал лишь великое княжение, но к тому времени это была почти формальная уступка; ничего другого он отдавать не захотел. А в боевых действиях Юрий Данилович не имел удачи. Его противник сначала разгромил союзную рать новгородцев, а потом нанес поражение и ему самому — 22 декабря 1317 года у села Бортенева. Тверичи пленили жену московского князя, его брата Бориса, но сам Юрий ушел от преследования и получил у новгородцев новое сильное войско. Вернувшись с ним к Твери, он договорился с давним врагом: пусть в Орде хан рассудит их спор! На сей раз Михаил Ярославич решил не ввязываться в сражение. Как видно, недешево достались ему победы в недавних боях.
Возможно, двум противникам все же удалось бы покончить дело миром. Братья Юрия Даниловича вернулись домой, перед знатными пленниками новгородскими также распахнулись, выпуская на волю, тверские ворота… Но Кончака-Агафья возвратиться не могла: то ли она умерла от болезни, то ли, что более вероятно, ее уморили. А после такого — откуда взяться миру?
Человек гневливый, Юрий Данилович умертвил тверского посла. У хана Узбека он добился разрешения убить и Михаила Тверского. А когда тот принял смерть в Орде, над его телом еще и надругались. Трудно сказать, чего в этой казни больше: московской политики, ордынской ярости на непокорство Твери или же… личной мести князя за жену. Неоткуда ныне узнать, любил ли Юрий Данилович свою Кончаку. Но многие ли мужчины сумеют смиренно простить убийство их женщины? Бешенство застилало Юрию Даниловичу глаза, заставляя быть невиданно свирепым.
Из рук Узбека он получил великое княжение. С 1319 года Юрий Данилович окончательно утвердился как старший среди князей Северо-Восточной Руси. Он правил недолго: уже в 1322 году высокий престол у него отымется по интриге тверского князя Дмитрия, годом раньше клявшегося «не искать великого княжения». Но с тех пор у московского княжеского рода появилось полное основание претендовать на венец великих князей владимирских.
Потерял же Юрий Данилович столь серьезное приобретение по трем причинам:
1. Не сумел или не захотел предотвратить избиение в Ростове неких «злых татар» местными жителями.
2. Часть дани, предназначенной хану, решил, вероятно, истратить на поддержку Новгорода в войне со шведами. Его можно понять: новгородцам князь был крепко обязан за их поддержку в 1317 году. Так или иначе, Юрий Данилович задержал доставку серебра ордынцам.
3. Ничего не смог противопоставить триумфальной брачной комбинации тверичей. Когда сын Михаила Ярославича Дмитрий женился на дочери могущественного литовского князя Гедимина, перед ордынским правителем встала серьезная проблема. Если богатая многолюдная Тверь окажется в орбите притяжения литвы, это будет означать очень большую потерю. Предотвращая подобное развитие событий, Узбек вернул великое княжение Тверскому дому.
Итог: по землям Руси прокатилась карательная «Ахмылова рать». Дмитрий Михайлович Тверской занял Владимир. А Юрия Даниловича лишили даже Москвы — она досталась его младшему брату Ивану. Для опального князя оставалось служить новгородцам. И он сполна отработал их доброе к себе отношение.
Юрий Данилович ходил с большой ратью к Выборгу, разорил шведские волости, но города не взял: крепок! Узнав о падении своей власти, он заторопился в Орду — восстанавливать репутацию, толкаться с Тверью за «великий стол». Но по дороге на него напала тверская дружина и отобрала казну. Юрий Данилович бежал. Нищий, безвластный человек, он все же нашел приют во Пскове. А оттуда его вновь призвали к себе новгородцы. Их вооруженное противостояние со шведами не прекратилось, а потому вечевой республике требовался сильный военный вождь.
Юрий Данилович возглавил строительство мощной крепости на острове у выхода из Ладожского озера в Неву. Возведенный им «град Ореховец» оказался серьезным аргументом в дипломатической игре: шведские послы, прибыв сюда, увидели новую русскую твердыню и заключили договор о «вечном мире» (1323).
Затем князь во главе новгородского войска взял Устюг Великий, жители которого присвоили себе дань с дальних новгородских окраин. Неудача при Бортеневе не должна перечеркнуть тот факт, что Юрий Данилович являлся отважным и умелым полководцем.
Оттуда, вновь получив изрядные денежные средства, он поехал в Орду.
Узбек колебался, не давая первенства ни Юрию Даниловичу, ни Дмитрию Тверскому. Последний, отчаявшись, осенью 1324 года напал на московского князя и убил его. Очевидно, он желал избавить хана от возможности выбрать нового главу для «русского улуса». Одно дело два претендента и совсем другое — один… Но Узбек рассудил иначе: за своевольство Дмитрия Михайловича казнили.
Юрий Данилович обрел худую славу: много на его руках крови! Но нельзя сказать, что его противники были добрее и человечнее. Русь под властью Орды, в склоках и яростной борьбе, погружалась во тьму. Князья, правившие нашей многострадальной землей, к несчастью, отучались от милосердия. Волчий закон правил сердцами.
ИВАН I КАЛИТА Собиратель Руси
Лучший политик Руси XIV века по рождению своему имел исчезающе малый шанс когда-либо стать правителем крупного княжества. И совсем никакого шанса — занять великое княжение. В лучшем случае он мог бы возглавить небольшой удел где-нибудь в дальнем Подмосковье. Но великими трудами он добился великокняжеского престола во Владимире. Никто не ожидал этого. В русскую историю он вошел как Иван Калита.
Иван Данилович был четвертым сыном князя Даниила Московского[82]. Год и дата его рождения не известны. Ясно только, что он появился на свет между 1284 и 1286 годами. Скорее всего, 1 октября.
Четвертый сын… игрок для второстепенных политических партий. Тем не менее отец распорядился так, чтобы и этот его отпрыск набрался державного опыта, пока его родитель жив. В 1296 году мальчик отправился княжить в Великий Новгород. Главнейшими делами занимались московские бояре из его свиты, а юный княжич жадно впитывал науку управления.
После смерти отца Иван Данилович оказался самым надежным помощником старшему брату Юрию. Второй и третий сыновья Даниила Московского, бывало, изменяли тому, вели какие-то свои политические игры. Иван — никогда. Брат Юрий направляет его в Переяславль — тот едет и крепко держится там. Когда приходит под стены города рать враждебной Твери, он не сдается, дожидается подмоги из Москвы. А дождавшись, выходит с дружинниками и разбивает неприятеля. Брат Юрий отправляется в Орду, а Ивана Даниловича оставляет на Москве. Знает: можно быть спокойным — этот не продаст и не оплошает.
Своей несокрушимой надежностью Иван Данилович завоевывает все более высокое положение в московской политической иерархии. Юрий все время в разъездах — то в Новгороде, то у хана, то в походе против Твери. Иван — «первый на хозяйстве». Неустанно добывает средства для дорогостоящей политической борьбы, которую ведет брат.
А когда Юрий Данилович начинает захлебываться в противостоянии с Тверью, младшему брату приходится самому посетить Орду. На заре 1320-х годов по Руси прокатываются антитатарские выступления. Особенно сильное возмущение против ордынцев — в Ростове и, видимо, Ярославле. Ожидается большая карательная рать на русские земли, а брат по горло увяз в новгородских делах и даже, собрав дань, не отвез ее к хану… Из-за недовольства Юрием татары передают его младшему брату Московское княжение.
Чтобы отвести беду от Москвы, Иван Данилович возглавляет дружину Даниловичей, идущую на Русь вместе с ордынскими полчищами Ахмыла. По словам летописи, в 1322 году «приде из Орды князь Иоанн Данилович и с ним поганый Ахмул (Ахмыл) и плениша много людий и посекаше. И Ярославль пожже мало не весь. Тое же зимы приде из Орды князь Дмитрей Михайлович на великое княжение».
На Московский княжеский дом обрушивается один удар за другим. Даниловичи теряют великое княжение. Затем, двумя годами позднее, Дмитрий Тверской убивает Юрия Московского в Орде и сам подвергается казни. Но великое княжение остается у Твери, его получает младший брат Дмитрия — Александр. Как видно, Тверь тогда выглядела могущественнее и богаче Москвы. Она, с точки зрения хана Узбека, больше соответствовала статусу «столицы улуса».
Четвертый сын Даниила Московского, вечный «дублер» старших братьев, принимает Московское княжение. Москва досталась ему в скверное время: главенство над князьями — у его яростного врага. Москва устала, силы ее истощились в борьбе. Из пяти братьев Даниловичей в живых остался лишь он один.
Но Иван Данилович знает: в отличие от Михаила Тверского, истинного льва, его дети — в лучшем случае злые псы. Нет у них ни того государственного ума, какой был у родителя, ни его душевной высоты. Сорвутся. Допустят ошибку непременно.
И Александр Михайлович скоро допустил очень большую ошибку…
Он привел на Русь «ограниченный контингент» ордынцев во главе с Чолханом (Шевкалом), чая, как видно, татарской помощи в укреплении своей власти. Те нещадно бесчинствовали. А когда родная Тверь, устав от такого насильства, восстала да и перебила ордынцев, князь встал во главе восстания и попытался распространить его пламя на иные области Руси. Александр Михайлович понимал: Орда такого не простит. Его отец в схожей ситуации пожертвовал собой, отдав жизнь за сохранение Твери. Но сын искал другого пути. Ему казалось: если собрать силы многих земель и бросить против Орды, то есть шанс на победу…
Орда в ту пору была бесконечно сильнее Руси, и план великого князя был по сути своей авантюристическим, безответственным.
О том, что происходило дальше, тверские и московские летописи рассказывают очень по-разному. Нейтральный, ни к Твери, ни к Москве не восходящий ростовский летописный свод повествует о событиях 1327 года так: «Шевкала убиша на Тфери. Того же лета князь Иван Данилович иде на Орду. Тое же зимы прииде изо Орды рать на Русь — 5 темников[83], а с ними князь Иван Данилович. И плени град Тверь, и всей земли много зла сотворися. А князь Александр бежа во Псков… В лето 6838 (1328) князь Иван Данилович седе на великом княжении. И бысть всей земле тишина».
Сначала Иван Данилович явился в Орду и объяснил, что к мятежу не причастен. Потом, по приказу хана, пошел вместе с карательной ратью доказывать лояльность. Доказал: Тверь с его участием подверглась разгрому. В итоге получил великое княжение, отнятое у Твери.
У него имелось два других варианта действий. Первый: пойти на помощь Александру и сгубить Москву, Московскую землю, московское воинство вместе с Тверью. Второй: уйти в сторону, не вмешиваться. Тогда произошло бы всё то же самое, поскольку никаких знаков лояльности ордынцы от него не получили бы и, стало быть, числили бы его среди своих врагов. Выбранный Иваном Калитой вариант жесток, но он лучше остальных. Тверь испытала страшное время, но хотя бы Москву удалось сохранить.
А соперник его, князь Александр Михайлович, все-таки удрал. Сначала во Псков, потом в Литву. Встал было со своими людьми против татар, а потом удрал. Не отец. Мельче.
Иван Данилович правил Москвой с 1322 года всего 18 лет. Великое княжение Владимирское он получил в 1328-м и пробыл на нем всего 12 лет. Не так уж много! Но его очень хорошо запомнили как политика, добившегося мира и покоя на Руси. При его великом княжении не происходило ни кровавых междоусобных столкновений, ни ордынских вторжений. Он собирал дань со всей Руси с такой строгостью и платил Орде столь аккуратно, что татары отучились высылать карательные экспедиции на Русь. Земля отдыхала, набиралась сил. Московского правителя запомнили и как человека, железной рукой наводившего порядок. Он очищал землю от «татей и разбойников», ставил под жесткий контроль «финансовые потоки», держал руку на пульсе судебной деятельности. Суды по тяжким преступлениям брали на себя его наместники, выводя эту сферу из состояния хаоса и произвола.
Странное Иван Данилович получил великое княжение. Хан разделил «русский улус» между двумя равнозначными правителями — московским князем и суздальским князем, Александром Васильевичем[84]. Последнему под контроль перешли Владимир и земли на восток от Суздаля, до Волги.
В духе тверских князей было бы пойти против соперника, стеснить его военной силой, покорить. И… дождаться окрика из Орды, а то и карательной рати. Иван Данилович рассчитал: лучше спокойно подождать. Александр Васильевич Москве союзен. К тому же немолод, долго не протянет. А до того как уйдет из жизни, он, не обладая большим государственным умом, наделает достаточно ошибок, чтобы половину Руси за его преемниками не оставили.
Так и произошло. В 1331 году, после смерти Александра Васильевича, Ивану Калите досталось всё великое княжение. Тихо. Без боя.
Повергнутая Тверь долгое время не представляла собой никакой угрозы. Там правил Константин Михайлович — третий сын Михаила Тверского. Этот являл мирный характер и ничуть не пытался мстить Москве, соперничать с ее правителем. Он был женат на племяннице Ивана Даниловича, Софье Юрьевне, а потому легко находил общий язык с московской родней.
Но вот прошло десять лет после бегства его старшего брата Александра из Твери. Узбек разглядел большую силу Ивана Даниловича и решил противопоставить ему другую силу. Александр Михайлович изъявил хану свою покорность, получил прощение и вновь занял тверской престол вместо мирного Константина. В поддержку ему хан направил двух послов — Киндыка и Авдула.
Ивану Даниловичу пришлось отправляться в Орду, и поездка обещала быть чрезвычайно рискованной. В Орде ему предстояло бороться с интригами тверского князя, давнего упорного врага, мечтавшего отобрать великое княжение, а также его сына Федора. Тверской политик возобновил давний кровавый спор… Возможно, его толкали к этому большие долги, сделанные в Литве, и желание поправить финансовые дела за счет великого княжения. Возвращение усобицы грозило Руси новым каскадом беспощадных войн. Готовясь к худшему, Иван Данилович написал завещание. Но ему вновь удалось переиграть тверичей. Хан встал на его сторону. Иван Данилович благополучно вернулся домой и отправил сыновей доделывать дело. А тверской князь с наследником подверглись позорной казни — их зарезали, отсекли головы, а потом тела разрубили на куски. Скорее всего, Иван Данилович переиграл тверичей деньгами. Он располагал к тому времени таким ресурсом, о котором Тверь могла только мечтать. Москва сделалась сильнее ее.
Показывая это новое соотношение сил всей Руси, Иван Данилович велел снять со Спасского собора в Твери колокол и отвезти его в Москву. Это не просто знак унижения. Это скорее символ: Москва не допустит усобиц, прежняя кровавая борьба за великое княжение не возобновится. Хозяин у Руси отныне один. И он — в Москве.
В то же время, остерегаясь новой вспышки противостояния с Тверью, Иван Калита велел «срубить» новый Кремль с мощными стенами из дуба. Строительные работы начались в 1339 году.
Став великим князем, Иван Калита испытал те же проблемы со сбором дани в Новгороде, что и прежние великие князья, в том числе Михаил Тверской. Он старался как можно реже нажимать на богатый многолюдный Новгород. Боевые действия против него имели непредсказуемый результат, а рисковать князь не любил. Но когда требовалось, он приходил с войсками на Новгородскую землю, занимал жизненно важные волости и подолгу не выводил оттуда полки. Так, не доводя до битвы, князь добивался своего.
Гораздо труднее ему приходилось с литвой. Опасность ее набегов на западные рубежи Руси постепенно возрастала. Иван Данилович «вничью» обменялся ударами с главнейшим вождем литовцев — Гедимином. Но предпочитал мир. А потому женил старшего сына и наследника Семена на дочери Гедимина Айгусте[85], выкупил из ордынского плена Гедиминова сына Наримонта, подружился с ним и даже крестил его. Тем не менее, когда отношения между Москвой и Новгородом ухудшились, Наримонт согласился княжить в нескольких малых городках, подвластных Новгороду. Вечевая республика показывала великому князю: за Новгород может вступиться литва! Но Наримонт недолго удерживал позиции на Новгородчине: Москва тут явно была сильнее, а оказывать Новгороду военную помощь против кого-либо Наримонт явно не собирался.
Незадолго до смерти Иван Данилович организовал большой поход против Смоленского княжества, перешедшего в орбиту влияния Литвы. Поход явно был инициирован Ордой, планировавшей привести Смоленск к покорности и устрашить литовцев. Московская рать, рязанская рать, рати еще пяти князей, а также ордынский отряд подошли к Смоленску, недолгое время его осаждали, разорили окрестности и, не взяв города, ушли без потерь. Очевидно, смоленские дела больше беспокоили Орду, чем Москву, а силе русской от великого князя велено было не слишком усердствовать, воюя со своими за чужие интересы.
Церковную политику Ивана Даниловича без преувеличения можно назвать гениальной. Когда в Северо-Восточную Русь пришел митрополит Петр, Иван Калита сумел сделаться главнейшим его союзником и доброжелателем, чуть ли не другом. Во время большого церковного съезда в Переяславле-Залесском сторонники Твери нападали на святителя, пытаясь низвергнуть его с кафедры и расчистить путь для своего человека, а Иван Данилович его защитил. Позднее, чтобы привлечь митрополита в Москву, он построил первый каменный собор — Успенскую церковь в Кремле. Петр нашел последнее упокоение под сводами еще недостроенного храма, и тем самым митрополичья резиденция символически была перенесена из Владимира в Москву.
С появлением нового митрополита, Феогноста, пришлось всё начинать заново. Властный и самостоятельный политик, Феогност далеко не сразу стал другом Московского княжеского дома. Историк Н. С. Борисов высказался по поводу церковной политики Ивана Калиты исчерпывающе: «Митрополит Феогност не хотел отталкивать от себя кого-либо из правителей русских земель, а тем более — великого князя Ивана Даниловича. Тщательно дозируя свое благосклонное внимание, Феогност наделял им Москву и Тверь, Владимир и Кострому, Новгород и Сарай, Киев и Владимир-Волынский. Подобно митрополиту Петру, он странствовал по всей Руси, не имея постоянной географической „точки отсчета“… В этой ситуации Ивану Калите приходилось использовать все аргументы для привлечения святителя в Москву. Такими аргументами служили и проникнутые константинопольской церковной символикой новые московские храмы, и культ последователя святого патриарха Афанасия I митрополита Петра, и реформа архимандритии, и личная набожность князя Ивана Даниловича, его истовое преклонение перед святителем, о котором Феогност рассказывал в Константинополе своему другу историку Никифору Григоре». Но в конечном итоге Феогност принес Москве немало пользы.
Памятниками непрерывной борьбы Ивана Даниловича за митрополичью благосклонность, помимо Успенского собора, стали каменные церкви апостола Петра и Иоанна Лествичника (в Кремле), храм Спаса на Бору, кремлевский Архангельский собор. Ни одна из этих построек не дошла до наших дней. Последняя из них, Спас на Бору, была варварски уничтожена большевиками. Но в середине XIV века вся Русь с изумлением смотрела, как юная Москва украшается каменным зодчеством пышнее древних городов Суздальской земли.
Летопись называет Ивана Даниловича «боголюбивым» и «мнихолюбивым». Эти слова соответствуют как его политике, так и природному складу его личности.
Иван Данилович являет собой образец «крепкого семьянина».
Он всегда держался интересов рода. Поддерживал братьев, заботился о детях, не ссорился с женами. Их у князя было две — Елена (или Олена) и Ульяна. Происхождение обеих покрыто мраком[86]. Первая из них стала супругой Ивана Даниловича, скорее всего, в середине 1310-х годов. Князь любил ее, и она родила ему четырех сыновей и четырех дочерей. Почти все дети дожили до зрелого возраста.
В 1331 году Елена скончалась, перед смертью став монахиней с именем Соломонида. На следующий год ее заменила Ульяна. Этот брак явился не столь плодовитым. Ульяна, предположительно, родила лишь одну или двух дочерей. Но она угодила Ивану, знаком чего стал обширный удел, переданный ей по завещанию. Ульяна надолго пережила мужа.
Старший брат Ивана Калиты Юрий многое потерял из отцовского наследия. Москва лишилась Переяславля-Залесского и Костромы. Под напором Твери князь чудом сохранил земли, когда-то отобранные у Рязани: Коломну, Лопастну и меньшие волости. Иван Данилович не потерял ничего. Он только приумножил достояние рода.
Как уже говорилось, в 1339 году, отправляясь в Орду, Иван Калита составил завещание. По этому документу наилучшим образом виден его характер.
Помимо самой Москвы с окрестностями и «тянущих» к ней исстари Можайском, Звенигородом, Кремичной, Рузой, Серпуховом и Сурожиком, Иван Данилович распределяет между сыновьями и вдовой многочисленные «купли». Так именует он богатые села, приобретенные им в разных областях Руси: на Новгородчине, под Владимиром, близ Костромы, рядом с Ростовом и т. п. За не столь уж долгое княжение свое он так или иначе приобрел полтора десятка сел. В совокупности они составляют большое княжество… рассыпанное по соседним княжествам. Купли Ивана Калиты не нарушали ничьих прав на княжение, но давали огромные доходы его семейству и обеспечивали московских государей превосходными плацдармами для будущего наступления на земли иных правителей. Формально он ничего не присоединил. По сути присоединил очень многое.
Очевидно, уже после того, как было составлено завещание, Иван Данилович купил половину города Галича с волостью[87]. Кроме того, он покупал в Орде ярлыки на временное управление отдельными областями — Угличем, Белоозером, половиной Ростовского княжества.
Вот почему Иван Калита — собиратель Руси. Он прежде всего собирал русские земли в единую большую вотчину вокруг Москвы. Если же не мог навсегда закрепить за своим родом новую область, то хотя бы укладывал в корзину Даниловичей временную власть над ней. С этой точки зрения, он был еще и собирателем власти. А пока власть его оставалась твердой и законной, Москва изнутри осваивала еще один кусок Руси, привязывая его к себе экономически, приучая к своему первенству. Потом — при внуках, правнуках Калиты — эта землица все равно становилась московской.
Рачительный хозяин, он с великой тщательностью перечисляет, кому из сыновей достанутся золотые цепи, пояса, чаши, кто заберет серебряное блюдо, а кто — «коробочку золотую». Заглянув на женскую половину, Иван Данилович пересчитывает обручи и мониста, фиксируя, что — жене, а что — дочери Фетинье. Не забыть о дорогой одежде! Сыну Семену — «кожух черленый жемчужный, шапка золотая». Сыну Ивану — соболья накидка…
На протяжении многих лет Иван Данилович «ставил» московское хозяйство, растил его, укреплял, а когда надо — бросал средства, полученные от его использования, на военные предприятия, на обширное строительство, на расходы в Орде. Серебро московское много раз перешибало в политических баталиях удаль князей-соперников. Теперь, будучи уже немолодым человеком, Иван Данилович хотел, чтобы сыновья не разорили, не сломали отлично налаженный механизм. А потому тщательно записывает, какие еще ресурсы потребуют особого внимания. Вот, например, скот. Не так велика земля Московская, чтобы о ней забыть в завещании. Ложатся на пергамен строки: «А что есмь дал сыну своему Семену стадце, а другое Ивану, а иными стады моими поделятся сынове мои и княгиня моя».
Полжизни Иван Данилович стремился поладить с Церковью. И теперь, готовясь дать Небесному Судии последний отчет, этот «крепкий хозяйственник» не мог отделить простое и доброе пожертвование от возможности напоследок еще раз «сманеврировать средствами». Дорогую одежду и еще, пожалуй, серебряные пояса… так… и часть серебряной посуды… и 100 рублей серебряной монетой — «раздать попам». Все равно каким! Наследники разберутся. Дело-то божеское, какие уж тут расчеты. А вот «блюдо великое о четырех кольцах» — заметный ресурс. Отдать просто так? Ну… почти просто так. Пусть отправят «Святей Богородици Володимерской»[88]! Сыну Семену еще предстоит побороться за Владимир, так пускай же тамошнее духовенство получит дорогой подарок, авось в нужный час отблагодарит.
Не напрасно прозвище его «Калита» получило два принципиально разных объяснения. Слово это означает «кошель». Иван Данилович умел создавать богатство и слыл, надо полагать, одним из состоятельнейших князей Руси. По другой версии, кошель он носил для того, чтобы всегда можно было подать милостыню. Весьма возможно, обе трактовки верны. Крепкая вера и преданность Церкви органично соединялись в этом человеке с выдающимся скопидомством. И если бы кто-то обозвал его скопидомом, то Иван Данилович не оскорбился бы: для него это слово прозвучало бы как похвала. «Скопить дом» — что тяжелее дается правителю в эпоху всеобщего разорения?
Поделив между наследниками столицу княжества и прочие территории, Иван Данилович напоминает им: каждый может распоряжаться своим уделом, как пожелает, но нельзя забывать, что земля — общее владение. И если татары отберут какие-нибудь ее части, то сыновьям и вдове следует поделиться своими угодьями с тем, кто потеряет свою вотчину.
Князь благополучно вернулся из Орды, но подошел ему последний срок. Бог забрал его 31 марта 1340 года, позволив перед кончиной принять иноческий чин. Тело его легло в им же возведенном кремлевском Архангельском соборе.
Ивану Даниловичу достался редкой силы политический талант. Многие на Руси умели храбро выйти в поле, сразиться, потратить силы своей земли в лихой молодецкой сшибке или в дорогостоящих переговорах с Ордой. Этот человек отличался от всех остальных железным пониманием: прежде чем силу можно будет потратить, ее следует вырастить. И он растил московскую силу медленно, упорно, отводя потенциальные угрозы и расшибая в щепы любого врага, выступавшего против Москвы открыто. Никогда не торопился. Ничего не упускал в мелочах. Ни в чем не склонялся к авантюре. Он как будто занят был тонким искусством выращивания кристалла в очень неблагоприятной среде. А потому действовал только наверняка. Не любил напрасно рисковать. И умер соответственно: тихо, спокойно, не в сече, не в дальних краях, не в Орде, а на перине, в окружении любящей семьи.
Подготовил сменщиков и сдал хозяйство в полном порядке…
СЕМЕН ГОРДЫЙ Суровый правитель
Великий князь Московский Семен Иванович стал идеальным правителем и для своего княжества, и для всей Руси в ту пору, когда вся она была объята хаосом междоусобиц и тьмой политической раздробленности.
Семен Иванович унаследовал от отца, Ивана Калиты, практический склад ума, от прадеда, Александра Невского, — полководческий талант, а само время воспитало в нем склонность к жестким методам правления. Он жил в условиях, когда сколько-нибудь крупные государственные образования, недавно возникнув, разваливались на глазах, никто никому не хранил верности, война следовала за войной, русские дрались между собой с ужасающей жестокостью, а Орда высасывала из Руси все соки. Поневоле князь должен был усвоить суровость и даже свирепость в делах державного правления.
Семен Иванович родился осенью 1317 года. Именем своим князь пользовался как прозвищем: при крещении он получил другое имя — Созонт. Но оно явно не подходило к его княжескому званию, а потому в быту оказалось заменено более уместным — Семен.
Раздавая земли потомству, щедрее прочих Иван Калита наделил в завещании старшего сына. Ему достались Можайск, Коломна, часть Москвы, а с ними два десятка сел, деревень, слободок. Ему же Иван Данилович завещал «4 чепи золоты, 3 поясы золоты, 2 чаши золоты с женчуги, блюдце золото с женчугомь с каменьемь. А к тому еще… 3 блюда серебрена». Остальным наследникам достались более скромные уделы.
Твердо надеясь на старшего сына, Иван Калита завещал ему: «А приказываю тобе, сыну своему Семену, братью твою молодшую и княгиню свою с меншими детми, по Бозе ты им будешь печалник». Великий князь явно был уверен: сын — взрослый человек, опытный политик, он ни в чем не подведет род.
В Московском княжестве установился порядок, согласно которому всеми землями правил не один только старший в роду, а, по большому счету, весь род. Княжество являлось общим владением семейства, и его многое множество раз делили и переделивали. Сила рода опиралась на единство и взаимную поддержку всех, кто в него входил. Вместе они могли удержать свое земельное богатство, а рассорившись, теряли силу. Поэтому семейным единством на Москве очень дорожили.
В начале 1350-х годов Семен Иванович после каких-то неурядиц заключил с братьями договор, укрепляющий их союз. В начальных строках документа говорится: «Быти ны (мы) за-один до живота[89]. А брата своего старейшего… чтити в отцово место». Далее, ближе к концу, сказано: «А где я всяду на конь, там и вы сядете на своих вместе со мною. А где сам я не всяду, а понадобится мне вас послать, вы всядете на коней без ослу-шанья. А если что-то недоброе учинится без моего ведома и без вашего, без ведома моего тысяцкого или наших наместников, мы исправим это, а нелюбья нам между собой не держати». В договоре также заходит речь о некой интриге богатого и влиятельного боярина Алексея Петровича Босоволкова-Хвос-та. Семен ему не благоволил, а брат Иван, кажется, оказывал покровительство. В конечном итоге на Хвоста обрушились тяжелые кары.
Иван Данилович обучил сына главному секрету московской политики, приносившему успех за успехом: что бы ни происходило, а с Ордой следует ладить! Как минимум дважды ездил туда Семен Иванович еще в княжение своего отца. А после его смерти, по разным подсчетам, — пять или шесть раз. И всегда добивался своего. В 1340 году Иван Калита скончался. Его наследник сейчас же уехал к хану и добыл там ярлык на великое княжение.
За все годы правления Семен Гордый не удостоился от Орды ни единой карательной рати. Руси его дипломатический дар, его воля и его серебро принесли мир. Москва не нарывалась на открытый конфликт, как это делала Тверь. И она уцелела, сохранила власть над страной, да и всем подвластным князьям обеспечила покой. Иной образ действий, как это не раз подтверждалось, приносил только одно: тяжкая пята могущественной Орды опускалась на русские города, трещали кремли, горели посады…
Пока Орда сохраняла подавляющую силу, московский политический курс являлся оптимальным. Но его следовало обеспечивать звонким металлом. И Семен Иванович брал с русских земель много, а ослушников наказывал. Вот причина крайне напряженных его отношений с Новгородом Великим.
Пока государи московские недели и месяцы проводили в Орде, новгородцы чувствовали себя вольными людьми. Настолько вольными, что порой банды ушкуйников нападали на города, подчиненные великому князю. И уж подавно без всякой охоты делился Новгород деньгами. На его земли татары наведывались редко, а платить за жизнь и благополучие соседей, таких же русских, но только «низовских», не хотелось…
Новый князь с таким порядком мириться не стал. Вернувшись с ярлыком на великое княжение, Семен Иванович отправил доверенных людей в Торжок собирать дани. И, как говорит летопись, «почаша сильно делати». Иными словами, нажимать. Новоторжцы отправились с поклоном в Новгород. Оттуда скоро явились с небольшой ратью новгородские бояре, тайно вошли в город, арестовали великокняжеских наместников и иных служильцев с семьями. Месяц новгородские войска стояли в Торжке. К Семену Ивановичу отправили послов с дерзким обращением: «Еще ты не сел у нас на княжении, а бояре твои уже творят насилие!» Новоторжцы ждали большой рати из Новгорода, но общество новгородское разделилось во мнениях. Простой люд, избегая войны, не позволил собравшемуся войску уйти в Торжок.
Тогда восстала «чернь» новоторжская. Затея собственной знати опереться на помощь Новгорода в борьбе с Москвой грозила крупными неприятностями: новгородцы отказали в помощи, а оставаться один на один с могущественным великим князем город не хотел. Тамошних бояр восставшие ограбили, дворы их разбили, села опустошили, а людей великого князя освободили. Униженные, чуть ли не догола раздетые, бояре бежали в Новгород. Малой новгородской рати пришлось уйти из Торжка.
Наконец Семен Гордый явился к Торжку с полками всей «низовской Руси». Судя по новгородской летописи, князь заключил с Новгородом мир «по старым грамотам, на всей воле новгородской» и крест целовал, «а князю даша бор по волости 1000 рублев на новоторжцех». Но московская летопись открывает неудобную для Новгорода правду: да, просили у Семена Ивановича мира «по старым грамотам», и он дал; но фраза насчет «воли новгородской» — пустое бахвальство. За попытку проявить непокорство вечевая республика заплатила высокую цену: «Даша великому князю Семену Ивановичу черный бор по всем волостем новгородским да тысячу рублев на новоторжцех, и посла князь великы Семен наместники своя в Новгород». Всего несколько слов разницы — а какое отличие по существу! «Черный бор» означал исключительно тяжелое обложение всей Новгородской земли данью. А отправка наместников великого князя в сердце Новгородчины — страшный удар по гордости вечевиков: до сих пор они сами выбирали себе князей, а тут Москва посадила им по своей воле даже не князя, а его подручников.
За все время правления Семен Иванович уделил Новгороду лишь три недели. Князь явился туда и, видимо, рассуживал большие тяжбы, которые наместники не могли решить без него. Правда, в 1343 году его повелением «поставлена бысть церковь каменная на Городище — Благовещение». Богатый подарок Новгородчине! Но и он содержал в себе намек, неприятный для местной знати. Городище — резиденция князей в Новгороде Великом. Ставя там дорогой каменный храм, Семен Иванович утверждал право московского княжеского рода всегда занимать эту резиденцию.
Пять лет спустя случилась история, безнадежно испортившая репутацию Семена Ивановича среди новгородцев. Те позвали великого князя возглавить оборону против наступающих шведов, а его отвлекли ордынские дела. Мало того, брат Иван, отправленный выполнить эту боевую работу, то ли сробел, то ли счел ее безнадежной, а потому отказался от дела, нимало не княжив, не оказав городу никакой помощи.
Когда Семен Иванович уйдет из жизни, новгородцы отправят в Орду послов, тщетно добиваясь того, чтобы хан устранил Московский княжеский дом от великого княжения. У них имелись на то серьезные причины. Для Руси хорош был Семен Иванович, но не для всей. Новгород добра от него видел мало.
Семен Гордый оценивал Новгород не как врага, но как ослушника. И Орда не являлась его врагом: с татарами не хватало сил враждовать, требовалось смиряться. Серьезный, энергичный и крайне опасный враг угрожал Москве с другой стороны — литовские князья. Именно с ними Семен Иванович много лет вел «большую игру» и в конечном итоге поставил себя так, что литва боялась задевать его.
В самом начале правления Семена Ивановича литовцы приходили к Можайску, сожгли посад, но кремль не взяли. Позднее литва давила на Великий Новгород, силой захватывая мелкие городки и заставляя откупаться более крупные.
Зато на Москву от опаснейших литовских правителей Ольгерда и Кейстута бежал их неприятель, виленский князь Евнутий. Семен Гордый принял его как дорогого гостя и даже способствовал его переходу из язычества в православие. Литовец получил в крещении имя Иоанн, а московский правитель — живую угрозу для власти своих недругов в Литве, человека, который в перспективе мог стать «карманным монархом».
Евнутий-Иоанн позднее вернется на родину, а между Ольгердом и Семеном Ивановичем ляжет трещина. Литва в ту пору кипела воинской силой, билась со всеми соседями подряд, счастливо завоевывала земли. Москву она еще не рассматривала как опасного противника, но тут вдруг почувствовала серьезное сопротивление.
Ольгерд даже отправил в Орду своего брата, новогрудского князя Кориата с сыновьями «просити себе помощи на великого князя Семена». Московский правитель нанес ответный удар незамедлительно. Его послы-«киличеи» доложили хану Джанибеку о недавних разорительных походах Ольгерда на ханский «улус» — Новгородчину. Москва умела вести дела с Ордой намного лучше литовцев. В итоге хан выдал Семену Ивановичу Кориата, его сыновей и дружину как пленников. Татарский посол Тотуй отвел их к Москве.
В следующем году, по словам летописи, «Ольгерд приела послы на Москву к Семену князю со многими дары и с честию великою, прося мира и живота братьи своей; князь же Семен отпустил с честию Корьядову чадь ко Ольгерду». Стороны заключили мир. Москва, получив за пленников богатый выкуп, можно сказать, «сравняла счет» в противоборстве с мощным противником.
Позднее Семен Иванович еще раз показал силу. Он собрал полки «низовской Руси» и отправился в большой поход из-за какой-то размолвки с литвой и Смоленском (причина ее не ясна). На сей раз с ним просто побоялись воевать: литва и смоляне прислали послов и купили мир «многими дарами».
Можно констатировать: Семен Иванович продемонстрировал безоговорочное лидерство в отношении Северо-Восточной Руси. Он мог поднять ее воинские силы для большого наступательного предприятия. С ним опасались связываться, а значит, опасались тревожить набегами подвластную территорию.
Великий князь проявлял очень большое внимание к интересам Церкви. Видимо, еще Иван Калита учил сына: нельзя спорить с нею, следует жить в ладу. Церковь сохраняла единство на всем пространстве раздробленной Руси, от ее слова зависело многое. А главу ее, митрополита, утверждали в далеком Константинополе, отправляя на Русь со свитой. Отношения Семена Ивановича с греком-митрополитом Феогностом складывались непросто и негладко. Но общий язык им найти удалось.
Так, явившись осенью 1342 года с братьями из большого похода к ордынскому хану, Семен Иванович распорядился: следует украсить Успенский и Архангельский соборы Кремля. Первый из них «расписывали» митрополичьи живописцы-греки, второй — русская «дружина»: художники Захарья, Иосиф, Николай. Позднее стены многих московских церквей покрылись фресками, а некий мастер Бориска отлил десяток колоколов. Иными словами, за пышностью и благолепием храмов при Семене Ивановиче следили тщательно, не жалея средств.
Незадолго до кончины московский правитель устроил с суздальским князем Константином Васильевичем «снем», то есть съезд «про причет церковный».
Митрополит Феогност и Семен Иванович действовали совместно и в другом щекотливом деле. В южнорусском городе Галиче появилась особая митрополия, выделенная из состава общерусской. С начала XIV столетия она вела «мерцающее» существование: то она есть, то ее нет. В 1340-х годах Галицкая митрополия попала под контроль литовских князей. Это раскалывало единое тело Русской церкви. Московский князь и Феогност добились от константинопольских властей безоговорочной ликвидации особой митрополии в Галиче (1347). Ответным даром Семена Ивановича и других князей стала присылка денег на ремонт константинопольского храма Святой Софии.
Великому князю и митрополиту удалось договориться между собой и о том, кто сменит уже немолодого Феогноста. От имени церковного и светского владык Руси к императору и патриарху отправилось посольство. Перед ним поставили задачу: на Русскую митрополию Константинополь должен поставить русского кандидата, а именно епископа Владимирского Алексия.
Вот как говорит о Семене Ивановиче летопись: «Сей князь великий Симион Гордый наречеся, зане не любяше крамолы и неправды, но вся обличаемыя наказуя; сам если мед и вино пияше, но николи до пиана упивашеся и пианых терпети не можаше; войны не люби, но воинство готово… в чести содержа. В Орде бысть от ханов и князей в велицем почтении; и если дани и дары невеликия даяша, и сам имения немного собираше, но при нем татаре не воеваху отчину его; он многи пленные испроси и искупи. Князи же все рязанские, тверские и ростовские толики подручны себе имел, яко вся по его глаголу творяху; новгородцы не смеяху намеснику его что-либо противно речи…» Летописное свидетельство известно лишь в пересказе историка В. Н. Татищева, и потому его подлинность вызывает сомнения. Но летописи подтверждают эту характеристику хотя бы отчасти: из Орды Семен Гордый всякий раз возвращался, успешно решив свои проблемы. Воевал и впрямь мало, но вызывал у соседей ужас. Новгородцев смирил…
Этот человек — прирожденный правитель и полная противоположность младшему брату Ивану, который взойдет на престол после него. Семен Гордый был силен и тверд в державных делах и несчастен в семейных, а его преемник нашел в семье счастье, но с великой натугой волок телегу государственных забот.
Семен Иванович был женат трижды. Первой его супругой стала дочь литовского государя Гедимина Айгуста, в крещении Анастасия. Муж пережил ее. Московские Рюриковичи искали себе жен, подчиняясь политическим надобностям. Выгодный брак обеспечивал прочность союза с могущественным соседом. Первая свадьба, произошедшая еще до того, как Семен Иванович взошел на великокняжеский престол, закрепила мирные отношения Москвы с литовцами. Второй брак князь заключил, уже приняв великое княжение. И вновь не отступил от соображений политической пользы. Его супругой стала дочь смоленского князя Федора Святославича Евпраксия. Смоленск лежал между московскими владениями и литовскими. Для Москвы сильные позиции там давали очевидную политическую выгоду. Но брак не сложился: источники донесли до наших дней жутковатую легенду, будто княгиня оказалась жертвой колдовства и на брачном ложе представала перед мужем в облике мертвеца… Так или иначе, Семен Иванович скоро отправил ее назад, к отцу. Честь несчастной женщины спасли другим браком, от которого пошел род князей Фомин-ских. Однако подобное поведение выглядело скандально. Церковь в лице митрополита Феогноста посмотрела на это с неодобрением. Когда великий князь решил жениться в третий раз, ему пришлось заручиться благословением самого патриарха Константинопольского. Третьей его женой стала тверская княжна Мария Александровна. Следствием брака стали добрые отношения с сильным государством — Тверью. Этот брак, к счастью, заладился. Кажется, муж любил жену, доверял ей… Но одно большое горе преследовало Семена Ивановича на протяжении всей взрослой жизни; князь так и не избыл его, забрав с собою в гроб. Все мальчики, рожденные его женами, умирали рано. Ни один не пережил отца. Два его последних, любимых и долгожданных, наследника умерли от чумы незадолго до того, как болезнь унесла самого великого князя.
Осталась только девочка — Василиса, сделавшаяся женой кашинского князя Михаила.
К 1353 году Семен Гордый как правитель вошел в полную силу. Но именно тогда, при полновластии, он скоропостижно скончался. Его правление прервалось, будто стремительный бег коня, остановленного на всем скаку. От чумной эпидемии умер он сам и его дети.
На смертном одре ему оставалось выполнить последнее дело государя: составить завещание. То, что Семен Иванович получил от отца, — часть («жеребей») Москвы, Коломну, Можайск и множество сел, — он отдал своей жене. В ту пору княгиня носила его дитя под сердцем, и Семен Иванович надеялся, что хотя бы этот младенец выживет, а потом, дожив до возраста зрелости, получит все эти земли от матери… Ей же князь оставил часть золота и стад.
Завещание написано в спешке: как видно, уже и свет угасал в глазах гибнущего монарха. Но он возлагал всю ответственность за судьбу Московского княжества на двух младших братьев — Ивана и Андрея, а потому нашел в себе силы обратиться к ним с увещеванием: «А все… положил на Бозе и на своей братье, на князи на Иване и на князе на Андреи. А по отца нашего благословенью, что нам приказа жити заодин, тако же яз вам приказываю, своей братьи, жити заодин. А лихих бы… людей не слушали и… слушали бы… отца нашего владыку Олексея, тако же старых бояр, хто хотел отцу нашему добра и нам. А пишу вас се слово того для, чтобы не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не погасла».
Видя перед собой смерть родных и близких, видя ужас, гуляющий по московским улицам и княжеским палатам, надеясь на одного Бога, Семен Иванович все-таки напоминает братьям о благе рода: сделайте всё возможное, только бы он не погиб! Это наша общая свеча, нам следует ее уберечь от холодного ветра.
Как видно, не надеясь на тихого и невоинственного брата Ивана, умирающий правитель уравнял его с младшим братом Андреем в правах: тот, вероятно, был бойчее. Но Андрей ничего не успеет предпринять: его также коснется губительное дыхание чумы…
Зато Иван уцелеет. Именно он не даст погаснуть свече Московского княжеского дома. Именно ему достанется от вдовы старшего брата великое земельное богатство, ибо младенец ее не выживет. Именно Иван Иванович получит полное и безоговорочное старшинство в семье.
Даже самым грозным правителям после их смерти не оставляет Бог силы на земле…
ИВАН II КРАСНЫЙ Помилованный Богом
Третьему сыну Ивана Калиты выпала счастливая судьба. Бог сохранил его в то несчастливое время, когда мог сгинуть весь московский княжеский род.
Иван Иванович появился на свет весной 1326 года. Его мать — горячо любимая Иваном Калитой княгиня Елена. В их семье царил лад.
Когда княжич достиг пятилетнего возраста, княгиня Елена ушла из жизни. Отец женился во второй раз. Однако сыновья его от первого брака не потерпели при этом никакого утеснения. По завещанию Ивана Калиты Иван Красный получил большой удел — Звенигород, Кремичну, Рузу, множество сел, деревень и слобод. Правителем всех этих владений Иван Иванович стал после кончины отца в начале 1340-х годов.
К тому времени он уже вошел в возраст отрочества. О делах его удельного правления известно немногое. Покорный воле старшего брата Семена, он ездил с ним в Орду и принимал участие в новгородских делах. Последние, кажется, складывались для него неудачно, так как по тихости характера своего он не сумел стать военным вождем в борьбе новгородцев со шведами. Вражеская армия осаждала Ореховец (Орешек), а он тянул с контрнаступлением; неприятель взял крепость, а он не решился собирать силы и идти ее отбивать. Он уехал, и новгородцы сами вышибли шведов… Не к чести князя закончилась эта история. В ту же пору князь неудачно женился. Его супруга скоро умерла, не оставив детей. Пережив долгий траур, Иван Иванович венчался второй раз. Его женой стала девушка из могущественного боярского рода Вельяминовых Александра (после смерти мужа она примет иночество с именем Мария).
А в 1353 году по Москве прошла с косою «черная смерть» — великая эпидемия чумы. Она «скосила» его старшего брата Семена и обоих его сыновей, не пощадила других представителей княжеского семейства, а вместе с ними и митрополита Феогноста. Множество москвичей легло в землю.
Московская земля опустела. Кремлевские палаты, ранее поражавшие многолюдством, лишились своих обитателей и их слуг. Ивану Ивановичу достался престол не столько княжеский, сколько кладбищенский…
Что делать? Оплакав родню, Иван отправился в Орду — бороться за ярлык на великое княжение. Если Москву и подчиненные ей малые городки он наследовал без спросу в Орде, то обширные земли и доходы от великого княжения, а также формальное старшинство между князьями Северо-Восточной Руси Иван Иванович мог получить лишь по воле хана.
Летописцы называют князя «Красным», то есть красивым[90], а также «милостивым». По всей видимости, он являл собой полную противоположность старшему брату — суровому правителю. Господь пощадил добросердечного красавца, вовсе не думавшего о столь высокой роли для себя или своего потомства. И кроткий князь, может быть не желая для себя таких трудов, впрягся в воз державных забот, как кошка, которую пристегнули вместо ездового пса.
Он мучился шесть лет, изо всех сил стараясь не растерять земли и власть, собранные прежними московскими государями. Орда выдала ему ярлык на великое княжение, а с 1355 года он также сделался и князем Новгородским. С враждебно настроенным суздальско-нижегородским властителем Андреем Константиновичем удалось поладить миром, обойдясь с ним любезно и одарив богатыми подарками.
Но, как на грех, выгорел кремль, а соседи, почуяв слабость обезлюженной Москвы, затеяли с нею свары. Рязанцы отбили богатый городок Лопастну, когда-то завоеванный у них Москвой. Наместника московского взяли в плен, мучили его, избивали, а затем отдали Ивану Ивановичу за выкуп. Не желая большого вооруженного противостояния, они дали Ивану Ивановичу за Лопастну несколько менее ценных волостей (в частности, Боровск), и на том пришлось помириться.
Москва издавна сильна была могучим боярством, стоявшим за князя. Иной раз при слабом князе бояре правили за него или, как в данном случае, направляли его деятельность. Княжеская прямая родня — Вельяминовы — имела при Иване Ивановиче огромное влияние на политический курс Москвы.
Но слабость княжеская грозила земле своеволием боярства. Так, в 1356 году на Москве был убит тысяцкий Алексей Петрович Хвост — ближайший служилец Ивана Ивановича, его доверенное лицо. Тысяцкого сгубили по заговору других бояр, возможно, тех же Вельяминовых. Затем московское боярство потянулось к удачливому рязанскому князю Олегу, покидая Ивана Ивановича. Кое-кого он позднее вернул: нет горше потери, чем сильные служильцы!
Феогносту назначен был преемник Алексий — тоже из московского боярского рода, в миру Елевферий-Симеон Бяконт. Литва долго не давала ему взойти на митрополичью кафедру. В конечном итоге Алексий все же стал митрополитом. Он прославится как великий пастырь нашей Церкви и, не менее того, как выдающийся государственный деятель. Впоследствии будет причтен к лику святых. Но на русских землях Великого княжества Литовского одновременно с ним появился другой митрополит — Роман, ставленник Ольгерда.
Политические дела шли, мягко говоря, с переменным успехом. Зато в делах семейных Иван Красный был счастлив: жена родила ему четырех детей, отличавшихся добрым здравием. Все они пережили родителя.
До наших дней дошло завещание Ивана Ивановича. Оно подводит итог его недолгого правления.
Княжество Московское пока еще очень невелико, и земли его легко можно разделить между сыновьями Дмитрием и Иваном, княгиней Ульяной (мачехой Ивана Красного), княгиней Марией (его женой) и «братаничем» Владимиром Серпуховским[91]. Так рачительный землевладелец делит свое хозяйство между потомством. Это еще не держава. Это еще очень большая вотчина. Из нее княжичу Дмитрию досталось самое большое богатство: Можайск да Коломна. Княжичу Ивану — Звенигород. Владимиру Андреевичу — Серпуховской уезд, который он получил от своего отца. Втроем они делят земли, полученные от Рязани в обмен на Лопастну. Княгиням отошли села и деревни, ибо других городов под рукой Москвы нет. А сама Москва разбита на «трети», и доход от нее княжеское семейство делит между собой — как акционеры большого предприятия делят дивиденды.
Князья московские пока не помышляют о том, чтобы передавать великое княжение — город Владимир с богатой областью вокруг него — по наследству. Этого в завещании нет. Иван Иванович предвидит: великое княжение его малолетние сыновья могут не удержать… Так и случится.
Более того, князь опасается потерять города, вроде бы давно пребывающие под властью Москвы. Он пишет: «А если, по грехам, имуть искати из Орды Коломны, или Лопастеньских мест[92], или обменьных мест Рязаньских, а, по грехам, случится так, что отъимется которое место, дети мои, князь Дмитрий и князь Иван, князь Володимер, и княгини в то место поделятся». Иными словами, территории, спорные с Рязанью, могут быть отобраны приказом из Орды. И тогда семейство должно переделить свои владения, дав пострадавшему родичу компенсацию за его потери.
По завещанию очень хорошо видно, сколь непрочным являлось состояние дел в роду московских князей Даниловичей. Груз тяжелый и опасный достался Ивану Ивановичу. Трудно ему было тащить его на себе, не готовился он к такой жизни в молодости. Но как избавил его Бог от «черной смерти», так и, наверное, помог без больших потерь доволочь невыносимое бремя до того момента, когда можно отдохнуть…
13 ноября 1359 года Иван Красный скончался.
ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СУЗДАЛЬСКО-НИЖЕГОРОДСКИЙ Государь исчезнувшей державы
Учебники, романы и популярная историческая литература приучили образованного русского наших дней к совершенно искаженному образу удельной Руси. У подавляющего большинства тех, кто так или иначе интересуется историей нашей страны в XIV столетии, русская государственность того времени воспринимается через призму трех основных центров: Твери, Москвы и Новгорода. А всё остальное выглядит как периферия.
Это никоим образом не соответствует истине. Рязань, Смоленск, Брянск, Псков, Ростов являлись «тяжеловесами» в политической жизни того времени. Но еще более значительную роль играла могучая держава… о которой ныне пишут не больше, чем об Атлантиде.
Суздальско-Нижегородское княжество являлось весьма обширным по территории и густонаселенным государством. Если посмотреть на карту Руси XIV века, нетрудно заметить: Тверское и Рязанское княжества явно уступали ему по размерам, а Москва управляла вполне сопоставимой площадью. Княжество это обладало правом непосредственных сношений с Ордой. В 1347 году возникла самостоятельная Суздальская епископия. Вторая столица княжества — Нижний Новгород, молодой и быстроразвивающийся центр, — стала опорным пунктом для экспансии на восток. Там велось собственное летописание. По словам историка Г. В. Абрамовича, «Нижний Новгород стал вторым по богатству русским городом после Москвы. В нем поселились ремесленники таких сложных по тому времени профессий, как литейщики колоколов, золотильщики по меди, архитекторы и каменщики. Нижний вел обширную торговлю с Востоком…». В состав княжения также входили заметный удел с центром в Городце, Унжа, Юрьевец на Волге и некоторые другие земли.
Естественно, обладая таким потенциалом, суздальско-нижегородские князья вступили в соперничество с Москвой.
Уже князь Константин Васильевич (1332–1355) пытается оттягать ярлык на великое княжение у Ивана Красного. Он имеет на то формальное право: его старший брат Александр Васильевич когда-то три года провел на великокняжеском владимирском столе одновременно с Иваном Калитой. На первых порах Орда с притязаниями суздальского рода не согласилась, но сын Константина Васильевича Дмитрий мечту родителя осуществил.
Он родился в 1322 году. К 1359 году, когда скончался Иван Красный, это был уже зрелый и опытный политик, по характеру — чуть-чуть авантюрист. К тому времени он уже несколько лет правил Суздальским уделом громадного княжества[93]. В Орде не надеялись на то, что малолетний московский князь Дмитрий (будущий Дмитрий Донской) справится с державными делами всей Руси. А может быть, планировали умерить растущую силу Москвы. В любом случае ордынцы отдали великое княжение Дмитрию Константиновичу, а тот принял его, зная, что придется насмерть схлестнуться с Москвой.
В 1360 году он сел на великий стол во Владимире и скоро наладил отношения с Новгородом: там приняли его наместников. Его также поддерживала коалиция соседей: Ростов, Галич, Стародуб, Белоозеро. Дмитрий Константинович взялся за дела с большой энергией.
В каком бы малолетстве ни прибывал московский князь, а московское боярство и митрополит Алексий (сам родом из бояр, служивших Даниловичам) твердо решили вернуть великое княжение. До поры Дмитрий Константинович отбивал их притязания в Орде. Но 1362 год подвел черту под его удачливостью. Москва вырвала у него великокняжеский престол.
Пользуясь расколом в Орде, Дмитрий Константинович нашел союзника в лице хана Амурата, противоборствующего с ханом Абдуллой (или Абдаллахом) — покровителем Москвы. Получив от него ярлык, собрав дружину, присовокупив к ней малый отряд татар и полк дружественных белозерцев, князь опять ворвался во Владимир. Там он сумел продержаться… всего две недели.
Московское воинство вышибло его из Владимира и разорило Суздалыцину. Просуздальская коалиция была полностью разрушена Москвой. Галицкий и стародубский князья даже лишились своих столов. В 1364-м Орда опять предложила Дмитрию Константиновичу ярлык. Но на сей раз, поразмыслив, князь без боя уступил его Москве.
Отказавшись от мечтаний о великом княжении, Дмитрий Константинович принес много добра Руси, став деятельным противником ордынского ига.
В 1367 году общие силы Дмитрия Константиновича и его младших братьев разгромили орду татарского хана Булат-Темира, вторгшуюся на их земли. Эта битва — славное преддверие общерусской победы на поле Куликовом. Да и разгром Мамая на Непрядве осуществился с участием суздальской рати. Множество суздальских бояр сложило головы в Куликовском сражении.
На деньги, полученные от удачного похода на волжских булгар, Дмитрий Константинович начал возводить каменный кремль в Нижнем и храм Николы на Бечеве. Новую богатую добычу принес поход на Казань 1376 года.
Погубили же сильную державу Суздальско-Нижегородскую нападения татар да еще распри между Дмитрием Константиновичем и его дерзким братом Борисом. В распрях приняли участие их дети, вооруженная борьба затянулась на многие годы. Как ни парадоксально, в одном из эпизодов этой усобицы Москва — бывший враг, ставший союзником, — помогла Дмитрию Константиновичу взойти на престол в Нижнем.
Что же касается столкновений с ордынцами, то очень большие потери понес Нижний во время несчастливой битвы на реке Пьяне в 1377 году. Обессилев, город не смог сопротивляться скорому вторжению Мамая, был захвачен и предан огню.
В 1380 году Мамая разбили на поле Куликовом. Его поражение дало Нижнему шанс восстановить прежнее величие. Осенью 1383 года Дмитрий Константинович скончался, успев поднять город из руин. Не дал Бог узнать князю, что дело рук его пойдет прахом из-за злодейства его собственного сына. Через 16 лет после смерти родителя князь Семен Дмитриевич навел татар на Нижний, и те разграбили город…
Результатом татарского разорения и междоусобных распрей впоследствии станет подчинение княжества Москве, свершившееся на рубеже XIV–XV веков. Полстолетия расцветало это государство, прежде чем стало частью Московской Руси. На протяжении краткого периода, всего несколько лет, у Нижнего Новгорода имелся реальный шанс оказаться в фокусе политической централизации Руси и даже заменить собой Москву как столицу будущей России. Но к началу XV столетия об этом шансе и помина не осталось.
Колоссальная держава распалась.
Некоторые признаки самостоятельности сохранили Суздаль и Городец. Там по-прежнему сидели князья из того же старинного рода, постепенно уступавшего свои политические права Москве.
Во второй четверти XV столетия разразилась большая внутренняя война между представителями Московского княжеского дома. Воспользовавшись ею, правнуки князя Дмитрия Константиновича Василий и Федор на время восстановили особое великое княжество в составе Суздаля, Нижнего, Вятки и Городца. Оно получило права полной независимости от Москвы. Василий и Федор поставили на Дмитрия Шемяку, добившегося великого княжения на Москве. Если бы он победил, то в центре Руси появилось бы новое могучее государство, корнями уходящее в XIV век. Но после того как Дмитрий Шемяка потерпел поражение и возобладал его неприятель Василий II Темный, проект суздальско-нижегородских князей рухнул. Всякий их «суверенитет» скоро исчез. С начала 1460-х годов коренной их вотчиной, Суздалем, безраздельно владеют московские государи. Зато при дворе московских государей видное место получат потомки суздальско-нижегородских правителей — князья Шуйские.
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ Победитель Орды
Осенью 1350 года у князя Ивана Красного родился первенец Дмитрий. В младенчестве он не считался претендентом на великокняжеский стол: имелись кандидаты с бóльшими правами, чем сын небогатого удельного князя. Но время само убрало иных наследников с его пути.
В возрасте девяти лет Дмитрий Иванович стал великим князем Московским. Предки оставили ему в наследство богатое «хозяйство»: множество городов и земель, постепенно богатевших и поднимавшихся от тяжелого времени ордынских «ратей», погромов и непосильных поборов.
В третьей четверти XIV столетия на Руси после многовекового перерыва вновь начали изготавливать собственные монеты. А это показатель экономического подъема. В первую очередь монетной чеканкой занялись богатый торговый центр Нижний Новгород и Москва — столица сильнейшего княжества.
Пока князь Дмитрий Иванович рос, со всеми важными делами разбирались боярское правительство и митрополит Алексий (1355–1378). Они действовали в добром единстве и сохранили основные завоевания прошлых лет.
Труды столь значительной персоны, как святитель Алексий, достойны особого внимания. Если бы не его политический дар, здание Московской державы могло бы рухнуть в малолетство Дмитрия Ивановича. Если бы не его благочестие, русское монашество тех времен не испытало бы невиданного взлета.
Как политик митрополит Алексий пользовался в Москве огромным влиянием. Фактически он возглавлял правительство при малолетнем князе. Ему позволительно было заключать договоры о мире и войне и даже начинать крепостное строительство. Святитель последовательно действовал в пользу Москвы. Бывало, даже отлучал от Церкви политических противников великого князя. Этот курс отчасти объясняется стремлением Алексия продлить стабильное существование Московского княжества — ведь именно там теперь находилась митрополичья кафедра! Любые войны, мятежи, разорения на Московской Руси могли нарушить спокойное и безмятежное существование Русской церкви. Но имелись у него и другие резоны: нет ничего доброго в усобицах с точки зрения христианской нравственности; наличие мощного центра единения в Москве избавляло Русь от бесконечного междукняжеского «раздрая» и «нелюбия»; поддерживая Москву, святитель Алексий поддерживал мир.
Митрополит был сторонником мирных отношений с ордынцами. Он дважды посещал Орду и совершил там чудо — исцелил от слепоты ханшу Тайдулу, снискав тем самым у ее сына, хана Джанибека, благорасположение к православной церкви.
Кроме того, святитель Алексий при согласии и поддержке великого князя Дмитрия Ивановича начал большую монастырскую реформу и деятельно способствовал ее успеху.
До середины XIV столетия большинство русских монастырей, как правило, содержалось на средства основателя (ктитора). Такими ктиторами были великие и удельные князья, бояре. Конечно, они могли оказывать самое широкое влияние на иноческую жизнь обителей. В свою очередь, ктиторские монастыри имели слабое политическое значение. Большие «общежительные», независимые от ктиторов обители времен домонгольской Руси были забыты. Монахи жили каждый в своей келье, одевались и питались в соответствии с личным достатком. Основатели таких монастырей могли обрести там нешумное место для богомолья, для отдыха от дел на старости лет, да и для семейной усыпальницы.
Но в середине XIV столетия положение изменилось. Московская митрополичья кафедра провела масштабную реформу русского монашества. В новых обителях (и прежде всего в Троицком монастыре игумена Сергия Радонежского) вводится общежительный, или «киновиальный», устав иноческой жизни. Этот устав — строже «особножительного», процветавшего в русских обителях того времени. В соответствии с ним всё имущество монастыря принадлежало иноческой общине во главе с настоятелем. Монахам не полагалось иметь собственного имущества. Трапезу они принимали за одним столом, одежда их не различалась. Все были равны перед властью игумена и «старцев» — располагавших наибольшим духовным авторитетом монахов. Община могла быть больше или меньше: до двухсот и более. Но во всех случаях на долю монашества приходилось немало ручного труда («рукоделия») и забот о всей общине.
Количество новых, киновиальных монастырей росло стремительно. В XV столетии обители с «особножительным», или «келиотским», укладом уступили им численное первенство. А духовное и политическое влияние общежительных монастырей существенно превосходило влияние их предшественников. Они были более самостоятельными в экономическом отношении и быстро богатели, поскольку путь к «стяжанию» богатств отдельным монахом навсегда закрыла общинная собственность на имущество. Таким образом, открылся путь к улучшению материального быта всей общины… Киновиальные монастыри сыграли решающую роль в масштабной колонизации Русского Севера. Кроме того, они стали крупнейшими культурными и политическими центрами Русской церкви.
В XIV столетии начинается один из самых ярких процессов в исторической судьбе Руси: монастырская колонизация северных и восточных окраин страны. Это был ни с чем не сравнимый выплеск энергии!
Ожерелье старинных наших обителей, возникших в то время, впоследствии назовут «северной Фиваидой», или «Русской Фиваидой», сравнивая с древним египетским монашеством, поднявшимся у Фив. Вся пестрота городов, биение делового нерва, вся некрасивая громада политики тут обретали смысл и оправдание. И если бы Русь дала миру только одну эту молитвенную тишину, только монастырские стены в чащобной глухомани, только подвиги пустынников, постников и подвижников на берегах неспешных северных рек и вечных озер, то и тогда лоно ее следовало бы признать плодоносным и благословенным. Иноческое подвижничество, расцветшее в наших северных обителях, стало одним из прекраснейших полотен в галерее мирового христианства.
Монастыри были форпостами высокой культуры в диких, неосвоенных землях, первостепенными центрами живописи и книжности. Монастыри становились также центрами православного миссионерства, и они же могли сыграть роль крепостей — главных баз сопротивления неприятелю в военное время.
По воле митрополита Алексия было основано немало новых обителей, в том числе подмосковный (ныне московский) Спасо-Андроников монастырь, кремлевский Чудов монастырь, Владычный Серпуховской монастырь. Все они стяжали впоследствии добрую славу. Похоронить себя митрополит завещал в любимом Чудове монастыре. Впоследствии Русская православная церковь канонизировала его.
На протяжении многих лет Дмитрию Ивановичу, митрополиту Алексию и московскому боярству пришлось вести нелегкую борьбу за первенство Москвы на Руси.
В начале 1360-х годов суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович дважды выторговывал у ордынцев великое княжение, и дважды москвичи вынуждали его отступиться. Москва не боялась мести со стороны Орды: там шла бесконечная усобица, да и разбирались в хитросплетениях внутриордынских интриг москвичи гораздо лучше, чем кто бы то ни было на Руси. Теперь в русских землях все решала не очередная татарская «рать», а собственная сила. Ее у Дмитрия Константиновича явно не хватало для того, чтобы отнять у Москвы роль ведущей политической силы региона.
Московское княжество быстро расширялось. Московский государь и московское правительство не довольствовались ярлыками на временное управление соседними территориями, их просто присоединяли к Москве — намертво, навсегда. Именно при Дмитрии Ивановиче Москва превратила великое княжение в свою постоянную принадлежность. А это не только Владимир, но и целая гроздь городов, соединенных с ним, — прежде всего Кострома и Переяславль-Залесский. Дмитрий Иванович попросту передал великое княжение по наследству сыну.
Если сравнить завещание Ивана Красного и завещание его отпрыска, станет видно: за 29 лет княжения Дмитрия Ивановича Московское княжество выросло в несколько раз. Помимо великого княжения, к нему отошли часть Ростовской земли, вторая половина Галича, Дмитров, Калуга, Белоозеро, Углич, другие волости.
К концу 1360-х в Москве был возведен новый кремль — белокаменный, вместо старого, деревянного. Крепостью такого уровня не располагал никто из политических соперников Москвы.
Когда Дмитрий Иванович подрос, его княжество оказалось под угрозой вторжения новой силы, показавшей свою мощь всей Восточной Европе. Началась борьба между двумя молодыми и сильными державами — Великим княжеством Литовским и Москвой. Основным предметом раздора стала Тверь: обе стороны стремились утвердить там свое влияние. А тверские князья пытались возобновить свое главенство на Руси, воспользовавшись противоборством двух гигантов. Трижды литовские армии направлялись к Москве во главе с опытным полководцем великим князем Ольгердом. С каждым разом им приходилось все туже. Первый набег ознаменовался разгромом московского передового полка при Тростне, осадой Москвы и разорением подвластных ей земель. Белокаменный кремль оказался тогда спасительным убежищем для княжеской семьи и самого Дмитрия Ивановича. Но уже в третью «литовщину» (1372) московская рать остановила литовское войско на дальних подступах. Впоследствии уже воеводы Москвы тревожили походами Литовскую Русь. Некоторые тамошние князья поспешили перейти на службу к Дмитрию Ивановичу. А в 1375 году и гордая Тверь признала старшинство Москвы.
Древнерусский летописец оставил потомкам подробное описание Дмитрия Ивановича, вошедшего в года зрелости: «…Дороден, чреват вельми (то есть имел крупную фигуру. — Д. В.), власами, брадою черен, взором же дивен… Он не был книжным человеком, но духовные книги имел в самом сердце» — то есть не отличался ученостью, но верой был крепок. По стилю правления великий князь в большей степени являлся не дипломатом, а воином, и старался решать внешнеполитические проблемы вооруженной силой. Да и разбираясь с вопросами внутренней политики, князь проявлял большую суровость. Так, боярин Иван Васильевич из знатного рода Вельяминовых затеял заговор против великого князя из-за того, что не получил от него высокой должности московского тысяцкого (руководителя ополчения), принадлежавшей его отцу; он был казнен. А тверскому князю Михаилу Александровичу пришлось посидеть в заточении у «гостеприимного» Дмитрия Ивановича.
По своему образу действий Дмитрий Иванович напоминал Михаила Тверского и, отчасти, своего покойного дядю Семена Гордого. Он не располагал миролюбием и стратегическим умом Даниила Московского. Иван Калита был благочестивее его, да и сильнее как политик. Михаил Тверской, очевидно, превосходил в воинском искусстве и личной отваге. Но по неуклонной твердости характера Дмитрий не имел равных. Во всяком случае, среди русских князей XIV столетия. Каменный человек. Очевидно, такой объединитель и требовался стране, когда настало время общими силами совершить великое дело.
В 70-х годах XIV века Московская Русь уже не признавала над собой власть Орды и не платила ей дани. В 1374 году в Переяславле-Залесском прошел съезд князей Северо-Восточной Руси, прибывших на торжества в честь рождения сына Дмитрия Ивановича, Юрия. Так проявилось новое, только-только рождающееся единство Руси. Жесткость московского политического курса может быть оправдана созданием под эгидой Москвы этого единства: без него борьба с Литвой и Ордой не имела ни малейших шансов на успех.
В Орде видели опасность московского своеволия и старались разжечь на Руси междоусобицы, посылали в набеги большие отряды. В ответ русские войска сами вторглись на земли Орды. Обе стороны готовились к большой войне, «прощупывали» силы друг друга. В 1377 году большое русское войско потерпело поражение на реке Пьяне. В 1378 году татарское войско во главе с мурзой Бегичем появилось на Рязанщине. Объединенная рать московской коалиции разбила его при попытке форсировать реку Вожу.
Если раньше генеральное боевое столкновение с Ордой не обещало Руси ничего, кроме тяжелого поражения и очередного разорения, то теперь у русских появился шанс. Во-первых, Москва могла собрать под своими стягами многих князей, чего раньше не получалось из-за политической раздробленности. Во-вторых, апогей ордынского могущества миновал. Со второй половины 1350-х годов Орда — в кризисе. Там свирепствует кровавая смута, ханы убивают друг друга, вступают в кровопролитные сражения, раздирают ранее единое государство на части. Иными словами, то, что прежде являлось слабостью Руси, теперь стало слабостью Орды.
Ордынский эмир Мамай захватил власть над значительной частью ордынских владений — хотя формально никаких прав на господство у него, человека «нецарской крови», не было. Ордой правили ханы-чингизиды. Чтобы удержать бразды правления, Мамаю требовался победоносный поход на Русь, полное подчинение непокорной Москвы. В 1380 году он вышел с разношерстной, многонациональной армией против Руси. Помимо самих татар и отрядов итальянских наемников, Мамай набрал в свое войско представителей разных народов, подвластных Орде. Источники называют отряды, состоявшие из выходцев с Северного Кавказа и Закавказья. К этому интернациональному воинству также присоединился большой конный корпус волжских булгар.
Великий князь, выступивший против него в поход, получил благословение от игумена Сергия Радонежского. У Дмитрия Ивановича собралась боевая сила из разных городов: к москвичам присоединились большая рать серпуховского князя Владимира Андреевича, ростовцы, суздальцы, белозерцы, владимирцы, ярославцы, ратники из Костромской, Стародубской, Северской земель, дружины многочисленных удельных городков Московского княжества, Переяславля-Залесского, Углича. Были здесь и два литовско-русских князя — Андрей Ольгердович Полоцкий и Дмитрий Ольгердович Брянский. И это еще не вся Русь! От участия в войне уклонились рязанский князь Олег Иванович и тверской князь Михаил Александрович. Но из Холма, издревле «тянувшего» к Твери, из Мурома и, видимо, из Пронска, исстари «тянувших» к Рязани, подмога прибыла. Близ Коломны армию Дмитрия Ивановича догнал новгородский конный отряд: недавно вечевая республика заключила мирный договор с Москвой, и честные новгородцы решили оказать ей помощь в святом деле. Великий князь Литовский Ягайло не пришел на помощь ни к Мамаю, ни к Дмитрию Ивановичу, ожидая их взаимного ослабления. Литовцы и рязанцы решились лишь «пощипать» небольшие отряды общерусской коалиции, расходившиеся по своим городам после битвы, да пограбить обозы с добычей[94].
Москве удалось собрать невиданную армию. Даже до Батыева разорения, в относительно благополучные времена конца XII — первой половины XIII века, никто не мог сконцентрировать военную мощь Северо-Восточной Руси! Теперь это удалось. Не одно княжество, не два и не пять — вся страна выходила на поле.
Прежде в открытых боевых столкновениях с татарами удача редко улыбалась русским. И теперь малодушные ратники разбегались по домам прямо на марше. Но большинство укрепило сердце, положилось на Бога и добралось до мест, где расположился Мамай.
В Московском княжестве особо почитали Пресвятую Богородицу. В день ее Рождества, 8 сентября 1380 года, две могучие армии вступили в сражение на поле Куликовом близ устья реки Непрядвы, за Доном[95].
Сражение стало противоборством конницы. Пешими отрядами не располагали обе стороны, или, возможно, незначительное количество пехоты мог выставить Мамай.
Вот ход сражения, как он восстанавливается по источникам. Ордынцы, их союзники и наемники таранят русские полки, вкладывая в прямые удары всю свою колоссальную мощь. Под их натиском гибнут сторожевой и передовой полки, едва держится большой полк — основа всей позиции. Как сообщает летопись, «бысть долгое время брань крепка зело и сеча зла. Весь день секлись, и пало бесчисленное множество убитых с обеих сторон, и помог Бог князю великому Дмитрию Ивановичу». Конный бой обычно скоротечен, лошади быстро выматываются, полки теряют организованность. Очевидно, на поле Куликовом конные резервы вводились в бой последовательно, а отдохнувшие от первой атаки силы могли вновь наносить удар. Фактически это была битва на взаимное истощение.
В долгом противоборстве московские воеводы сохранили решающий козырь. Когда ордынцы «увязли» в борьбе с основными силами русских на левом фланге, наиболее слабом, и ряды наших ратников начали пятиться, из-за леса нанес удар засадный полк. Эта неожиданная контратака привела Мамаевы полчища в состояние паники. Ордынцы бежали с поля боя, бросая скот, доспехи и прочее имущество; русские отряды гнали их и рассеивали. Мамай со срамом бежал в окружении свиты, теряя армию и свою необъятную власть…
В память о великой победе на поле Куликовом была сложена героическая поэма «Задонщина». Рассказ о разгроме Мамая завершается в ней такими словами: «Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки поганых[96] вспять поворотили и начали их бить и сечь жестоко, тоску на них наводя. И князья их с коней низвергнуты, и трупами татарскими поля усеяны, а реки кровью их потекли. Тут поганые рассыпались в смятении и побежали непроторенными дорогами в Лукоморье, скрежещут они зубами своими, раздирают лица свои, так причитая: „Уже нам, братья, в земле своей не бывать, и детей своих не видать, и жен своих не ласкать, а ласкать нам сырую землю и целовать зеленую мураву, а в Русь ратью нам не хаживать и даней нам у русских князей не испрашивать“. Застонала земля татарская, бедами и горем наполнившаяся; пропала охота у царей и князей их на Русскую землю ходить. Уже нет веселья в Орде. Вот уже сыны русские захватили татарские наряды, и доспехи, и коней, и волов, и верблюдов, и вина, и сахар, и убранства дорогие, тонкие ткани и шелка везут женам своим. И вот уже русские красавицы забряцали татарским золотом. Уже всюду на Русской земле веселье и ликованье. Вознеслась слава русская над хулой поганых».
Численность русских и ордынских войск на Куликовом поле неизвестна даже приблизительно[97], так же как неизвестны и цифры потерь с обеих сторон. Но судя по количеству погибших тогда аристократов — князей и бояр — битва отличалась необыкновенным ожесточением и победа в ней стоила дорого. Сам великий князь лично участвовал в сече и получил тогда ранение. Впоследствии за Дмитрием Ивановичем закрепилось почетное прозвище Донской — в честь битвы на Куликовом поле, где он был предводителем православного воинства. В 1988 году Русская православная церковь причислила его к лику святых.
В 1382 году новый ордынский властитель, хан Тохтамыш, пришел с большой армией под Москву и осадил город. Великого князя не было в столице, он собирал войска для отпора Тохтамышу. Митрополит Киприан также покинул город. Однако москвичи, затворив ворота, решили защищаться до последней крайности. Попытки ордынцев взять город не принесли успеха. Летопись впервые сообщает о применении на Руси огнестрельного оружия именно в 1382 году: стрельба с московских стен наносила страшный урон осаждающим. В конце концов защитников города хитростью принудили открыть ворота. Татары ворвались в Москву, запалили ее и подвергли разгрому. Хан распустил отряды с целью штурма и разграбления других городов. На Волоке русская рать князя Владимира Андреевича Серпуховского нанесла ордынцам чувствительное поражение. Тогда Тохтамыш, не дожидаясь серьезного контрудара из Костромы или от Волока, очистил город. Его полчища начали отступление с добычей и полоном.
Власть ордынцев над Русью восстановилась. Какое же значение имела битва на поле Куликовом? Северо-Восточная Русь научилась, как в старину, собираться воедино и бить даже самого многочисленного противника. Единство русских земель постепенно нарастало, в то время как огромная Орда слабела и раскалывалась на более мелкие государства. После Куликова поля окончательное прощание с ордынским игом стало делом времени.
Время, примыкающее к триумфу на поле Куликовом, к сожалению, отмечено не только великим подъемом национального и религиозного чувства, но и попытками великого князя поставить под контроль Церковь — великую силу, которая столь много дала ему. События, связанные с этими неблаговидными действиями Дмитрия Ивановича, известны под общим названием «замятии на митрополии».
В 1378 году скончался митрополит Алексий. Зная о скорой кончине, он пожелал видеть в преемниках Сергия, основателя Радонежской обители.
Преподобный Сергий в ту пору считался духовным светильником православной Руси. Он родился в семье ростовских бояр то ли в 1314-м, то ли в 1322 году. С первых лет жизни отрок Варфоломей (так звали Сергия до пострига) чувствовал тягу к Церкви и особенно к монашеству. По свидетельству жития святого, составленного его учеником Епифанием Премудрым, уже в детские годы вокруг него творились чудеса. Вместе со старшим братом Стефаном он принял монашество и поселился в 1337 году в глухой лесистой местности. На холме Маковец они выстроили деревянный храм во имя Святой Троицы. Не выдержав тягот неблагоустроенной жизни, Стефан покинул брата и отправился в Москву. Там он поселился в Богоявленском монастыре. История жизни Сергия трогает русское сердце отдаленным, но явственно слышимым зовом: оставь всяческую корысть, уйди из города, уйди в места дикие и пустынные, на остров посреди озера, в чащу, в пещеру и там, в тишине, размышляй о Боге, взывай к Нему, тогда Он ответит. Сергий удалился от суетной жизни. Он отыскал место, где молчаливое сосредоточение на диалоге с Господом, на мыслях о Нем ничем не могло быть прервано. Вести о благочестивом человеке, избравшем опасную и скудную жизнь пустынника, разнеслись по округе. Вокруг деревянного домика Сергия выросла маленькая община учеников — всего 12 человек, по числу апостолов у Христа. В 1354 году епископ Афанасий Волынский поставил Сергия во игумены. Настоятель Свято-Троицкого монастыря на Маковце ввел общежительный устав, столь необычный на Руси. Так с маленькой лесной обители началась великая реформа русского монашества. Духовный авторитет Сергия был необыкновенно высок. Время от времени он покидал свой маленький монастырь и отправлялся в дальние походы, увещевая князей Русской земли отказаться от междоусобных войн. В 1380 году игумен дал благословение общерусской рати, отправлявшейся на войну с Мамаем.
Но когда ему, быть может, самому достойному пастырю монашества на всей Руси, предложили стать митрополитом Московским после кончины Алексия, Сергий решительно отказался. Не для того он забрался в лес и там одиноко молился Богу, чтобы переселиться в шумную Москву и заняться делами большой политики. Сергия упрашивали сам великий князь и московская знать. Тщетно! Игумен Радонежский стоял на своем.
Тогда на место Алексия великий князь захотел поставить своего доверенного человека, попа Митяя, скоропостижно сделавшегося иноком с именем Михаил. Сего «новоука в монашестве» и притеснителя московского духовенства великий князь попытался «провести» через церковный собор как преемника Алексия. Но на соборе не сложилось единодушия. И в Константинополь, на утверждение патриарху, отправились два претендента: Михаил-Митяй и епископ Суздальский Дионисий. Вместе с тем на Московскую митрополию желал взойти также большой книжник болгарин Киприан, до смерти Алексия духовно окормлявший некоторые западнорусские области.
Киприан попытался было самочинно занять митрополию. Но его, ограбив, вышибли из Москвы самым оскорбительным образом.
Михаил-Митяй умер по дороге. Заемными письмами, по которым он мог получить у греков изрядные деньги, воспользовался его спутник Пимен — настоятель Горицкого монастыря в Переяславле-Залесском. Явившись в Константинополь, он объявил себя претендентом на митрополию и получил у патриарха соответствующее подтверждение. Серебро, взятое в долг, сыграло свою роль. Дионисию же, не располагавшему столь веским «аргументом», дали всего лишь почетный сан архиепископа.
Дмитрий Иванович, узнав о самоуправстве Пимена, разгневался. Виновник отправился в ссылку, а Москва под звон колоколов приняла Киприана.
Вся эта недостойная возня получила продолжение. Киприан, вызвав недовольство великого князя, вновь утратил власть над Московской кафедрой. Призвали Пимена. Но к нему, лукавцу, не было ни доверия, ни уважения.
Великий же князь нимало не унимался. Имея здравствующего, хотя и нежеланного митрополита, он в 1383 году отправил к константинопольскому священноначалию кандидата на его замену — того же Дионисия. Человек высокой монашеской школы, непримиримый противник ересей, он смотрелся бы на митрополии много достойнее Пимена. Его патриарх утвердил, но литовцы задержали Пимена на обратном пути и не отпустили из своих владений. Дионисий ушел из жизни, так и не добравшись до Москвы.
Пимен, формально изверженный из сана, должен был совершить два путешествия к грекам. Его мытарства и злоключения кончились печально. Не добившись своего, он скончался на чужбине в 1389 году, отлученный от Церкви.
Выбора больше не оставалось. Единственный, пусть и не любимый великим князем, претендент на Московскую кафедру, Киприан получил полное признание у наследника Дмитрия — Василия I. Ибо в том году, когда расстался с жизнью странный митрополит Пимен, Господь позвал к себе на суд и Дмитрия Ивановича. «Замятия на митрополии» пришла к финалу, и, кажется, сам Бог подвел ей итог…
ЕВФРОСИНИЯ-ЕВДОКИЯ МОСКОВСКАЯ Верная супруга
Будущая супруга Дмитрия Донского родилась в семье одного из крупнейших политиков Руси того времени — суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича. Большая, но непрочная, можно сказать, эфемерная держава, которой он правил, оказывалась то врагом, то союзником Московского княжества. И брак его дочери Евдокии с шестнадцатилетним московским князем Дмитрием Ивановичем имел все признаки политического альянса. Предположительно, сам преподобный Сергий Радонежский, желая мира на Руси, помог договориться о его заключении.
К тому времени княжне исполнилось 13 лет — она появилась на свет около 1353 года. У ее супруга все главные деяния были еще впереди: и строительство белокаменного кремля, и победа на Куликовом поле. Пока что он немногим проявил себя в большой державной работе.
Несмотря на политическую подоплеку, брак двух молодых людей удался. Евдокия Дмитриевна осчастливила мужа двенадцатью детьми. Двое из них, Василий и Юрий, впоследствии займут Московский великокняжеский престол.
Их супружество не омрачалось ничем, помимо тяжелой вооруженной борьбы, которую приходилось вести Дмитрию Ивановичу с литвой и Ордой. Изнемогая в этом противостоянии, князь находил отдохновение и поддержку в своей жене. До наших дней дошло завещание Дмитрия Донского от 1389 года. По его тексту видны и большая любовь князя к жене, и огромное доверие к ней.
Дмитрий Иванович позаботился о ее «вдовьем прожитке» так, как прежде никто из московских правителей не заботился о супругах. Евдокии Дмитриевне он завещал большой удел, разбросанный по разным областям подвластной ему державы. Туда вошло с полсотни городков, сел, деревень, слободок, в том числе Верея, Канев, Песочна, Кропивна. Пользовалась княгиня и доходами от владений в самой Москве. После смерти супруга она сделалась одним из богатейших земельных собственников Северной Руси. Кроме того, ей достались золото, серебро, стада…
Но это еще не всё. По тексту завещания князь рассыпал множество напоминаний своим сыновьям: слушайтесь мать и не «вступайтесь» в ее имущество! В первых же строках документа говорится: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, се яз, грешный худый раб Божий Дмитрий Иванович, пишу грамоту душевную целым своим умом. Даю ряд сыном своим и своей княгине. Приказываю дети свои своей княгине. А вы, дети мои, живите заодин, а матери своее слушайте во всем».
Далее следует: «А по грехом, которого сына моего Бог отъимет, и княгиня моя поделит того уделом сынов моих. Которому что даст, то тому и есть, а дети мои из ее воли не вымутся». Иначе говоря, Дмитрий Иванович оставлял на свою супругу большое государственное дело: определять, кому из его сыновей какая доля достанется из выморочного имущества братьев. Если же скончается старший сын Дмитрия Ивановича, Василий, то обязанность переделить между братьями все огромное наследие — опять-таки у Евдокии Дмитриевны.
Еще более серьезная и ответственная задача: «А у которого сына моего убудет отчины, чем есми его благословил, и княгиня моя поделит сынов моих из их уделов. А вы, дети мои, матери слушайте». То есть Евдокия Дмитриевна получала право отбирать у своих сыновей часть полученной по завещанию земли и отдавать тому из них, кто неожиданно потерял часть своих владений.
И в финале: «А приказал есми свои дети своей княгине. А вы, дети мои, слушайте своее матери во всем, из ее воли не выступайтеся ни в чем. А который сын мой не имет слушати свое матери, а будет не в ее воли, на том не будет моего благословенья».
Доселе ни одна женщина не получала столько власти на Москве. Завещание Дмитрия Донского сделало его вдову крупным политическим деятелем, во многом поставило выше его наследника — Василия I. Между тем, когда скончался отец, Василию уже исполнилось 18 лет и он считался полностью взрослым человеком.
Евдокия целомудренно блюла память покойного супруга на протяжении без малого двух десятилетий. Она отличалась большим благочестием, щедро творила милостыню, до крайности умерщвляла плоть воздержанием — такой запечатлела ее церковная традиция.
Именно Евдокия Дмитриевна основала в Московском кремле Вознесенскую обитель, которую впоследствии стали называть «Стародевичьим монастырем»[98]. Позднее, в 1393 году, княгиня распорядилась возвести большой каменный храм во имя Рождества Богородицы — также на территории кремля. Храм частично сохранился до наших дней. На средства княгини велось большое церковное строительство и в Переяславле-Залесском.
В 1407 году она удалилась в учрежденный ею Вознесенский монастырь, где вскоре приняла иноческий постриг под именем Евфросинии. Ее монашество продлилось недолго — всего несколько недель. Но до своей кончины инокиня Евфросиния успела отдать важное повеление: обитель должна украситься новой каменной церковью (прежде тамошние постройки были деревянными). 7 июля она скончалась. К тому времени строительство началось, и державную монахиню погребли там, где в скором времени предстояло подняться новому храму.
Современный историк Л. Е. Морозова указала на особое внимание Евдокии Дмитриевны к летописанию и живописи. В 1395 году знаменитый мастер церковной живописи Феофан Грек начал расписывать основанный ею Рождественский храм. Видимо, сама княгиня пригласила его в Москву — «ведь трудно предположить, что кто-либо другой стал заниматься украшением построенной ею церкви». Возможно, и позднее Феофан Грек расписывал фресками русские храмы именно по инициативе Евдокии Дмитриевны. Исследовательница выдвигает смелую гипотезу, согласно которой княгиня помогла художнику «собрать талантливых русских мастеров, включая ставшего потом знаменитым иконописцем Андрея Рублева». Кроме того, по ее предположению, не кто иной, как Евдокия Дмитриевна заказала составление большого летописного свода, вошедшего в русскую историю под названием Троицкой летописи[99]. Видимо, она следила за работой летописцев и активно вмешивалась в нее там, где желала утвердить правильное отношение к тому или иному персонажу, событию. Прямые свидетельства на сей счет отсутствуют, однако участие княгини в делах летописания и приглашение ею Феофана Грека хотя бы для росписи одной Рождественской церкви весьма вероятны.
Русская православная церковь прославила княгиню как святую в чине преподобных. Память ее отмечается 17 (30) мая и 7 (20) июня. В 2007 году появилась высокая церковная награда — «орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской». В 2010 году во имя святой Евфросинии был освящен столичный храм на Нахимовском проспекте. Туда перенесли часть от ее мощей. Ныне она почитается как одна из небесных покровительниц города.
ВАСИЛИЙ I Владыка осколков
В конце XIV — начале XV века над Русью несколько раз нависала грозная опасность масштабных вторжений с востока. Между тем после Тохтамышевой рати Москва долгое время не могла полноценно играть роль объединителя национальных сил в борьбе с внешней опасностью.
Московским княжеством правил сын Дмитрия Донского Василий I. Он родился в 1371 году, а на великое княжение взошел в 1389-м. Ему достались осколки прежнего могущества Москвы. И главной задачей Василия Дмитриевича стало восстановление ее сил.
Изучая его на первый взгляд неяркое, исполненное горечью потерь и лишь на последнем отрезке спокойное и стабильное правление, невозможно отрешиться от одной грустной мысли. Несколько государей московских копили силу. Понемногу, не торопясь, ведя бесконечную политическую игру без козырей на руках, но с умом и несгибаемым упорством, они создали зачаток великой державы. Дмитрий Донской вывел всю мощь этой державы в поле. И что же? Насколько ее хватило? Два-три раза как следует ударить по ордынцам да сдержать победоносный натиск литвы на восток. Всё! Потом ресурсы закончились. Объективно и Орда, и литва во второй половине XIV столетия оставались намного сильнее, богаче, многолюднее коалиции русских княжеств, возглавленной Москвой. Василию I досталась страна, надорвавшая жилу. Он мог дать ей время на выздоровление и новое усиление, а мог бросить в отчаянную вооруженную борьбу с ордынской и литовской глыбами остатки ее былой мощи. Московский правитель избрал первый путь. Не очень-то красивый, лишенный героизма и даже порой унизительный… зато оптимальный.
Этот человек сочетал в себе дипломатический талант, осторожность и должную твердость. Ему пришлось править в очень тяжелое время. Не желая отправлять в жерло новой большой войны потрепанную Русь, он более склонялся к гибкости, нежели к использованию военной мощи. Историки спорят по поводу личности этого человека: что более руководило им — ум изворотливого тактика или дюжинная робость? Похоже, все-таки в большей степени первое. Робкий человек вряд ли продержался бы на великокняжеском престоле 36 лет. Особенно в эпоху бурь и потрясений…
Василий Дмитриевич знал Орду, как никто другой из Московского княжеского дома. В отрочестве он несколько лет провел в заложниках при хане Тохтамыше. Бежав из Орды, он нашел пристанище сначала у молдавского господаря, потом в Литве и вернулся домой долгим кружным путем. В странствиях своих он познакомился с литовским князем Витовтом и сговорился о женитьбе на его дочери Софье.
Василий Дмитриевич вел гибкую, порой уступчивую политику по отношению к могущественной в то время Литве. Дело тут не только в родственных отношениях с Витовтом. Василий I желал обезопасить княжество с запада. При Василии Дмитриевиче Витовт захватил Смоленск, прошел с огнем и мечом по Рязанщине. Москва ему в этом не препятствовала: как Смоленск, так и Рязань в числе ее союзников никогда не значились. А вот за свои права на Новгород с Псковом и за покорность этих городов великий князь готов был вести войну с кем угодно. Вечевую республику он усмирял вооруженной рукой. За убийство одного сторонника Москвы великий князь мог лишить жизни десятки новгородцев. Он также пытался отторгнуть часть новгородских земель, но не преуспел в этом. На угрозу Витовта Пскову Василий Дмитриевич ответил боевым выходом московских войск (1406). Используя неприязнь между Ордой и Литвой, великий князь получил от татар отряд в подмогу. Чувствуя нарастающую на востоке силу, ко двору Василия I перебегали опальные русско-литовские князья. Он также решился на контрудар, когда литовцы взяли Одоев (1408). Василий Дмитриевич не хотел воевать с Великим княжеством Литовским: оно пребывало на пике своей силы, Москва ему значительно уступала. Но время от времени показывал западному соседу границу его притязаний. Армии сходились, но ни тесть, ни зять не решались начать битву, и стороны договаривались мирно.
Зато на Руси у него были развязаны руки, и в 1390-х годах Василий I присоединил к Москве Нижний Новгород, Городец, Муром, иные волости. Целый куст нижегородских князей оказался у него в подчинении. К концу правления Василий Дмитриевич обладал даже ббльшим ресурсом, чем его отец.
Все достижения Василия I были поставлены на карту летом 1395 года. В южнорусские земли с колоссальной армией явился среднеазиатский завоеватель Тамерлан, или Темир-Аксак, как именовали его русские летописи. Войска Тамерлана захватили Елец. Великий князь собрал войска и направился к Коломне. В планы московского командования входило дать бой на Оке — она служила естественным оборонительным рубежом Московской Руси. Вся Русская земля с тревогой ждала страшного врага и готовилась дать ему отпор. Митрополит Киприан велел перевезти из Владимира в Москву древнюю святыню — чудотворную икону Владимирской Божьей Матери, написанную, по церковному преданию, евангелистом Лукой[100]. 26 августа 1395 года москвичи собрались, чтобы встретить святыню. Впоследствии стало известно, что в тот же день Тамерлан покинул Русь, не решившись пойти к Москве. «И бысть в граде Москве радость велика», — сообщает летопись. Отступление Тамерлана связали с заступничеством чудотворной иконы. Сам этот день стали отмечать как большой церковный праздник — Сретение (встреча), а за городом, в месте встречи, был построен Сретенский монастырь.
В отношениях с Ордой Василий I сочетал покорность и жесткость. Проведя столько времени среди ордынцев, он знал, а может быть, чувствовал, когда они сильны, а когда слабы. Поэтому время от времени отправлялся в Орду за ярлыками, платил дань, изъявлял подчиненное положение, но чуть только видел в Орде слабость и смуту, сейчас же прекращал выплаты и выводил войска бить татар. Чаще всего Василий Дмитриевич своего достигал. Но один раз он все-таки просчитался.
В Золотой Орде утвердился сильный правитель Едигей. В 1399 году он разбил армию Витовта на реке Ворскле. Власть ордынцев на русских землях давно была не та, что в 1382 году, после Тохтамышева разгрома Москвы. Едигей стремился упрочить ее и в 1408 году вторгся в пределы Московского княжества. Нападение было неожиданным, времени на сбор полков ордынцы не дали. Василий I с семьей отправился в Кострому, чтобы сконцентрировать там отряды со всей Северо-Восточной Руси.
Оборону Москвы возглавил удельный князь Серпуховской и Боровский Владимир Андреевич, талантливый полководец, прозванный Храбрым. Это одна из крупнейших фигур русской истории XIV века. Владимир Андреевич приходился Ивану Калите внуком и занимал видное место в семействе московских Рюриковичей-Даниловичей. Князь превосходил Василия I и возрастом, и опытом. Какое-то время он конфликтовал с венценосным родичем. Но затем помирился, получив приращение к своему уделу. Владимир часто возглавлял войска в дальних походах и сражениях, добился ярких успехов на бранном поле: совершал удачные набеги на литву, нанес решающий удар Мамаю в ходе Куликовской битвы 1380 года, разбил отряд Тохтамыша в 1382-м. В его правление Серпухов украсился Высоцким монастырем. Само его имя и прежние победы внушали надежду москвичам. Когда в столице началось смятение, перераставшее в мятеж, князь Владимир не дал мятежникам помешать защите города. Подойдя к городу, Едигей встал в селе Коломенском. Осада продлилась несколько недель, но не дала татарам ни единого шанса на успех. От московских стен их отбивали стрельбой. К тому же из Орды пришли тревожные вести о мятеже. Едигею пришлось отказаться от своего плана. Взяв выкуп, он отступил. Столица была спасена.
Однако цена за нерасторопность в военных делах оказалась непомерно высокой: татарские отряды сожгли тогда Нижний Новгород, Ростов, Дмитров, Городец, Переяславль-Залес-ский… Множество русских пленников ордынцы безнаказанно угнали к себе. Едигеев набег показал: Русь достаточно сильна, чтобы отбиться от ордынцев, но ее оборона слишком громоздка и неповоротлива. Большей мобильности и эффективности военной системы удалось добиться лишь в эпоху Московского централизованного государства, когда политическая раздробленность Руси больше не мешала собирать войска и бросать их в бой по единому плану.
Но и при Василии I Русь сумела взять своего рода «реванш». В 1424 году орда татарского «царевича» Куидадата была разгромлена русскими под Рязанью. Великий князь послал туда войска, но они не успели: южнорусские князья сами разбили неприятеля.
При беглом взгляде на княжение Василия I в глаза бросается его нежелание всерьез, масштабно воевать. Умирая в 1425 году, великий князь даже назвал чужеземного правителя Витовта первым среди тех, кому завещал заботу о своем сыне Василии. Но эта его смирная политика избавила Русь от риска новых потерь и дала ей время залечить раны. Василий Дмитриевич обеспечил тишину на своей земле. И эта тишина дала появиться многому доброму.
При нем поднялся кремлевский Благовещенский собор, расписанный в 1405 году Феофаном Греком, Андреем Рублевым и Прохором с Городца. При нем были достроены церковь Успения в Симонове монастыре и каменный же Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря. При нем из-под кисти Андрея Рублева явилась икона Святой Троицы[101]. Эта икона одаривает всякого, кто встанет перед нею, необыкновенной гармонией, хотя была создана в эпоху войн и смут.
ВАСИЛИЙ II ТЕМНЫЙ Упрямец
Московские князья правили своей землей подобно тому, как рачительные хозяева-вотчинники управляют земельными владениями. Рядом с ними всегда были родичи, и собственность на огромную вотчину была не столько единоличным правом князя, сколько правом всего княжеского рода.
Со времен Ивана Калиты братья московского государя традиционно становились крупными удельными князьями, уделы поменьше получали иные родственники, например сыновья, и обязательно — вдова прежнего правителя. Она нередко играла видную роль в московской политике. Таким образом, княжество оказывалось семейным владением. Роль «продолжения семьи», или «второго круга семьи», играли боярские роды, из поколения в поколение служившие государям московским. В их число постепенно включались князья и бояре с земель, попадавших под власть Москвы. Этот порядок складывался в течение полутора веков, и вся правящая верхушка княжества была им вполне довольна. Однако сила удельных князей всегда грозила целостности княжества, а процветание его зависело от «семейного мира» и отношений правящего княжеского дома с боярством. Только в XVI столетии уделы перестанут быть силой, по-настоящему опасной для государей, и отойдут на второй план в политической жизни страны.
Во второй четверти XV столетия мир оказался нарушенным, и это привело к катастрофическим последствиям.
В Московском княжеском доме было две традиции престолонаследия: от отца к сыну и от старшего брата к младшему, минуя сыновей старшего брата. Обе они применялись в равной мере. К началу XV столетия «отчина» использовалась при передаче московского стола четыре раза, а «братчина» — два раза. В Твери, Рязани и Суздале «братчина» шла в ход чаще. В Ростове преобладала «отчина». В Смоленске они выпадали с примерно равной частотой. Иными словами, единого порядка на Руси не существовало. На Москве постепенно утвердилась первая из традиций, полностью вытеснившая вторую. Но этому предшествовала страшная внутренняя война, продлившаяся четверть века и унесшая множество жизней. На протяжении века Московский княжеский дом хранил единство, однако на сей раз оно оказалось расколотым.
В 1425 году скончался великий князь Василий I. Он передал власть своему сыну, десятилетнему Василию Васильевичу (Василию II), а также его матери Софье Витовтовне. Это шло вразрез с интересами младшего брата Василия I, князя Юрия Дмитриевича, владевшего огромным уделом, куда входили Звенигород и Галич. Он был опытным и удачливым полководцем, зрелым мужчиной, на него указывало правило «братчины». Более того, завещание Дмитрия Донского позволяет думать, что великий князь предполагал передачу ему престола после Василия I (а если не престола, то хотя бы удельных земель Василия). Но завещание Дмитрия Донского составлялось до того, как Василий I женился и у него родился сын. Поэтому у государя-мальчика были все права на власть по «отчине».
Юрий Звенигородский не смирился с этим и начал борьбу за Москву и великое княжение. После нескольких лет противостояния престол все-таки был закреплен за правителем-ре-бенком. Однако для начала нового «раунда» военных действий требовался только повод. Старшего сына Юрия Звенигородского, князя Василия, неосторожно обвинили в краже драгоценного пояса из великокняжеской казны. Это произошло на свадьбе великого князя, при большом стечении людей, и обида сына вызвала решительные действия отца. Юрий Звенигородский разбил на Клязьме московскую рать и въехал в столицу. Теперь он получил возможность объявить себя великим князем. Его неудачливый племянник Василий II получил в удел Коломну.
Тут впервые сыграла роль необычайная крепость московского политического порядка: столичные бояре не желали его рушить. Они опасались наплыва чужаков из Галича, отказывали в повиновении Юрию Дмитриевичу и отъезжали к Коломне. Тот, не чувствуя себя в силах удержать город, отдал его племяннику и вернулся в свой удел. Но Василий II стремился к полному разгрому дяди. В результате его армия опять потерпела поражение, а Заклятый враг Юрий Дмитриевич вновь въехал в Москву и вновь стал великим князем. Ему удалось восстановить древнюю справедливость, однако правление его длилось недолго: в 1434 году Юрий Дмитриевич скончался. Верховная власть сначала ненадолго перешла к его сыну Василию, а затем опять вернулась к Василию II. Его двоюродный брат подвергся ослеплению. Отсюда прозвище Василия Юрьевича — Косой.
Будучи внуком Дмитрия Донского, Василий II имел задиристый нрав при полном отсутствии военного таланта. Лично храбрый человек, он был скверным полководцем и недальновидным политиком. Это легко объясняется: рано умерший отец просто не успел научить маленького сына премудростям «работы» государя. Когда Василий Васильевич возглавлял воинство, поражение становилось делом времени. Однако у него имелось одно важное для правителя качество: твердая воля. С необыкновенным упрямством он выкарабкивался из самых тяжелых обстоятельств, цеплялся за любую возможность обратить поражение в победу. Великий упрямец, он много раз терял престол, но возвращал его себе, даже превратившись в жалкого пленника или беспомощного инвалида.
В 30—40-х годах XV века Василий II терпит несколько поражений от сравнительно небольших сил татар. 1445 год ознаменовался военной катастрофой: московская рать была разбита под Суздалем, сам великий князь оказался в плену у ордынцев. Выкуп за него потребовали чудовищный, просто разорительный… Лишь пообещав сполна уплатить его, Василий II освободился из плена.
Война вспыхнула с новой силой. Великий князь Василий Васильевич не пользовался популярностью. Бесчинства ордынцев, прибывших в Москву вместе с ним, вызвали в народе ропот. И князь Дмитрий Юрьевич Шемяка, один из сыновей Юрия Звенигородского, в 1446 году налетом захватил Москву. Василия И, уехавшего на богомолье, захватили в плен в Троице-Сергиевой обители, ослепили и заставили, целуя крест, поклясться в том, что больше он не будет претендовать на престол. Незрячий князь получил впоследствии прозвище Темный. Затем Шемяка выделил бывшему великому князю Вологду в удел и отправил его туда.
Правление Шемяки привело к усилению уделов и поставило на грань гибели единую систему управления Московской Русью. Этот правитель оставил по себе память как беззаконный человек. К тому же при нем выпущена была монета, содержавшая меньше чистого серебра, чем раньше. От него пострадали аристократические роды, выступавшие на стороне Василия II. Всё это не расположило к Шемяке ни народ, ни столичное боярство.
Сторонники свергнутого Василия II вновь составили коалицию. Игумен Кирилл о-Белозерского монастыря Трифон отрешил опального правителя от крестоцеловальной клятвы. Противники Шемяки действовали быстро и решительно. В 1447 году князя Дмитрия Юрьевича заставили покинуть Москву — недолго же длилось его правление!
Несколько лет военное противоборство еще продолжалось, однако в 1450 году всё было кончено: московская рать покорила Галич, удельную столицу Шемяки. Сам он бежал в Новгород и собирался продолжить войну. Однако в 1453 году его постигла смерть от отравления. По всей видимости, московское серебро решило исход войны вернее, чем московская сталь. А может быть, новгородцы сами решили избавиться от человека-проблемы, крепко ссорившего их с могучей Москвой…
Рассчитывая на слепоту Василия II, его политические противники пытались лишить Москву ее силы и власти, накопленных в течение предшествующих полутора веков. После смерти Шемяки Новгород вступил в открытый вооруженный конфликт с великим князем, однако в 1456 году потерпел поражение. Новгородцы должны были подписать выгодный для Москвы Яжелбицкий договор. Позднее в самой столице возник заговор, подавленный весной 1461 года с чрезмерной суровостью.
Последние годы жизни Василий II опирался на сына Ивана, сделав его соправителем. Тот рано получил самый черный политический опыт и не позволял противникам отца лишний раз поднять голову.
На счастье Василия Васильевича, в супруги ему досталась княжна Мария, дочь удельного князя Ярослава Боровского. Это была терпеливая и мудрая женщина. Она родила мужу восьмерых детей и преданно следовала за ним и в счастье, и в несчастье.
Если бы не верность, энергия и упорство московского боярства, столь бесталанный правитель, как Василий II, не усидел бы на престоле. Несокрушимые плечи виднейших боярских родов держали его на плаву и подталкивали наверх из новых и новых безнадежных ситуаций. Армия московской знати всегда выступала на его стороне и оказывалась решающей силой в междоусобной войне. Следовательно, боярство склонно было до последней крайности защищать тот «вотчинный порядок» управления Московским княжеством, который сложился еще в XIV столетии.
Со смертью Василия II пойдет на убыль долгая удельная эпоха на Руси. Его сын Иван нанесет смертельный удар политической раздробленности. У него имелись к тому самые серьезные основания: мыкаясь с отцом, он увидел воочию, каковы плоды междоусобных браней.
ЮРИЙ ЗВЕНИГОРОДСКИЙ Благочестивый полководец
В русской истории за князем Юрием Дмитриевичем закрепилось прозвище, данное по одному из его владений, — Звенигородский. Память о том, что он дважды восходил на московский великокняжеский престол, почти стерлась. В списках государей московских его имя упоминается далеко не всегда. Но военно-политическая деятельность князя имела общерусский масштаб, и судить о нем следует именно с этой точки зрения.
Он правил недолго. Но даже не в этом причина забвения Юрия Дмитриевича как крупной политической фигуры. Просто в нашем историописании утвердилась конструкция, согласно которой он играл роль мятежника, зачинателя смуты, восставшего против своего племянника Василия Васильевича, законного престолонаследника. Но нравственный облик Юрия Дмитриевича и его действительные права на великокняжеский венец никак не соответствуют столь упрощенному взгляду на большое московское междоусобие, в котором он оказался одной из центральных фигур.
Это был прежде всего храбрый, умелый и удачливый воитель. Кроме того, человек большой веры. К несчастью, христианское благочестие и дар полководца соединялись в характере князя с большим честолюбием. Гремучая смесь! Юрий Дмитриевич мог проявить искреннюю любовь к Церкви, умение бесстрашно выходить на защиту православия, духовную просвещенность и многие другие черты доброго христианина… но только не смирение.
Он родился осенью 1374 года и приходился третьим сыном великому князю Московскому Дмитрию Ивановичу. Через пять лет Даниил, старший из сыновей Дмитрия Донского, ушел из жизни. Тогда потенциальным наследником престола сделался второй сын Василий. Поскольку ему пришлось на протяжении нескольких лет вести опасную жизнь заложника в Орде, перед Юрием еще в детстве открывалась перспектива занять место отца. Вести о казни старшего брата по воле хана могли прийти в любой момент… Скорее всего, второго княжича целенаправленно обучали искусству управлять людьми, вести дела судебные, выводить полки в поле.
Но когда скончался отец (1389), старший брат уже пребывал в Москве и получил великое княжение. Из Орды ему пришлось бежать и добираться до отечества долгим кружным путем… Юрию же Дмитриевичу по отцовскому завещанию достались обширные владения. В их составе — часть Москвы, Звенигород, Галич, Руза, Сурожик, Кремична, Вышгород, богатые села под Москвой, близ Ростова и Юрьева, рядом с Костромой. К ним прилагались два роскошных золотых пояса. Позднее Василий I отдал ему и Вятку. Очевидно, это было сделано в самом конце правления Василия Дмитриевича, во второй половине 1410-х или в 1420-х годах. Делая столь щедрое пожалование, великий князь, скорее всего, хотел смягчить позицию князя Юрия по вопросу о том, кому перейдет великокняжеский венец после кончины самого Василия I.
А проблема наследника со всей ясностью встала перед семейством Даниловичей…
К тому времени, когда Василий Дмитриевич собрался в последний путь, его младший брат Юрий княжил на своем уделе три с половиной десятилетия. И перед всей Русью Московской он зарекомендовал себя как опытный политик, превосходный военачальник и друг Церкви.
Именно он вел переговоры в Орде о предоставлении ярлыка на великое княжение брату Василию и с успехом завершил столь важную миссию.
Именно он сыграл роль младшего командира при князе Владимире Андреевиче Серпуховском, силой оружия приводившем Новгородчину к покорности. Позднее он отправлял своих бояр воевать на окраинах вечевой республики.
Именно он водил московские полки на Нижний, помогая Василию Дмитриевичу присоединять к Москве новые земли. Притом в Нижегородчине князь вел себя милостиво: не позволял дружинникам разорять тамошних жителей.
Именно он ходил с большим воинством на волжских булгар. Ураганом прошелся по вражеским землям, взял 14 городов и вернулся с богатой добычей.
Именно он возвел в Звенигороде на Городке впечатляющую крепость.
Духовником Юрия Дмитриевича являлся преподобный Савва Сторожевский, один из великих подвижников русского монашества. Под его добрым водительством князь велит возвести два больших каменных собора — Успенский на Городке и Рождественский на горе Сторожи, именно там, где позднее поднимется теплая громада Саввино-Сторожевской обители. Его же средства использовались при строительстве Троицкого собора в Троице-Сергиевой обители.
Чем не преемник Василию I? Но у того имелся сын, ничем себя не проявивший мальчик Василий. И, разумеется, великий князь желал передать ему престол.
Между тем в завещании Дмитрия Донского от 1389 года говорилось: «А по грехом отъымет Бог сына моего, князя Василья, а хто будет под тем сын мой, ино тому сыну моему княж Васильев удел». О чем идет речь? Об огромной территории великого княжения? О верховной власти во всей Московской державе? Или о Коломне, части Москвы и россыпи богатых сел, которые Василий Дмитриевич получил от отца именно в удел? На сей счет ведутся споры. Контекст документа говорит, скорее, о том, что в случае смерти Василия I следующий по старшинству брат получал Коломну с селами[102]. Но при возникновении конфликта эти строки могли трактоваться и в пользу передачи следующему сыну Дмитрия Донского всего великого княжения.
Таким образом, у современников хватало причин политического, бытового и юридического характера, чтобы увидеть в Юрии Дмитриевиче своего следующего государя. Василий I, вероятно, и отдал ему Вятку, стремясь компенсировать будущую потерю прав на московский престол. Ибо в своем завещании от 1423 года Василий Дмитриевич написал: «А даст Бог сыну моему великое княженье, ино и яз сына своего благословляю, князя Василья». Сама форма записи говорит о том, что Василий Дмитриевич желал вручить бразды правления сыну, а не брату, но опасался: не уйдет ли власть из рук отрока? Отдадут ли ему ярлык на великое княжение ордынцы? Не потеснит ли его дядя?
Опасения его оправдались.
Борьба разгорелась сразу же после кончины Василия Дмитриевича[103]. Князь Юрий не признал старшинства своего малолетнего племянника: честолюбие не позволило… Начались боевые действия. Но за хрупкой фигурой правителя-мальчика стояли многолюдное московское боярство, другие удельные князья Московской Руси (в том числе сыновья Дмитрия Донского Андрей, Петр и Константин Дмитриевичи, поддержавшие племянника) и — в перспективе — тяжкая рука Витовта, его деда по материнской линии. На первом этапе Юрий Дмитриевич мог лишь цепляться за свои северные владения в районе Галича да уповать на поддержку нижегородцев. Нижний и помог ему. Как видно, тамошние полузависимые от Москвы князья рассчитывали вернуть себе полную независимость руками Юрия Дмитриевича, если он взойдет на престол и вспомнит их благодеяния.
В конце концов стороны договорились: князь Юрий смирился с главенством Василия Васильевича, никто не понес территориальных потерь. Война грозила всей земле страшными бедствиями. Витовт уже вторгся в новгородские пределы, видя, что на Москве усобица и с этой стороны отпора ему не будет. Тверь, Рязань, Пронск приняли союз с Витовтом, согласились на военную поддержку и покровительство Литвы. Татары напали на Галич. Город им взять не удалось, люди Юрия Дмитриевича отбились, но волость сильно пострадала от набега. Новый ордынский удар обрушился на Кострому, Плес, Лyx. К тому же на Руси бушевал чумной мор… Требовалось единство, требовался покой.
В 1430 году умер Витовт. Юрий Дмитриевич, не чая от литовского правителя вмешательства в московские дела, «разверже мир с великим князем Василием Васильевичем».
Пришлось прибегнуть к ханскому «арбитражу». Орда после долгой «при» склонилась в пользу Василия Васильевича. Юрию Дмитриевичу в знак подчинения даже велели повести под уздцы коня с сидящим на нем племянником. Но от такого позора дядю, уже немолодого человека, Василий Васильевич избавил. В качестве компенсации за поражение в главном деле князь Юрий получил к своему уделу ярлык на богатый Дмитров с окрестностями.
Непрочный мир вскоре разрушился. Стремительный удар галицко-звенигородской рати опрокинул войско Василия II. В 1433 году Юрий Дмитриевич вошел в Москву и, таким образом, силой утвердился на великом княжении. Но Москва его не поддержала. Бояре уходили от него к побежденному племяннику. И даже собственные дети встали к нему в оппозицию… Князь Юрий удерживал главенство на Руси всего лишь полгода, а затем отступился от престола. Полюбовно договорившись с племянником, он взял взамен ярлыка на Дмитров обширные земли на Костроме и Белоозере и Бежецкий Верх.
Дети Юрия Дмитриевича оказались вдруг неприятелями и своему отцу, и Василию II. Два князя договорились не «принимать» их у себя, то есть ни в чем не помогать им. Но когда Василий II отправил против них рать, отцовское сердце не выдержало: Юрий Дмитриевич помог детям разгромить московское войско, дал им воевод «со многими ратными людьми». Тогда племянник отправил полки на Галич, спалил его, а людей тамошних пленил. Последовали ответный поход Юрия Дмитриевича и новое поражение коалиции, стоявшей за Василия II, — на речке Могзе, в Ростовской земле.
Князь Юрий обладал недюжинным даром полководца. Располагая малыми силами, он не давал себя разбить. При любой оплошке неприятеля нападал сам и добивался успеха. Ему удавалось вести маневренную войну, постоянно опережая противника на один ход.
Историк А. А. Зимин видел в Юрии Дмитриевиче еще и «выдающегося политического деятеля», но это вопрос спорный. Князь Юрий являлся в первую очередь человеком меча, блистательным тактиком, а уж потом — человеком совета, то есть политическим стратегом. Конкретные его шаги заставляют признать в нем опыт государственного устроения. Но политический дар? Бог весть. Возможно, из него вышел бы хороший правитель для всей Руси, истосковавшейся по крупному военному вождю… Но, так или иначе, Господь не позволил ему развернуться в державной работе.
На великокняжеском престоле Юрий Дмитриевич провел всего лишь несколько месяцев. Правда, за столь краткий срок он успел сделать многое.
Он сумел урядить отношения с прочими князьями Московской земли и заключить весьма выгодный для Москвы договор с рязанским князем, принудив того к серьезным уступкам.
Он также выпустил монеты со своим именем и изображением своего небесного покровителя — святого Георгия. Среди монет Московского княжества эти — в числе древнейших, несущих ярко выраженную христианскую символику. Набожность выпустившего их правителя не вызывает сомнений.
Кроме того, князь отправил одного из своих сыновей с отрядом в Литовскую Русь. Там шла масштабная гражданская война, и Юрий Дмитриевич встал на сторону давнего доброжелателя Москвы, великого князя Свидригайло Ольгердовича[104]. Тот сплотил вокруг себя города и князей восточной части Великого княжества Литовского, преимущественно русской и православной. С этой силой Свидригайло Ольгердович создал громадное государство — Великое княжество Русское — и претендовал на сохранение его самостоятельности. Поддержка из Москвы могла бы обеспечить ему победу. Но слишком недолго московский союзник Свидригайло имел возможность вести большую игру в Литве… Летом 1434 года великий князь Юрий скоропостижно скончался.
Дети его, Василий Косой и Дмитрий Шемяка, продолжили борьбу за великое княжение. Между ними и Василием II много лет шла кровавая распря, закончившаяся полным их поражением.
Если можно вывести из истории этой страшной внутренней войны какой-то политический смысл, то он касается не личностей, а всего круга московских Даниловичей. Старая их семейная добродетель — крепкое единство всех родичей — оказалась слишком слабой преградой для междоусобия, когда малая вотчина Ивана Калиты превратилась в огромную державу. Архаичный родовой принцип владения землей сообща, всем семейством, давал слишком много соблазнов и предлогов для ссоры, чтобы ему позволительно было существовать сколько-нибудь долго. В ближайшее время Москве следовало от него избавиться.
ИВАН III ВЕЛИКИЙ Создатель России
Важнейшее событие в истории России — ее рождение. А рождение нашего государства произошло при Иване III.
Страна, созданная его усилиями, унаследовала православие, христианскую культуру и долгую историческую биографию от нескольких княжеств Северо-Восточной Руси. Но это уже совсем не та рыхлая масса суверенных княжений, полунезависимых уделов и вечевых республик, стремившаяся к полному распаду.
Что представляло собой княжество Московское в 60-х годах XV века? С запада и юго-запада мало не к самой его столице подступали владения великих князей литовских, в том числе Дорогобуж и Вязьма — нынешнее дальнее Подмосковье, два часа на электричке из Москвы. На востоке простирались земли враждебного Казанского ханства. С юга угрожала вторжением Большая Орда — воинственный наследник Золотой Орды. Тверь, Новгород Великий, Псков, Полоцк, Вятка, Смоленск, Чернигов, Новгород-Северский, Рязань, Брянск, Стародуб и, конечно, Киев были территорией иных, независимых государств. Все земли Московской Руси в конце правления Василия II равнялись нынешней Московской области да трем-четырем соседним областям.
На протяжении нескольких десятилетий, примерно с 70-х годов XV столетия до 1503 года, происходило преобразование пестрой Руси в единое Московское государство или, иначе говоря, Россию. До этого ее не существовало. За 30 лет территория, подвластная московским государям, увеличилась в несколько раз. Произошел величайший перелом во всей русской истории.
В течение сорока трех лет в Москве правил великий князь Иван Васильевич, или Иван III. В историю отечества он вошел с почетным прозвищем Великий. На всех отраслях политического и общественного устройства России лежит отпечаток его характера, его повелений и его таланта. В главных поражениях и триумфах Московского государства за все 200 лет его существования видны следы деятельности государя Ивана Васильевича.
Он родился в январе 1440 года. Едва достигнув восьмилетнего возраста, оказался соправителем отца, Василия II. А в 12 лет Иван уже возглавил военный поход. Бразды правления во многом перешли к нему еще при жизни родителя, ослепленного политическими противниками.
Отрочество и юность Ивана Васильевича дали ему самый негативный политический опыт. С детства он знал и дворцовые интриги, и беспощадную вооруженную борьбу за престол. Мальчик оказался в гуще гражданской войны. Полной чашей досталось княжичу горя, лишений, смертельных опасностей. Наблюдая за вельможами слепого отца, сызмальства он узнал, кто из них чего стоит. Видя, как Русь истекает кровью от жестоких междоусобий, сын правителя учился ценить мир, единство, согласие.
Из этой ледяной купели он вынес большую политическую мудрость. В 1462 году, после кончины родителя, Иван взошел на великокняжеский престол. С тех пор вся его деятельность подчинялась одной глобальной идее: созданию единой державы из лоскутного одеяла русских земель.
Иван III не принадлежал к числу монархов, правивших с шумом, блеском, в окружении сладкоречивых риторов. Да и сам он никогда не произносил речей. Очень «закрытый» человек, он мало кому доверял свои помыслы и не искал способа сопроводить очередное большое дело «идеологической кампанией». Используя современные понятия, этот государь искал эффективности, а не эффектности.
Ивана III безо всякого преувеличения можно назвать политическим гением.
Он обладал холодным прагматичным умом и твердой волей. Человек действия, Иван Великий оставил в исторических памятниках следы неброского «государственного почерка». Иногда чрезвычайно трудно понять, на какие «рычаги» он нажимал, переворачивая жизнь страны. Всё как будто происходило «само по себе». Впрочем, хороший государь, как и хороший разведчик, редко становится известным, он лишь способствует прославлению своей страны… Ну а тот, кто «засветился», «засыпался», может раздавать интервью безбоязненно — провала уже не исправить. Таким «хорошим разведчиком» и был Иван III, создатель России. Иван Васильевич умел для всякого действия найти подходящее время. Годами высчитывая и готовя благоприятную ситуацию, великий князь не медлил, когда нужное стечение обстоятельств наконец появлялось. Время и способ решительных действий определялись им интуитивно. В жизнь они проводились с необыкновенной жесткостью и прагматизмом. По отзывам современников, этот государь с приближенными бывал «ласков», любил разговоры «встречь себя», то есть выслушивал собеседника, не согласного с его собственным мнением. Но не терпел противоречий, когда приходило время действовать. И за это мог наказать и политического фаворита, и члена собственной семьи. Иногда государь поступал жестоко и врагов своих либо приводил к покорству, либо уничтожал. Однако не было случая, чтобы Иван Васильевич проявил беспричинную суровость, наказал невинного человека.
Войны он не любил и выводил полки в двух случаях: либо когда не сомневался в их полном превосходстве над неприятелем, либо когда не было другого выбора. В целом же лавры великого полководца не интересовали московского государя, и военную работу он предпочитал передоверять воеводам. Иван III в большей степени являлся «строителем дома», хозяином, стратегом, дипломатом, но только не князем-удальцом, ищущим боевой славы.
Некоторые историки предполагают, что Иван Васильевич с детства был горбат и это увечье хотя и не стесняло его движений, но служило препятствием для удальства. Однако по свидетельствам иностранцев, великий князь был высок, строен, обладал красивой наружностью. До наших дней не дошло таких изображений Ивана III, которые точно и достоверно передавали бы его внешний облик.
Великий князь умел окружить себя талантливыми исполнителями — воеводами, администраторами, дипломатами. Среди ярчайших имен той поры — полководцы князь Даниил Холмский, князь Даниил Щеня, Юрий Захарьич Кошкин, князь Иван Оболенский-Стрига, посольский дьяк Федор Курицын и многие другие.
При Иване III на Руси, особенно в Москве, много строили. В частности, поднялись новые стены Кремля, новые храмы. К инженерной и другим службам широко привлекались европейцы, прежде всего итальянцы.
Иван Великий, при всех его достоинствах, — далеко не святой. Дикие, по-другому не скажешь, разговоры о канонизации Ивана Грозного вызывают разного рода инициативы по причислению к лику святых иных политических деятелей России. Но, вероятно, эти разговоры нескоро коснутся Ивана Великого, поскольку его отношения с Церковью ни прямотой, ни простотой не отличались.
По отношению к Церкви Иван III вел себя независимо. В конечном итоге великий князь неизменно находил взаимопонимание с высшим духовенством, однако процесс этот мог принимать болезненные формы. Например, митрополит Геронтий, ведя полемику по вопросам веры с государем и некоторыми представителями духовенства, покинул митрополичью кафедру, вынудив тем самым Ивана Васильевича покориться. В других спорных случаях уступал сам митрополит.
Собственно, Русская церковь, ставшая автокефальной в середине XV столетия, при митрополите Ионе, обрела этим актом независимость внешнюю — прежде всего от Константинополя, однако начала утрачивать независимость внутреннюю. Великие князья вмешивались во все главные события церковной жизни, с вожделением поглядывали на обширные церковные земли. Духовная иерархия, как могла, давала отпор давлению светских властей. Симфония, то есть гармоничное содействие Церкви и государства, в подобных условиях получалась далеко не всегда. Так вот, времена Ивана III при всей крутости его характера надо признать довольно благополучными в этом отношении. По инициативе московского государя строились великие храмы. Сердце России — Успенский собор в Московском Кремле появился именно тогда. Великий князь никогда не позволял себе в церковных делах дикого самоуправства, присущего тому же Ивану IV или Петру I. В те годы цвела «северная Фиваида», звучали прекрасные голоса преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.
Лично благочестивый человек, Иван III, к сожалению, покровительствовал еретическим движениям, если видел в них государственную пользу, например, возможность отобрать церковные земли для раздачи служилым людям. Так, под его влиянием в митрополиты московские после Геронтия был поставлен Зосима, склонный к ереси жидовствующих. Суть ереси состояла в уклонении от православия в иудейское учение каббалистики и тайную науку чернокнижия (впрочем, суть еретического учения трактуется разными историками в широких пределах). Несколько лет спустя религиозные пристрастия митрополита, а также его пьянство вызвали всеобщее возмущение в Церкви, и Зосиму свели с кафедры. Возведение на Московскую кафедру его преемника Симона было совершено с большой торжественностью. По словам церковного историка E. Е. Голубинского, «Иван Васильевич хотел придать чину поставления митрополитов тот вид, как в Константинополе совершалось поставление патриархов». В 1504 году церковный собор осудил и сурово наказал жидовствующих, и Церковь действовала тогда в полном согласии с Иваном III.
В Европе обретение радом радикальных бюргерских ересей общей платформы, получившей впоследствии название протестантизма, привело к долгим десятилетиям Религиозных войн. Россия была от них избавлена. В немалой степени этому способствовало симфоническое действие государя Ивана III и нашей Церкви в первые годы XVI столетия.
За время правления Ивана III Москве покорилось множество русских земель и княжеств, которые прежде были независимыми или почти независимыми государствами.
В 1463 году под власть великого князя перешел Ярославль. На протяжении 70—80-х годов XV века власть Москвы распространилась также на Пермскую и Вятскую земли, еще очень слабо заселенные русскими.
В 1471 году началось последнее противоборство Новгорода Великого и Москвы.
Еще при отце Ивана, великом князе Василии II, новгородцы потерпели поражение в войне, признали старшинство Москвы, обязались выплачивать значительные пошлины и отдали победителям значительные области. В начале 70-х годов XV века они вновь вышли из московской воли и захватили старые свои владения. Новгородское боярство пыталось заключить союз с Великим княжеством Литовским. Это был худший из возможных вариантов: между Москвой и Литвой шла борьба за господство на Руси, и рождение единого Русского государства никогда бы не произошло, если бы продолжалось соперничество этих двух центров. Соответственно, государь Иван Васильевич давал отпор любому проявлению литовского влияния в русских землях.
Объединенное войско многих земель вошло в пределы Новгородской республики. Нескольких сражений хватило московским воеводам, чтобы полностью сокрушить военную мощь неприятеля. Решающее столкновение произошло на реке Шелони. Лучшие полки Новгорода Великого были наголову разгромлены. После столь очевидного поражения новгородцам оставалось только признать власть Ивана III и отдать спорные земли. Великий князь Московский получил контроль над внешней политикой Новгорода и высшую судебную власть. Сторонники Литвы были казнены.
Однако в 1477 году вольный город сделал последнюю попытку сохранить независимость. В ходе волнений погибло несколько сторонников Ивана III. Тогда великий князь вновь собрал армию и привел ее под самые стены Новгорода. Голод заставил горожан согласиться на гораздо более жесткие условия, чем в 1471 году. Новгород становился рядовой землей в составе Московского государства. Он сохранил незначительные остатки самоуправления, но все важнейшие дела решал теперь именем великого князя его наместник. Вечевой колокол — главный символ политической независимости Новгорода Великого — сняли и увезли в Москву. А чтобы уничтожить даже призрачную возможность нового мятежа, Иван III велел «вывести» новгородское боярство с земель, издревле ему принадлежавших, и поселить в иных областях державы. На их место пришли небогатые дворяне, составлявшие главную силу московского войска.
Присоединение Новгорода Великого к Москве вызвало долгую дискуссию в среде историков. Сопротивление новгородцев великий князь Московский подавил с большой суровостью. У Новгорода осталась лишь тень былой политической независимости. Исчезло вече, исчезли выборные должности новгородской администрации, исчезли собственное войско, печати и монеты. Иными словами, бывшая вечевая республика, «северная Венеция», она же «боярская Швейцария» стала всего-навсего одним из драгоценных камней в державном венце московских государей.
Как оценить эту драму? Однозначно ответить невозможно. Немало сказано о том, как могла бы пойти история аристократического Новгорода, помоги на Шелони Бог северянам… Возможно, современная политическая карта украсилась бы еще одним крупным самостоятельным государством. Возможно, на Новгородчине быстрыми темпами прижился бы европеизм, бурно расцвели бы демократические начала и нынче эта земля играла бы роль метрополии Евросоюза. Возможно, там сформировалась бы новая, доселе невиданная цивилизация. Возможно, официальная резиденция президента Российской Федерации находилась бы сейчас не в Московском Кремле, а в новгородском Детинце.
Однако контрфактическое моделирование (научный термин для бытового понятия «если бы да кабы») предлагает и другие варианты «альтернативной истории» Новгорода Великого. Колоссальный экономический ресурс независимого Севера был жизненно необходим поднимающейся Руси для борьбы с ордынской угрозой. И в свою пору новгородское серебро и новгородские ратники пригодились для борьбы с ханом Ахматом, о чем речь пойдет ниже. Если бы Москва, жестко и порой жестоко «собиравшая земли», не подчинила себе новгородскую вольницу, как знать, куда повернула бы судьба всей Руси. Могло произойти худшее: новая утрата независимости, раздробление на мелкие улусы, падение православия. Не объединившись с «низовской» Русью, Новгород тем не менее имел все шансы разделить ее горькую судьбу. И тогда, быть может, в наши дни на месте старинной твердыни и множества храмов стояла бы рыбацкая деревенька, туристы время от времени заглядывали бы туда посмотреть на сохранившиеся кое-где башни и стены Детинца, а главная магистраль между столицами каганата и халифата пролегла бы намного южнее. Рыбаки платили бы ясак местному тудуну, а по дороге к ближайшему большому базару предъявляли бы пайзцу отважным нукерам. Ну а тот, у кого не сыскалось бы в нужный момент пайзцы, все равно мог избежать зиндана в Торжке, дав нукерам приличествующий бахшиш…
Да, Иван III разрушил в Новгороде вечевую демократию. Но как знать, не стала ли утрата старинной вольности меньшим злом в судьбе Новгородчины?
В 1485 году большая московская рать отправилась к Твери. Древний, богатый город когда-то соперничал с Москвой за первенство на Руси. Тверской княжеский дом породил множество ярких политиков, смелых борцов с ордынским игом. Однако во второй половине XV столетия Тверь уже не имела возможности противопоставить Москве равную силу. И тверской князь Михаил Борисович попытался договориться с литовцами, надеясь на их вооруженную поддержку против восточного соседа. Его надежды были тщетны: в разразившейся войне тверичи не получили помощи от Литвы. Напротив, политика Михаила Борисовича вызвала решительные ответные действия Ивана III: Тверь подверглась осаде. Михаил Борисович бежал, а горожане, видя безнадежность своего положения, присягнули на верность Ивану III. Независимое Тверское княжество исчезло с карты Руси.
В конце XV столетия под властью Москвы пребывала половина русских земель. В разных областях действовали разные своды законов, судебные правила и обычаи. Привести их к полному единству в ближайшие годы и даже десятилетия не представлялось возможным. Однако столица, где сосредоточивалась высшая власть над всей страной, должна была высылать управителей-наместников в города, отправлять судебных чиновников, организовывать следствие и суд на местах. И, кроме того, заботиться о том, чтобы должностные лица, уехавшие в дальние края, обеспечивались там всем необходимым, но не смели брать лишнее.
Так появился Судебник 1497 года — свод законов, изложенных в 68 статьях[105]. Там совсем немного говорится о наказаниях, назначенных за определенные преступления. Ясно, что эти нормы давно установлены законами каждой земли, каждого города. Большинство статей Судебника посвящено процедуре судопроизводства. Решаются вопросы: кто имеет право присутствовать, какие пошлины взимаются в пользу великого князя, судей и судебных исполнителей, в чем состоит работа приставов и каково их вознаграждение, какие условия следует соблюдать, если тяжущиеся стороны решились на судебный поединок… Этот свод законов больше всего напоминает современный уголовно-процессуальный кодекс. Заодно Судебник Ивана III решал несколько иных важных вопросов: там, например, устанавливался единый для всей России календарный промежуток, когда крестьяне могли покинуть свой участок земли, — Юрьев день (поздней осенью), а также по неделе до и после него. Уходя, они платили единый тариф — «пожилое».
С XIII столетия к западу от русских земель и княжеств, объединенных сначала под властью тверских князей, а потом — московских, выросла Литовская Русь. Это были города и области, подчинявшиеся великим князьям литовским и не знавшие зависимости от ордынцев: Киев, Чернигов, Полоцк, Витебск, Мстиславль, Смоленск, Владимир-Волынский, Новгород-Северский. По обе стороны «литовского рубежа» жили единоплеменники и единоверцы. В XIII — начале XV столетия Великое княжество Литовское занимало огромную территорию и было одним из самых могущественных государств Европы. Однако при всей своей мощи княжество имело крайне уязвимую политическую природу. Литовские государи порой оказывались слабее собственных подданных: богатых и самовластных магнатов (богатейших аристократов), князей, шляхты (дворян). Кроме того, если северо-западные земли княжества тяготели к католицизму, то восточные и южные (как раз Литовская Русь) хранили верность православию. В конце XIV века великий князь Литовский Ягайло одновременно занял польский престол и принял католичество. В течение нескольких последующих десятилетий предпринимались настойчивые попытки обратить население Литовской Руси в католицизм. С 1413 года Великое княжество Литовское и Польша состояли в так называемой Городельской унии: у них был один государь, но Литва получала широкую автономию. По законам того времени русское православное дворянство имело меньше прав и привилегий, чем шляхта, принявшая католичество. Это не раз приводило к восстаниям. В 1430-х годах по территории Великого княжества Литовского прокатилась страшная гражданская война, кровь лилась рекой… Смоленск, помня старинную независимость свою, время от времени отделялся от Литвы.
В 1449 году Москва и Литва заключили мирный договор. В нем четко определялась восточная граница земель, на которые распространяется власть великих князей литовских. Дальше этой границы Литве не суждено было продвинуться никогда. Наступательная энергия державы, в течение полутора веков наводившей ужас на монархов Восточной Европы, исчерпалась. Теперь ей с трудом хватало сил, чтобы обеспечить безопасность собственных границ.
Можайск играл тогда роль западного форпоста Москвы против Литвы.
Через полвека Московское государство сделалось намного сильнее Великого княжества Литовского. К Москве тяготели православные князья и города Литвы. К тому же неумение литовских государей оборонять южные рубежи от набегов татар заставляло их подданных во множестве склоняться мыслями к переходу под власть великих князей московских. По подсчетам современных историков, три из пяти набегов крымских татар на земли Литовской Руси оказывались успешными.
От натиска татар страдали прежде всего Подолия, Волынь, Киевская земля. Реже, но все же многократно подвергались опустошительным нападениям земли Белой Руси. В начале XVI века набеги крымцев в ряде случаев достигали и северобелорусских городов, притом разорения татары производили чудовищные. В 1505–1506 годах сначала сам крымский хан Менгли-Гирей, а потом «царевичи» Махмет-Гирей с Бати-Ги-реем и Бурносом «великую шкоду сделали». В частности, спалили минский посад и отправили «загоны» по всей Северной Белоруссии. Осаждены были Новогрудок, Слуцк; Полоцкая, Витебская и Друцкая земли преданы огню и мечу. Разорив громадную территорию, татары безнаказанно вернулись восвояси. За один только поход в мае 1506 года перекопские татары увели 100 тысяч пленников. Вообще, 1505–1506 годы — трагическое время для Белой Руси. В 1509 году огромное войско вновь вторглось вглубь территории Великого княжества, и отдельные отряды доходили даже до Вильно. Это лишь наиболее заметные события. Но хроника титанической борьбы на юге Литовской Руси пестрит бесконечными схватками с татарскими отрядами и целыми армиями. Москва давала более стабильную защиту. Здесь привыкли отражать Орду, когда нельзя с ней договориться.
К большой войне требовался только повод. Литовско-польские монархи с тревогой смотрели на подчинение Москве Новгорода Великого и Твери, где в последние десятилетия литовское влияние было весьма сильным. В свою очередь, Иван III не видел оснований оставлять под властью западного соседа старинные русские земли и претендовал на возврат всей Литовской Руси. Чувствуя его силу, русские князья, подданные польско-литовского государя Казимира IV, начали один за другим переходить с семьями и войсками на сторону Москвы. Масштабные боевые действия пришлись на 1492 год. С них началась долгая эра московско-литовских войн. Жесточайшая борьба Москвы и Литвы — один из главных политических процессов в истории всей Восточной Европы. Уже и Великое княжество Литовское влилось в Речь Посполитую (Польско-Литовское государство), уже и Московское государство превратилось в Российскую империю, а борьба всё продолжалась, и ожесточение не стихало. Отголоски этого вооруженного противостояния звучали даже в XX веке, и нет гарантий, что в XXI столетии оно не возобновится.
Первая московско-литовская война закончилась оглушительным поражением Литвы. Множество городов было занято московскими воеводами, притом в ряде случаев население само открывало им ворота, не оказывая ни малейшего сопротивления. По договору 1494 года Иван III получил Вязьму, иные земли, а его дочь, княжна Елена Ивановна, вышла замуж за нового великого князя Литовского Александра Ягеллона. Однако родственные связи, протянувшиеся между Москвой и Вильно (столицей Литвы), не предотвратили новой войны. Она обернулась для зятя Ивана III настоящей военной катастрофой.
В 1499 году на территории Литовской Руси начался очередной конфликт между православными и католиками. Предположительно, конфликт этот был связан с передачей католическому духовенству православных храмов. Несколько русских князей перешли на сторону Московской державы. В 1500 году войска Ивана III разгромили литовцев на реке Ведроше, а в 1501 году вновь нанесли поражение под Мстиславлем. Пока Александр Ягеллон метался по своей стране, пытаясь наладить оборону, московские воеводы занимали города. В результате Москва поставила под контроль огромную территорию. По перемирию 1503 года Великое княжество Литовское отдало Торопец, Путивль, Брянск, Дорогобуж, Мосальск, Мценск, Новгород-Северский, Гомель, Стародуб и множество других городов. Это был самый крупный военный успех за всю жизнь Ивана III, наполненную громкими победами. Новорожденная Россия приобрела земли, превосходившие по площади огромную Новгородчину.
По традиции государи московские передавали из поколения в поколение две большие внешнеполитические проблемы: литовскую и татарскую. Со второй из них Ивану Васильевичу удалось справиться не хуже, чем с первой.
В 1469 году московские воеводы принудили к покорности Казань и добились выдачи всех русских пленников.
На протяжении следующего десятилетия отношения с Большой Ордой грозили вылиться в большую войну. Ордынцы стремились вернуть полное подчинение Руси — как в старые времена, совершали набеги на русские земли и грозили масштабным вторжением. Великий князь колебался: мир на условиях дани мог уберечь страну от кровопролитного и разорительного столкновения. Иван III лучше, чем кто-либо иной, понимал, какой катастрофой может стать поражение от ордынцев: вся проделанная к тому времени большая государственная работа пойдет насмарку, вернутся времена «черного бора» и ярлыков на власть над Русью, за которыми нужно будет ездить к ордынским ханам. К тому же ордынский хан, по средневековым представлениям, являлся монархом, имевшим право диктовать Москве свою волю. Но супруга, мать, бояре, митрополит Геронтий и архиепископ Ростовский Вассиан склоняли Ивана III к решительной борьбе против «басурманской» власти. Вассиан даже писал великому князю: «Дай мне, старику, войско в руки, увидишь, уклоню ли я лицо свое перед татарами». К тому же в союзниках Москвы тогда оказался могущественный крымский хан.
В 1472 году дело чуть не дошло до решительной битвы под городком Алексином. Тогда хан Ахмат, владыка Большой Орды, не решился дать бой объединенной русской армии.
В 1480 году он пришел на Русь с огромным войском и попытался перейти Оку. Между тем положение Ивана III ухудшалось мятежом, который подняли против него родные братья — князья Борис Волоцкий и Андрей Углицкий.
Благополучному росту державы давно угрожали нападениями агрессивные наследники золотоордынских ханов, но в большинстве случаев Москва умело маневрировала, то борясь со слабейшими частями Орды, то заводя среди Сингизидов союзников, налаживая оборону юга, постепенно усиливаясь. В данном случае искусству малых войн и дипломатических ухищрений пришлось отойти в тень. Ахмат, владыка Большой Орды, требовал покорности и угрожал масштабным вторжением. Оставалось одно из двух: либо выйти с объединенной русской армией, либо склониться перед волей Ахмата. Великий князь решился дать отпор.
Московское воинство выступило на защиту переправ через Оку. Ордынцы повернули к реке Угре, притоку Оки. Но и там они встретили мощный заслон. Татары пытались форсировать Угру, их успешно отбивали. Обстрел с русского берега причинял ордынцам тяжкие потери. Ахмат затеял переговоры, но все его требования покорности разбивались о твердость Ивана III. Ценой серьезных уступок ему удалось примириться с мятежными братьями, они двинули свои полки к югу[106].
Неделя уходила за неделей, войска по-прежнему стояли на противоположных берегах Угры без движения. В тылу Ахмата действовали мобильные отряды русских и крымцев. Наступили зимние холода, и река замерзла. Государь Иван Васильевич принял решение отвести армию на более выгодную позицию у Боровска: атака татарской конной массы по идеально ровному ледяному мосту могла создать серьезные проблемы. Однако и Ахмат не рассчитывал на столь долгое «стояние», его войска были измотаны, потеряли боевой дух. Маневр Ивана III татарские военные вожди, напротив, истолковали как предложение беспрепятственно перейти на русский берег и там сразиться. Эта инициатива встревожила ордынских стратегов. Вместо решительного наступления хан скомандовал отход. Его полчища откатывались в голодную зимнюю степь, а легкие отряды русских воевод наносили удары по тылам.
Вскоре потерпевший поражение Ахмат был убит в Орде. Московские полки, «перестоявшие» врага, защитившие свою землю, с победой вернулись в столицу. Ордынское иго, продлившееся без малого два с половиной столетия, завершилось. Московскому государству, да и Российской империи еще долго предстояло отражать татарские набеги. До середины XVIII столетия Россия много сил тратила на оборону южных земель, если надо — откупалась, а время от времени оплакивала сожженные города… Но наша страна более никогда не подчинялась Орде.
Великий князь Иван III дважды вступал в брак. Его первая жена, тверская княжна Мария Борисовна, скончалась в 1467 году. Она родила ему достойного наследника, способного полководца и политика Ивана Молодого. Он станет впоследствии соправителем государя, но умрет прежде отца.
Сын Ивана Молодого от валашской принцессы Елены Стефановны, Дмитрий, некоторое время являлся претендентом на престол и даже венчался как великий князь. Он, как и отец, получил статус соправителя при Иване Васильевиче. Но в борьбе за власть Дмитрий Внук уступил другому претенденту, сыну Ивана III от второй жены Василию, а потому окончил жизнь под стражей, в кандалах.
Будущий государь Василий III был сыном Софьи Палеолог. Эта властная, гордая женщина принадлежала к Византийскому императорскому дому и была племянницей последнего монарха Империи. После взятия Константинополя турками в 1453 году она переехала с родней в Италию. Там все семейство поселилось в Риме. Папа Римский, мечтая использовать Софью для утверждения католичества на Руси, оказал ей покровительство. В 1472 году она приехала на Русь и стала женой великого князя Московского. Однако ее замужество привело к совершенно другим результатам. Иван III получил право на византийское наследие во всех смыслах: культурном, религиозном и территориальном. В XV столетии у Москвы не было ни планов, ни возможностей воевать с могущественной Турецкой державой за города и земли Византии. Но через два столетия столкновение произойдет… По словам современного историка, «отблеск тысячелетней славы некогда могучей Империи озарил молодую Москву». Кроме того, Софья желала видеть в своем новом отечестве могучее православное царство, а не лесные задворки Европы. Поэтому она подталкивала Ивана III к освобождению от ордынского ига, к монументальному строительству, решительной политике в отношении соседей. Планы папы Римского не осуществились ни в малейшей мере.
Итоги правления лучше всего видны по завещанию правителя. Стоит сравнить «духовные грамоты» Василия II и Ивана Великого, чтобы увидеть, сколь сильно различались результаты их государственной деятельности.
Василий Васильевич в 1461 году завещал старшему сыну треть Москвы, свой наследственный удел — Коломну и великое княжение: Владимир, Переяславль-Залесский, Кострому, а также Галич, Устюг, Вятку, Суздаль, Нижний, Муром, Юрьев, Боровск, Калугу, Алексин, Суходол, множество сел с деревнями. Всего полтора десятка больших и малых городов с окрестностями. Никто из московских государей не мог передать кому-либо из отпрысков по наследству столь большую территорию. Итог страшного, кровавого, тяжелого правления — впечатляющий. Дорого он дался…
Четырем другим сыновьям — Юрию, Андрею, Борису да Андрею Меньшому Василий Васильевич дал примерно столько же, сколько давали младшим сыновьям его отец, дед и прадед. Может, чуть побогаче, но незначительно. Они получили соответственно Дмитров, Можайск, Медынь, Серпухов да Хотунь; Углич с Устюжной, Бежецкий Верх и Звенигород; Ржев, Волок Ламский и Рузу; Вологду. Каждому досталось по части Москвы или доходов с нее, а также подмосковные села. Вдове дарованы были Ростов и Нерехта, да ей же принадлежал Романов.
Много… но сравнимо с тем, что могли раздать наследникам Дмитрий Донской и Василий I. И в совокупности примерно столько же, сколько держал старший сын.
А вот «духовная грамота» Ивана III.
Его старший сын и престолонаследник Василий получает, помимо Москвы с ближними селами, Коломны и земель великого княжения (которое буквально потонуло в недавно присоединенных землях), такую громаду городов, городков и областей, что количество их уходит к сотне! В их числе — Новгород, Тверь, Суздаль, Ярославль, Нижний, Вязьма, Ростов и другие крупнейшие и богатейшие городские центры. Москву уже не делят на «трети» между детьми и братьями великого князя — старший обретает в городе абсолютное преобладание.
Младших сыновей, между которыми распределяется остаток наследственных земель, у Ивана III оказалось столько же, сколько было их у Василия Темного, — четверо: Юрий, Дмитрий, Семен, Андрей. Государь помнил, как много хлопот доставили ему норовистые братья. И он решительно отказывается давать младшим детям сколько-нибудь значительные владения. Даже если сложить воедино все области, доставшиеся им в уделы, превосходство старшего, Василия, всё равно останется подавляющим. Итак, Юрий был наделен Дмитровом, Звенигородом, Кашином, Рузой, Брянском, Серпейском. Дмитрий — Угличем с Устюжной и Мологой, Хлепнем с Рогачевом, Зубцовом, Опоками, Мещовском, Опаковом и половиной Ржева. Семен — Бежецким Верхом, Калугой и Козельском. А Андрей — Вереей, Вышгородом, Алексином, Любутском да Старицей.
В совокупности уделы младших сыновей Ивана Великого занимают четверть (или даже меньше того!) территории, поставленной под контроль Василия Ивановича. Великий князь создал идеальные условия для скорого отмирания той системы общесемейного владения Московским княжеством, которая существовала со времен Ивана Калиты. Реальность родовой вотчины Даниловичей уходила в прошлое. Наступала блистательная эра Московского государства — совсем другой страны. То, с чего начинали когда-то первые Даниловичи, выглядело по сравнению со всей Русью как богатый двор в огромном городе, а Иван Великий передавал своим преемникам почти весь город…
До сих пор нет памятника Ивану Великому в Москве. Массовая историческая память не возвела его на пьедестал должной высоты.
Величественную фигуру деда в какой-то степени заслонила от потомков нервная, артистичная фигура внука — Ивана Грозного. Ему приписываются многие достижения предка. Писательский талант выделяет его из череды «безгласных» государей. Но как политик внук явно уступал деду.
Ивану Грозному многие ставят в заслугу то, что он привлек на русскую службу иностранцев, искусных в военном, инженерном и медицинском деле. Однако этим занимались и отец его, и дед. Ведь не кто иной, как итальянец Аристотель Фиораванти, занимался при Иване III строительством, делал порох и чеканил московскую монету.
Ивану Грозному ставят в заслугу многочисленные победоносные войны, значительное приращение российской территории. Но он проиграл главную войну своей жизни — Ливонскую. А Иван III не потерпел поражения ни в одном крупном военном предприятии. Будучи политиком по призванию, он тем не менее часто воевал. Умея подбирать талантливых полководцев для командования полевой армией, государь полагался на их искусство, и они его не подводили.
Ивану Грозному ставят в заслугу упорядочение русских законов. Но его Судебник 1550 года представляет собой улучшенную или, как сейчас говорят, «модернизированную» версию Судебника 1497 года, принятого Иваном Великим. А этот последний содержит в себе поистине масштабную идею — распространение единых норм суда на огромном пространстве только что созданного государства…
Историки очень хорошо понимают роль Ивана Васильевича в судьбе нашей страны. Однако сознание миллионов еще не восприняло его в качестве одного из главных героев в истории России.
Пора бы.
На этом можно было бы поставить точку в биографическом очерке об Иване Великом. Завоевания, реформы, строительство, сложные стратегические игры… всё то же самое, что и при его венценосных предках, только масштабнее и с полным триумфом в итоге. Однако время рождения России явилось переломным не только в политическом, то есть сугубо материальном смысле. Именно тогда появилось очень серьезное духовное отличие от удельной эпохи, именно тогда началась громадная интеллектуальная работа, возвращающая русскую реку в русло, которое она покинула после распада единой Киевской «империи Рюриковичей».
В ту давнюю пору, когда митрополит Иларион создавал «Слово о законе и благодати», Русь умела мыслить себя как значимую часть безбрежной Христианской цивилизации. С раздроблением Древнекиевского государства генерализующая сила русской исторической мысли ослабела. Самая черная эра в судьбах Руси — от Батыевой рати до поля Куликова — была не только годами разорения, унижения, распада, но еще и веком великой немоты. Дар возвышать мысль над обыденностью отнялся, как живое слово отбирается у насмерть испуганного человека его страхом. Творческая способность осознавать общерусское единство и встраивать его интеллектуально в симфонию мирового христианства как будто погрузилась в дрему и не покидала царства снов ни при Михаиле Тверском, ни при Иване Калите, ни при Иване Красном.
Время от времени, вспышками, она пробуждалась. Так, память о великой победе на поле Куликовом родила эпическую поэму «Задонщина». По словам академика Д. С. Лихачева, «во второй половине XIV и в начале XV века Москва неустанно занята возрождением всего политического и церковного наследия древнего Владимира. В Москву перевозятся владимирские святыни, становящиеся отныне главными святынями Москвы. В Москву же переходят и те политические идеи, которыми в свое время руководствовалась великокняжеская власть во Владимире. И эта преемственность политической мысли оказалась и действенной, и значительной, подчинив политику московских князей единой идее и поставив ей дальновидные цели, осуществить которые в полной мере удалось Москве только во второй половине XVII века. Идеей этой была идея киевского наследства». После Тохтамышева разгрома и особенно в годы осторожного правления Василия I величественная концепция «киевского наследства», вероятно, имела над умами московских книжников и московских политиков лишь призрачную власть мечты, оживляющей руинированный ландшафт.
Но поэт мог согреть ею измученные сердца русских людей. Как это сделал автор «Задонщины»[107], протянувший нить исторической памяти между Москвой и Киевом, между исходом XIV века и домонгольскими временами, между Северо-Восточной Русью и ветхозаветным делением земли на «жребии» сынов Ноевых. Из его повествования можно вынести твердую уверенность: заканчивается эпоха, когда книжные люди Руси не могли оторвать взгляда от земли, воспарить мыслью высоко над странами и народами и увидеть себя, свой город, свою державу в общем узоре ойкумены.
Русь понемногу начинает вновь мыслить себя как нечто, способное претендовать на серьезную роль во всемирно-христианской мистерии. Ей возвращается способность увидеть и оценить себя со стороны, с высоты птичьего полета. Эта способность набирает силу и концентрируется в Москве времен Ивана Великого.
Москва, прежняя лесная золушка, впервые получает силу создать собственный миф — устойчивый образ, через призму коего ближние и дальние соседи будут воспринимать Великий город.
Когда Москва оказалась столицей объединенной Руси, ее государи стали смотреть и на сердце своей державы, и на самих себя совершенно иначе. Иван III величал себя «государем всея Руси», чего прежде не водилось на раздробленных русских землях. При нем введены были в дворцовый обиход пышные византийские ритуалы: вместе с Софьей Палеолог в Московское государство приехали знатные люди, помнившие византийское великолепие и научившие ему подданных Ивана III. Великий князь завел печать с коронованным двуглавым орлом и всадником, поражающим змея.
Идея царства, царской власти медленно, но верно пускала корни в русской почве. Москва начала примерять венец царственного города задолго до того, как сделалась «Порфироносной» в действительности.
На рубеже XV–XVI столетий появилось «Сказание о князьях Владимирских». Оно подкрепляло единовластное правление великих князей московских историческими аргументами. Предположительно, его создал широкообразованный дипломат Дмитрий Герасимов. «Сказание» вошло в русские летописи и получило в Московском государстве большую популярность. В нем история Московского княжеского дома связана с римским императором Августом: некий легендарный родственник Августа, Прус, был послан править северными землями империи — на берега Вислы. Позднее потомок Пруса, Рюрик, был приглашен новгородцами на княжение, а от него уже пошел правящий род князей земли Русской. Следовательно, московские Рюриковичи, те же Иван III и его сын Василий III, являются отдаленными потомками римских императоров, и власть их освящена древней традицией престолонаследия. Далее, как утверждает «Сказание», в XII столетии византийский император подтвердил особые царские права русских князей и отправил им крест, венец и чашу самого Августа. Следовательно, современным государям России можно принять царский титул — так и произойдет в 1547 году.
Историки нашего времени отрицают достоверность многих пунктов «Сказания». Но в XVI столетии его воспринимали серьезно. Это была не просто литература, а идеология и политика.
Стремительное превращение Московского княжества в единое общерусское государство выглядело почти как чудо. И чудо это вызвало у «книжных» людей того времени желание задуматься не только о корнях и особой миссии Московского княжеского дома, но и относительно генерального смысла существования новой державы. Их размышления породили несколько оригинальных идей. Притом великокняжеские игры с генеалогией оказались намного бледнее и бесхитростнее того, что высказали церковные интеллектуалы.
Московская Русь начала понимать, что она уже не задворки христианского мира. Эта мысль родилась в церковной среде, впервые ее сформулировали ученые монахи-иосифляне в начале XVI века.
Незадолго перед тем произошли события, ошеломительные и для Русской церкви, и для всех образованных людей нашего отечества, и для политической элиты Руси. Во-первых, благочестивые греки «оскоромились», договорившись с папским престолом об унии в обмен на военную помощь против турок. Митрополит Исидор — пришедший на Московскую кафедру грек, активный сторонник унии — попытался переменить религиозную жизнь Руси и очутился под арестом, а потом едва унес ноги из страны. Во-вторых, Русская церковь стала автокефальной, то есть независимой от Византии. В-третьих, в 1453 году пал Константинополь, казавшийся незыблемым центром Православной цивилизации. И всё это — на протяжении каких-то полутора десятилетий. А затем государь Иван III превратил крошево удельной Руси в Московское государство — огромное, сильное, небывалое по своему устройству.
Тогда и появилась книга «Русский Хронограф», составитель которой обозначил место Руси в Православной цивилизации.
В исторической литературе Древней Руси было два основных жанра. Во-первых, всем известная летопись, содержавшая сведения о прошлом Руси. Во-вторых, хронограф — едва ли не более популярный у современников жанр, рассказывающий о прошлом всего мира.
Древнейшие русские хронографические памятники — «Хронограф по великому изложению» и другие — включали известия по ветхозаветной истории, евангельский сюжет, кое-какие сведения об античных державах, а также биографию мировой христианской общины. Последняя представлялась в виде череды правлений православных монархов, но далеко не всех. В центре внимания была Византийская империя, затем Болгария и Сербия. Западные державы, в религиозном отношении подчиненные Риму, существовали там лишь в «фоновом режиме», на задворках повествования. Что же касается Руси, то она вообще не фигурировала в ранних хронографах. Причина проста: информацию по всемирной истории наши книжники брали из византийских и сербских источников. А для Византии и Сербии Русь была на периферии интересов, в исторических сочинениях о ней писали мало. Между тем в отечественной исторической мысли на протяжении многих столетий не возникало идеи вписать свою землю и свой народ в судьбу мирового христианства. Отчасти это можно объяснить относительной молодостью Руси как христианской страны. Отчасти же наших книжников завораживал прекрасный мираж Царьграда, который долгое время воспринимался как величайший культурный центр мира. Было очень трудно осознать себя чем-то самостоятельным, пребывая в тени величественной Византии. В период же ордынского ига и удельной раздробленности требовалось незаурядное умственное усилие, чтобы вообще помыслить страну как единое целое. Осознание того, что Русь и в творческом, и в культурном, и, конечно, в политическом отношении достойна находиться в компании великих православных царств, пришло нескоро.
В более поздних хронографах, составленных русскими книжниками, известия, взятые из русских источников, например, из летописей, уже использовались, но крайне редко, да и то в основном как материал по истории Византии. Вот древние русы идут на Царьград, и наш историк с печалью повествует о их беззаконной жестокости… Русь в хронографах выглядела далеким северным отблеском великой Православной цивилизации. Не более того.
В свою очередь, летописцев очень мало интересовало всё, находящееся за пределами Руси. Поэтому летопись до начала XVI века нередко несла отпечаток своего рода культурной провинциальности. История Руси была представлена в ней с необыкновенной тщательностью, но сама мысль соединить летописание и хронографию, вписать Русь как активно действующий субъект в историю Православного мира созревала крайне медленно.
Буря событий, произошедших в середине — второй половине XV века, послужила катализатором.
«Русский Хронограф» составлялся, скорее всего, в Иосифо-Волоцком монастыре, между 1516 и 1522 годами. Предположительно его творец — Досифей Топорков, племянник и ученик преподобного Иосифа Волоцкого. Он являлся убежденным и весьма деятельным иосифлянином, прославился как крупный церковный писатель, великий знаток книжного слова.
Чтобы получить представление о «Русском Хронографе», надо переплести пальцы правой и левой руки, а потом крепко сжать их. Именно так перемежаются в нем известия мировой и древнерусской истории. Собственно русские известия начинаются со времен Рюрика и первых Рюриковичей — ближе к концу памятника. Но в дальнейшем они присутствуют постоянно и в значительном объеме.
Более ранние хронографы представляют собой набор известий, без особого порядка выписанных из разных источников и собранных подобно нестройной толпе на вечевом «митинге». «Русский Хронограф» — совсем другое дело. Досифей Топорков проводил тщательную литературную обработку его статей, добиваясь единого стиля, гармоничного звучания текста.
На протяжении всего периода с начала XIII и до конца XV столетия повествование о событиях, случившихся в Северо-Восточной Руси, проходит под чередующимися заголовками: то «Великое княжение Русское», то «Великое княжение Московское». В начале XVI века всем ясно: ведущей политической силой на Руси является государь Московский, прямой наследник древних князей владимирских, в частности, знаменитого Всеволода Большое Гнездо. Конечно, существуют еще независимая Рязань и Литовская Русь, но Москва первенствует. Однако в неменьшей степени ясно и другое: ни в XIII столетии, ни в первые десятилетия XIV века она политическим лидером всех русских земель не была.
Таким образом, составитель хронографа показывает: история блистательного ожерелья северных русских городов была преддверием триумфа Москвы и ее великих князей. В 70-х годах XV столетия, при Иване III, возник Московский летописный свод, четко сформулировавший точку зрения государей московских на русскую историю. Он оказал столь сильное влияние на всю последующую историческую мысль России, что даже сейчас авторы учебников, не осознавая того, плывут порой по фарватеру, открытому летописцами Ивана III… В 1495 году появился сокращенный летописный свод, уходящий корнями в этот монументальный памятник. Его-то и использовал Досифей Топорков как главный источник знаний по истории Руси.
Составитель «Русского Хронографа» скорбит о печальной судьбе других православных народов. Они попали под власть турецкого султана. Столь плачевное положение — следствие кары Господней за грехи всей Православной цивилизации. Тут Досифей Топорков не делит православных на греков, сербов, болгар и т. д., оказавшихся «более грешными», и русских, за которыми числится, как можно было бы подумать, меньшее количество прегрешений. Этого нет и в помине. Виноваты все православные. Он пишет: Господь «…не до конца положил в отчаяние благочестивые царства: если и предает их неверным, не милуя их, то отмщая наше прегрешение и обращая нас на покаяние. И сего ради оставляет нам семя, да не будем как Содом и не уподобимся Гоморре. Это семя яко искра в пепле — во тьме неверных властей; семя же глаголя — патриаршие, митрополичьи и епископские престолы…». Таким образом, беда греков и южных славян по сути своей — призыв к великому покаянию всех православных. И когда это произойдет, гнев Господень сменится на милость: «Православнии же надежду имеют, что после достаточного наказания нашего согрешения вновь всесильный Господь погребеную, яко в пепле, искру благочестия во тьме злочестивых властей вожжет зело и попалит измаильтян злочестивых царства, якоже терние, и просветит свет благочестия и паки возставит благочестие и царя православныя».
Чем же отличается Русь, не только не попавшая под иго османов, но, напротив, относительно недавно освободившаяся от власти ордынцев? Особой государственной силой? Особым благочестием? Особой чистотой веры?
Досифей Топорков не заносится мыслями столь высоко; более того, он даже не пытается толковать непознаваемую сущность воли Господней, исключившей страну из зоны великого наказания христианских народов. Он лишь подчеркивает сам факт: другие «благочестивые царства» — Византия, Сербия и прочие — пали, а Русь уцелела. Не вооруженной силой, а молитвой спасена. Древние православные страны «грех ради наших Божиим попущением безбожнии турки попленили и опустошили, и покорили под свою власть. Наша же Росийская земля Божиею милостию и молитвами Пречистыя Богородицы и всех святых чудотворцев растет и младеет, и возвышается. Ей же, Христе милостивый, дай же расти и младети и разширятися и до скончания века».
Тем самым составитель «Русского Хронографа» сообщает соотечественникам: по милости Божией мы освобождены от страшной кары и ныне обрели особенную судьбу — лучше, чем ту, что выпала на долю греков и сербов. Сохранение этой особенной судьбы зависит от силы упования на любовь Божию к Руси и от молитв о благом устроении дел ее Высшим Судией. Другого пути нет. Русь не выглядит чище, благочестивее, высоконравственнее Византии, Сербии, Болгарского царства. Нет, вовсе нет. Просто над ней сжалилась Богородица — ведь Москва мыслила себя как «Дом Пречистой», а главный собор города освящен был во имя Ее успения. И это небесное покровительство Пречистой, по словам Досифея Топоркова, не исчезнет «до скончания века» — до Страшного суда.
«Русский Хронограф» был исключительно популярен на Руси. Науке известно о существовании около 130 списков (копий) этого памятника, созданных в XVI, XVII и даже XVIII столетиях! Он мощно повлиял на более поздние русские летописи и хронографы. Немудрено: именно «Русский Хронограф» вывел отечественную историческую мысль с провинциального уровня на мировой. Именно в нем Русь впервые была представлена как великая православная держава.
Самое знаменитое «зеркало», в которое смотрелась тогда Москва, родилось из нескольких строк.
В 1492 году пересчитывалась пасхалия на новую, восьмую тысячу лет православного летоисчисления от Сотворения мира. В комментарии митрополита Зосимы, сопровождавшем это важное дело, об Иване III говорилось как о новом царе Константине, правящем в новом Константинове граде — Москве.
Развитие этой идее принесла переписка старца псковского Елеазарова монастыря Филофея с сыном Ивана, государем Василием III, и дьяком Мисюрем Мунехиным. Филофеем была высказана концепция Москвы как «Третьего Рима», в течение многих веков тревожащая умы русских людей. Филофей рассматривал Москву как центр мирового христианства, единственное место, где оно сохранилось в чистом, незамутненном виде. Два прежних его центра — Рим и Константинополь («Второй Рим») пали из-за вероотступничества. Филофей писал: «…все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя по пророческим книгам, то есть Ромейском царстве, поскольку два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть». Иначе говоря, «Ромейское царство» — неразрушимо, оно просто переместилось на восток, и Россия — новая Римская империя. Василия III Филофей именует царем «христиан всей поднебесной». В этой новой чистоте России предстоит возвыситься, когда государи ее «урядят» страну, установив правление справедливое, милосердное, основанное на христианских заповедях. Но более всего Филофей беспокоится не о правах московских правителей на политическое первенство во вселенной христианства, а о сохранении веры в неиспорченном виде, о сбережении последнего средоточия истинного христианства. Филофеево «неразрушимое Ромейское царство» — скорее духовная сущность, нежели государство в привычном значении слова. Роль московских государей в этом контексте — в первую очередь роль хранителей веры. Справятся ли они со столь тяжкой задачей?
По словам историка средневековой русской литературы А. М. Ранчина, Москва у Филофея «является последним Римом, потому что приблизились последние времена, в преддверии которых число приверженцев истинной веры, согласно Откровению святого Иоанна Богослова, уменьшится. Именно поэтому эстафета передачи метаисторического Ромейского царства уже завершена. Но неизвестно, удастся ли и Москве — Третьему Риму исполнить свою миссию, свое оправдание перед Богом». Филофей, таким образом, вовсе не поет торжественных гимнов молодой державе, он полон тревоги: такая ответственность свалилась на Москву!
Идея Москвы как Третьего Рима долго не получала широкого признания. Слова, сказанные в «Русском Хронографе», завоевали умы русских книжников быстро и прочно. Концепция Досифея Топоркова о милостивом вмешательстве Богородицы в судьбу Москвы и России получила преобладающее значение. А вот рассуждения Филофея никак не становились столь же известными.
Лишь во второй половине XVI века их начинают воспринимать как нечто глубоко родственное московскому государственному строю.
При утверждении в Москве патриаршества была составлена «Уложенная грамота». Писавшие ее московские книжники вложили в уста патриарха Константинопольского Иеремии похвалу царю Федору Ивановичу: «Твое… благочестивый царю, Великое Российское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивое царствие в твое во едино собрася, и ты един под небесем христьянский царь именуешись во всей вселенной, во всех христианех…» Конечно, и сам Иеремия, и всё греческое священноначалие Православного Востока едва-едва познакомилось с московской историософией; вряд ли они разделяли такой взгляд на Москву и Россию; но, во всяком случае, наши интеллектуалы приписали греку идею Москвы как Третьего Рима как нечто само собой разумеющееся.
Еще одна историософская идея, популярная в допетровской России (может быть, самая популярная), заключалась в сравнении Москвы с Иерусалимом. Русские книжники и русские власти были твердо уверены: новая русская столица переняла особенную божественную благодать от Иерусалима, который был ею прежде щедро наделен, но впоследствии утратил ее. Теперь Москва — город городов, огромная чаша, где плещется эта благодать.
Историк искусства А. М. Лидов говорил по этому поводу: «Идея о схождении Горнего града, в котором праведники обретут вечную жизнь и спасение, присутствует и в иудаизме, и в исламе. Однако в христианстве она приобрела совершенно особое, исключительно важное звучание — это в некотором смысле основа христианского сознания: обетование и ожидание Нового Иерусалима как конец пути и обретение счастья, гармонии, торжества справедливости. С этой идеей связана традиция перенесения образов Святой земли, попытки воспроизвести то особое сакральное пространство, в котором должно произойти сошествие Небесного града». Так вот, в Москве желали уподобления Иерусалиму идеальному, образу Небесного града, запечатленному в Иерусалиме «ветхом», историческом, но лишенному там должного вероисповедного наполнения. По представлениям книжников того времени, достигнув такого уподобления, став совершенной христианской державой, Россия с Москвой в сердце слилась бы с небесным прообразом Иерусалима.
Москву уподобляют Иерусалиму в летописях XV века. Позднее святому Петру-митрополиту даже припишут пророчество, согласно которому Москва в будущем «наречется Вторым Иерусалимом».
В 1560-х годах возникает грандиозный памятник богословско-исторической мысли — Степенная книга, где русская история изложена по «граням» (степеням) «царского родословия» — от правителя к правителю. Там столица России воспринимается прежде всего как «Дом Пречистой Богородицы» и, отчасти, как Новый Иерусалим, а подданные московского государя — как народ богоизбранный, который когда-нибудь освободит Константинополь, низвергнув силу ислама.
Но чаще всего Москву ведут по пути воиерусалимливания усилия зодчих.
Так, в середине XVI века Кремль украшается храмом Воскресения Христова — по имени центральной иерусалимской святыни христиан.
Образ «Второго Иерусалима», города со множеством светлых храмов, отразился в необычном облике Троицкого храма что на Рву — его позднее называли Покровским собором или, иначе, собором Василия Блаженного. Он ведь напоминает целую гроздь церквей, а не одну церковь…
На рубеже XVI–XVII веков Борис Годунов задумывает уподобить Московский Кремль Иерусалиму, но смерть лишает его возможности довершить начатое.
В середине XVII столетия патриарх Никон выстроит под Москвой величественный Новоиерусалимский монастырь, все главные постройки которого символизируют места и здания в Иерусалиме-первом, связанные с евангельской историей.
Прежде всего, Никон начал возводить подобие Иерусалимского храма Гроба Господня или, иначе, храма Воскресения Господня. Каждая постройка, каждая деталь оформления новой обители соответствовали реалиям пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме и расположению иерусалимских святынь — как его представляли себе в России XVII столетия. В соборе воспроизведены священные подобия горы Голгофы, «пещеры» Гроба Господня, места трехдневного погребения и воскресения Христа. Новоиерусалимский Воскресенский собор строился по разборной модели храма Гроба Господня из кипариса, слоновой кости и перламутра. Ее доставил в Москву патриарх Иерусалимский Паисий. А иеромонах Арсений специально произвел обмеры храма в Иерусалиме. Однако Новоиерусалимская церковь отнюдь не стала точной копией храма Гроба Господня. Она не являлась таковой даже в планах. В конце концов, храм Гроба Господня представляет собой хаотичное наслоение разновременных зданий и пристроек. Возводя свою «версию», наши зодчие приспосабливали архитектурные формы всемирно известной постройки к русским обычаям, улучшали, модернизировали, добивались единства стиля. Подмосковный собор должен был выглядеть лучше «протографа». В эстетическом смысле он действительно имеет гораздо большую ценность.
Вся местность вокруг обители наполнилась евангельской символикой. Холм, на котором воздвигали собор, назвали Сионом, а соседние холмы — Елеоном и Фавором. Ближайшие села обрели названия Назарет и Капернаум. Даже подмосковная речка Истра — там, где она протекала по монастырским владениям, — стала именоваться Иорданом. А ручей, обтекающий монастырский холм, превратился в Кедронский поток.
В создании Новоиерусалимской обители отразилась идея, близкая московским интеллектуалам еще с рубежа XV–XVI столетий, со времен Ивана III: действительная сила Православного мира постепенно уходит от греческого священноначалия и сосредоточивается в Москве. Многочисленные греческие патриархи, митрополиты и прочие архиереи обладают превосходными библиотеками, умирающей, но всё еще сносной системой училищ и большим духовным авторитетом. Однако они пребывают под гнетом турок-османов, поддаются влиянию Римско-католической церкви, они просто очень бедны, наконец. А Москва богата и независима. Москва спасает греческих архиереев и греческие монастыри от нищеты. Центр Православного мира должен переместиться сюда! Соответственная «великая идея» или, вернее, целая интеллектуальная программа получила выражение в камне. Новый Иерусалим под Москвой — символический перенос духовного центра православия на новое место. Он словно извещал весь Православный Восток: благодать отошла от древних городов и ныне почиет на землях московских!
В XVI веке Церковь и государство занялись созданием огромных летописных сводов, куда должна была войти вся история Руси, включенная во всемирную историю христианской общины. На митрополичьей кафедре в результате появился фундаментальный памятник русской истории: Никоновская летопись. Затем при государе Иване IV родились две огромные летописи, освещавшие историческую судьбу Руси с точки зрения московского правительства: Воскресенская летопись и Лицевой летописный свод. Последний был украшен шестнадцатью тысячами цветных миниатюр! Таким образом, было построено величественное здание христианской «биографии» Руси, в котором Москва и ее государи заняли центральное место.
А теперь стоит мысленно вернуться к временам правления Ивана III. Именно в нем укоренено прекрасное цветущее древо русского размышления о себе, о своем народе, о своей стране, о той русской мелодии, которая неотменно вплетается в хор судеб мирового христианства. За 200 лет Московского царства это древо дало множество побегов…
ВАСИЛИЙ III Храбрец
Великий князь Василий Иванович — живое подтверждение принципа, согласно которому на детях великих людей природа отдыхает. Он не обладал политической гениальностью отца. Он вообще не склонен был к гибкости в вопросах дипломатии, военного дела, улаживания внутренних конфликтов. Этот правитель в большей степени полагался на силу. Время от времени эта ставка позволяла ему выиграть в крупной игре, но порой жестоко подводила.
Сын Ивана III Великого, вошедший в историю московских Рюриковичей как Василий III, он получил огромное, богатое, хорошо устроенное наследство. Его заслуга состоит прежде всего в том, что он не растратил полученное, а приумножил его. Несравненно более слабый политик, чем отец, он всё же не проявлял в государственных делах ни явной глупости, ни безрассудства, ни губительной слабости. Иной раз он выказывал отвагу на поле брани и, без сомнения, обладал твердой верой.
При нем у подножия московского трона собралась опытная, энергичная и многолюдная политическая элита. Кто-то перешел под руку нового государя «по наследству» от старого, кто-то вошел в состав правящего круга уже при самом Василии III, но в любом случае великий князь располагал обширным ресурсом превосходных «управленцев», «людей меча и совета». Собственных достоинств, общей инерции подъема, на котором находилась страна после Ивана Великого, и поддержки со стороны аристократии ему хватило, чтобы править достойно. Узнав победы и поражения, Василий III в конечном итоге завершил правление счастливо. Московское государство при нем усилилось.
Василий Иванович родился 25 марта 1479 года. При жизни отца он получил колоссальный управленческий опыт. Бывал в опале за какие-то смутные связи с заговорщиками, получил прощение. От матери Василий Иванович мог научиться тому, как вить большую придворную интригу. От отца — как рассуживать суды и вести державные дела.
В 1505 году, после кончины родителя, он взошел на престол взрослым человеком с навыками государственного деятеля.
Василий III продолжил политику отца. Он упорно дрался с Литвой за Смоленск и Полоцк. В этой войне ему препятствовала весьма разумная политика литовского правителя Александра Ягеллона. Тот жаловал крупным городам Литовской Руси обширные права на самоуправление. Горожане сомневались в том, что московский государь сохранит за ними эти права, и оказывали его войскам более упорное сопротивление, чем раньше.
С другой стороны, Василий III обрел могучего союзника в лице князя Михаила Глинского. Будучи богатым и влиятельным магнатом, а также незаурядным полководцем, Глинский затеял восстание против нового польско-литовского монарха Сигизмунда I. Потерпев поражение, князь нашел прибежище в Москве.
В 1514 году армия Василия III в очередной раз подошла к Смоленску. Артиллерийский обстрел произвел на горожан устрашающее впечатление. Тогда Глинский повел с осажденными переговоры через тайных своих сторонников. Ему удалось склонить растерявших боевой дух горожан к сдаче Смоленска. Древний город, когда-то — столица самостоятельного княжения, оказался поистине драгоценным приобретением для России. Заодно он принял роль главнейшего ее пограничного форпоста на «литовском рубеже». В честь этой победы Василий III основал московский Новодевичий монастырь.
Полоцк оказался более крепким орешком для московских воевод: при Василии III его так и не взяли.
Тяжелая, кровопролитная война между Литвой и Россией шла более десяти лет. В боевых действиях успех оказывался то на одной, то на другой стороне. 1514 год, помимо взятия Смоленска, принес русской армии тяжелое поражение от литовцев под Оршей. Но в 1517 году литовцы оказались разбиты у русского города Опочки. После завершения войны в 1522 году Московское государство сохранило за собой Смоленск.
Напряженность на западной границе сохранялась и после того, как открытая вооруженная борьба прекратилась. То и дело там происходили кровавые стычки.
После кончины Василия III в Литве ожидали начала смуты в Московском государстве. Началась новая война. Она не дала решительного перевеса ни одной из сторон. На протяжении 1534–1537 годов литовские и московские армии устраивали глубокие рейды на территорию противника, разоряли села и посады, жгли города, но настоящий большой успех не давался в руки военачальникам. В итоге сохранилось почти то же положение, что и до начала боевых действий. Россия потеряла Гомель, зато приобрела на литовском рубеже сильную крепость Себеж.
В целом же первые полвека противоборства Москвы и Литвы закончились в пользу московских государей «с разгромным счетом».
Василий III пошел по стопам родителя и в другом. Он продолжал объединять русские земли вокруг Москвы, не стесняясь применять военную силу.
Так, в 1510 году он присоединил Псков, а в 1521-м — Рязань. Последний рязанский князь Иван Иванович бежал к литовцам. Рязанская великокняжеская династия более никогда не правила этой землей. Все ее былые права перешли к московским государям.
В 1462 году отец Василия III принял под свою руку не очень большое, слабо заселенное, окруженное сильными врагами Московское княжество. За шесть десятилетий Московская держава превратилась в Россию, одно из крупнейших государств Европы. К нему относились с уважением и боязнью. С ним считались на арене большой политики. И это было первое по-настоящему сильное государство, созданное русским народом после веков политической раздробленности.
Если в борьбе с Великим княжеством Литовским Василий III в общем итоге добился успеха, если Псков и Рязань он поглотил без особого напряжения сил, то отношения с татарскими ханствами оказались наполнены большим риском и большими потерями.
Иван III располагал мощью Крымского ханства как союзной силой. С Казанью он справлялся то дипломатическими средствами, то военными. Но с первых лет правления Василия III и Крым, и Казань сделались злейшими врагами России. С ними пришлось вести долгую, трудную, кровопролитную борьбу. Особенно опасным было Крымское ханство. Оно контролировало огромные территории за пределами собственно Крымского полуострова, располагало весьма значительной и притом на редкость мобильной армией.
Первые столкновения между Крымом и Россией начались в 1507 году. Тогда татар отбили с большим уроном. Однако впоследствии они совершали набеги вновь и вновь. В 1521 году крымцы прорвались в коренные земли Руси и страшно опустошили их. К середине 1520-х годов Москва научилась организовывать оборону южных границ так, чтобы воеводы встречали крымцев на дальних подступах, у Оки, и обращали их вспять. Впоследствии московские полки, что ни год, выводились к окским оборонительным рубежам. Эта система, очень дорогостоящая, очень затратная в демографическом смысле, оказалась весьма эффективной. Она «срабатывала» на протяжении многих десятилетий. К центральным областям страны татар теперь не допускали. Но для окраин, особенно для Рязанщины, они оставались грозной опасностью.
Относительно Казани Василий III вооруженной рукой отстаивал право сажать туда ханов по воле Москвы и добился определенных успехов. До конца своего правления он сохранил контроль над Казанью. В устье Суры в 1523 году встала русская крепость-форпост Васильгород[108].
Создание единого централизованного государства из множества независимых княжеств и вечевых республик означало «собирание земли» вокруг Москвы. Но помимо этого происходило еще «собирание власти». Тверские, рязанские, северские, ярославские и прочие князья лишались прежней самостоятельности. Богатое боярство, служившее им или же никому не служившее, как в Новгороде Великом и Пскове, теперь подчинялось Московскому княжескому дому. А это сотни знатных родов и семейств со всех концов Руси. Их судьба теперь решалась в Москве.
До Ивана Великого на протяжении нескольких поколений аристократия земель, присоединенных к Московскому княжеству, постепенно пополняла столичное боярство. Таким образом, Москва медленно «переваривала» новые приобретения. При Иване III и Василии III вокруг Москвы сконцентрировалось столько новых территорий, что проблему местной аристократии стало решать гораздо сложнее обычного.
Иван III не склонен был торопиться. В годы его правления нескольких представителей немосковской знати ввели в Боярскую думу. Кое-кто попал в состав государева двора, объединявшего самые сливки аристократии и дворянства («служилых людей по отечеству»). Но некоторые княжеские роды сохраняли положение более высокое и более независимое, чем те, кто вошел в Боярскую думу. Таких князей именовали «государевыми слугами», и они пользовались в Московском государстве огромной властью. Так, князья Воротынские и Шемячичи правили целыми странами почти как независимые монархи. Они на законных основаниях владели четырьмя-пятью крупными городами. Опыт московской внутренней политики показывал: лучше давать таким «княжатам» достаточно воли — растерять ее они успеют сами. Либо наплодят потомства, и уделы их измельчают, разделенные между многочисленными потомками. Либо умрут бездетными, а в этом случае их удел отходил великому князю. Либо поднимут мятеж против Москвы, и тогда общерусская рать на законных основаниях раздавит бунтовщиков, а земли их опять-таки отойдут великому князю.
Бывало, Иван III чувствовал опасность со стороны служилой аристократии, становящейся все более многочисленной и богатой. Подвергнув опале несколько старинных боярских родов, он распустил их дворы — а это были целые армии хорошо вооруженных «послужильцев»! Но Иван Васильевич никогда не ставил цель истребить, разорить или унизить служилую знать в целом. Она служила государю отменной опорой во всех военных и политических делах. Государь постарался противопоставить ей иную силу — небогатых дворян-помещиков. Эти получали земельные участки-поместья на условиях обязательной службы, их права продавать, закладывать, передавать землю по наследству были ограниченны. Карьера и достаток помещиков полностью зависели от воли и благорасположения государя. Знать владела землей на правах вотчины, а не поместья и, значит, могла распоряжаться ею гораздо вольнее. Первое время служилые аристократы даже считали себя вправе перейти на службу к другому монарху со всеми вотчинами. Но это право исчезло быстро — к середине XVI века перебежчик уже считался пошлым изменником, а о передаче иноземному государю его вотчин и речи не шло. Ополчение помещиков рассматривалось великими князьями московскими как более надежная военная сила, чем вооруженные отряды аристократов.
Таким образом, при Иване Великом возникла сложная политическая система, где каждая сила уравновешивалась другими. Государь, дворянство, Церковь и верные престолу аристократические семейства в обычное время были способны подавить выступление целого ряда аристократических кланов, если бы те подняли мятеж против центральной власти или захотели отложиться.
Василий III не обладал неторопливой мудростью отца. Он опасался силы «государевых слуг» и под разными предлогами принялся отбирать их широкие права, ликвидировать уделы. При нем в Боярскую думу вошло множество новых княжеских родов, «разбавивших» крепкую основу старомосковского боярства. «Переварить» их старомосковский государственный строй не мог — слишком быстро и слишком многие оказались в верхнем ярусе власти.
Но тогда же появляется и Ближняя дума, то есть несколько влиятельных вельмож из окружения государя. Им принадлежит реальная власть, по сравнению с которой власть Боярской думы значительно слабее. К аристократическим кланам, стоящим близко к престолу, прочая знать относится неприязненно. О самом Василии Ивановиче в княжеской среде имели обыкновение ворчать: решает-де великие дела, запершись «сам-третей у постели»! Такой малый совет с великим князем во главе мог постепенно урезать компетенцию Боярской думы — большого официального аристократического совета. Наметился конфликт интересов…
Таким образом, главной особенностью политического устройства России было исключительно высокое положение служилой аристократии, ее богатство и мощь. На протяжении всей истории Московского государства монархи и служилая знать делили власть над страной. Нередко у аристократии власти оказывалось больше.
С одной стороны, Россия получила в лице боярско-княжеской знати первоклассный слой военачальников и администраторов. Служилые аристократы обладали колоссальным наследственным опытом властвования в стране. Они являлись, кроме того, самой образованной частью старомосковского общества после духовенства. Наконец, они были в большинстве своем энергичными, отважными, выносливыми людьми.
С другой стороны, русская знать отличалась своеволием и властолюбием. Чуть только государи московские давали слабину, служилая аристократия сейчас же устремлялась к рычагам власти. Идеалом старомосковской знати были слабые выборные государи, во всем зависевшие от магнатов, — как в соседнем Польско-Литовском государстве. Позднее, в эпоху Смуты, это стремление приведет столичные боярско-княжеские круги к прямой измене.
Когда на московской службе оказывались сотни пришлых родов, потребовалось установить между знатными людьми многоступенчатую систему старшинства. Она и получила название местничества. Главной причиной, по которой знатный человек мог встать на более или менее высокую ступеньку в местнической иерархии, были заслуги всего семейства, в том числе далеких предков. С годами система усложнялась, каждый месяц новые служебные назначения изменяли и «достраивали» ее. Возвышению в ее рамках способствовали удачный брак, богатство, личные заслуги.
Положение в местнической иерархии значило очень много. Именно от него зависела возможность получить высокую должность в армии, при дворе, в административных учреждениях. Если человек не боролся за местнический статус, уступал в спорах, это скверно отзывалось на его родственниках и потомках, вплоть до самых отдаленных. Даже уступка старому другу вызывала неприязнь всего клана и могла привести к жалобе государю на родича, не заботящегося о престиже семейства. Поэтому дворяне предпочитали сесть в тюрьму, отправиться в ссылку, постричься в монахи, открыть местнический спор посреди боевых действий, рискуя успехом всей армии и собственной головой, лишь бы не нарываться на местническую «потерьку».
Местнические суды являлись обычным делом, случались они постоянно, из года в год. На первый взгляд сама система местнических счетов кажется громоздкой и неудобной. Но именно возможность решать подобные вопросы мирно, по суду, избавила наше дворянство от необходимости разбираться с оружием в руках, убивать соперников, устраивать побоища. Кроме того, она гарантировала права сотен родов от деспотического произвола монарха.
Василий III два десятилетия счастливо прожил в браке с красавицей из древнего боярского рода Соломонией Сабуровой. Супруги жили в ладу, но детей у них не было.
Трудно судить, кто в этом виноват. Жена видела несчастье мужа и знала об угрозе смуты, нависшей над Россией из-за отсутствия у великого князя прямого наследника. Она сама великодушно предложила Василию III постричь ее в монахини, а потом найти вторую жену и родить наследника — ради мира на Руси. На развод и второй брак дал благословение митрополит Даниил, глава Русской церкви.
После пострижения в монахини (с именем София) бывшая государыня долгие годы прожила в Покровской Суздальской обители. Там она и скончалась в 1542 году. Бывшая царица оставила добрую память как человек глубокой веры. Известно, что она своими руками выкопала колодец для нужд обители. Монастырская традиция сообщает о многочисленных чудесах, совершавшихся у гроба Софии. Особое ее почитание началось еще в XVI столетии, а в середине XVII века состоялось ее прославление в лике святых. С петровских времен и на протяжении синодального периода ее почитание оказалось под запретом. Но оно возобновилось в 90-е годы XX века. 27 марта 2007 года патриарх Алексий II повелел внести имя преподобной Софии Суздальской в месяцеслов Русской православной церкви.
Однако московская служилая знать сочинила сплетню о том, что несчастную женщину обратили во инокини насильственно: ее будто бы даже отхлестали бичом за сопротивление. Ведь новый брак великого князя и рождение долгожданного наследника лишили знать масштабной политической игры, а с нею и надежд на получение большей власти в Московском государстве. Начал сказываться тот конфликт интересов между русской аристократией и Василием III, о котором говорилось выше.
21 января 1526 года великий князь женился на молоденькой дочери князя Василия Львовича Глинского — Елене. Угождая ей, государь даже сбрил бороду, чем крепко озадачил подданных. Поступок на Руси небывалый! Борода считалась мужской красой, признаком достоинства, приверженности устоям. Но уж слишком жаждал великий князь наследников и, должно быть, хотел понравиться девушке, которая была его моложе едва ли не на 30 лет…
Правда, и новой жене нескоро удалось разорвать петлю «бесчадия». Лишь в 1530 году Елена Глинская подарила Василию Ивановичу сына Ивана, а в 1532-м — второго, Юрия.
В среде современных историков одно время были популярны догадки о незаконном происхождении Ивана Васильевича. Летопись и иные официальные документы (кроме тонких обмолвок в дипломатической переписке) не дают ни малейшего повода для умозаключений об ином отце мальчика, кроме великого князя Московского. Но, во-первых, великий князь Василий Иванович зачал сыновей лишь во втором браке, да и то далеко не сразу, к тому же пребывая на шестом десятке лет. И, во-вторых, вскоре после его кончины возникли обстоятельства, заставляющие предполагать связь его вдовы, Елены Глинской, с князем Иваном Федоровичем Телепневым-Оболенским по прозвищу Овчина. В годы регентства Елены Глинской (1533–1538) И. Ф. Телепнев-Оболенский был могущественным человеком, крупным военачальником и приближенным великой княгини.
Об этом свидетельствует императорский дипломат Сигизмунд Герберштейн. Он пишет: «…по смерти государя вдова его стала позорить царское ложе с неким боярином, по прозвищу Овчина, заключила в оковы братьев мужа, свирепо поступает с ними и вообще правит слишком жестоко». Далее Герберштейн добавляет: князь Михаил Львович Глинский, дядя Ивана Васильевича, крупный политический деятель, принялся увещевать великую княгиню, но был обвинен в измене, «ввергнут в темницу», где и умер «жалкой смертью». Вскоре после его гибели вдову Василия III, «по слухам», отравили, «а обольститель ее Овчина был рассечен на куски. После гибели матери царство унаследовал старший сын ее Иван…».
Свидетельство Герберштейна сумбурно, неточно и недостаточно достоверно: в годы правления Глинской он не посещал Московское государство и вынужден был довольствоваться слухами и сплетнями. Русская летопись не подтверждает его слова. Так, в соответствии с известием Никоновской летописи князь И. Ф. Телепнев-Оболенский был уморен голодом и тяжелыми кандалами по желанию придворной партии Шуйских и вопреки воле государя-мальчика. Сейчас трудно определить, до какой степени верны сплетни об «опозоренном ложе», но само их возникновение обязано мыслям, бродившим в русских головах, а не в немецких. Русская служилая аристократия без особой лояльности относилась к Елене Глинской. Отсюда — худые слухи о быте монаршей четы.
Что же касается Василия III, то осенью 1533 года он съездил с женой и детьми на богомолье к Троице-Сергиеву монастырю, а потом отправился под Волок Ламский «на свою потеху». Но веселился недолго: «нача изнемогати ногою, и проявися болячка на ноге той…» — видимо, нарыв. От «болячки» распространилась «болезнь лютая». Василий III едва успел вернуться в Москву. Там, в окружении семьи и вельмож, правитель быстро сгорел от хвори. Скончался он 3 декабря.
На смертном одре Василий III призвал своего первенца Ивана и благословил его крестом на великое княжение. Этот крест, по словам летописи, имел древнюю историю: им благословлял еще святой митрополит Петр Ивана Калиту. Умирая, Василий Иванович призвал бояр оберегать Русскую землю и веру «от бесерменства и от латынства и от своих сильных людей, от обид и от продаж, все заодин, сколько… Бог поможет», а также взял крестное целование со своего взрослого брата Юрия в том, что тот будет честно служить Елене Глинской и малолетнему сыну Ивану, не пытаясь захватить власть.
Впрочем, этот символический акт отнюдь не воспрепятствовал неистовой политической борьбе, развернувшейся после смерти Василия III.
ИВАН IV ГРОЗНЫЙ Артист на троне
Что произошло бы в шекспировской Дании, когда бы принц Гамлет избежал удара отравленной шпагой? О, конечно, он насытил бы жажду отмщения. И все виновные в гибели его отца и прочих злодейских интригах подверглись бы пристойному наказанию. Так восторжествовала бы справедливость. Но дальше, дальше?
Историк с воображением, развитым более, чем трезвый ум и способность к анализу, — плохой историк. Не его дело фантазировать. Что проку вторгаться в реальность художественной литературы, ведь она — поле битвы филологов, писателей, критиков, но никак не историков?
И, однако, вопрос о Гамлете не праздный и отнюдь не уводящий в сферу чистой фантазии.
Шекспир — кем бы он ни был — прежде всего дитя XVI века, европеец, возросший в культурном поле эпохи Возрождения, на почве титанических бурь Реформации. Его короли, принцы, герцоги, графы — такие же отпрыски XVI века, в какую бы хронологическую даль ни отправлял их драматург. А XVI век очень любил театр великих страстей. Разрешал и даже в какой-то степени провоцировал их проявления. Христианская же узда, еще не исчезнувшая окончательно, стягивала буйный нрав правителей, заставляя их играть перед подданными не столько истинные свои страсти, до половины освобожденные самим временем, сколько их облагороженные вариации.
Гамлет, узнав от призрака об убийстве отца, негодует, кипит, жаждет мести:
О рать небес! Земля! И что еще
Прибавить? Ад? — Тьфу, нет! — Стой, сердце, стой.
И не дряхлейте, мышцы, но меня
Несите твердо…
Допустим, принц сохранил жизнь. Бедным датчанам достанется правитель нервный, фонтанирующий эмоциями, любящий театр и сам играющий в нем. Артист на троне. Месть не входит в число христианских добродетелей, напротив, это великий соблазн. И притом соблазн, губящий душу. С такой вот душой, ублаготворенной кровью, новый король Дании начнет рассуживать подданных и вершить дела большой политики, примется громогласно упражняться в искусстве риторики и во всяком действии много уделять внимания тому, как выглядит оно в глазах окружающих. Ну а если кому-то его игра не понравится… Скверно, скверно придется тем, до кого дотянется королевская длань!
Такая «благородная игра», своего рода «театр монархов», — любимое занятие европейских государей того времени. И Россия оказалась не чужда опыту западных соседей. У нас появился свой Гамлет на троне…
Первый русский царь был натурой нервной, артистической, крайне эмоциональной. Он как будто полжизни провел на сцене и при всяком публичном выходе заботился о том, как будет выглядеть его игра. Играл громово и создал образ вочеловечившейся бури. Всякий человек, оказывавшийся поблизости, служил частью антуража, живой декорацией. Настоящая горячая кровь, пролитая в царствование Ивана Васильевича, и та, наверное, в глазах его выглядела киноварью, использованной при начертании летописных миниатюр. Блистательный артист, он время от времени забывал о целях игры и выше ставил произведенное на публику впечатление, нежели практический результат.
Важнее — «как посмотрят, что запомнят», важнее «признание», а вовсе не реальный эффект предпринятых действий. Важнее истинный порядок игры, чем глубинные основы бытия. И горе тому, кто нарушит этот порядок, утвердившийся в сознании государя…
Это стратег, но стратег стихийный, иррациональный. Шторм! Натиск! Эмоция, поднятая на пьедестал государственной политики! Легкий переход от благочестивейшего образа мыслей к порочнейшему и обратно. Неистовое согрешение и неистовое сокрушение о грехах. Ранимость. Яростное неприятие всякого несогласия, всякой критики. Стремительные скачки от истерики к ощущению несокрушимой силы. Да и сама истерика, быть может, очень хорошо контролировалась с самого начала… Самолюбование. Осознание собственного ничтожества. Сомнения, колебания… взрыв! Быстрое, кипящее, звонкое сотворение новых смыслов и прекрасных образов. Площадная брань. Тонкая интуиция, позволяющая моментально ухватить суть явления. Необузданное свирепство. Ураганная риторика — то изысканная, то безобразная.
Никаких компромиссов! Биться до конца, гнуть свою линию несмотря ни на что. Бешено ломать неприятеля, не сдерживая себя ни в чем… если он сам первым не переломит хребет. Но и тогда, хрипя от бессилия, мечтать о реванше.
И русское сознание вот уже несколько поколений тщится сгладить, адаптировать для себя этот неистовый артистический психотип. Слишком уж он неорганичен для русской жизни. Слишком разрушителен для древних основ ее. Артист, сокрушающий декорации в порыве творческого экстаза…
Будущий царь Иван Васильевич родился 25 августа 1530 года. Крестили его в Троице-Сергиевом монастыре. К тому времени его отцу, великому князю Василию Ивановичу, было за пятьдесят.
Летопись показывает рождение Ивана Васильевича как событие мистического характера, сравнивая его с ветхозаветными историями: зачатием Исаака у Авраама и Сарры или зачатием Пречистой у Иоакима и Анны. Бесплодие стало для Василия III мучением и чуть ли не позором. Никоновская летопись трогательно и торжественно рассказывает о снятии этого бремени: «Бе… ему (Василию III. — Д. В.) всё тщание везде к Богу молебная простирати, желаше бо… от плода чрева его посадити на престоле своем в наследие роду своему… милосердый Бог разверзе союз неплодства его и дарова ему родити наследника державе его…»
Дорогой ценой куплено было семейное счастье великого князя Василия III. Ему пришлось расторгнуть первый брак с Соломонией Сабуровой и жениться вновь — на Елене Глинской. Та даровала стареющему правителю наследника. Долгие годы история с разводом отца будет отбрасывать зловещую тень на судьбу сына. Елену Глинскую не лучшим образом приняли русские вельможи. Чужачка из русско-литовского рода, она пришла на место Соломонии Сабуровой, абсолютно «своей» в среде старомосковской служилой аристократии. Она получила большое влияние на мужа. С ее именем накрепко сплелись некрасивые обстоятельства разводного процесса с первой женой.
В 1532 году у Василия III родился младший сын Юрий, единокровный брат Ивана Васильевича. Он, очевидно, страдал каким-то наследственным заболеванием, поскольку летопись говорит, о нем: «несмыслен и прост». Никакой роли в судьбе старшего брата и в делах правления он не сыграл.
Отец с необыкновенным вниманием заботился о сыновьях, но недолго пробыл с ними. После мучительной болезни великий князь скончался в декабре 1533 года. Старшему сыну шел четвертый год.
После кончины супруга Елена Глинская, опираясь на группировку верной ей знати, правила твердой рукой.
При ней было построено несколько важных крепостей. Она также провела реформу денежного обращения. Еще при Иване III и его сыне Василии III на Руси ходили серебряные монеты разной формы, веса, ценности. Даже денежный счет велся в двух принципиально разных системах: новгородской и московской. Отныне по всему Московскому государству вводилась монета одного веса и размера, с именем общего для всех государя. Великой княгине удалось подвигнуть русских воевод на активные действия против польско-литовских сил в тяжелой Стародубской войне.
И, главное, великая княгиня обезглавила оппозицию, способную низвергнуть ее с престола.
В начале ее регентства дядя Ивана Васильевича, удельный князь Юрий Иванович Дмитровский, повел странные переговоры с князем Андреем Михайловичем Шуйским. Оба они могли считаться претендентами на престол, пока прямой наследник великого князя оставался мал и не способен за себя постоять. Первый — брат Василия III, а второй — аристократ исключительной знатности.
По приказу Елены Глинской князя Юрия Дмитровского отправили в темницу, где он и умер через несколько лет «на чепи и в железах». Князя Андрея Михайловича Шуйского арестовали, но он, хотя, как показывает летопись, и был ведущей фигурой в большой политической интриге, отделался легко.
Другой брат покойного Василия III, удельный князь Андрей Иванович Старицкий, летом 1537 года попытался захватить Новгород и едва не вступил в прямое вооруженное столкновение с войсками Елены Глинской. Во главе правительственной армии встал князь И. Ф. Телепнев-Оболенский. Мятеж был подавлен, а некоторые крупные фигуры, принявшие сторону удельного князя, — казнены. Сам князь Андрей Иванович стал узником, а затем умер «в нуже и страдальческою смертью». Это произошло в декабре 1537 года. Некоторые другие аристократы удостоились опалы, в том числе и дядя самой регентши — князь Михаил Глинский. Желание указывать родственнице, как ей себя вести на троне, столкнулось с ее державной волей.
Трудно определить, до какой степени братья Василия III на самом деле стремились занять престол и затевали мятежи. Их активность во многом явилась ответом на жесткие превентивные меры Елены Глинской и ее партии. Великая княгиня опасалась за судьбу малолетних сыновей, а потому избрала курс радикального подавления всех политических противников, в том числе потенциальных. В этом смысле характер ее правления напоминает образ действий Екатерины Медичи. Великая княгиня, словно птица, пыталась защитить двух сыновей крыльями и готова была биться за них с любым врагом до смерти. В конечном итоге Елена Глинская достигла своей цели. Но после всех принятых ею истребительных мер московская знать не имела ни малейшего повода относиться к ней мало-мальски доброжелательно.
Поэтому, даже если великая княгиня после кончины супруга вела чистую и праведную жизнь, за ней повсюду и во всем следовал шлейф недоброжелательства. Надо полагать, это отношение хотя бы отчасти перенесено было и на ее старшего сына. Отсюда разговоры о «незаконнорожденном» наследнике престола. Называли даже «отца» — князя Овчину Телепнева-Оболенского.
Чувствовал ли мальчик подобное к себе отношение? Очевидно — да. И худо спрятанное презрение к наследнику, и злая память о его матери подпитывали в мальчике трагический взгляд на мир. Заставляли его вглядываться в лица приближенных с подозрением: не таишь ли ты, слуга неверный, пакости на уме? Как ты смотришь на меня? Смеешь ли оценивать меня?
Разве не станет такой человек искать признания — не только полной законности своей власти, но также силы и ума? С детских лет ощущая скверну в отношениях с первейшими вельможами, элитой царства, даже в умудренной зрелости трудно найти источники для покоя и умиротворения.
Невозможно проверить, кто был настоящим отцом Ивана Васильевича, да и недостойное дело — разглядывать семейные тайны далекого прошлого через замочную скважину. В этой истории гораздо важнее другое. Ситуация 1530-х годов позволяла русской аристократии надеяться на повышение своей роли в управлении государством или даже на смену правящей династии. После смерти двух братьев Василия III оставался еще один серьезный претендент на трон — князь Владимир Андреевич Старицкий, сын князя Андрея Ивановича. За его спиной стояла мать, княгиня Евфросинья, — особа энергичная и к тому же имевшая причины ненавидеть малолетнего государя из-за смерти супруга и унижения всей семьи Старицких.
В 1538 году Елена Глинская скончалась в возрасте цветущей молодости при обстоятельствах, которые не позволяют исключить отравление. С этого момента главной силой на арене управления государством становятся могучие аристократические группировки. То борясь, то вступая в соглашения друг с другом, именно они вырабатывают генеральный политический курс. А малолетний наследник остается безвластной живой ширмой для их державствования.
Самой мощной из «партий» русской знати, принявших участие в большой игре у кормила власти, являлась группировка князей Шуйских. В союзе с родственниками, свойственниками и доброхотами Шуйские могли добиться многого. Природные Рюриковичи, они играли роль «принцев крови» при дворе и в перспективе имели шанс выдвинуть на русский престол своего претендента.
В конце 30-х — первой половине 40-х годов XVI столетия Шуйские делают несколько решительных шагов к верховной власти и на некоторое время завоевывают ее. Символом особого положения Шуйских стало принятие князем Василием Васильевичем Шуйским древнего и ставшего к середине XVI столетия архаичным титула наместника Московского. Двух представителей рода Шуйских вскоре пожаловали боярским чином, и в Думе оказались уже четыре князя этой фамилии. Осенью того же года князя Ивана Федоровича Вельского взяли под стражу, а свиту его разослали «по селом». Дьяка Федора Мишурина, возвысившегося еще при Василии III и державшегося партии великого князя-мальчика, обезглавили «без государского веления». Боярина Михаила Васильевича Тучкова выслали из Москвы «в село». А несколько месяцев спустя самого митрополита Даниила свели с кафедры. Летопись, отражающая точку зрения Церкви, сообщает о событиях того времени следующее: «…и многу мятежу и нестроению в те времена быша в христианьской земле, грех ради наших, государю младу сущу, а бояре на мзду уклонишася без возбранения, и много кровопролития промеж собою воздвигоша, в неправду суд держаще, и вся не о Бозе строяше, Богу сиа попущающе, а врагу действующе».
В 1542 году Шуйские свергли митрополита Иоасафа, вступившегося за князя И. Ф. Вельского. Тот же Вельский отправился на Белоозеро «в заточение», где его позднее убили, а виднейшие сторонники князя — в ссылку «по городом». Летопись добавляет: «И бысть мятеж велик в то время на Москве и государя в страховании учиниша». Более того, с князем Вельским расправились вопреки мнению малолетнего государя, который его «в приближении держал и в первосоветниках». Шуйских поддерживала мощная группировка московской знати и, возможно, Новгород — не было силы, способной им противостоять. Когда совершался переворот, малолетнего государя разбудили среди ночи и заставили «пети у крестов». Великий князь, несмотря на громкий титул, оказался бессилен как-либо помочь своему любимцу князю Вельскому… Он не был настоящим государем даже в собственной комнате! Но самое страшное унижение ему пришлось испытать в сентябре 1543 года. Шуйские и их сторонники избили государева приближенного Федора Семеновича Воронцова за то, «что его великий государь жалует и бережет». Это произошло во время заседания Боярской думы. На Ф. С. Воронцове разорвали одежду и собирались его убить. Иван IV едва упросил пожалеть фаворита. Однако уговорить Шуйских не отправлять Воронцова в дальнюю Кострому, а ограничиться ссылкой в близкую Коломну, великому князю уже не удалось.
Худшие воспоминания остались у Ивана Васильевича именно от этого времени, самого черного, самого горького во всей его биографии. «Было мне в это время восемь лет; и так подданные наши достигли осуществления своих желаний — получили царство без правителя, — писал он. — Об нас же, государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же ринулись к богатству и славе и перессорились при этом друг с другом. И чего только они не натворили! Дворы и села, и имущества наших дядей взяли себе и водворились в них. И сокровища матери моей перенесли в Большую казну, при этом неистово пиная ногами и тыча палками, а остальное разделили… Так вот князья Василий и Иван Шуйские самовольно навязались мне в опекуны и так воцарились; тех же, кто более всех изменял отцу нашему и матери нашей, выпустили из заточения и приблизили к себе. А князь Василий Шуйский поселился на дворе нашего дяди, князя Андрея, и на этом дворе его люди, собравшись, подобно иудейскому сонмищу, схватили Федора Мишурина, ближнего дьяка при отце нашем и при нас, и, опозорив его, убили; и князя Ивана Федоровича Вельского и многих других заточили в разные места; и на церковь руку подняли: свергнув с престола митрополита Даниила, послали его в заточение; и так осуществили все свои замыслы, и сами стали царствовать. Нас же, с единородным братом моим, святопочившим в Боге Георгием, начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде, и в пище. Ни в чем нам воли не было, но всё делали не по своей воле и не так, как обычно поступают дети. Припомню одно: бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас не взглянет — ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб на господ… Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Что же сказать мне о доставшейся родительской казне?» Любопытно, что итальянский архитектор Петр Фрязин в 1538/39 году бежал за рубеж от «великого насилия» бояр, а бегство свое оправдывал состоянием страны, емко переданным в одной фразе: «мятеж и безгосударство». Это подтверждают слова государя, а также свидетельства ряда других источников.
После приведенных выше строк верным и вместе с тем лукавым выглядит замечание князя А. М. Курбского о воспитании великого князя: «…юный, воспитанный без отца в скверных страстях и самоволии, крайне жестокий, напившийся уже всякой крови — не только животных, но и людей». А кто воспитывал его так? Всё та же служилая аристократия, страстно мечтавшая поменьше служить и побольше править. Иными словами, та аристократическая среда, откуда вышел и сам Андрей Курбский — плоть от плоти ее и ее голос.
Сначала мать, а потом «думные люди» понемногу приучали «государя» к участию в государственных делах: мальчик присутствовал на приемах иностранных дипломатов, участвовал в церковных торжествах и церемониях. Однако до первой половины или даже середины 40-х годов XVI столетия он вряд ли что-то значил в делах правления. Правили то Елена Глинская, то Шуйские, то, недолгое время, Вельские с группой сторонников. Он же оставался статистом на сцене большой политики. И, всего вероятнее, ему, как имеющему право повелевать, хотелось поскорее овладеть главной ролью в спектакле российской государственности.
Впервые он выходит на арену как фигура, способная отстаивать собственный интерес, в 1543 году — мальчик спас от смерти Федора Воронцова. Тогда дети взрослели раньше, чем сейчас. А сиротство и обстановка нестабильности, борьбы между сторонниками разных «дворовых» группировок, вполне реальная возможность лишиться трона — всё это очень способствовало быстрому возмужанию. В конце 1543-го — 1544 году Иван начинает переламывать ситуацию в свою пользу. Вряд ли одни только усилия венценосного подростка могли изменить позицию на шахматной доске большой политики. Была к этому и значительно более серьезная предпосылка: «Шуйское царство», то есть попытка монополизации власти одной аристократической партией, входило в противоречие с интересами других групп и семейств. Сильный государь оказался не столь уж бесполезен для русской знати того времени: при ее многолюдстве и, может быть, даже избыточности, он исполнял роль арбитра в спорах и следил за тем, чтобы в разделе административного пирога участвовали все значительные силы. К середине 1540-х правителя-юношу поддерживали новый митрополит Макарий, а также семейство Глинских, пусть и ослабленное прежними потерями. «Врагами его врагов» стали многочисленные аристократические кланы, противостоявшие Шуйским (Щенятевы, Хабаровы, Тучковы, Вельские, предположительно Морозовы и особенно Воронцовы), а также все те, кому Шуйские отрезали дорогу к власти. Эта совокупная сила начинает действовать, превратив малолетнего великого князя в свое знамя. Зимой 1543/44 года «партия государя» наносит ответный удар.
Вот что сообщает об этом летопись: «Тоя же зимы декабря в 29 день князь великий Иван Васильевич всеа Русии, не мога того терпети, что бояре безчиние и самовольство чинят без великого князя веления своим советом единомысленных своих советников, многие убийства сотвориша своим хотением и перед государем многая безчиния и государю безчестия учиниша и многия неправды земле учиниша в государеве младости, и великий государь велел поимати первосоветника их князя Андрея Шуйскаго и велел его предати псарем. И псари взяша и убиша его, влекуще к тюрьмам противу ворот Ризположенских в граде. А советников его розослал, князя Федора Шуйскаго, князя Юрия Темкина, Фому Головина и иных. И от тех мест начали бояре боятися от государя, страх имети и послушание». Сторонникам «Шуйского царства» давали понять: прежнее влияние им не возвратить и лучше бы вести себя поскромнее и потише. Так было совершено первое значительное политическое деяние Ивана IV. Сопровождалось оно, действительно, кровопролитием. И для партии Шуйских подобный разгром стал полной неожиданностью…
Государь-подросток впервые показал зубы, впервые пролил кровь, освободился от ненавистных врагов. Но стал ли он после этого самовластным правителем? Ушел ли он от преобладающего влияния служилой знати на дела высшей государственной важности? Об этом и речи быть не может. Совершенная неопытность великого князя в дипломатии, военном деле и внутренней политике, его юношеский возраст, недостаток сил, которые могли бы оказать прямую поддержку, делали его полностью зависимым от действий служилой знати. Свободнее, в лучшем случае, стал личный государев обиход, но это никак не означает начала единовластного правления.
«Шуйское царство» кончилось, но боярское правление продолжалось.
На протяжении примерно трех лет Иван Васильевич отстаивает свой новый статус от попыток принизить его, реставрировать наиболее неприятные для него моменты из времен боярского правления. Так, например, в сентябре 1545 года Афанасию Бутурлину, представителю древнего московского боярского рода, отрезали язык «за его вину, за невежливые слова». А через месяц Иван IV возложил опалу на целую группу служилых аристократов. Впрочем, довольно быстро они получили прощение в результате «печалования» митрополита Макария.
Источники не позволяют судить, действительно ли все эти удары наносил юный правитель. Его именем для расправы над врагами с той же вероятностью могли воспользоваться аристократические группировки, потеснившие клан Шуйских. Чего было больше — молодого задора в борьбе монарха за право самому решать державные дела или же тонко рассчитанной интриги, смысл которой государь не обязательно понимал, да и понимая, не обязательно мог ей противиться? Нет четкого ответа на этот вопрос.
Характер Ивана Васильевича резко испортился. От тех лет сохранились известия о молодом незамысловатом хулиганстве великого князя, о его странных играх и жестоких забавах.
В частности, Псковская летопись, абсолютно независимый источник, сообщает о потравах и разоре, учиненных в псковских землях резвым молодым человеком и его товарищами. Видимо, Иван Васильевич разъярился на одного из молодых людей, княжича Михаила Богдановича Трубецкого, и велел удавить его. По косвенным известиям можно строить догадки о том, что великий князь любил охоту, скоморохов, был охоч до женского пола и, возможно, какое-то время склонялся к содомии. Он отличался крайне эмоциональным и притом несдержанным характером. Видные представители духовенства обращались к нему с увещеваниями. Увеселения перемежались поездками по монашеским обителям, продолжавшимися неделями, а порой и месяцами.
Мудрое пастырство со стороны одного из крупных церковных деятелей могло бы не только сдержать развитие скверных наклонностей, но и выковать из артистической натуры чистый металл одухотворенной личности. Направить неистовую энергию молодого государя к созидательной работе. По всей видимости, роль подобных пастырей сыграли митрополит Макарий и священник Сильвестр. Но если с первым государь навсегда сохранил добрые отношения, то второй пользовался своим влиянием слишком давяще, а то и небескорыстно. В зрелых годах Иван Васильевич будет испытывать к Сильвестру отвращение.
Напряжение постепенно нарастало и закончилось жестоким кризисом.
В мае или июне 1546 года Иван Васильевич выходил с войсками под Коломну, видимо, по «крымским вестям». Боевых действий не случилось, и великий князь остался на некоторое время в тех местах для игр и развлечений. Отряд новгородских пищальников попытался подать ему какое-то челобитье; не желая принимать его, Иван Васильевич попробовал было отослать отряд, но пищальники уходить не собирались. Между ними и дворянами великокняжеской свиты произошло настоящее сражение, с обеих сторон были убитые. Полагая, что за попыткой в неурочное время в неурочном месте подать челобитную кроется заговор людей, стоящих намного выше простых пищальников, государь поручил дьяку Василию Захарову-Гнильевскому розыск. Тот указал на нескольких виновных. В истинности слов дьяка, судя по несколько странным оговоркам в летописном тексте, Иван Васильевич впоследствии сомневался. Но тогда он велел (может быть, не вполне обоснованно) казнить Федора Семеновича Воронцова, ставшего влиятельным человеком при особе государя, его родича Василия Михайловича Воронцова, а также старого крамольника князя Ивана Ивановича Кубенского. Источники не дают возможности определить, существовал ли на самом деле заговор. Однако расправа с несколькими видными представителями знати показала: конфликт на самой вершине власти грозит вновь, как в недавние годы «безгосударьства», обернуться открытым противостоянием.
Ситуация с коллективным челобитьем в неурочное время повторилась до странности сходно в 1547 году, когда в роли жалобщиков выступили уже псковичи. Их Иван Васильевич разогнал со срамом и бесчестьем.
К тому времени Иван Васильевич вошел в брачный возраст. Источники рисуют его молодым человеком, рано повзрослевшим и еще в юношеские годы вымахавшим с коломенскую версту. Когда он был молод, его считали красивым. Позднее, видимо, он несколько растолстеет. Более поздний источник сообщает о государе в зрелом возрасте следующее: «царь Иван образом нелепым (не отличался красотой), очи имел серы, нос протягновенен и покляп (изогнут), возрастом (ростом) велик был, сухо тело имел, плещи высоки имел, грудь широкую, мыщцы толсты». Что же касается внешнего благообразия, то оно, вероятно, было подпорчено дурной привычкой скоро и бурно впадать в ярость, каковую государь приобрел на закате жизни.
В январе 1547 года Иван Васильевич венчался на царство.
Московские государи с XIV века носили титул «великих князей московских». Однако в дипломатической переписке еще при Иване III начали применять титул «царь», приравнивая его к императорскому. Таким образом, во всей Европе с нашими монархами могли равняться лишь германский император и, может быть, турецкий султан. Но одно дело — использовать столь высокий титул в дипломатическом этикете, и совсем другое — официально принять его. Это были серьезная реформа и серьезный шаг в укреплении позиций Ивана IV. Но при этом на плечи молодого человека ложился тяжкий, поистине неподъемный груз. За этим преобразованием видятся и мудрость митрополита Макария, венчавшего молодого монарха, и острый ум князей Глинских.
Церемония венчания прошла с большой пышностью в кремлевском Успенском соборе. Через несколько дней государь выехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь.
Царский статус европейские страны признали не сразу. Да и подтверждение его от константинопольского патриарха Иоасафа пришло лишь в 1561 году.
В том же году Иван Васильевич женился на Анастасии Захарьиной-Юрьевой, происходившей из древнего боярского рода. Это семейство даст впоследствии Московскому государству династию Романовых. Глубокое и нежное чувство испытывал правитель к своей жене. Обретя любимого человека, государь также нашел сильных союзников в лице богатой и влиятельной семьи Захарьиных-Юрьевых.
Нельзя сказать, чтобы свадьба и венчание на царство моментально исправили характер Ивана IV. Но они способствовали этому. Государь до тех пор был юношей у власти — без твердого определения, кто он есть по отношению к своей же аристократии, по каким образцам должна строиться его жизнь, что в ней будет играть роль непреложных законов, а чему уготована судьба маргиналий на полях биографии. Принятие царского титула и женитьба встроили его в социальный механизм Русской цивилизации. Ивану Васильевичу фактически предложили настоящую, полновесную роль на всю жизнь — роль главы собственной семьи, в перспективе же — светского главы всего Православного мира. Последнее ставило Ивана Васильевича недосягаемо высоко по сравнению с любым знатным человеком страны.
Подобное возвышение налагает значительные ограничения на монарха — на его образ жизни и даже на его образ мыслей. В течение нескольких лет молодой государь приносил Церкви покаяние за прежнее беспутство и «врастал» в свою великую роль. В середине 1550-х Иван Васильевич выглядел как человек, идеально ей соответствующий. Один итальянец оставил весьма привлекательный его портрет: «…Князь и великий император по имени Иван Васильевич имеет от роду 27 лет, красив собою, очень умен и великодушен. За исключительные качества своей души, за любовь к своим подданным и великие дела, совершенные им со славою в короткое время, достоин он встать наряду со всеми другими государями нашего времени, если только не превосходит их… Император руководствуется своими несложными законами, по которым он с величайшей справедливостью царствует и управляет всем государством… Император запросто разговаривает и обращается со всеми; он обедает со всеми вельможами всенародно, но с истинным благородством: с царским величием он соединяет приветливость и человечность».
Укрепиться в этой роли заставил царя страшный московский бунт 1547 года. 12, 20 и 21 апреля в Москве вспыхивали большие пожары. Последний из них приобрел катастрофический масштаб. Рвались пороховые погреба, пылали церкви, падали колокола, были объяты пламенем Пушечный двор, Оружейная палата, Постельная палата, Казенный двор, царская конюшня и добрая половина города… В огне погибло 1700 москвичей. Царь, к счастью, пребывал под городом в селе Воробьеве и не пострадал. Это бедствие, не случавшееся в Москве ни разу на памяти современников, воспринято было как Божья кара за грехи и, в частности, «беззакония». По всей видимости, партия Шуйских попыталась использовать последний шанс на восстановление политического лидерства и спровоцировала посадских людей на кровавый, разрушительный мятеж. Этот бунт острием своим был направлен на группировку, поддерживавшую царя, в частности на Глинских, которых молва очерняла как колдунов и беззаконников.
Летопись рассказывает о мятеже лапидарно, без особых цветов красноречия: «Черные люди града Москвы от великие скорби пожарные восколебашася, яко юроди, и пришедше в град и на площади убиша камением царева великого князя болярина князя Юрья Василиевича Глинскаго и детей боярских многих побиша, и живот княжей розграбиша, рекуще безумием своим, яко „вашим зажиганием дворы наши и животы погореша“». Царь повелел тех людей «имати и казнити; они же мнози разбегошася по иным градом».
Иван Васильевич пережил смертный ужас: к нему в Воробьеве явилась бунтовская чернь и потребовала выдать главную колдунью княгиню Анну Глинскую и ее сына князя Михаила Васильевича Глинского, оставшегося главой рода. Недалеко было и до того, что руки мятежников потянутся к государеву горлу… Впоследствии царь будет с ужасом вспоминать события 1547 года: «…вниде страх в душу мою и трепет в кости моя, и смирися дух мой, и умилися, и познах свои согрешения».
Иван Васильевич получил представление о том, как страшна может быть народная стихия, как дорого может обойтись любой неверный ход монарха.
Страна в ту пору управлялась сложно и пестро. Каждая область имела собственные административные и правовые обычаи. «Церковная область», рассыпанная по всей державе, управлялась по особым законам и правилам. Служилая знать получала в «кормление» доходы от административной деятельности на местах, занимая должности по очереди, на сравнительно короткий срок. Чаще всего на год. Следовательно, эти доходы распределялись неравномерно — в зависимости от силы и слабости аристократических партий, способных реже или чаще продвинуть на кормление своих людей. А люди, получавшие должности как разновидность жалованья, отличались большими или меньшими способностями к работе, которая им вменялась в обязанности. Центральное управление не успевало за всё нарастающим валом задач, возникавших на колоссальной территории. Ведь размеры страны увеличились в несколько раз по сравнению с началом правления Ивана III!
Административной структуре, правовой сфере и церковному устройству требовались реформы. В 1530-х — середине 1540-х годов преобразованиям уделялось мало внимания. Борьба за власть пожирала творческие силы политической элиты. В активе того периода — лишь денежная реформа Елены Глинской. Ко второй половине 1540-х накопилось много проблем.
После венчания государя наступает период, благоприятный для реформаторства.
У кормила власти — все те же аристократические кланы, но среди них нет первенствующей партии. Иными словами, наступило примирение могущественнейших людей России, они договорились между собой о более или менее равномерном распределении власти. Число «думных людей» возросло. Государь уже не являлся мальчишкой, которым нетрудно помыкать, теперь он мог выполнять роль арбитра и влиять на политический курс в желательном для себя направлении. Однако совокупной силе аристократии Иван Васильевич мало что мог противопоставить. Сам он впоследствии напишет об аристократическом окружении тех времен (конец 1540-х — 1550-е годы): «…Всю власть вершили по своей воле, не спрашивая нас ни о чем, словно нас не существовало… Если мы предлагали даже что-либо хорошее, им это было неугодно, а их даже негодные, даже плохие и скверные советы считались хорошими». Впрочем, источники показывают, что влиять на дела в то время (особенно — ближе к середине 1550-х) государь все-таки мог.
Формальное примирение между монархом и его недоброжелателями происходит в 1549 году: царь публично снимает с них вину за прежние злоупотребления. На митрополичьей кафедре стоит человек государственного ума, великого милосердия и обширных знаний — святой Макарий. Как видно, у него получалось направлять неистовую энергию молодого царя в доброе русло и не давать ей выхлестываться бурно, разрушительно.
В ходе реформаторской деятельности образуется нечто, впоследствии поименованное князем Андреем Михайловичем Курбским Избранной радой. На протяжении многих лет историки спорят, чем она являлась — постоянно действующим административным органом, политическим клубом, Ближней думой, группой теснейших сотрудников царя? Не так давно вышла книга историка А. И. Фшпошкина, который вообще отрицал существование Избранной рады.
По всей видимости, Избранная рада была чем-то вроде политического кружка, работавшего при Александре I в начальные годы его правления. С той лишь разницей, что деятельность Избранной рады оказалась намного результативнее. В ее состав, помимо самого государя, входили окольничий Алексей Федорович Адашев, священник кремлевского Благовещенского собора Сильвестр, боярин князь Дмитрий Иванович Курлятев, возможно, митрополит Макарий. Что касается других политических деятелей того времени, то их присутствие в составе кружка менее вероятно[109]. Однако, поскольку ни в летописи, ни в каких-либо архивных комплексах работа Избранной рады не отражена, о ее функционировании и составе по большей части приходится лишь гадать.
Вероятно, Избранная рада играла роль политического консультативного совета, а также «буфера» между государем, аристократическими партиями и Церковью. Здесь согласовывались позиции аристократических группировок по важнейшим вопросам внутренней политики и рождались окончательные формулировки административных решений. Но реальной властью наделена была всё же не Избранная рада, а Боярская дума и государь.
Итак, государь и боярское правительство, используя в качестве инструмента Избранную раду, провели ряд серьезных реформ.
Были отменены кормления, и на их место пришел сбор «кормленого окупа», то есть денежных средств, которые потом распределялись казной между представителями военнослужилого класса. На местах ограничена была власть наместников и волостелей — администраторов, присылаемых из Москвы; часть их прерогатив перешла к выборным должностным лицам: «излюбленным головам», земским и губным старостам. Они теперь занимались оперативной работой, следствием и судом по уголовным преступлениям, а также урегулированием поземельных дел.
Специальным уложением о службе определялось следующее: служилые люди обязаны приходить на воинские смотры «конны, людны, оружны». Количество бойцов, которых они обязаны выставить, рассчитывалось по строго установленным нормам в зависимости от размеров их земельных владений.
Объединение Руси означало концентрацию политической власти в центре. Еще в середине XV столетия проблемы военного дела, сбора налогов, введения новых законов, наделения поместьями дворян, а также многое другое решалось в доброй дюжине русских столиц от Рязани до Пскова. Но в Московском государстве все перечисленные функции управления забрала себе одна-единственная столица. Следовательно, ей требовался обширный и разветвленный административный аппарат. В течение нескольких десятилетий он быстро рос, и к середине XVI столетия в его недрах сложилась стройная система центральных ведомств. Их тогда называли «избами» («Поместная изба», «Челобитенная изба», «Разбойная изба») или «приказами».
Работавшие в приказах чиновники именовались «приказными людьми». Высшая должность в приказном аппарате называлась «думный дьяк», то есть это был чиновник, имевший право участвовать в заседаниях Боярской думы в роли секретаря. Ниже него стояли дьяки и подьячие. В самых важных приказах выше дьяков ставились «судьи» — служилые аристократы, руководившие работой учреждения.
Приказы были разными по масштабу. Огромные приказы, например Посольский и Разрядный, ведали важнейшими отраслями государственного управления — дипломатией и распределением дворян на должности в армии и крепостях. У приказа поменьше была гораздо более узкая сфера деятельности. Так, Приказ книгопечатного дела ведал Московским печатным двором и книжной лавкой. А совсем уж маленький Записной приказ — составлением новой летописи. Помимо отраслевых, существовали также территориальные ведомства: Сибирский приказ, Приказ Казанского дворца, так называемые «четверти», или «чети». Приказы заводили собственные профессиональные училища, готовившие молодую смену старым дьякам и подьячим. Система приказного управления оказалась весьма гибкой.
В 1550 году вступил в силу новый Судебник, заменивший прежний Судебник 1497 года: тот содержал целый ряд устаревших за полстолетие норм. Новый свод общерусских законов оказался значительно обширнее. Он является аналогом современного уголовно-процессуального кодекса, но помимо этого содержит ряд важных норм по другим отраслям права.
Это была великая по объему работа, и ее выполнили в необычайно короткий срок. Всего-то за десятилетие! Ко второй половине 1550-х годов главное реформаторам удалось завершить. Государственный строй державы обрел черты устойчивости и здравой унификации.
Можно сказать, что при Иване III старая Русь очищалась в плавильном горне, вытекая оттуда чистым металлом России, а при Иване IV этот металл был отлит в конкретные формы государственного бытия.
В середине XVI столетия Русская цивилизация всё еще пребывала на пике своего развития. Это видно не только по военным достижениям, бурной реформаторской деятельности, новым веяниям в искусстве, но и по преобразованиям Церкви. В то время ее главой был мудрый, благочестивый и «книжный» человек, митрополит Макарий, впоследствии причисленный к лику святых.
Он родился в 1481 или 1482 году. Постриг принял в Пафнутьево-Боровском монастыре, отличавшемся большой строгостью иноческой жизни. Затем возвысился до положения архимандрита в Лужецкой обители под Можайском. Великому князю Василию III Макарий понравился своей ученостью, даром учительства и здравым умом. Поэтому государь выдвинул его в архиепископы Новгорода Великого — второе по значению место в русской церковной иерархии. Строптивым новгородцам Макарий также пришелся по душе. Пребывая в Новгороде, он ликвидировал монастыри, где жили одновременно мужчины и женщины. Во главе женских обителей он поставил игумений, а не игуменов, а священниками сделал в них белых попов, а не монашествующих. Активно боролся архиепископ с остатками язычества в местах, где на Новгородской земле жили финно-угорские народы. При нем был отремонтирован и украшен собор Святой Софии — главный в городе.
В 1543 году Макарий стал митрополитом Московским. Он взошел на кафедру в трудное для Русской церкви время. Вот уже несколько лет служилая знать вертела митрополитами, как хотела, а у малолетнего государя не было власти, чтобы воспрепятствовать этому. Но Макарий старается не участвовать в придворных интригах, лишь постепенно и осторожно поддерживая государя-юношу и собиравшихся вокруг него людей. Добрые советы митрополита способствовали постепенному возвышению Ивана IV над хаосом придворной борьбы. Русская церковь так же нуждалась в централизации, как и государство. Обычаи ее в разных областях России отличались друг от друга, не было даже единого пантеона святых. Некоторых из них почитали в одной земле, а по соседству совершенно не знали. Митрополит повелел собрать всю бытовавшую тогда духовную литературу и сведения обо всех святых, почитаемых в Русской земле. Вычистив из полученной совокупности всё то, что не соответствовало замыслу или считалось «отреченной» (нежелательной для чтения) литературой, Макарий разместил остальное по месяцам и дням: жития святых и произведения канонизированных Церковью авторов. Получилось 12 колоссальных по размеру книг, которые именуются Макарьевскими минеями четьими. Этот огромный труд занял 20 лет и завершился в 1552 году.
До святого Макария Русская церковь знала всего 22 русских святых. Его усилиями на соборах 1547 и 1549 годов были канонизированы еще семнадцать.
Жизнь Церкви нуждалась в установлении общего порядка вместо той пестроты, которая существовала в разных концах Руси. В 1551 году прошел большой церковный собор, получивший наименование Стоглавого, поскольку его постановления уместились в 100 глав. Эти главы построены в форме диалога: царь Иван IV вынес к Церкви вопросы, требовавшие обсуждения и решения; собор, в свою очередь, отвечал по пунктам. Книга, где всё это собрано, так и называется «Стоглав». Помимо экономического собор имел большое нравственное и политическое значение. На нем обличались пороки духовенства, а также склонность прихожан к ересям, астрологии, «мудрованию» в духе протестантизма, тогда очень влиятельного в Восточной Европе. Собор определил компетенцию церковных судов. Показано было также, сколь далеко может простираться вмешательство государя в область церковных дел. Царь пожелал задать Церкви крайне щекотливые вопросы, и Церковь должна была ответить ему, кое в чем уступив позиции.
На многих государственных преобразованиях того времени лежит отсвет воли и мудрости святого Макария. Пока он был жив, борьба монарха и служилой знати не принимала жесточайших форм, которые придут в российскую политику через год после его кончины. А отношения между государем и Церковью надолго приняли благодатный характер симфонии — сотрудничества.
В середине 40-х годов XVI века произошло обострение отношений с Казанью, вылившееся в трудную затяжную войну. Первые походы на Казань, по всей видимости, не отличались особым размахом. Иван Васильевич в них не участвовал.
Первое масштабное зимнее наступление на Казань 1547/48 года сорвалось — как будто из-за ранней оттепели и таяния льда на реках. Иван Васильевич оставил армию и вернулся в Нижний Новгород. Похоже, сам государь не очень-то рвался участвовать в рискованном воинском предприятии. Между тем его воеводы, несмотря на путевые сложности, добрались до столицы Казанского ханства и нанесли под ее стенами полное поражение противнику.
Через два года Иван все-таки дошел до Казани, но так и не приступил к штурму. Простояв под городом недолгое время, царь вновь отступил по той же самой причине — из-за оттепели и дождей. Таким образом, для него эти походы были «мирными».
В 1552 году царь вновь встал во главе объединенных сил Московского государства, отправленных на Казань. По тем временам он был уже совсем взрослым человеком — ему исполнилось 22 года. Из его переписки с князем Андреем Курбским, бежавшим впоследствии за пределы России и перешедшим на службу к великому князю Литовскому, известны странные подробности очередного казанского похода. По всей вероятности, Иван Васильевич не ладил с собственными воеводами. Возможно, он даже опасался плена. «Когда мы Божьей волей с крестоносной хоругвью всего православного воинства ради защиты православных христиан двинулись на безбожный народ казанский, и по неизреченному Божьему милосердию одержали победу над этим безбожным народом, и со всем войском невредимые возвращались обратно, что могу сказать о добре, сделанном нам людьми, которых ты называешь мучениками? — напишет царь Курбскому. — А вот что: как пленника, посадив на судно, везли с малым числом людей сквозь безбожную и неверную землю! Если бы рука Всевышнего не защитила меня, смиренного, наверняка бы я жизни лишился. Вот каково доброжелательство к нам тех людей, о которых ты говоришь, и так они душой за нас жертвуют — хотят выдать нас иноплеменникам!»
Царские укоризны наводят на мысли иного рода: в армии во время большого похода государь не являлся полновластным хозяином и распорядителем. Отчасти это могло происходить от отсутствия у него опыта в ведении боевых действий, отчасти же — по причине мощного влияния аристократических кланов, видимо, истинных хозяев войска.
Вызывает определенное недоумение сама необходимость присутствия монарха в войсках, отправленных на Казань. В подавляющем большинстве случаев государями не рисковали, когда речь шла о большой и опасной воинской операции — против Крыма, ногаев или Казани. Очевидно, воеводы могли обойтись без молодого царя, не сведущего в тактике крупных соединений. Наступление на Казань натолкнулось на упорное сопротивление неприятеля, а движение по вражеской территории происходило в условиях нехватки пищи и воды. Вероятно, фигура государя потребовалась для воодушевления войск. Реальными же командующими были все те же большие воеводы, то есть та же служилая аристократия.
Андрей Курбский в «Истории о великом князе Московском», сочинении крайне недружелюбном в отношении Ивана Васильевича, отмечает личную храбрость и энтузиазм государя: «…сам царь исполнился усердием, сам и по собственному разумению начал вооружаться против врага и собирать многочисленные храбрые войска. Он уже не хотел наслаждаться покоем, жить, затворясь в прекрасных хоромах, как в обыкновении у теперешних царей на западе (прожигать целые ночи, сидя за картами и другими бесовскими измышлениями), но сам поднимался не раз, не щадя своего здоровья, на враждебного и злейшего своего противника — казанского царя». Далее Курбский как будто пишет о полной самостоятельности Ивана Васильевича: «он велел…», «он отправил…». Однако важнейшие решения принимались государем только по совету «со всеми сенаторами и стратегами». Особенно характерный эпизод произошел в день решающего штурма Казани. Московские войска уже проникли в город, но в уличных боях под напором его защитников некоторые отряды обратились в бегство; государь, по словам Курбского, утратил твердость духа. Видя беглецов, он «…не только лицом изменился, но и сердце у него сокрушилось при мысли, что всё войско христианское басурманы изгнали уже из города. Мудрые и опытные его сенаторы, видя это, распорядились воздвигнуть большую христианскую хоругвь у городских ворот, называемых Царскими, и самого царя, взяв за узду коня его, — волей или неволей — у хоругви поставили: были ведь между теми сенаторами кое-какие мужи в возрасте наших отцов (по всей вероятности, имеются в виду дворовые воеводы князь Владимир Иванович Воротынский и боярин Иван Васильевич Шереметев-Большой. — Д. Ä), состарившиеся в добрых делах и в военных предприятиях. И тотчас приказали они примерно половине большого царского полка… сойти с коней, то же приказали они не только детям своим и родственникам, но и самих их половина, сойдя с коней, устремилась в город на помощь усталым… воинам». Вскоре после взятия Казани у царя произошел острый конфликт с воеводами. В частности, его спешное возвращение в Москву противоречило мнению высшего военного командования.
Насколько свидетельства Курбского находят подтверждение в официальном летописании того времени? Определенные признаки несамостоятельности государя в вопросах руководства армией имеются. Видно, что стратегические решения принимаются им «по совету» с аристократической верхушкой. Так, например, неудача похода 1549/50 года заставила Ивана IV построить на подступах к Казани опорный пункт — Свияжск. Впоследствии это помогло русским войскам и сыграло, быть может, решающую роль в успехе 1552 года. Решение о постройке Свияжской крепости и выбор места производились по совету с бывшим казанским царем Шигалеем «воеводами», «казанскими князьями» «и с бояры, и со князьми» по благословению митрополита Макария.
Под Казанью Иван Васильевич обрел тот бесценный опыт, которого ему так не хватало. Он получил представление о самых разных типах боевых операций. Сконцентрированные для решающего удара вооруженные силы Московского государства двигались к Казани через Коломну, Муром, Свияжск, но по дороге им пришлось завернуть в Тулу, чтобы отразить фланговый удар крымцев. Это был наглядный урок, насколько опасен союз Крымского ханства с кем-либо из серьезных противников Москвы. Осадив неприятельскую столицу, русские полки широко использовали артиллерию и военных инженеров — «розмыслов», как их тогда называли. Были построены осадные башни, сооружены земляные укрепления, засыпаны казанские рвы, осуществлялись подкопы и был взорван вражеский источник воды. В конечном итоге именно подрыв стен Казани обеспечил удачу решающего штурма. Позднее Иван Васильевич покажет, сколь успешно он усвоил и этот урок: без мощной артиллерии, «розмыслов» и многолюдной «посохи» (вспомогательных войск, исполняющих инженерную службу) крупные, хорошо укрепленные города не берутся.
Покорение Казани следует считать серьезным успехом. Затяжные войны с ней велись со второй половины XV столетия. Их отличало большое ожесточение. В казанском плену томились десятки тысяч русских. Поэтому молодой Иван IV проявил необыкновенное упорство в борьбе с Казанью.
В городе остался большой русский гарнизон. Впоследствии там была учреждена православная архиепископия.
В 1556 году небольшие отряды стрельцов и казаков относительно мирно захватили Астрахань. Необыкновенная удача позволила московским военачальникам без больших потерь занять богатейший город.
Государь ничего не забыл из казанских уроков, полученных дорогой ценой. Более поздние военные кампании проходили в совершенно иных условиях, там царь явно не был номинальным предводителем войска. Воеводы обязаны были ему подчиняться в полной мере. И у него хватало возможностей применить полученный опыт на деле.
В 1555 году Иван Васильевич вышел с войсками к Туле, навстречу воеводе боярину Ивану Васильевичу Шереметеву, столкнувшемуся с крымцами. Царя отговаривали от столь опасного шага, но он решился возглавить войско. Шереметев задержал хана, вступив с ним в сражение, отчаянно сопротивлялся, однако был разбит. Часть наших сил заняла укрепленную позицию и отразила яростные атаки татар, не позволив себя уничтожить. Измотанное вражеское войско не решилось вступать в бой с основными силами русских. В свою очередь, полки под водительством государя не стали преследовать отступающего неприятеля. Таким образом, Иван IV показал подданным: у него хватает мужества и воли выйти против самого опасного врага, иными словами, «за державу» он «стоятелен»… Вместе с тем всерьез рисковать удачным исходом войны царь не стал, отказавшись от преследования.
Это может показаться признаком нерешительности. Но на самом деле Иван Васильевич принял мудрое, взвешенное решение. Оторвавшись от коренных земель Руси, наше полевое соединение могло наткнуться на свежие отряды крымцев и подвергнуться уничтожению. Разгром московского войска в южных степях оставил бы столицу без защиты и без монарха.
В марте 1553 года царь слег с тяжелой болезнью, от которой не чаял оправиться. Он написал завещание и повелел привести к присяге своему сыну — младенцу Дмитрию бояр, а также князя Владимира Андреевича Старицкого. Большинство не стало противиться, некоторые сказались хворыми, но Старицкие не торопились повиноваться. Некоторые вельможи (князь Д. Ф. Палецкий, князь Д. И. Курлятев, казначей Н. А. Фуников-Курцев) начали с ними переговоры. Явственно прозвучало предположение, что новым государем будет не малолетний Дмитрий Иванович, а Владимир Андреевич. Сильвестр также пытался помочь Старицким. Князь И. М. Шуйский, а кроме того, окольничий Ф. Г. Адашев затеяли настоящий скандал. «И бысть мятеж велик и шум, и речи многия в всех боярех, а не хотят пеленочнику служите». Сторонники и противники принятия присяги «бранились жестоко». Оказалось, что последних не столь уж мало. Сам царь с ложа болезни принялся воодушевлять верных ему людей. Оробевшим Захарьиным-Юрьевым, прямой родне царевича Дмитрия, он бросил: «А вы… чего испужались? Али чаете, бояре вас пощадят? Вы от бояр первые мертвецы будете! И вы бы за сына моего и за матерь его умерли, а жены моей на поругание бояром не отдали!» Князя Владимира Андреевича пришлось принуждать к целованию креста, угрожая применением силы…
В конце концов государь выздоровел, и вопрос о присяге на верность маленькому Дмитрию потерял актуальность. Но «боярский мятеж» в очередной раз показал Ивану Васильевичу, сколь зыбко его положение и сколь мало у него возможностей в случае скорой кончины обеспечить достойную судьбу своей семье. От него отошли доверенные люди, знать вновь принялась прикидывать, как бы переделить власть в отсутствие сильного монарха. Та же Избранная рада не проявила особенной лояльности, скорее, напротив. И, видимо, царь не очень понимал, как ему дальше строить отношения с аристократическими «столпами державы», с Боярской думой…
«Порядок спектакля», уже воздвигшийся в сознании Ивана Васильевича, вдруг оказался под угрозой. Роли, принятые его участниками, нарушились по смысловому наполнению, отошли от идеала. И государь вспомнил свой детский и юношеский опыт: ведь занимаясь детскими играми, он видел, кто чего стоит из служилых аристократов, кто о чем мечтает, кто ищет урвать своего и на каком основании! Потом, казалось бы, утихла стихия аристократических интриг. Царь покаялся и простил участникам смутной поры их прегрешения, они и сами проявили склонность ко всеобщему примирению. Настала вроде бы пора идеального христианского царствия… Ан нет, всё ложь, всё фальшь, и все отошли от положенного!
Глубоко пустил корни в его сердце гнев. А вместе с ним и страх. Но пуще всего прочего горькое недоумение: «Если я, первенствующий, верно исполнял свою роль, почему же остальные посмели отойти от своих?!»
Вскоре после событий, связанных с болезнью, государь отправился в длительную поездку по иноческим обителям. Там он получал разного рода советы от церковных деятелей, обладавших незаурядным духовным авторитетом. Среди них — преподобный Максим Грек (Михаил Триволис) и видный иосифлянин Вассиан Топорков, лишившийся архиерейской кафедры в годы «Шуйского царства». Князь А. М. Курбский впоследствии прокомментировал эту встречу бранными словами, назвав Вассиана Топоркова «сыном дьявола» и обвинив его в дурных советах, поданных царю. С точки зрения беглого князя, именно они разрушили взаимопонимание Ивана Васильевича и Избранной рады. Конечно, Курбский и не мог иначе отнестись к рекомендациям, поданным государю в духе укрепления его, монаршей, власти. За счет кого ее можно укрепить? Только за счет той же служилой аристократии, не очень-то допускавшей царя к делам правления. Влияние на Ивана Васильевича стяжателей (хотя бы того же Вассиана Топоркова), неуютно чувствовавших себя рядом с боярской вольницей, весьма возможно. В те годы их поддержка могла воодушевлять царя.
На протяжении второй половины 1540-х — середины 1550-х годов наша аристократия сделала немало полезного для страны. Но она возжелала увековечить правящее свое положение на веки вечные, а в этом уже не был заинтересован никто, кроме нее самой. Рано или поздно подобное положение дел должно было привести к очередному острому конфликту с государем.
Так и вышло — когда стали обсуждаться перспективы активной внешней политики, Иван Васильевич вошел в противоречие с прежними ближайшими советниками и настоял на своем. Какие рычаги он при этом использовал, не вполне понятно. Возможно, создал партию своих сторонников из числа аристократов, одобрявших его курс на западном направлении. Во второй половине 50-х годов XVI столетия в связи с подготовкой и началом Ливонской войны царь вышел из-под контроля аристократического правительства, преодолел авторитет Избранной рады и начал проводить самостоятельный курс. Несколько лет спустя прежние лидеры Избранной рады оказались в опале и сошли с арены большой политики.
Воля царя, прежде стесненная, теперь освободилась от ограничений и устремилась к самовластию. Только самовластие давало царю возможность укрепить в мире истинный порядок, то и дело нарушаемый знатью.
Отношения государя с верхушкой военно-служилого класса на протяжении всего периода его правления никогда не были идиллическими. До середины 1540-х годов он вообще мало значил в делах правления — по малолетству и неискушенности. Конец 1540-х — 1550-е — время неустойчивого, но плодотворного для всей страны компромисса. Аристократы кое-чем поступились в пользу царя и кое в чем договорились между собой. Политические и материальные приоритеты у старомосковской знати за всё это время ничуть не изменились, память разнузданных лет «Шуйского царства» была свежа и грозила рецидивом — при первом же удобном случае. Государь научился сдерживать свой крайне эмоциональный, своевольный и бурный характер, возжелал потрудиться на благо державы, однако тепла в его общении со знатью увидеть невозможно…
Видимо, в ту пору очень большую роль играл авторитет Церкви. Именно он был скрепляющим материалом для всей конструкции, пребывавшей в динамическом равновесии. За многими реформами — прямо или косвенно — видится подвижническая фигура святителя Макария. Вероятно, его пастырское рвение сдерживало страсти и направляло хаотические выплески молодой нации в сторону правильного общественного строительства.
В первой половине 1560-х прежние деятели, составлявшие «буферную» группу Избранной рады, уходят в тень. Государь стремится усилить свою власть, и успехи первых лет войны за Ливонию как будто способствуют этому… Но именно тогда происходит несколько событий, пошатнувших Русский дом, до тех пор стоявший крепко. Во-первых, умерла (возможно, была отравлена) первая жена Ивана IV, Анастасия Захарьина-Юрьева (1560), и вместо нее рядом с царем оказалась Мария Темрюковна Черкасская, кавказская княжна, для которой собственно русский политический узор был делом не особенно интересным. Во-вторых, умер митрополит Макарий (1563). Военные успехи сменились неудачами. Жесткость царя и непокорство знати усилились, взаимно питая друг друга.
Итак, в середине 1550-х годов решалось, какое направление военных усилий станет основным: Ливония или Крым. Царь должен был сделать стратегический выбор.
Иван IV предпочел Ливонию как главную цель для приложения военных усилий. Историки, стоящие на позициях западничества, нередко упрекают его в «исторической ошибке»: не стоило воевать с Европой, надо было дружить с ней, а нажать на Крым, тем более что страна остро нуждалась в решении этой проблемы. Последней в этом духе писала А. Л. Хорошкевич, сетуя, что не суждено было Ивану Грозному «вывести Российское царство на путь интеграции в Европе Нового времени». Но нужна ли была нам в XVI веке интеграция в Европу? Да и в какую Европу? Ни о какой единой Европе для XVI столетия и речи быть не может. А интегрироваться в Ливонский орден было бы немного странно.
Решение Ивана Васильевича о начале военных действий в Ливонии имело под собой серьезные основания. Это не каприз деспота, а продуманная, логически объяснимая стратегия.
Во-первых, Ливония, истерзанная междоусобиями, разделенная между несколькими слабыми государственными образованиями, была несравненно менее опасным противником, нежели агрессивный Крым. Первые несколько лет Ливонской войны показали это наглядно.
Во-вторых, балтийские государства немцев располагали значительным фондом издавна обрабатываемых земель, притом земель с крестьянами. Ни Казань, ни Крым ничего подобного предложить не могли: там устойчивых очагов землепашества не имелось. Между тем небогатые и воинственные «служилые люди по отечеству» давно испытывали недостаток доброй поместной землицы. Реальные «дачи» заметно уступали положенным им земельным «окладам». «Городовые» и «выборные» дети боярские составляли основу вооруженных сил, самую надежную опору трона. Ведение войны в их интересах соответствовало интересам самого государя. Есть множество документальных свидетельств того, что русские дворяне получали поместья в завоеванных землях на территории Ливонии.
Наконец, в-третьих, на территории Ливонии и Речи Посполитой кипела борьба католиков с протестантами, причем среди протестантов попадались, помимо умеренных лютеран, антитринитарии самого отчаянного пошиба. Русские еретики (например, Феодосий Косой) бежали не в Крым, а на запад… Волны Реформации, подкатывающие к самым стенам России — страны-крепости, — тревожили правительство и Церковь. Позиции православия западнее «литовского рубежа» подверглись мощному прессингу. В ближайшем будущем «конфессиональный натиск» мог стать серьезной опасностью и для самого Русского царства.
Итак, в 1558 году московские воеводы вошли с полками на ливонские земли. До 1562 года события на этом театре военных действий развивались в основном благоприятно для России. Ливонский орден был разрушен, его войска разгромлены по частям, российские воеводы заняли Нарву, Юрьев, Феллин, Мариенбург и целый ряд других городов.
В 1560–1561 годах заинтересованность в дележе «ливонского наследства» проявили Дания, Швеция и Польско-Литовское государство. Там одновременно решили, что отдавать всю Ливонию Московскому государству — слишком убыточно. Датчане и шведы укрепились на сравнительно небольших участках ливонской территории, а новый орденский магистр Готгард Кетлер обратился за помощью к королю Польскому и великому князю Литовскому Сигизмунду Августу. В ноябре 1561 года в Вильно они заключили договор. Согласно его условиям, Ливонский орден прекращал свое существование, а все его земли переходили во владение Польши и Литвы. Этот пункт договора привел Прибалтику к двум десятилетиям войн и бедствий, поскольку на тот момент орденские земли состояли из двух частей: те, что уже были завоеваны Московским государством, и те, где московские войска еще не стояли.
Открытое противостояние с литовскими силами принесло русским воеводам частные успехи под Перновом и Тарвастом. Но в 1562 году российские полки потерпели поражение у Невеля, причем возглавлял тогда войско не кто иной, как сам князь А. М. Курбский, вследствие этой неудачи лишившийся царского благоволения.
Иван IV принимает решение нанести сокрушительный удар объединенными силами Московского государства. Эта военная операция оказалась самой крупной и самой удачной в карьере полководца Ивана Грозного.
Во время зимнего похода 1562/63 года Иван Васильевич является уже полновластным командующим. Удачи и просчеты, таким образом, следует относить к его способностям и его воле. «Коллективный разум» тут уже ни при чем.
Основной удар пришелся на Полоцк. После того как город был осажден, русские пушки били без перерыва на протяжении нескольких суток. Московские ядра уничтожили 20 процентов замковых стен. Гарнизон оказался принужден одновременно защищать замок, чинить стены и тушить пожары. Осажденные устроили отчаянную вылазку, но ее отбили. За всю осаду русская армия потеряла менее ста бойцов.
Довольно быстро положение обороняющихся стало безнадежным. Московские полки готовились к решающему штурму. Его начало планировали на 15 февраля. Но в этот день полоцкий воевода утратил твердость духа. Он сдал городское знамя и отправил епископа со священниками за ворота, чтобы те уговорили Ивана IV начать переговоры о сдаче.
Полоцк пал к ногам Ивана Васильевича. В городе была взята богатая добыча. Он на 16 лет стал частью Московского государства. Иван IV добавил к своему титулу слова «великий князь полоцкий». Государь оставил там значительный русский гарнизон во главе с воеводами-ветеранами — князьями П. И. Шуйским, П. С. Серебряным и В. С. Серебряным, повелев возвести новые, более мощные укрепления. Полоцкая шляхта, а потом и мещане отправились под охраной в Москву. Впоследствии часть полоцких шляхтичей обменяли на русских пленников, другую же часть отдали за выкуп — обычная для войн того времени практика. После сдачи Полоцка, очевидно, в ходе разграбления его войсками победителя, пострадало католическое духовенство. Были также казнены несколько представителей иудейской общины, отказавшихся принимать крещение.
Иван Васильевич отправил было татар в направлении Вильно — развивать успех «Полоцкого взятия». Однако боевые действия вскоре прекратились: литовцы запросили перемирия и получили его. Для Великого княжества Литовского падение Полоцка было подобно грому среди ясного неба. Известия об успехе Ивана IV прокатились по половине Европы, вызывая тревогу. В России полоцкую победу долго помнили и гордились ею. Известия об успехе 1563 года вошли во многие летописи, в том числе и краткие летописцы.
Однако Иван IV недолго радовался большому успеху. 1564 год крепко подпортил впечатление и от Полоцка, и от всей войны, начавшейся столь удачно.
Русский корпус, двинувшийся в пределы Литовской Руси, был разбит на реке Уле (январь 1564 года). Разгром вышел ужасный, потери оказались очень велики. Командующий соединением князь Петр Иванович Шуйский погиб. Воевод Захария Ивановича Очина-Плещеева и князя Ивана Петровича Охлябинина литовцы пленили.
В апреле того же года на сторону Литвы перебежал один из видных московских воевод, родовитый аристократ князь Андрей Михайлович Курбский. Подобное случалось и раньше, но столь высокопоставленный полководец оказывался в стане противника весьма редко. Позднее Курбский принимал участие в Ливонской войне на стороне врага и вторгался с иноземными полками на территорию Московского государства.
Прославился князь Курбский не столько военными достижениями и не столько даже предательством, сколько литературным творчеством. Будучи уже в Литве, он написал несколько посланий Ивану IV, а также значительное историческое произведение — «Историю о великом князе Московском». В посланиях князь Курбский оправдывал свое бегство и укорял Ивана IV в суровом отношении к знати — опоре трона, по его выражению. Царь отвечал ему, с гневом обрушиваясь и на самого изменника, и на весь строй жизни русской знати, слишком своевольной и всеми силами избегающей честной службы. Измену государю Иван Васильевич приравнял к измене Богу, поскольку власть государева — от Бога. Обе стороны щедры на злобные и несправедливые обвинения. Ведь не кто иной, как русская знать, была главной военно-административной силой России, и не кто иной, как государи московские, вели ее от успеха к успеху. Но Курбский в своих посланиях показывает худшие, наименее полезные для страны качества аристократии, а государь Иван IV, желая выступить как мудрый самодержец, демонстрирует черты злого нервного деспота. Поистине спорщики соревнуются в низости характера! Впрочем, историки видели в переписке князя Курбского и Ивана Грозного, помимо буквального смысла, еще и философский: Россия наполнилась блестящими себялюбцами, вроде князя Андрея; им представлялось, что не служба их Богу и государю, а одни только их личности должны иметь высокую цену. Смута — вот к чему приводили их усилия; в ответ на их деяния в Русской земле явился бич Божий — кровавый и немилосердный монарх Иван Грозный. Смуты он допустил немного, но «кровопускание», им произведенное, чрезвычайно ослабило страну. В знаменитой переписке содержатся свидетельства глубокой несправедливости и эгоизма обеих позиций. Единство, возвысившее страну при Иване III, Василии III и в начале царствования Ивана IV, уходило в прошлое. Теперь его нелегко будет вернуть. Словно само время переломилось, и движение Русской цивилизации достигло пика; теперь началось движение по нисходящей…
В том же 1564 году воевод стародубских заподозрили в сговоре с целью передать город великому князю Литовскому; дело кончилось для них казнями. Литовские войска вторглись на собственно русские территории. Осенью крымцы совершили опустошительный набег на рязанские земли.
Со времен казанских походов Иван IV находился в состоянии вынужденного компромисса со служилой аристократией, поставлявшей основные кадры командного состава и значительную часть войск. Несколько десятков человек являлись ядром начальствующего состава русской армии с середины 40-х по середину 60-х годов XVI столетия. Заменить их было некем, поскольку иного сословия, по организационному и тактическому опыту равного служилой аристократии, не существовало. Иван Васильевич не жаловал высшую знать, особенно — гордых «княжат», и отлично помнил те времена, когда высокородные кланы правили страной через голову юного монарха. Но обойтись без служилой знати никак не мог. Аристократические семейства, в свою очередь, не симпатизировали растущему самовластию царя, но отнюдь не планировали изменить государственный строй России. Таким образом, обе стороны поддерживали «худой мир». Он продержался до тех пор, пока не перестал удовлетворять и царя, и княжат. Аристократическая верхушка, не вынося давления центральной власти, принялась «перетекать» в стан противника. Но это полбеды: аристократия московская нередко бегала от царской опалы на литовский рубеж. Хуже другое. Аристократия перестала быть надежным орудием решения военных задач. Невель, Ула и разор рязанских земель показали: высшее командование не справляется со своими обязанностями, оно не эффективно. Следовательно, для продолжения войны требуются большие перемены.
Трудно отделаться от впечатления, что именно военные неудачи, особенно после успеха, достигнутого русскими полками под командой самого царя, привели Ивана Васильевича к мысли о необходимости опричнины. Значит, опричнина должна была принести значительные изменения в русскую армию. Так и случилось.
Автор этих строк видит в опричнине военно-административную реформу, притом реформу не слишком продуманную и в итоге неудавшуюся. Она была вызвана общей сложностью военного управления в Московском государстве и, в частности, «спазмом» неудач на Ливонском театре военных действий. Опричнина представляла собой набор чрезвычайных мер, предназначенных для того, чтобы упростить систему управления (в первую очередь управления вооруженными силами России), сделать его полностью и безоговорочно подконтрольным государю, а также обеспечить успешное продолжение войны. В частности, важной целью было создание крепкого «офицерского корпуса», независимого от самовластной и амбициозной верхушки служилой аристократии. Борьба с «изменами», как иллюзорными, так и реальными, была изначально второстепенным ее направлением. Отменили же опричнину, поскольку боеспособность вооруженных сил России она не повысила, как задумывалось, а, напротив, понизила. Опричнина привела к катастрофическим последствиям, в частности сожжению Москвы в 1571 году.
Был ли иной путь, более плодотворный и менее болезненный? Думается, да. Скорее всего, правы те, кто указывает на медленное, реформистское изменение социально-политической структуры как на оптимальную модель развития Московского царства в середине XVI столетия.
Итак, введение опричнины датируется январем 1565 года. Предыстория указа о ее учреждении такова: в декабре 1564 года Иван Васильевич покинул Москву и отправился к Троице, но на этот раз поведение государя со свитой слабо напоминало обычные царские выезды на богомолье в монашеские обители.
Царь прилюдно сложил с себя монаршее облачение, венец и посох, сообщив, что уверен в ненависти духовных и светских вельмож к своей семье, а также в их желании «передать Русское государство чужеземному господству»; поэтому он расстается с положением правителя. После этого Иван Васильевич долго ходил по храмам и монастырям и основательно собирался в дорогу. Царский поезд нагружен был казной, драгоценностями, множеством икон и иных святынь. Расставаясь с высшим духовенством и «думными» людьми, государь благословил их всех. Вместе с Иваном Васильевичем уезжали его жена княгиня Мария Темрюковна и два сына. Избранные самим царем приказные, дворяне, а также представители старомосковских боярских родов в полном боевом снаряжении и с заводными конями сопровождали его. В их числе были Алексей Данилович Басманов, Михаил Львович Салтыков, Иван Яковлевич Чеботов, князь Афанасий Иванович Вяземский. Некоторых, в том числе Салтыкова и Чеботова, государь отправил назад, видимо, не вполне уверенный в их верности. С ними он послал письмо митрополиту Афанасию и «чинам», где сообщал, что «…передает… свое царство, но может прийти время, когда он снова потребует и возьмет его».
До сих пор всё шло как великолепная театральная постановка. По всей видимости, Иван Васильевич ожидал быстрой реакции публики, то есть митрополита и «думных» людей. Играл он до сих пор великолепно, но его не остановили ни в Москве, ни по дороге к Троице. Ему требовалось навязать верхам общества жесткие условия грядущей реформы, но, вероятно, государь не предполагал, что игра затянется, и собирался решить поставленные задачи «малой кровью».
А митрополит с «чинами» между тем не торопился звать царя назад. Должно быть, у них появились свои планы.
Тогда государь, миновав Троицу, добрался до Александровской слободы и там затеял новый спектакль. В первых числах января 1565 года он отправляет с Константином Дмитриевичем Поливановым новое письмо в Москву. Царское послание полно гневных обвинений: старый государев двор занимался казнокрадством и разворовыванием земельных владений, главную же свою работу — военную службу — перестал должным образом исполнять. «Бояре и воеводы… от службы учали удалятися и за православных крестиян кровопролитие против безсермен и против латын и немец стояти не похотели». А когда государь изъявил желание «понаказати» виновных, «архиепископы и епископы и архимандриты и игумены, сложася з бояры и з дворяны и з дьяки и со всеми приказными людьми, почали по них… царю и великому князю покрывати». Не видя выхода из этой ситуации, государь «оставил свое государьство и поехал, где вселитися, иде же его, государя, Бог наставит». Столичный посад получил от государя письмо совершенно иного содержания. На посадских людей, говорилось там, «гневу… и опалы никоторые нет». Это была откровенная угроза Церкви и служилой аристократии взбунтовать против них посад, повторив ужасный мятеж 1547 года. Видимо, угроза оказалась действенной, к тому же посад проявил активность — «биша челом» митрополиту о возвращении Ивана Васильевича на царство.
В итоге из Москвы в Александровскую слободу поехала огромная «делегация», состоящая из архиереев, «думных» людей, дворян и приказных. В ее составе были посланцы митрополита Афанасия, а также виднейшие аристократы князья Иван Дмитриевич Вельский и Иван Федорович Мстиславский. Митрополит Афанасий сохранил лицо, не пожелав лично участвовать в этом балагане. После долгих уговоров и «молений… со слезами о всем народе крестиянском» делегация добилась от государя обещания вернуться на царство. Но при этом Иван Васильевич выторговал себе право разбираться с государственными делами, «как ему государю годно», невозбранно казнить изменников, возлагать на них опалы и конфисковывать их имущество. Иными словами, он добился того, чего и желал: получил карт-бланш на любые действия от Церкви, до сих пор отмаливавшей тех, кто должен был подвергнуться казням; ему достался также карт-бланш от служилой аристократии, до сих пор сохранявшей значительную независимость по отношению к государевой воле. Весь этот политический театр одного актера того стоил!
До наших дней не дошел сам указ о введении опричнины. Однако летопись приводит подробный пересказ его содержания. Для верного понимания того, что именно и с какими целями вводилось по воле государя Ивана Васильевича, следует прежде всего ознакомиться с этим текстом.
«Челобитье… государь царь и великий князь архиепископов и епископов принял на том, что ему своих изменников, которые измены ему государю делали и в чем ему государю были непослушны, на тех опалы свои класти, а иных казнити и животы их и статки имати[110]; а учинити ему на своем государьстве себе опришнину, а двор ему себе и на весь свои обиход учинити особной, а бояр и окольничих и дворецкого и казначеев и дьяков и всяких приказных людей, да и дворян и детей боярских, и стольников, и стряпчих, и жильцов учинити себе особно… да и стрельцов приговорил учинити себе особно. А на свой обиход повелел государь царь и великий князь, да и на детей своих, царевичев Иванов и царевичев Федоров обиход, городы и волости: город Можаеск, город Вязьму, город Козелеск, город Перемышль два жеребья, город Белев, город Лихвин обе половины, город Ярославец и с Суходровью, город Медынь и с Товарковою, город Суздаль и с Шуею, город Галич со всеми пригородки с Чюхломою и с Унжею, и с Коряковым, и з Белогородьем, город Вологду, город Юрьевец Повольской, Балахну и с Узолою, Старую Русу, город Вышегород на Поротве, город Устюг со всеми волостьми, город Двину, Каргополе, Вагу… А учинити государю у себя в опришнине князей и дворян, и детей боярских дворовых и городовых 1000 голов, и поместья им подавал в тех городах… которые городы поймал в опришнину. А вотчинников и помещиков, которым не быти в опришнине, велел ис тех городов вывести и подавати земли велел в то место в ыных городех, понеже опришнину повеле учинити себе особно. На двор же свой и своей царице великой княгине двор повеле место чистити, где были хоромы царицы и великой княгини, позади Рожества Пречистые и Лазаря Святаго, и погребы и ледники и поварни все и по Курятные ворота; такоже и княже Володимерова двора Ондреевича место принял и митрополича места. Повеле же и на посаде улицы взяти в опришнину от Москвы реки: Чертольскую улицу и з Семчинским сельцом и до всполия, да Арбацкую улицу по обе стороны и с Сивцевым Врагом и до Дорогомиловского всполия, да до Никицкой улицы половину улицы, от города едучи левою стороною и до всполия, опричь Новинского монастыря и Савинского монастыря слобод и опричь Дорогомиловские слободы, и до Нового Девича монастыря и Алексеевскою монастыря слободы… И которые улицы и слободы поймал государь в опришнину, и в тех улицах велел быти бояром и дворяном и всяким приказным людям, которых государь поймал в опришнину. А которым в опришнине быти не велел, и тех ис всех улиц велел перевести в ыные улицы на посад. Государство же свое Московское, воинство и суд и управу и всякие дела земские, приказал ведати и делати бояром своим, которым велел быти в земских: князю Ивану Дмитреевичу Белскому, князю Ивану Федоровичу Мстисловскому и всем бояром; а конюшому и дворетцскому и казначеем и дьяком и всем приказным людем велел быти по своим приказом и управу чинити по старине, а о больших делех приходити к бояром. А ратные каковы будут вести или земские великие дела, и бояром о тех делех приходити ко государю, и государь приговор яз бояры, тем делом управу велит чинити. За подъем же свои приговорил царь и великий князь взяти из Земского приказа сто тысяч рублев; а которые бояры и воеводы и приказные люди дошли за государьские великие измены до смертные казни, а иные дошли до опалы, и тех животы и статки взяти государю на себя».
Прежде всего: о казнях изменников тут сказано совсем немного. Ни о каких массовых репрессиях речь не идет. Да, царь получает полную волю в определении того, кто должен пойти на плаху, кто изменник, и даже Церковь теряет возможность «печалования». Но этим правом на протяжении первых лет опричнины монарх пользуется нечасто. Нет никаких «волн казней». Даже после введения опричнины, когда, казалось бы, для Ивана IV наступило удобное время, чтобы расправиться с политическими противниками, он отправляет на смерть лишь пятерых аристократов: князя А. Б. Горбатого с сыном, окольничего П. П. Головина, князя И. И. Сухого Кашина, князя Д. А. Шевырева. Многие лишились вотчин, отправились в ссылку, некоторых насильно постригли в монахи. Но все эти действия, даже взятые в совокупности, еще никак не свидетельствуют о том, что опричнине планировалось придать характер «машины репрессий», карательного аппарата.
Что приобретает царь, помимо свободы казнить тех, кого сочтет изменниками?
Прежде всего, он отделяет то, что подчиняется непосредственно ему — во всем и без какого бы то ни было исключения, — от того, что подчиняется «Московскому государству» во главе с боярами, которые обязаны по важнейшим вопросам советоваться с государем, но в прочих случаях «ведают и делают» земские дела.
Фактически в составе России появляется государев удел, царский домен, полностью выведенный из-под контроля высших родов служилой знати. Прежде всего из-под контроля «княжат». На территории этого удела царь перестает опираться на высшую аристократию, которая прежде, по необходимости, присутствовала везде и во всем. Монарх получает, таким образом, самостоятельный военно-политический ресурс, коим может управлять прямо, без посредников.
Здесь у него будет собственная служилая корпорация, которую царь наберет сам, с помощью немногих доверенных лиц, никак не принимая в расчет интересы «княжат». Здесь у него будет собственная Дума, чья компетенция распространится на земли удела, а с годами расширится и захватит львиную долю важнейших «земских», то есть общегосударственных дел. Здесь у него будет собственная армия; основой вооруженных сил опричнины станет новый «офицерский корпус» из тысячи голов, также отобранных без учета интересов высшей аристократии. Здесь у него сконцентрируются запасы, предназначенные для расхода на опричных служилых людей. И всё это станет управляться из особой резиденции («двора») вне Кремля.
В дополнение к прочему Иван Васильевич берет из общегосударственной казны «на подъем» колоссальную сумму — 100 тысяч рублей. Для сравнения: большой каменный храм по тем временам строился на тысячу рублей…
Резюмируя, самое главное: царь обретает полностью подконтрольную и в материальном смысле превосходно обеспеченную воинскую силу. Он может использовать ее на литовско-ливонском фронте, а может просто защититься ею от «внутреннего врага».
Стоит подчеркнуть одно немаловажное обстоятельство: до 1567 года в опричной армии и в опричных органах управления не появится ни единого представителя знатнейших родов «княжат». Между 1567 и 1570 годами они там присутствовали как исключение, редкие одиночки. Титулованная знать была представлена в опричнине с первых месяцев ее существования, но лишь второстепенными и третьестепенными семействами. Высокородным «княжатам» на верхи опричнины путь заказан. В опричную Думу и в воеводский корпус опричных вооруженных сил их не брали. Туда рекрутировались представители старинных московских боярских родов, небольшое количество худородных выдвиженцев и несколько семейств из среды второстепенной титулованной знати.
Этот порядок сохранялся весьма долго: от основания опричнины до первых месяцев 1570 года. Впоследствии он был нарушен. О причинах его падения речь пойдет ниже. Но до того — целых пять лет! — опричнина в принципе обходилась без княжат «первого ранга».
И если взглянуть на опричнину как на проект масштабной военно-политической реформы, то поначалу он выглядел разумной системой мер, в основу которой положена логика политической борьбы. Вот только претворение опричного проекта в жизнь вызвало мощнейший кризис. Перед лицом его все проблемы 1564 года кажутся, сущей мелочью.
Важно не только что делает высшая власть, но и как она это делает.
Государь Иван Васильевич активно занялся устройством опричнины.
Для постройки Опричного дворца (или, иначе, Опричного двора) — главной политической резиденции государева «удела» — было снесено множество зданий на Неглинной, напротив Кремля. Московский Опричный дворец располагался в том месте, где соединяются улицы Воздвиженка и Моховая. Всё пространство, отданное под постройку, было окружено высокой стеной с тремя воротами. На сажень она состояла из тесаного камня и еще на две сажени — из кирпича. Рядом с дворцом располагались, по всей видимости, казармы опричной стражи. Видимо, общая численность московского опричного отряда, охранявшего царя, составляла 500 человек. Северные ворота играли роль «парадных». Они были окованы железными полосами и покрыты оловом. Засов был закреплен на двух мощных бревнах, глубоко врытых в землю. Украшением ворот служили два «резных разрисованных льва» (вместо глаз у них были вставлены зеркала), а также черный деревянный двуглавый орел с распростертыми крыльями, обращенный «в сторону земщины». На шпилях трех главных палат также красовались орлы, повернутые к земщине.
Московский Опричный дворец погиб в 1571 году, когда крымский хан Девлет-Гирей спалил Москву[111]. Но помимо него в разное время строились иные царские резиденции: в Старице, Вологде, Новгороде. На территории Александровской слободы Опричный дворец стали строить, по всей видимости, одновременно или вскоре после московского. Туда Иван Васильевич переехал из Москвы не ранее второй половины 1568 года и не позднее марта 1569 года. В московском дворце Иван IV провел относительно немного времени. Зато Александровская слобода, а позднее Старица на долгие годы становились настоящими «дублерами» русской столицы. Часть сооружений опричной поры сохранилась до наших дней.
Через несколько месяцев после утверждения опричнины был произведен первый набор служилых людей в опричную армию и государев двор. А осенью 1568 года опричные боевые отряды впервые появились на поле боя — под Волховом. Их двинули вместе с земской армией против татар.
Историки XX столетия, со времен Сергея Федоровича Платонова, много писали о земельной политике опричнины и даже искали в ней суть той диковинной политической конструкции, которую создал Иван IV. Но замечали в основном ее отрицательный аспект. Характерные выражения, присущие многим историческим исследованиям этого периода: «перераспределение земель в годы опричнины было направлено против…» или «опричная аграрная стратегия ориентирована на подрыв…».
Действительно, огромные земельные владения были реквизированы по велению Ивана Васильевича во второй половине 1560-х годов, а в 1570-х эта политика знала «рецидивы». И, спору нет, при этом ощутимые потери понесли крупные вотчинники, относящиеся к видным княжеским родам.
Но у опричных преобразований, связанных с земельной собственностью, основным был, думается, все-таки позитивный аспект. Иными словами, гораздо важнее, для какой цели реквизировались земельные владения у прежних хозяев, а не против кого направлены все эти меры. Между тем сокращенная версия указа об учреждении опричнины, помещенная в официальной летописи, дает ясное представление о том, каковы приоритеты опричной политики в этом направлении. Первейшая и главная цель опричной аграрной политики — обеспечить служилых людей опричного корпуса поместьями. Очевидно, речь идет о том, чтобы дать опричной братии лучшие земельные владения в Московском государстве. Никакая социальная группа не выдвинута на роль «донора». Та же княжеская аристократия нигде не названа как приоритетный объект реквизиций. Землю, таким образом, забирали там, где ее удобно было забрать. Важно было наилучшим образом обеспечить новорожденное опричное войско, а не обидеть или разорить кого-то при этом.
Что касается действительных, иными словами, документально подтвержденных фактов получения опричным «офицерским корпусом» значительных поместий на реквизированных землях, то их известно немало. После того как опричное войско и опричную администрацию упразднили, была совершена земельная «рокировка»: те, кто еще мог претендовать на возврат земельных владений, отобранных в годы опричнины, частично получили их назад.
Помимо богатых земель и новых возможностей для карьеры опричники получили обширные судебные привилегии. Немец Генрих Штаден оставил «мемуары» о своей службе в опричнине. Он привел знаменитую фразу Ивана IV, отправленную в органы судопроизводства: «Судите праведно, наши виноваты не были бы!» Это отражает обстановку, действительно сложившуюся во второй половине 1560-х годов. По сравнению с земскими служильцами опричники имели огромное преимущество во всякого рода расследованиях и тяжбах.
Но если, как полагает автор этих строк, основной задачей опричной реформы было укрепление вооруженных сил, по каким причинам все-таки был развязан масштабный террор?
Видимо, он стал инструментом борьбы с недовольством опричными порядками, постепенно усиливавшимся в русском обществе.
Летом 1566 года государь Иван Васильевич созвал Земский собор, решавший судьбу Ливонской войны. Царь желал продолжить ее и довести до победного конца. Война длилась уже много лет, стоила дорого и в финансовом, и в человеческом смысле. Высшей служилой аристократии она была не нужна. Но дворянство рассчитывало получить поместья на богатых, хорошо освоенных землях Прибалтики, да и государь ждал приращения новых территорий. В сущности, несмотря на поражение 1564 года, враг не сумел добиться решающего перевеса. Полоцк, Нарва, Юрьев-Ливонский, многие другие города и крепости оставались под контролем наших войск. Дальнейшая борьба могла обернуться как угодно.
Собор пошел навстречу воле государевой: война продолжится!
Вот только ход собора омрачили два обстоятельства. Во-первых, отсутствовал митрополит Афанасий, который оставил кафедру, сославшись на немощь. Пустующее митрополичье место немо свидетельствовало: нет мира между царем и Церковью. Во-вторых, при завершении собора три сотни дворян приступили к монарху с просьбой отменить опричнину. Их коллективная челобитная гласила: «Не достоит сему быти».
Царь пришел в ярость, велел схватить зачинщиков и казнить их. Голов лишились трое лидеров антиопричной оппозиции: князь В. Ф. Рыбин-Пронский, И. М. Карамышев и К. С. Бундов. Возможно, вместе с ними предали смерти и других «активистов» из числа челобитчиков, но тут свидетельства источников менее надежны. Неоспорима казнь всего нескольких лидеров оппозиции. Кое-кто из ближайших сторонников казненной троицы отведал палок, остальных держали под замком несколько дней, а потом отпустили.
Возможно, последствия для них были бы гораздо более тяжкими, но от горших бед челобитчиков спасло появление в Москве митрополичьего преемника. Им стал Филипп, игумен Соловецкой обители. Считаные недели отделяют его восхождение на митрополичью степень от выступления противников опричнины на соборе.
Филипп прошел долгую монашескую школу в краях суровых и скудных всем, кроме иноческого благочестия. Он никогда не жаловал опричнину и при восшествии на митрополичью кафедру резко высказался против нее. Игумен Соловецкий потребовал от царя, чтобы он оставил ее: «А не отставит царь и великий князь опришнины, и ему в митрополитех быти невозможно. А хоши его и поставят в митрополиты, и ему за тем митрополья оставити; и соединил бы воедино, как преже того было».
Царь гневался, но вынужден был пойти на уступки. Филипп, став митрополитом, обещал не заниматься опричными делами и монаршим домашним обиходом. Взамен он получил от государя обещание «советовать… как прежние митрополиты советовали». Иначе говоря, глава Русской церкви опять мог входить к монарху с «печалованием» об опальных, с советом простить их и помиловать. И на первый раз, думается, он посоветовал отнестись к челобитчикам с мягкостью.
Очевидно, меры, предпринятые государем в области земельной политики, военного дела, а также казни 1565–1566 годов, хотя и немногочисленные, но крепко насторожившие весь военно-служилый класс, вызвали как минимум глухое недовольство. Позднее современник и очевидец главных событий грозненской эпохи напишет: «…Всю державу своея, яко секирою, наполы некако разсече. Сим смяте люди вся…» Выступление на Земском соборе 1566 года было чем-то вроде верхушки айсберга: громада недовольства скрывалась под темной водой.
Осенью 1567 года большая русская армия сконцентрировалась для окончательного разгрома польско-литовских сил на Ливонском театре военных действий. Возглавил ее сам государь Иван Васильевич. Цвет опричнины участвовал в кампании наряду с полками земцев. Войска собрались в районе Ршанского яма и должны были повести наступление на Ригу. Государь полон был добрых надежд. Ему казалось, что в великой войне осталось сделать последнее усилие. Что благое предприятие, связанное с усмирением еретиков и присоединением новых земель к православному царству, вот-вот принесет плоды. Но оттуда, где он чаял получить от опричнины твердость и силу, пришли шатание и разброд.
В среде служилой знати возобновились разговоры о возможности «сменить» монарха, благо князь Владимир Андреевич Старицкий, потомок старинных московских государей по прямой линии, жив и здоров. Иностранные источники сообщают о том, что русская знать заключила соглашение («contract») с поляками против своего государя. Трудно судить, сложился ли на самом деле аристократический заговор. Однако дипломатические документы того времени донесли до наших дней сведения, позволяющие утвердительно говорить о каких-то переговорах с неприятелем. Поляки предлагали князьям И. Д. Вельскому, И. Ф. Мстиславскому, М. И. Воротынскому и боярину И. П. Федорову перейти на их сторону, причем в некоторых случаях речь шла об отторжении русских земель и совместных боевых действиях. Что это было? Масштабный военно-политический проект? Или характерная для того времени игра с фальшивыми письмами? Поляки поставили на беспроигрышный вариант: либо удастся «подставить» лучших воевод Ивана IV (а все четверо по странному «совпадению» имели талант тактического или организационного характера), либо кто-то из них (хотя бы один!) согласится с предложенными условиями и сыграет роль суперагента в стане московского государя. Царь, в распоряжение которого эти послания попали, игру противника раскусил. От имени адресатов он отправляет ответные письма, осыпая врага колкими насмешками. Для Ивана Грозного совокупность этих «кусательных» посланий составляет прежде всего выигрышную «сцену»: монолог центрального персонажа о гнусности злодеев, ему противостоящих…
Но все ли письма были перехвачены? Все ли русские адресаты возжелали проявить лояльность к своему государю? Ведь отношения его со служилой аристократией оставляли желать лучшего! Несколько княжеских и боярских родов «обязаны» были Ивану Васильевичу казнью своих представителей (Шуйские, Пронские, Горенские, Кубенские, Трубецкие, Кашины, Воронцовы…). Да и те четыре военачальника, которым были направлены послания поляков, — не возникло ли у них желания, явно «сдав» переписку, втайне подготовить переворот? Осенью 1567 года польско-литовская армия во главе с королем сосредоточилась в Южной Белоруссии для нанесения контрудара по наступающим русским полкам, но бездействовала. Откуда у поляков появились сведения о готовящемся наступлении в Ливонию? Не было ли у них надежды использовать замешательство в нашем лагере, возникшее в результате чаемого переворота, и разбить русскую ударную группировку? Или отбить Полоцк, в котором как раз сидел старшим воеводой Иван Петрович Федоров?
Князь Владимир Андреевич предоставил царю список из тридцати знатных людей, склонявшихся к заговору, и, возможно, другие бумаги, способные их скомпрометировать как изменников. Это произошло непосредственно во время военного похода осенью 1567 года.
В середине ноября царь отменяет поход и распускает армию. Он знает о сосредоточении вражеских войск намного южнее — при желании поляки могли устремиться в тыл воинству Ивана IV и даже отрезать его от Москвы. Царь видит перед собой список людей если и не вступивших в заговор, то находящихся на полпути к этому. Он извещен о выжидательной тактике противника, так и не предпринявшего никаких наступательных действий. А отменив поход, он узнает, что армия Сигизмунда II Августа тоже отступает. Это подтверждает худшие опасения государя: поляки отказались от военного столкновения, как только выгодная ситуация «рассосалась». Поведение поляков ясно показало — некое лицо или лица в среде военного руководства дали им повод для подобного рода действий и снабдили сведениями о планах русского командования. Был ли это заговор или среди наших появился иуда, сказать невозможно. Но только никто никогда не собирал армий ради бездействия…
В результате разразилась настоящая буря. Расследование заговора поставило в центр его одного из крупнейших землевладельцев того времени, видного политического деятеля, боярина Ивана Петровича Федорова. Его разорили, продержали в опале много месяцев, а потом пригласили к Ивану IV. По велению государя боярин должен был облачиться в царские одежды и сесть в тронное кресло. Иван Васильевич, глумясь, встал перед ним на колени и спросил, доволен ли он, заняв государево место. А затем воскликнул: «Наслаждайся владычеством, которого жаждал!» Иван IV собственноручно зарезал боярина, а тело его велел протащить с позором по Москве и бросить в навозную яму. Был ли Иван Петрович Федоров изменником? Царь имел основания не доверять ему, однако до наших дней не дошло свидетельств, неопровержимо доказывающих вину воеводы.
Царь, еще недавно чувствовавший себя на пороге величайшей победы, пребывавший в покое относительно верности своих подданных, вдруг увидел: нет ничего твердого под ногами! Земля опять колеблется! Ему самому и его семье грозят неведомые опасности. Обладая нервной, артистической натурой, Иван Васильевич подвержен был скорым перепадам чувств. Он сам признавался в том, что несколько раз испытывал сильнейший страх за свою жизнь: например, во время московского бунта 1547 года или пять лет спустя под Казанью. Иной раз он проявлял и недюжинную храбрость, бывал под неприятельским обстрелом, совершал походы вглубь вражеской территории… Но всякий раз его поведение оказывалось результатом эмоций — взрывных, мощных, слабо сдерживаемых. Что могло случиться на исходе 1567-го? Очередной эмоциональный взрыв, достаточно сильный, чтобы до основания потрясти душу государя и помрачить ее, вызвал наплыв страстей. Неотвязный страх вызвал не менее ужасный гнев. А гнев явился причиной неистовой жестокости.
Сам царь со свитой и отдельные команды опричников разъезжали по многочисленным владениям Ивана Петровича едва ли не год и всюду устраивали казни, пожары, разорение. Погибли сотни людей, виновных лишь в том, что они состояли на службе у Федорова. Только по документированным данным, число жертв составило около четырехсот человек. В связи с «делом Федорова» в Москве и «по городом» опричники уничтожили немало высокородных аристократов, в том числе опытного воеводу князя Федора Ивановича Троекурова и боярина князя Андрея Ивановича Катырева-Ростовского, нескольких представителей боярского рода Шейных, Колычевых и Лыковых. Пострадала верхушка приказного аппарата земщины: полетели головы дьяков и казначеев. Тогда же погиб выдающийся военный инженер Иван Григорьевич Выродков.
Репрессии, которыми завершилось расследование «дела Федорова», превратили опричнину в аппарат грандиозной террористической деятельности. Как уже говорилось, первые годы опричнины не знали массовых репрессий. Однако теперь, в ходе расследования по «делу Федорова» или, если угодно, по делу о «земском заговоре», опричнина стала трансформироваться. В 1568 году ее административные прерогативы оказались значительно расширены, а карательные функции возросли многократно.
Существовал ли на самом деле «земский заговор», сказать трудно. Действия польско-литовского командования показывают: какими-то сторонниками в русском лагере неприятель мог располагать. Однако «расследование» обернулось кровавой расправой, когда заодно с подозреваемыми унижению и смертной муке предавали невинных, в том числе слуг, женщин, детей.
Святитель Филипп, видя такое кровопролитие, возвысил голос против опричнины и по воле царя лишился за это митрополичьей кафедры. Казнены были несколько митрополичьих старцев.
В 1569 году подвергся аресту и был отравлен князь Владимир Андреевич Старицкий. Слишком уж часто недовольные связывали перспективу смены государя с его именем… Вместе с ним погибли от яда жена и дочь. Умертвили также слуг князя. Историки не находят убедительных свидетельств реального заговора Старицких.
В том же 1569 году действительный изменник Тимофей Тетерин, связанный с главным врагом и публицистическим оппонентом Ивана IV, князем А. М. Курбским, помог литовцам взять Изборск. Крепость быстро отбили, но на гарнизонных приказных людей пало подозрение в измене. В результате их обезглавили.
В течение нескольких месяцев готовился грандиозный карательный поход, целью которого было очистить от «измены» колоссальную область, лежащую к северу и северо-западу от Москвы. Реализация этого замысла принесла России самый тяжкий и самый кровавый шрам из всех, нанесенных опричниной. «Северная экспедиция» стала апогеем террора и породила у соседей патологическую боязнь «Московита», ярко отразившуюся в брошюрах и летучих информационных «листках» того времени.
В промежутке от декабря 1569-го до марта 1570 года опричная армия совершила экспедицию по «петле» от Москвы через Клин, Торжок, Тверь, Новгород Великий и Псков — к Старице. Всюду опричные отряды сеяли разорение и убийства. Города подверглись страшному грабежу. Бесстыдного разграбления не избежали и храмы. Государь велел забрать даже колокола по церквям и монастырям. Пленников, размещенных в населенных пунктах по ходу опричной экспедиции, — литовцев, полочан и татар — истребляли. В Новгороде Великом государь остановился надолго, занявшись расправой над богатым посадским населением и распустив команды опричников по новгородским землям. Летописи и рассказы иностранцев полны кровавыми подробностями новгородского разгрома. В Москву отправились длинные обозы с награбленным имуществом…
Масштабы псковского разорения не столь велики. По сообщениям ряда источников, как иностранных, так и русских, царя напугали укоризны местного юродивого Николы или Микулы; устрашенный монарх пощадил город.
В связи с новгородским «изменным делом» казнили также крупного военного администратора боярина Василия Дмитриевича Данилова и несколько человек из его окружения.
Количество жертв «северного похода» исчисляется тысячами. Повествовательные источники сообщают о десятках тысяч, но строго документированные потери составляют около 2500–3000 человек. Всё, что было сверх этого, — величина гадательная, хотя сомнений в том, что погибло больше людей, не испытывает никто из историков. Но даже две тысячи для одного Новгорода — страшная цифра! Казнен был каждый десятый. Иными словами, царь подверг город децимации, подобно тому как в языческом Риме наказывали бежавший с поля боя легион.
Причина нанесения удара именно по Новгороду вызвала у исследователей дискуссию. Еще менее понятны резоны, заставившие Ивана Васильевича придать разгрому северных областей столь чудовищные формы.
По мнению автора этих строк, причина лежит на поверхности. Русский народ того времени, молодой, полный энергии, отличался от будущих поколений, живших в XIX и XX веках. Он был прежде всего намного «моложе» в цивилизационном отношении. И, следовательно, для русских того времени являлось естественным сопротивляться притеснению; в первую очередь это относилось к любому нарушению церковных устоев и любой репрессии против добродетельного архиерея. Печальная судьба митрополита Филиппа — достаточное основание для бунташных настроений. Омерзительное отношение опричников к храмам и их безнравственное поведение могли сыграть роль мощных дестабилизирующих факторов. Некоторые свидетельства источников позволяют предположить, что активное вооруженное сопротивление опричному войску оказывалось. В частности, Генрих Штаден пишет: «…Великий князь вместе со своими опричниками поехал и пожег по всей стране все вотчины, принадлежавшие упомянутому Ивану Петровичу (Челяднину-Федорову. — Д. В.). Села вместе с церквами и всем, что в них было, с иконами и церковными украшениями — были спалены. Женщин и девушек раздевали донага и в таком виде заставляли ловить по полю кур… Великое горе сотворили они по всей земле! И многие из них были тайно убиты». Позднее, во время царского похода в северные земли, в частности против Новгорода и Пскова, бои с опричными отрядами, по свидетельству того же Штадена, явно имели место. Историк В. И. Корецкий полагал, что летом 1568 года произошло выступление московского посада, напугавшее Ивана Васильевича. Пискаревский летописец сообщает: «И бысть ненависть на царя от всех людей».
Страна отстаивала себя, она не желала молча сносить унижения. Новгородчина, весьма вероятно, могла стать очагом наиболее активного сопротивления. Царь нанес удар, стремясь подавить любые искры смуты, которую пришлось облечь понятным и привычным именем «измены».
Если проанализировать маршрут «северного похода», то станет видно, что опричная армия прошла добрую половину земской территории. Видимо, Иван Васильевич задался целью не только подавить волнения, но и провести масштабную акцию устрашения.
Новгородский разгром стал самым ужасным деянием опричнины, но далеко не последним. Массовые казни продолжались. Царский топор прошелся по рядам самих опричников. Их обвиняли (и не без основания) в казнокрадстве, административных и судебных нарушениях. Кроме того, царь подозревал некоторых начальствующих лиц опричнины в том, что они пытались известить новгородцев о готовящемся карательном походе. Если они знали, какой удар обрушится на северные русские города и земли, на Новгородчину в том числе, если они понимали, какой кровушкой отольется на этот раз монаршее желание карать непослушных земцев… то их можно понять. Как знать, не шевельнулось ли что-то человеческое в сердце: матерые опричники дали кому-то шанс уйти от опричной секиры, от грабежа, от душегубства, от насилия… В любом случае несколько великих людей старой опричнины, ее «отцов-основателей», кончили карьеру худо. Не все лишились жизни, но даже те, кто избежал смертной казни, навсегда удалились от власти. Разуверившись в «старой гвардии» опричнины, Иван Васильевич стал брать туда тех, кого прежде не допускал ни в опричную армию, ни в опричную Думу, — «княжат» из высших родов служилой знати. Таким образом, социальная база опричнины оказалась размытой. Без «княжат» обойтись не удалось…
Летом 1570 года страшный удар был нанесен по высшему слою приказных людей. Казни проходили публично, в Москве на Поганой луже, и сопровождались пытками. В них участвовал сам царь, собственноручно пытая и убивая. В один из дней, по свидетельству нескольких не зависящих друг от друга источников, палачи умертвили более ста человек… Именно тогда ушел из жизни известнейший российский дипломат того времени — дьяк Иван Михайлович Висковатый. Он пытался отговорить Ивана Васильевича от продолжения террора, озвучив простой, но верный аргумент: кто же останется у царя для ведения войны и дел правления?
После гибели русской столицы в пожаре 1571 года[112] массовый террор сошел на нет. Царь не стал милостивее, он лишь начал считать потери. Очередной «эксперимент», наподобие новгородского, грозил оставить его без населения, способного нести тягло и содержать двор…
Но казни не прекратились. Например, уже в 1571 году подверглось казни немало высокопоставленных опричников, а в 1573 году простились с жизнью трое знаменитых воевод: Воротынский, Морозов и Одоевский. Да и позднее на плахе пролилось немало крови. Просто 1571 год поставил точку в репрессиях, объединявших под топором палача правых и виноватых, действительных злоумышленников и лиц, «привлеченных по делу» из-за служебных или родственных связей с ключевыми фигурами расследования.
Чем явились годы массовых репрессий для самого царя? Видимо, апогеем его «актерства» в худшем значении этого слова. Он с упоением играл роль сурового, но мудрого и справедливого правителя, им же самим придуманную. В обстоятельствах 60—70-х годов XVI столетия Россия очень нуждалась в расчетливом дельце на троне, человеке прагматичном до мозга костей и притом искренне и глубоко верующем. Стране необходимо было выбраться из гибельной ситуации, которую создавала война против нескольких сильных неприятелей одновременно. А Церковь очень нуждалась в поддержке государя, поскольку должна была заняться христианизацией обширных пространств, замиренных не до конца. Что вместо этого получили Россия и Церковь от Ивана Васильевича? Трагифарс необдуманного реформаторства и кровавую кашу массовых репрессий. Главный защитник православия принимается обдирать колокола со звонниц. Главный защитник страны грабит собственные города…
Сколько копий сломано за 200 лет, со времен Николая Михайловича Карамзина, в спорах об опричнине и «грозе» царя Ивана Васильевича! И чем дальше, тем больше утверждается в российской публицистике, а за ней, к сожалению, и в академической науке скверная тенденция: выстраивать факты русской истории XVI столетия, исходя из политических пристрастий людей Нового времени. Грубо говоря, само существование «большого террора» Ивана Грозного, истоки его и смысл трактуются с точки зрения устоявшихся стереотипов. Носитель подобного стереотипа чаще всего не пытается вникнуть в источники, самостоятельно проанализировать события, он просто приводит пример: вот, дескать, как ужасно (или как прекрасно), что Иван IV выкосил (очистил страну от) лучших людей нации, гуманистов и демократов (подлых изменников, предателей и вероотступников). Такой способ мышления говорит об одном: человек намертво приварил себя к мировоззренческой баррикаде и уже не мыслит себя вне баррикадной борьбы. Да — нет, черное — белое, друзья — враги — и никаких полутонов, никакой глубины, никакой сложности! Порой создается впечатление, что истина не нужна ни одной из борющихся сторон.
Но стоит всё же разобраться с этой болезненной и страшной темой. Так происходили при Иване IV массовые репрессии или нет? А если происходили, то насколько они оправданны и почему их сочли приемлемым способом решения политических проблем? Особенно важно последнее: отчего этот инструмент мог оказаться востребованным в практике государственного строительства?
Прежде всего, ответ на первый вопрос, к сожалению, — положительный. Да, масштабный правительственный террор при Иване IV был, и пик его приходится на годы опричнины. Казнили и до того, и после, но столь значительной вспышки казней на всем пространстве длительного правления Ивана Васильевича не отыскать.
Чаще всего, говоря об этой череде казней, приводят данные иностранных источников: посланий и записок немцев Таубе и Крузе, Шлихтинга, Штадена, Гваньини, Стрыйковского, Одерборна и т. д. Источники эти очень отличаются друг от друга и по уровню достоверности, и по уровню информационной ценности. Те же Таубе и Крузе неоднократно были пойманы на лжи и просто слабой информированности, это источник до крайности ненадежный. А вот редкий мерзавец, насильник, грабитель и выдающийся корыстолюбец Генрих Штаден довольно точен в своем изложении. Стыда не имея, он со всей откровенностью повествует о своих и чужих мерзостях.
Нельзя огульно объявить: все иностранцы врут о России! Иностранцы XVI века отзываются о нашей стране и нашем народе очень по-разному. Англичанин Ричард Ченслор, например, говорит о Московском государстве немало лестных слов, и те же поляки порой сквозь зубы цедят: крепко дрался московит… Да и среди немцев есть авторы, писавшие непредвзято. Но если бы сведения современного историка о массовых репрессиях грозненского времени извлекались бы исключительно из высказываний иностранцев, он мог бы усомниться: отчего ж русские источники молчат?
А русские документы отнюдь не молчат.
Во-первых, в начале 1580-х годов появились обширные синодики, рассылавшиеся в монастыри для поминовения тех, кто подвергся казни или просто бессудной расправе по воле государя. Именно они составляют наиболее серьезную документальную основу, по которой можно судить о размахе государственного террора. Они не полны, и по другим источникам — летописным, документальным, иным — исследователи нередко обнаруживали погибших, чьи имена не зафиксированы в синодиках. И тут нет никакого умысла к «фальсификации»: кого-то туда не внесли, поскольку его гибель не была следствием царского приказа, а кого-то забыли за давностью лет — от казни до составления синодика могло пройти более полутора десятилетий, где тут упомнить каждого! Многие документы, связанные с карательной деятельностью, могли быть просто утеряны или пострадать от большого московского пожара 1571 года.
Во-вторых, большое количество жертв подтверждается и летописными памятниками: Пискаревским летописцем, некоторыми новгородскими и псковскими летописями. Официальная царская летопись никаких сведений не сообщает, поскольку она обрывается на 1567 годе. За предыдущий период она не скрывает казней, но их относительно немного, и от эпических масштабов более позднего террора они бесконечно далеки.
Массовый террор начался зимой 1567/68 года. В синодиках собраны сведения о 369 жертвах террора на его начальном периоде — с зимних месяцев по лето 1568 года.
Иностранные источники эти данные подтверждают. «Послание» И. Таубе и Э. Крузе, записки А. Шлихтинга и Г. Штадена текстуально не зависят друг от друга, но одни и те же факты повторяются в них, полностью соответствуя сведениям русских источников. Поэтому нет никаких оснований отрицать массовые опричные репрессии 1568 года.
Позднее репрессии шли «волнами», у них было несколько пиков. Один из них приходится на зиму 1569/70 года, когда опричный корпус участвовал в карательном походе на Северную Русь. Другой — на лето 1570 года, когда проводились многочисленные публичные казни в Москве.
Нет резона давать подробные цитаты из источников по поводу каждой «волны» казней: все эти источники давно опубликованы и хорошо известны. Пожалуй, стоит лишь продемонстрировать, сколь велики совпадения в памятниках разного происхождения, то есть текстуально не зависящих друг от друга.
Вот скупые строки Пискаревского летописца: «Положил царь и великий князь опалу на многих людей и повеле их казнити розными казнями на Поганой луже. Поставиша стол, а на нем всякое оружие: топоры и сабли, и копия, ножи да котел на огне. А сам царь выехал, вооружася в доспехе и в шоломе и с копием, и повеле казнити дияка Ивана Висковатово по суставам резати, а Никиту Фуникова, дияка же, варом обварити; а иных многих розными муками казниша. И всех 120 человек убиша грех ради наших». Действия царя воспринимались как мор, засуха или наводнение — «казни» Господни за грехи. К тому времени многие перестали видеть в монархе человека; в нем видели живое орудие мистической силы, которому Бог попустил совершение подобных действий.
Иностранные источники указывают разное количество казненных 25 июля 1570 года — от 109 до 130 человек. Синодик опальных, по разным подсчетам, свидетельствует о казни 125–130 человек.
Различие, как можно увидеть, невелико. Следовательно, факты, скорее всего, изложены точно: более ста человек было истреблено за один день и при большом стечении народа.
Москвичи не видели такого никогда, от основания города. Бывало, прилюдно казнили одного или нескольких человек. Порой, к изумлению горожан, лишалась головы весьма знатная персона. Например, при Дмитрии Донском казнили Ивана Вельяминова из рода московских тысяцких. Во времена Василия Темного несколько дворян-заговорщиков поплатились жизнями за преступные намерения. Иван Великий повелел спалить немногих еретиков. Но за все 400 лет своей биографии великий город не удостаивался столь страшной резни, какая случилась летом 1570-го!
Синодики дают документированный минимум жертв государственных репрессий грозненской эпохи. Если присоединить к их данным достоверные сведения из других источников, получится примерно четыре-пять тысяч жертв.
Реальное количество тех, кто пострадал от грозненских казней, больше. Но насколько больше, определить невозможно. А потому нет никакого смысла строить фантастические гипотезы: их всё равно нет способа доказать.
Теперь стоит задуматься: сколь велика названная цифра — четыре-пять тысяч строго документированных жертв — для средневековой России? Мало это или много?
Если применять мерки XXI века, то цифра впечатлить не может — после якобинского террора, после колониальных войн, после геноцида армян, после гражданских войн в России и Испании, после зверств британцев в Ирландии, после двух мировых войн, после концлагерей, после Хиросимы, после бомбардировок Сербии… Куда там русскому XVI веку! Массовые казни грозненского времени — детская забава по сравнению с «человечным» XX столетием.
Но в эпоху Святой Руси к казням относились иначе.
Последние несколько столетий — время массового развращения человеческой натуры. Время, когда всё более глубокая подлость оказывается разрешенной. Как минимум не осуждаемой. Скверна разных сортов, позволительная для современного государства и даже порой выдаваемая им за доблесть, была делом немыслимым для эпохи, погруженной в христианство.
В интеллигентской среде вот уже третий век циркулируют мифы об «извечном» деспотизме русского государственного строя и о его же «извечной» свирепости. Несколько поколений русских людей с удивительной неразборчивостью приняли их на веру. Между тем никакой «вечной», «постоянной», «изначально присущей» склонности к массовым репрессиям в русской политической культуре не существовало.
Конечно же совершались казни по политическим мотивам. Конечно же случалось так, что в распоряжении палача оказывал ось сразу несколько человек. Такое бывало и в XV веке, и в начале XVI. У нас (по древней византийской традиции) ослепляли политических противников, держали их в заточении, терзали тяжкими кандалами, отправляли на плаху… Например, осенью 1537 года регентша Елена Глинская повесила три десятка новгородцев — за открытое участие в мятеже князя Андрея Старицкого.
Всё это так. Политическая борьба на Руси отнюдь не принимала благостных розовых оттенков.
Но если спускаться от времен Ивана Грозного век за веком в колодец времен, то чем дальше, тем яснее будет становиться: Русь на протяжении нескольких веков не знала массовых репрессий. Нельзя сказать, чтобы они находились на периферии политической культуры. Нет, неверно. Массовые репрессии пребывали за ее пределами. Они просто не допускались.
Никакая «азиатчина», «татарщина» и т. п. не втащили на русские земли пристрастие к такого рода действиям. Русь знала Орду с середины XIII века. Но свирепости от Орды не научилась. На войне, в бою, в запале, в только что взятом городе, когда ратники еще разгорячены недавней сечей, — случалось разное. Крови хватало. А вот по суду или даже в результате бессудной расправы, связанной с каким-нибудь «внутренним делом»… нет. Никаких признаков масштабного государственного террора.
Террор был глубоко чужд русскому обществу и во времена Батыевы, и при святом Сергии Радонежском, и на заре существования единого Московского государства. Иван Великий и Василий III мысли не допускали, что можно решать политические проблемы подобным образом.
Можно твердо назвать дату, когда массовые репрессии вошли в политический быт России. Это первая половина — середина 1568 года. И ввел их не кто иной, как государь Иван Васильевич.
Его современники, его подданные были смертно изумлены невиданным доселе зрелищем: слуги монаршие убивают несколько сотен виноватых и безвинных людей, в том числе детей и женщин! Несколько сотен. На тысячи счет пойдет зимой 1569/70 года. А пока — сотни. Но и это выглядело как нечто невероятное, непредставимое. Царь устроил настоящую революцию в русской политике, повелев уничтожать людей в таких количествах…
Для XVI века не четыре тысячи и даже не 400, а всего лишь 100 жертв репрессий и то было бы — слишком много. Далеко за рамками общественной нормы.
Но почему на Русь пришло такое «новшество»?
Неужели государь Иван Грозный боролся с такими заговорами и решал такие проблемы, перед которыми изощренный ум его деда, Ивана Великого, спасовал бы? А ведь тому приходилось создавать Россию из крошева удельных владений, преодолевая враждебность воинственных соседей и нелады в собственном роду! Но дед обходился без массовых репрессий и завещал преемникам колоссальное процветающее государство. А у внука почему-то не получилось. Даже если допустить, что все заговоры, коих коснулось каленое железо террора при Иване IV, действительно существовали, даже если убедить себя в более значительном их масштабе, нежели во времена его великого деда, всё равно останутся вопросы. Например, такой: заговорщической деятельностью могла заниматься высокородная аристократия, дворянство… может быть, богатое купечество. Но казнили-то еще и священников, монахов, крестьян в далеких северных деревнях, женщин, детей — эти-то и слыхом не слыхивали о господских пакостных затеях, если таковые существовали! Так зачем их убили?
Может быть, всему виной какое-то душевное расстройство государя? Нашлось немало желающих, не видя «пациента», сквозь мглу веков прозревать высокоученым оком его умственные хвори. Одни ученые, например П. И. Ковалевский, ставили первому русскому царю психиатрические диагнозы; другие, например С. Ф. Платонов, едко проходились по их поводу. Вряд ли безумец мог водить армии, вести дипломатические переговоры, создавать литературные сочинения и каяться в грехах… Нет, не видно сумасшествия в государе Иване Васильевиче.
Дело в другом. Он нарушил прежнюю общественную норму и воздвиг новую, доселе небывалую на Руси.
Словно кто-то или что-то дало ему разрешение: раньше было нельзя, а теперь — можно! Словно не он первый обретал роль державного старшины в палаческом цеху…
Но если не он — кто же? Кто мог подать такой пример? В династии московских Даниловичей-Калитичей — никто. Ни один московский правитель до Ивана Грозного на подобное не решался.
Однако… пример мог возникнуть не из прошлого, а из настоящего.
Поневоле возникает почва для вопроса: а не стало ли это государево нововведение результатом западноевропейского «импорта»? Политическая культура Западной Европы XVI столетия отличалась гораздо большей жестокостью, нежели русская. Масштабное пролитие крови стало для европейцев приемлемым из-за грандиозных столкновений на религиозной почве.
Эрозия христианских ценностей, нравственное падение папства, бешеный напор гуситов, а потом и Реформация, начавшая свой разбег с Германии, резко снизили ценность человеческой жизни. Самые кровавые, самые безжалостные войны Европа вела сама с собой, внутри собственного цивилизационного организма, на почве ширящегося религиозного раскола. Как только пошатнулась добрая громада христианства, доселе оберегавшая европейский социум от падения в новое варварство, сейчас же кровь полилась гремящим потоком.
Торквемада появился на политических подмостках Европы задолго до Ивана Грозного. Аутодафе, начавшиеся в 1481 году, всего за несколько месяцев перевели из земного бытия в загробное сотни людей. В специальной литературе чаще всего фигурирует «стартовая» цифра в 298 казненных. Вполне сравнимо с 369 казненными в первые месяцы массовых репрессий при Иване IV. Вот только случилось всё это на столетие раньше, чем в России.
За десятилетие до опричнины королева Мария Тюдор принялась массами жечь протестантов на землях «просвещенной» Англии. Историки чаще всего пишут приблизительно о трехстах уморенных «за веру» в ее правление. Впрочем, подсчеты расходятся. А ведь именно в середине 1550-х между Московским государством и королевством Английским были установлены дипломатические отношения. Экспедиция Хью Уиллоуби и Ричарда Ченслора добралась до русских берегов. Торговая компания англичан быстро утвердилась в нашей столице. Москва с интересом знакомилась со свежим политическим опытом недавно обретенных союзников…
Кровопролитные войны между католиками и гугенотами во Франции начались до того, как у нас появилась опричнина. Боевые действия шли на протяжении многих лет и сопровождались характерными инцидентами, например знаменитым побоищем в Васси. Весной 1562 года герцог Франсуа Гиз, ревностный католик, подверг безжалостной резне протестантскую общину.
Расправы шведского короля Эрика XIV над собственными подданными, особенно аристократией, относятся к 1560-м годам, то есть они по времени фактически параллельны опричнине… но всё же производились чуть раньше того самого грозненского «срыва» 1568 года. Впрочем, и у Эрика были чудесные «учителя»: в 1520 году датчане устроили в Стокгольме «кровавую баню», публично перебив сотню шведских дворян.
Вооруженные бесчинства нидерландских иконоборцев относятся к 1566 году. Накануне, так сказать… Ответные зверства герцога Альбы в тех же Нидерландах начались во второй половине 1567 года. Впритык! За годы карательной деятельности Альбы в Нидерландах список его жертв далеко превысил число казненных, известное по грозненским синодикам.
Хотелось бы подчеркнуть: ни о Варфоломеевской ночи, разом многократно превысившей сумму жертв грозненского террора, ни о «мишелядах» — массовом убиении католиков «бедными овечками» гугенотами за три года до Варфоломеевской ночи, здесь не говорится. И то и другое произошло после того, как в Московском государстве начались массовые репрессии. Но как много иных примеров большой крови, пролитой в Европе до опричнины! И далеко не все они приводятся, список выглядел бы слишком громоздко. Варфоломеевская ночь не понадобилась России в качестве дурного примера. Другого просвещенного душегубства хватило с избытком.
О, у государя Ивана Васильевича были отличные «наставники». Российская дипломатия, связывавшая царский престол с множеством престолов европейских, приносила Ивану IV ценные сведения о тамошних политических «новинках».
Похоже, Западная Европа вознамерилась преподнести Европе Восточной урок: убивайте! Убивайте больше! Зачищайте так, чтобы больше ничто не зашевелилось на этом месте! Не стесняйтесь количеством жертв! Забудьте о заповеди «Не убий!». Преодолейте ее в себе! Бог потом разберется, были среди пострадавших невиновные или нет.
И у нас, в России, этот урок был, по всей видимости, воспринят как руководство к действию. Русская политическая культура оказалась инфицированной. Вирус массовых казней вошел в нее, и до сих пор непонятно, как от него избавиться. Если Московское государство, с легкой руки первого русского царя, действительно заимствовало практику массовых политических репрессий у Европы, то это был опыт, требовавшийся Русской цивилизации меньше всего.
Ясно, что опричная реформа стоила стране чрезвычайно дорого. Гораздо сложнее вопрос: достигла ли она своих целей в той сфере, которая ее породила, — военной? К чему она привела и, главное, дала ли она России желанный успех в борьбе за Ливонию?
Прежде всего, произошел «перебор» основного состава высших воевод. И в годы опричнины, и после ее отмены московская армия регулярно совершала крупные операции — главным образом наступательные на западе и северо-западе, а также оборонительные на юге. Всякий раз с началом новой операции требовалось поставить с десяток и более воевод в полки. Их, разумеется, назначали: имена этих людей дошли до нас в официальных документах — «разрядах». И если анализировать их социальный состав, то выяснится, что в подавляющем большинстве случаев это были всё те же служилые аристократы. Провинциальных дворян в командирский корпус добавилось совсем немного. Дворян московских — тоже не столь уж большое количество. Художественная литература многим привила неадекватное восприятие военной стороны опричнины: царь будто бы дал возможность представителям низшей ступени в иерархии военно-служилого класса проявить себя на воеводских должностях. Энергичные дворяне будто бы заменили в полках «ленивых богатин», жирных бояр! Да ничего подобного. Правда состоит в том, что русское армейское командование в опричные и постопричные годы стало лишь несколько менее аристократичным — за счет включения в него нескольких родов второстепенной знати и нескольких дворянских. Опричное войско представляло собой ударные отряды из поместной конницы, одновременно служившей для охраны государевой особы и для участия в обычных боевых действиях. Нет сведений, что на уровне тактики, вооружения, походного снаряжения опричная армия сколько-нибудь отличалась от земской.
Но она управлялась по-другому, и в этом всё дело.
Русская военная система, унаследованная государем Иваном IV от своего отца Василия III и деда Ивана III, имела исключительно сложное устройство. Высшие воеводские посты могли занимать лишь знатнейшие люди, и государь был очень ограничен в выборе этих людей. Фактически он не имел власти самостоятельно определить кадры «генералитета». Только когда прежний, аристократический «генералитет» проявил явную слабость на театре военных действий, царь, наконец, начинает свой «исторический эксперимент»: вырывает из страны и военно-служилого сословия фрагмент, чтобы в рамках этого фрагмента создать более простую, более управляемую и в конечном итоге более эффективную систему. Набирает для нее людей, не имеющих столь высокого социального статуса, а значит, по идее, в большей степени зависимых от престола. Наделяет себя неограниченной властью над этим войском, а само войско — неограниченной властью над страной.
Система действительно оказалась намного проще предыдущей, сохраненной в земщине. Да и более управляемой, хотя и не настолько, насколько рассчитывал Иван IV. Но только — вот беда! — эффективность ее оказалась невелика. За опричными боевыми формированиями числится только одна самостоятельная, вне взаимодействия с земскими войсками, победа над неприятелем: в 1570 году великий полководец князь Д. И. Хворостинин разгромил крымцев под Зарайском.
Опричное войско годилось для охранных целей и было незаменимым инструментом репрессий. Но в войнах с Крымом, Швецией и Речью Посполитой оно оказалось слабым подспорьем.
Летом 1570 года русское войско, усиленное отрядами ливонского короля Магнуса, союзника Ивана IV, осадило Таллин (Ревель). В распоряжении воевод имелись отличная артиллерия и значительные по численности полки. Однако город оказывал упорное сопротивление. Через два месяца после начала осады из России подошло подкрепление — опричный корпус. Его присутствие в осаждающей армии дало эффект, прямо противоположный ожидавшемуся. В хронике таллинского пастора Бальтазара Рюссова, в частности, сообщается: «Этот отряд гораздо ужаснее и сильнее свирепствовал, чем предыдущие, убивая, грабя и сжигая. Они бесчеловечно умертвили много дворян и простого народу». В итоге решимость защитников города возросла, а мирные переговоры потеряли всякий смысл. Проведя всю зиму под стенами неприступной крепости, русские полки в марте 1571 года оказались вынуждены отступить. Воеводы, виновные в срыве Ревельской операции, под арестом отправились в Москву. Тогда же немец-опричник Таубе пытается поднять мятеж в Юрьеве-Ливонском.
Еще хуже складывались дела на южном фронте.
Весной 1571 года Девлет-Гирей явился на южные «украины» Московского государства с большим войском и полный решимости разорить страну, а еще того лучше — погубить ее. Москва равноценных сил выставить в поле не могла: значительная часть русских войск вела наступление в Ливонии, да и после многолетней войны на два фронта полки Ивана IV поредели. Более того, действия наличных сил трудно было скоординировать: командование делилось на опричное и земское.
С русской стороны к татарам перебежали дети боярские, напуганные размахом опричных репрессий. И один из перебежчиков показал крымцам дорогу в обход оборонительных позиций русской армии. Другой сообщил, сколь малы силы, противостоящие хану. Девлет-Гирей перешел Оку вброд и, сбивая наши заслоны, устремился к Москве. Опричным отрядам не удалось затормозить его наступление.
Царь с частью опричного корпуса отступил к Москве, оттуда к Александровской слободе и далее в Ростов. В ту несчастную весну всё шло неудачно, не по плану, и ничего не работало. К тому же Московское государство было ослаблено: страну терзало моровое поветрие, два года засухи привели к массовому голоду. Людей, которых можно было поставить в строй, катастрофически не хватало.
Иван Васильевич испытал настоящее потрясение. В 1552 году под Казанью он боялся по милости собственных воевод попасть к неприятелю в руки. Теперь старые его страхи ожили и материализовались. Неожиданно для Ивана IV татары оказались в непосредственной близости от его ставки. Никто не привел государю «языка». Никто не позаботился о ведении сторожевой службы. Опричные воеводы отступали мимо царя с полками в растерянности, не зная, что предпринять. Иван IV опасался даже, как бы кто-нибудь не взял его коня под уздцы и не привел бы к Девлет-Гирею. Отступление казалось государю меньшей из бед. Так поступали многие князья Московского дома, застигнутые татарским набегом врасплох. Иван Васильевич увел с собой значительную часть опричного корпуса.
Совместно с другой его частью земские воеводы попытались организовать оборону столицы. Им удалось собрать полки под Москвой незадолго до подхода Девлет-Гирея. Во главе земской рати стояли опытные и храбрые военачальники: князь Иван Дмитриевич Вельский (старший из воевод), князь Иван Федорович Мстиславский и князь Михаил Иванович Воротынский. Частью опричного корпуса, оставленной для защиты столицы, руководил князь Василий Иванович Темкин. Казалось, положение города не безнадежно. Вельский ударил на татар и, видимо, добился успеха. К сожалению, во время этой атаки главнокомандующий получил ранение. Он был отвезен на свой двор. Его отсутствие внесло дезорганизацию в действия обороняющихся.
Не умея взять город, Девлет-Гирей велел запалить его. Он намеревался разграбить всё, что не смогут защитить русские воеводы, занятые тушением пожара. Татары подожгли сначала пригороды, а на следующий день — московские посады. Пожар обернулся огненной бурей, настоящим бедствием. Результат превзошел все ожидания хана. Огонь стремительно и неотвратимо убивал город. Земские ратники оставались в Москве. Не покидая позиций, они перемогались с крымцами посреди пылающих улиц. Тогда погибли боярин Михаил Иванович Вороной-Волынский и раненый князь Вельский, а также множество наших воинов. Девлет-Гирей так и не смог занять город. Ужаснувшись зрелищу разбушевавшейся стихии, понеся значительные потери, татары отошли прочь, прихватив с собой трофеи и полон. К тому времени в русской столице армии уже не было — лишь несколько сотен чудом уцелевших детей боярских…
Небольшой полк Воротынского стоял на отшибе и уцелел. Князь преследовал крымцев, однако по малолюдству своего отряда не сумел отбить пленников. Орда ушла, по дороге разорив Рязанщину.
У нас нет надежных данных ни о населении Москвы в XVI столетии, ни о потерях, нанесенных русской столице в несчастный год Девлет-Гиреева нашествия. Но записки иностранцев, побывавших в Москве тогда или несколькими годами позднее, дают общее представление о масштабах катастрофы.
Генрих Штаден, современник событий, офицер опричного войска, скорее всего, оказался в сожженной Москве вскоре после отхода Девлет-Гирея. Он, в частности, пишет: «…за шесть часов выгорели начисто и город, и Кремль, и Опричный двор, и слободы. Была такая великая напасть, что никто не мог ее избегнуть!.. Колокола, висевшие на колокольне посреди Кремля, упали на землю и некоторые разбились… Башни или цитадели, где лежало пороховое зелье, взорвались от пожара — с теми, кто был в погребах; в дыму задохнулось много татар, которые грабили монастыри и церкви вне Кремля, в опричнине и земщине… Татарский царь Девлет-Гирей повернул обратно в Крым с сотнями тысяч пленников и положил в пусте у великого князя всю Рязанскую землю».
Антонио Поссевино, папский посол, побывавший в России в 1581–1582 годах, слышал о былом величии Москвы: «Конечно, и при нынешнем государе Москва была более благочестива и многочисленна, но в 70-м году нынешнего века она была сожжена татарами (на самом деле в 1571-м. — Д. В.), большая часть жителей погибла при пожаре, и всё было сведено к более тесным границам. Сохранились следы более обширной территории в окружности, так что там, где было 8 или, может быть, 9 миль, теперь насчитывается уже едва 5 миль».
С мая 1571 года опричная армия больше не выходит в поле как самостоятельная сила. Опричные воеводы всё еще служат по спискам, отдельным от земских. Но на должности в крепостных гарнизонах и действующей армии они ставятся вместе с земскими военачальниками. Раздельное командование исчезает. Фактически начинается демонтаж опричнины, и прежде всего «разбирают» ее военную организацию. Кое-кто из опричных воевод, виновных в майской катастрофе, взошел на плаху.
Девлет-Гирея ждали и готовились к новому вторжению. Иван IV готов был поступиться Астраханью и дать хану значительные «поминки», то есть фактически дань. Однако хан, почувствовавший запах победы, требовал, помимо Астрахани, еще и Казанских земель, в противном случае был настроен разорить всё Московское государство.
Побережье Оки по приказу царя укреплялось. Весной в Коломне прошел смотр полков. Опричные и земские отряды объединялись под общим командованием нелюбимого государем князя Михаила Ивановича Воротынского. Опытный и храбрый человек, он являлся идеальным главнокомандующим русским югом: отлично знал все особенности обороны «на берегу» и даже составил нечто вроде устава пограничной службы. Князь Воротынский отличился еще под Казанью в 1552 году, а полки начал водить и того раньше. Видимо, его назначение стало для Ивана Васильевича вынужденной мерой, зато для дела — наилучшим выбором.
У Воротынского под командой оказался сильный воеводский состав: Иван Васильевич Шереметев-Меньшой, князь Никита Романович Одоевский и особенно второй воевода в передовом полку князь Дмитрий Иванович Хворостинин. С русскими полками вышел также отряд иностранных наемников под командой Юрия Францбека.
В июле 1572 года Девлет-Гирей появился в Поочье. Армия крымского хана по разным оценкам насчитывала от 40 до 100 тысяч воинов. По подсчетам Р. Г. Скрынникова, русские воеводы могли противопоставить интервентам не более 30 тысяч бойцов, но доказательно можно говорить лишь о 20 тысячах с небольшим.
Еще одного удара, подобного прошлогоднему, вероятно, могло бы хватить для полного государственного крушения России. За этим могли последовать разделение страны и низведение ее остатков до роли третьего плана в политическом театре Восточной Европы. Татарское вторжение 1572 года угрожало повтором Батыева разорения.
Сначала крымцев счастливо отбили от переправ через Оку. Но потом им всё же удалось перейти реку вброд недалеко от Серпухова, уничтожив сторожевой отряд. Русские заслоны не могли сдержать наступление татар, устремившихся к Москве. У воеводы Федора Васильевича Шереметева не выдержали нервы, и он бежал с поля боя, бросив оружие… Но крымцев неутомимо преследовал князь Дмитрий Хворостинин, выбирая удобный момент для удара. Наконец он напал на арьергард Девлет-Гирея и рассеял его. Хану пришлось приостановить движение к Москве, вступить в бой с полком Хворостинина, а в это время князь Воротынский развернул полевой «гуляй-город» — передвижную крепость из деревянных щитов на возах.
Основные силы армии Воротынского расположились в районе села Молоди. Первый татарский приступ был отбит огнем из орудий и пищалей. Теперь судьба сражения, Москвы и всей державы должна была решиться на поле у «гуляй-города». В течение нескольких дней, то устраивая передышки, то вновь тараня русские позиции, крымцы с остервенением штурмовали нашу крепость. Атакующие несли колоссальные потери от огня государевых ратников, однако их решимость победить не ослабевала.
В русском лагере не хватало воды и пищи. Тем не менее очередная попытка штурмовать «гуляй-город» встретила мощный контрудар. В завязавшемся бою татар опять отбросили, положив нескольких военачальников. Девлет-Гирей получил известие о движении крупных сил на подмогу князю Воротынскому. По всей видимости, русское командование подкинуло «фальшивую грамоту» — никаких резервов для спасения Москвы не было. Всё, что можно, заранее стянули под команду Воротынского. Однако крымский хан мог этого и не знать. Угроза нового большого сражения, видимо, подтолкнула его к назревшему решению: отступать…
Так была спасена страна.
Государь Иван Васильевич вплоть до полного отражения крымцев сидел в Новгороде Великом, пережидая бурю. Затяжной характер боев на юге, недостаток сил и, напротив, удачный пример сотрудничества опричных воевод с земскими показывали со всей очевидностью: опричнина как военная система бессмысленна и опасна. Ее эффективность оказалась иллюзорной, зато вред — явным. Это, по всей видимости, нетрудно было понять хоть в Москве, хоть в Новгороде — по отчетам воевод.
Армия, жестко разделенная на опричные и земские полки, в 1571 году потерпела страшное поражение. Армия, собранная воедино, без различия служебной принадлежности, одержала спасительную для России победу у Молодей.
Опричнина, любимое детище царя, оказалась бессильной и небоеспособной как на полях сражений в Ливонии, так и в генеральном столкновении с крымцами. Столько расходов, столько крови, столько социального напряжения, а система, созданная в результате всех этих усилий, в решающий час не сработала.
Итог: опричнина была в 1572 году полностью отменена, особая опричная Боярская дума расформирована. И даже само слово «опричнина» оказалось под запретом. Это произошло осенью, скорее всего, в сентябре.
Большинство историков грозненской эпохи сходятся на том, что главным поводом для отказа от нее стали военные события 1571–1572 годов. Автору этих строк остается лишь присоединиться к сему здравому мнению: война породила опричные порядки, война же их и дискредитировала.
«Когда эта игра была кончена, — пишет Штаден, — все вотчины были возвращены земским, так как они выходили против крымского царя. Великий князь долее не мог без них обходиться. Опричникам должны были быть розданы взамен этого другие поместья». Курсивом здесь выделено главное: без собственной знати, организованной именно так, как сложилось еще при Василии III, Иван Васильевич обходиться не мог. Ему оставалось только признать это.
Привела ли опричнина к серьезным изменениям в социально-политической жизни Московского государства? Нет. Система чрезвычайных мер, вызванных противоборством царя и высших родов титулованной аристократии, разожженная нуждами войны, проводилась в жизнь непродуманно, драконовскими способами. Большой кровью приправленная, на ходу перекраиваемая опричная реформа была попыткой переделать многое. Отступив от первоначальных своих замыслов сначала в 1570-м, затем в 1571-м, а окончательно в 1572 году, Иван Васильевич кое-что сохранил за собой; это «кое-что» продержалось не далее середины 1580-х. И даже укрепление единодержавия и царского самовластия, достигнутое в результате опричнины, не столь уж очевидно. Личная власть Ивана Грозного — да, укрепилась несомненно, если сравнивать с 1540—1550-ми годами. Но увеличилось ли поле власти для его преемников на русском престоле? Прямых доказательств этому не видно.
В 1575 году произошло странное событие, которое многими исследователями трактовалось как рецидив опричнины. Иван Васильевич вновь выкроил себе особый удел в тверских землях и возвел на русский престол крещеного татарского царевича Семиона Бекбулатовича, даровав ему титул великого князя Московского. Номинально правил Семион Бекбулатович, от его имени составлялись жалованные грамоты и указы, а истинный государь отправлял на имя «великого князя Московского» челобитные, написанные в юродском стиле и содержавшие пожелания-инструкции. Соловецкий летописец дает краткое описание того странного времени: «Государь царь на Московское великое княжество на государьство посадил великого князя Семиона Бекбулатовича, а сам государь пошел „на берег“ на службу и стоял все лето в Колуги. А был на великом княжении год неполон. И после того пожаловал его царь и государь великий князь Иван Васильевич всея Русии на великое княжение на Тверь, а сам государь опять сел на царство на Московское». Реальной власти у Семиона Бекбулатовича оказалось совсем немного, монеты с его именем не выпускались, иностранные дипломаты переговоров с ним не вели, в разряды его имя не вошло, сокровищница и царские инсигнии оставались под контролем Ивана IV.
Историки выдвинули множество версий, чтобы объяснить столь странный шаг московского государя. В настоящее время наиболее вероятной справедливо считается та, которая опирается на фразу Пискаревского летописца о неких «волхвах» (астрологах), предсказавших на тот год кончину «московскому царю». Страх государя перед изменой подстегивался действительным заговором «сорока дворян», о котором сообщает имперский дипломат Даниил Принс из Бухау.
Всякий социальный эксперимент и всякий поворот на попятный имеют свою цену. В военном отношении это означало следующее: после опричнины и нашествий Девлет-Гирея, в середине 1570-х, Россия уже не располагала ни достаточным количеством воинов, ни экономическими ресурсами, потребными для ведения войны на нескольких фронтах сразу. Груз колоссальных военных предприятий страна выносила с большим трудом.
Во второй половине 1570-х воеводы, не боясь царского гнева, угрожавшего опалой, ссылкой и казнью, отказывались решать боевые задачи. В Москву летели доклады: сил явно не хватает! Гарнизоны самовольно покидали крепости. Дети боярские бежали из полков.
Ливонская война стала одновременно делом чести и идеей фикс Ивана Васильевича.
В 1570-х царь пытался добиться перелома личным участием в боевых действиях. Это вновь показывает, что, несмотря на изменчивый, неровный нрав и впечатлительный характер, государь не был тем фатальным трусом, каким его порой изображают. Вообще идея была плодотворной: когда сам царь возглавлял войска, отправляясь в поход, московской армии сопутствовала удача; воеводы проявляли чудеса храбрости и рвения — то ли от страха перед крутым нравом царя, то ли исполнившись уверенности в успехе кампании. Да и тактиком Иван Васильевич проявил себя недюжинным.
В 1572 году он возглавил зимний поход на Ливонию, в результате которого была взята Пайда (Вайссенштайн). При штурме крепости 1 января 1573 года «на пролом» были расписаны виднейшие опричники «первого призыва». Среди них Михаил Андреевич Безнин, Роман Васильевич Алферьев, Василий Григорьевич Грязной. Тогда же погиб главный «фаворит» государя Григорий Лукьянович Скуратов-Вельский по прозвищу Малюта. Царь, видимо, хотел приучить старых своих любимцев к новому положению: мол, будете служить как все, а если надо, жизнь ставить на кон тоже придется на общих основаниях. Удачным продолжением взятия Пайды стал поход объединенной армии Магнуса Ливонского и русского корпуса H. Р. Юрьева на Каркус. Эта крепость также пала. Русские воеводы предприняли в середине 1570-х несколько удачных экспедиций на этом фронте, действуя сравнительно небольшими силами. В 1575 году H. Р. Юрьеву удалось взять Пернов, правда, положив немало своих бойцов при штурме. В 1576 году капитулировали порт Гапсаль, города Коловерь, Лиговерь и Падца. Таким образом, наши армии медленно, но верно выталкивали шведов из Ливонии.
Но такие стратегически важные пункты, как Рига, Таллин, Венден, стояли крепко. Очередная попытка взять Таллин провалилась весной 1577 года.
Вероятно, именно последняя неудача вызвала у Ивана Васильевича желание вновь самому взяться за Ливонский театр военных действий и исправить создавшуюся ситуацию. Летом 1577 года он выступил с большой армией в Южную Ливонию. Малочисленные польско-литовские гарнизоны были не способны противопоставить русской мощи эффективную оборону. Где-то добрыми обещаниями, а где-то силой русские войска установили контроль над тремя десятками городов и замков, в том числе Режицей, Чествином и Вольмаром. Но жестокость по отношению к тем, кто защищался с оружием в руках, настроила местное население неблагожелательно к новым властям. Да и переход земельных владений к русским помещикам не улучшил отношений. С самого начала Ливонской войны местные жители, по большей части, находили мало поводов радоваться русскому завоеванию и поддерживать наши армии; теперь они получили еще несколько весомых аргументов в пользу мятежа.
По окончании похода государь Иван Васильевич написал горделивое письмо князю Курбскому: «Вы ведь говорили: „Нет людей на Руси, некому обороняться“, — а ныне вас нет; кто же нынче завоевывает претвердые германские крепости? Это сила животворящего креста, победившая Амалика и Максентия, завоевывает крепости. Не дожидаются бранного боя германские города, но склоняют головы свои перед силой животворящего креста! А где случайно за грехи наши явления животворящего креста не было, там бой был. Много всяких людей отпущено [из плена]: спроси их, узнаешь… Писал ты нам, вспоминая свои обиды, что мы тебя в дальноконные города как бы в наказание посылали, — так теперь мы со своими сединами и дальше твоих дальноконных городов, слава Богу, прошли и ногами коней наших прошли по всем вашим дорогам — из Литвы и в Литву, и пешими ходили, и воду во всех тех местах пили, — теперь уж Литва не посмеет говорить, что не везде ноги наших коней были. И туда, где ты надеялся от всех своих трудов успокоиться, в Вольмер, на покой твой привел нас Бог: настигли тебя, и ты еще дальноконнее поехал…»
Другие изменники московские, активно помогавшие неприятелю, — Тимофей Тетерин да прежние государевы опричники Таубе и Крузе, — получили еще более издевательские письма.
Гетман Ходкевич удостоился послания, равнозначного фамильярному похлопыванию по плечу. Общий смысл его: не стоит расстраиваться, убытка никакого операция московских войск не нанесла (читай: поскольку вся занятая территория всё равно не принадлежит Речи Посполитой), да и пора бы начать переговоры «…о покое християнском».
Польского короля Стефана Батория царь ставил в известность о результатах своего похода и призывал «досаду отложить», поскольку не при нем эта война началась, да и всё происходящее на ливонских землях — не его, Батория, дело. Иван Васильевич со вкусом объясняет королю, какие политические действия тому «непригоже» предпринимать. Царь не видит в нем противника, достойного серьезного отношения. Он не столько просит Стефана Батория о начале мирных переговоров, сколько повелевает ему, «не мешкая», прислать послов.
Но стратегически итоги масштабного вторжения в Ливонию оказались ничтожными. Пик успехов русского оружия в этой войне был пройден пятнадцатью годами ранее, после взятия Полоцка. Формально в 1577 году под контролем у московского государя оказалась значительно большая территория, нежели в 1563-м. Но, во-первых, после катастрофы 1571 года любая компенсация на Западе представляется далеко не достаточной. Во-вторых, все занятые города оптом не стоили одного Полоцка с прилегающими землями. В-третьих, внутренние области России к тому времени пришли в такое состояние, когда любую наступательную войну необходимо было прекратить, поскольку экономический и демографический потенциал истощился до крайности. Наконец, в-четвертых, последние завоевания оказались непрочными: недоставало сил, чтобы их удержать. Вскоре после того как русская армия покинула занятые ею земли, неприятель с легкостью отбил несколько городов. Победы 1577 года рухнули как карточный домик от первого же дуновения войны…
На исходе 1578 года русские войска терпят серьезное поражение под Венденом. Этот неуспех открывает страницу больших неудач, отступления и позора, затянувшуюся до 1581 года.
В 1579 году польский король Стефан Баторий, блестящий полководец, берет Полоцк, затем важную крепость Сокол, где были сконцентрированы крупные силы русских, а также ряд других укрепленных пунктов. В Соколе наемники из армии Стефана Батория учинили такую резню, что даже не смогли остановиться, перебив всех живых русских, и принялись с остервенением кромсать трупы. Затем поляки взяли Великие Луки и учинили там жесточайший разгром, вполне достойный опричного террора в самые худшие его периоды. Была захвачена мощная крепость Заволочье, пали Невель, Велиж, Холм и Старая Русса. Наши корпуса разбиты под Торопцом и у той же Старой Руссы. Вражеские отряды разоряют ржевские и зубцовские места в сердце Тверской земли и почти доходят до новой резиденции Ивана Васильевича в Старице.
Ливонские замки сдаются шведским войскам. Шведы берут Нарву, затем, осмелев, — Ивангород, Ям, Копорье, Корелу. Захват Нарвы заканчивается жутким погромом, хуже татарского.
Опять восстает «луговая черемиса», и казанское направление требует новых войск. На юге крымцы и ногаи жестоко разоряют русские области. Московских полков не хватает прежде всего там, но пока не завершилась война в Ливонии, снять их с северного и западного фронтов невозможно.
Многие историки подчеркивали нравственное опустошение Ивана Васильевича в последние годы войны. Он вел себя вяло, нерешительно, запрещал воеводам вступать в сражения со значительными силами поляков. Историк Р. Ю. Виппер прямо писал о нем как о человеке физически и нравственно разбитом, «старике в пятьдесят лет».
Да, возможно, царь переживает не лучшие свои дни. Он деморализован, он впервые осознает свою беспомощность в борьбе против западных соседей. Но его требование избегать столкновений с армией Батория опирается на здравое суждение о боеспособности вооруженных сил России. Люди измотаны, живую силу трудно собрать в кулак, командный состав по большей части — не первого сорта, и, главное, утрачен боевой дух. Но сам противник еще не до конца уверен в слабости московской армии, привыкнув к прежней ее мощи. Вступить в битву с ним означает, скорее всего, лишиться последних сил, еще способных изображать заслон на пути во внутренние области державы. Государю в таких обстоятельствах гораздо полезнее побыть трусом, нежели броситься в бой очертя голову. Политика бездействия, перемежающегося с короткими и редкими контрударами, — лучшее из возможного. Здесь Ивану Васильевичу трудно отказать в благоразумии…
Постепенно ресурсы главных противников Ивана IV также исчерпались. В 1581 году Стефан Баторий осадил Псков с армией в 25–27 тысяч бойцов, да и застрял там надолго. Напал на Псково-Печерский монастырь, но тамошние монахи и воинские люди храбро отбивали приступы… Воевода князь Иван Петрович Шуйский искусно устроил оборону Пскова, отбивал все атаки королевских солдат и крепко досаждал им вылазками. Огонь мощной городской артиллерии способствовал утрате боевого духа неприятелем. В итоге королевские войска понесли тяжелые потери, однако выполнить задачу не смогли. В феврале 1582 года великолепная армия Стефана Батория, усиленная отрядами наемников, набранных по всей Европе, отошла от города. По значению своему псковская осада близка к молодинской битве. Внутренние области России оказались избавлены защитниками Пскова от почти неминуемого вторжения поляков.
Наступление шведов также затормозилось. Их полевой корпус потерпел поражение, а осенью 1582 года попытка взять Орешек на Ладоге закончилась неудачей. Талантливый шведский полководец Делагарди положил немало своих солдат, пытаясь захватить крепость, стоящую на острове, там, где Нева вытекает из Ладожского озера. Но Орешку вовремя пришла на помощь рать князя Андрея Ивановича Шуйского. Шведам пришлось отступить.
Не в характере государя было вовремя остановиться в своих требованиях, ограничить проявление эмоций ради холодного дела дипломатии, увидеть приоритет державных интересов над личными. Увлекшись игрой страстей, политической интригой, государь в большей степени стремился предъявить иностранцам собственные остроумие и ученость, нежели добиться конкретных результатов. Тот же Р. Ю. Виппер дает точную характеристику стилю Грозного-дипломата: он «любил выступать лично в дипломатических переговорах, давать иностранным послам длинные аудиенции, засыпать их учеными ссылками, завязывать с ними споры, задавать им трудные или неожиданные вопросы; он чувствовал себя в таких случаях настоящим артистом… В политическом таланте Грозного замечаются, однако, те самые шероховатости и излишества, которые видны и в его литературной манере, в развлечениях его повседневной жизни. Неуравновешенная натура легко увлекает его к резкостям, к заносчивости».
«Артист» — точное слово в точном месте. Государь Иван Васильевич играл великого дипломата. Пытался произвести впечатление на «публику». Театральная поза, амбиция, воспламенившаяся под действием всеобщего внимания к могущественному «Московиту», вели его ум к выходкам и балаганным трюкам, но не позволяли проявить твердость в намерениях и действиях. В любом значительном успехе он видел нечто естественное, принадлежащее ему по неведомому, но твердому праву, а потому и не заботился о его развитии. На волне побед государь бывал чрезмерен в требованиях и тем губил уже, казалось бы, полученную политическую прибыль. Зато неудачи ввергали его в избыточную уступчивость.
Упорство польского короля Сигизмунда II Августа в военных предприятиях против Московского государства подпитывалось царской «вежливостью». Среди прочего, Иван Грозный намекал на его бездетность: «Вот умрешь ты, от тебя и поминка не останется».
Особенных оплеух удостоился шведский король Юхан III. Его Иван Васильевич именовал «безбожником», сравнивал с «гадом» (змеей), род его назвал «мужичьим». Род шведских королей действительно знатностью не отличался. Еще и века не прошло, как Шведская провинция в результате восстания ушла из-под власти датских королей. Шведские государи, таким образом, в глазах Ивана Грозного — не выше «волостных старост» во владениях природных монархов-датчан. Одно из посланий Иван IV завершает следующим образом: «А если ты, раскрыв собачью пасть, захочешь лаять для забавы — так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и сноситься с тобой — бесчестие, а лай тебе писать — и того хуже, а перелаиваться с тобой — горше того не бывает на этом свете, а если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты ни напишешь лая, мы тебе никакого ответа давать не будем». Разумеется, Юхан III оставался непримиримым врагом России вплоть до последних кампаний Ливонской войны. А закончил ее шведский монарх «мужичьего рода», отторгнув от России обширные земли.
Историк Б. Н. Флоря показал, насколько беспомощен оказался Иван Васильевич в борьбе за опустевший в 1572 году польский престол, насколько неуместной была его политическая риторика, насколько лишен был его курс гибкости. Царя поддерживала сильная партия сторонников, но он не удосужился ответить даже столь тривиальной мерой, как отправка посольства с официальными предложениями! Ему показалось достаточным выступить с цветистой «предвыборной» речью перед гонцом из Польши и послать несколько писем. В результате война продолжилась, а один из преемников скончавшегося Сигизмунда II Августа, Стефан Баторий, нанес России ряд тяжелых поражений.
Притом Иван IV долго не рассматривал Батория как серьезную политическую силу и даже в ходе боевых действий, складывавшихся крайне неудачно для России, всё еще продолжал оскорблять его в посланиях. В 1579 году, когда неприятности завершающего этапа Ливонской войны уже начались, царь в письме величается перед выборным королем своим происхождением и корит Батория отступничеством от христианства. Польский государь и сам не отличался особой корректностью, поэтому Иван Васильевич упрекает его: «Мы твою грамоту прочли и хорошо поняли — ты широко разверз свои высокомерные уста для оскорбления христианства. А таких укоров и хвастовства мы не слыхали ни от турецкого султана, ни от императора, ни от иных государей. А в той земле, в которой ты был (Баторий, воевода Семиградский, жил в Трансильвании, являвшейся тогда вассальной территорией турецкого султана. — Д. В.), и в тех землях, тебе самому лучше известно, нигде не бывало, чтобы государь государю так писал, как ты к нам писал. А жил ты в вере басурманской, а вера латинская — полухристианство, а паны твои держатся иконоборческой лютеранской ереси». Со своей точки зрения государь во всем прав, но ему необходимо решить серьезные дипломатические задачи, а он вместо этого вступает в невнятную перебранку…
Летом 1581 года, когда дела на западном фронте идут из рук вон плохо, Иван Васильевич отправляет Стефану Баторию еще одно письмо, по внешней видимости смиренное, однако же наполненное колкостями и попреками. В начале послания стоит знаменитая фраза: «Мы… удостоились быть носителем крестоносной хоругви и креста Христова Российского царства и иных многих государств и царств, скипетродержатель великих государств, царь и великий князь всея Русии… по Божьему изволению, а не по многомятежному человеческому хотению…» — намек на «второсортность» королевского титула, полученного по результатам шляхетских выборов. Страна бедствует, вооруженные силы находятся в состоянии, близком к полному разложению, враг глубоко вклинился на русскую территорию, а царь желает выглядеть красиво и выйти победителем из словесных перепалок.
Тяжелое поражение России в Ливонской войне явилось в значительной степени результатом царского фиглярства. В январе 1581 года было заключено Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой, а в августе 1583 года — Плюсское перемирие со Шведским королевством. Россия лишилась значительной территории. Потеряны были все завоевания 1550— 1570-х годов, а также собственно русские земли — Велиж, Ивангород, Копорье, Ям.
Холодный закат грозненского царствования несколько скрасили обнадеживающие известия из Сибири.
В XIV–XVII столетиях у русского народа был колоссальный потенциал колонизации необжитых земель. Границы Руси раздвигались по всем направлениям. Однако на западе расширение пределов России ограничивало сопротивление столь сильного противника, как Речь Посполитая, на юге — Дикая степь и воинственные татарские народы, на севере — океан. Относительно свободны оказались только уральские и сибирские просторы, редко заселенные местными народами. Та роль, которую выполнили в Америке конкистадоры, в Сибири досталась нашим землепроходцам. Они открывали новые земли, приводили их «под руку» московским государям, облагали данью-ясаком и создавали условия для крещения сибирских народов. Первыми на новых территориях появлялись казак, да вольный «промышленник», затем — государев стрелец и приказной человек, а сразу после них — священник. В военных крепостях-острогах и по соседству с ними скоро возникали храмы и монашеские обители.
В XVI столетии русским удалось освоить бассейн реки Таз, необыкновенно богатый пушным зверем. В 1600 году там появился маленький русский город Мангазея. На Северной Двине процветали владения богатых купцов и солепромышленников Строгановых со столицей в городе Сольвычегодск (Усольск).
Строгановым досаждал серьезный враг, преграждавший всему Московскому государству путь на восток, — воинственное Сибирское ханство. Набеги татар на земли Строгановых и окрестности города Чердынь (оплота Московского государства на востоке) наносили значительный урон. Для войны с ними промышленники наняли большой отряд волжских казаков во главе с Ермаком. В 1582 году Ермак нанес ряд поражений сибирскому хану Кучуму и занял его столицу — Кашлык. Сибирское ханство пало, и в 1583 году царь Иван IV официально взял все его территории под свою руку, то есть признал их присоединение к России. Казаки на протяжении нескольких лет доблестно удерживали Кашлык. Но в 1585 году Кучум нанес ответный удар: во время внезапного нападения татар утонули в реке казачий предводитель Ермак и многие его соратники. После его кончины борьба между государевыми служилыми людьми и сторонниками Кучума длилась еще долго. Обессиленный, потерявший надежду восстановить свою власть, Кучум тем не менее сопротивлялся до конца. Окончательное поражение нанес ему воевода Андрей Воейков в 1598 году.
18 марта 1584 года государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси ушел из жизни. Умер, проиграв главную свою войну.
На протяжении всей жизни он выказывал преданное отношение к православию. И в речах, и в посланиях он стремился показать себя верным слугой Господа.
Действительно, многое свидетельствует о том, что Иван IV был истинно верующим христианином.
Он с детских лет любил совершать богомолья по монастырям, вплоть до самых отдаленных обителей. Много молился, строго соблюдал посты, превосходно знал Священное Писание, лично составлял стихиры, тропари и кондаки. От Церкви Иван Васильевич требовал ревностного отношения к богослужению, чистоты, честности, просветительской работы и твердого стояния за «истинный и православный христианский закон», даже если придется пострадать за него.
Он яростно отстаивал чистоту веры от разного рода еретических искажений и немало усилий приложил к тому, чтобы не допустить в Россию протестантизм. К середине XVI столетия в Московском государстве вновь поднялось еретическое движение. Это связано с тем, что некоторое количество еретиков-«жидовствующих» уцелело после разгрома в начале XVI века и нашло себе учеников. Кроме того, Восточную Европу переполняли идеи религиозной Реформации. Там нашлось немало сторонников самых радикальных и разрушительных учений — социнианства, антитринитаризма. Выходцы из Литовской Руси пытались вести тайную проповедь в России.
В 1553–1555 годах государь способствовал разгрому новой ереси. В 1553 году началось расследование «дела» двух еретиков — монаха Феодосия Косого и сына боярского (дворянина) Матвея Башкина. Они отрицали многие таинства, восставали против почитания икон, считали Иисуса Христа простым человеком и не видели в Церкви никакой надобности. Кроме того, Феодосий Косой склонялся к ереси «жидовствующих». Помимо этих двух вождей еретичества, в «деле» были замешаны и другие люди: товарищ Феодосия Косого Игнатий, ученик того же Феодосия Фома, а также игумен Троице-Сергиева монастыря Артемий, уклонившийся в ересь ненадолго и впоследствии от нее отошедший. Все они были в разное время схвачены и осуждены. Однако огненная казнь не коснулась никого из них. Большая часть феодосианцев была разослана по монастырям. Впоследствии виднейшие еретики бежали оттуда в Литву. Сам Феодосий, Игнатий и Фома устроились проповедниками антитринитарного учения в городах Великого княжества Литовского. Артемий остался в лоне православия. Он активно выступал против феодосиан.
В феврале 1563 года армия Ивана IV взяла Полоцк. Обосновавшегося там Фому поймали и казнили. Что касается сути учения феодосиан, то ее разобрал и опроверг инок новгородской Отенской обители Зиновий. Перу Зиновия Отенского принадлежит антиеретическое сочинение, ставшее впоследствии знаменитым: «Истины показание».
Иван Васильевич позаботился о том, чтобы московский рубеж надолго стал восточной границей распространения протестантизма. Его походы на запад неоднократно принимали в ходе Ливонской войны вид военных экспедиций, направленных к религиозному очищению, борьбе с засильем «прескверных лютор». Особенную роль сыграли походы 1562–1563 годов на Полоцк и 1577 года в Южную Ливонию. Царь лично принимал участие в религиозных диспутах с иностранными проповедниками, неизменно занимая позицию ревнителя православия.
Одной из самых значительных заслуг царя перед Церковью и страной является введение в России государственного книгопечатания. От 50-х — начала 60-х годов XVI столетия до нас дошло несколько «анонимных» изданий; некоторые из них могут быть с большим на то основанием приписаны неизвестной московской типографии. По всей вероятности, на этом издательском предприятии использовался труд итальянских инженеров, поскольку терминология раннего русского книгопечатания взята из итальянского языка. Некоторые исследователи связывают работу этой типографии с просветительской деятельностью Сильвестра, участника Избранной рады, но доподлинно неизвестно, кто содержал печатню и где она располагалась. В первой половине 1560-х годов государь Иван Васильевич и митрополит Макарий основали Печатный двор в Китай-городе — первое отечественное издательство, деятельность которого документирована. Печатный двор поддерживался государством и Церковью, иными словами, он обеспечивался финансами и кадрами на регулярной основе. В 1564 году мастера-печатники Иван Федоров и Петр Мстиславец выпустили «Апостол» — первую российскую книгу, выходные данные которой известны ученым. Затем вышел «Часослов». По словам самого Ивана Федорова, царь благосклонно относился к его деятельности. Через несколько лет оба печатника переехали на территорию Великого княжества Литовского, чтобы заняться просветительской деятельностью среди православного населения Литовской Руси. Книгопечатание в России продолжалось: некоторое время типография работала в Александровской слободе, но впоследствии вернулась в Москву, на Никольский крестец (Китай-город).
Однако при всей твердости вероисповедной позиции Иван Васильевич с первой половины 1560-х годов стремился как можно меньше стеснять себя и в личной жизни, и в политике. Заповеди Христовы и христианская нравственность слабо связывали его страстную натуру, играя в «постановках» государя-лицедея роль декораций, но никак не стержня всего действия. Христианство же покоится на основах твердых и незыблемых, оно чуждается игр, его нельзя «поставить» на сцене. От артистической натуры оно требует великого смирения. Далеко не всякая артистическая личность с готовностью окунается в стихию смирения. И уж совсем редко — доходит до глубин самоочищения.
Уже в 1564 году, вскоре после смерти митрополита Макария, пользовавшегося у Ивана IV большим духовным авторитетом, государь пишет Курбскому о новой своей позиции по отношению к Церкви: «Нигде ты не найдешь, чтобы не разорилось царство, руководимое попами. Тебе чего захотелось — того, что случилось с греками, погубившими царство и предавшимися туркам?» С установлением опричнины царь всё реже прислушивается к голосу Церкви. Так, он крайне отрицательно относится к попыткам архиереев избавить «изменников» от смерти. Именно в этом состояла главная причина его конфликта с митрополитом Филиппом, пришедшим на место митрополита Афанасия.
Житие митрополита Филиппа рассказывает о том, как он пытался уговорить царя отказаться от опричнины: «…нача молити, дабы государь престал от такого неугодного начинания Богу и всему православному християнству. И воспомяну ему Евангельское слово: „Аще царство на ся разделится — запустеет“. И ина многа глагола со многими слезами…» Не добившись своего, Филипп позднее обличил воинство опричников публично: «Мы убо, царю, приносим жертву Господеви чисту и бескровну в мирское спасение, а за олтарем неповинно кровь лиется християнская и напрасно умирают!» Он публично отказал царю в благословении, призывая того прежде простить «согрешающих» ему. Открытое выступление против опричнины святого Филиппа относится к периоду, когда массовый террор уже был инициирован «расследованием» по «делу» И. П. Федорова. Митрополита возмущало, помимо всего прочего, одеяние опричников: «черные ризы», высокие «халдейские» шлыки на головах, «тафии»[113], не снятые во время крестного хода. Его замечания по этому поводу вызвали царский гнев. Царь настоял на свершении суда над митрополитом. Суд этот производился со значительными нарушениями относительно церковных традиций, канонов и доброй нравственности. Особая «следственная комиссия» работала на Соловках, где Филипп до восшествия на митрополичью кафедру был игуменом; следователи всеми доступными способами — то посулами, то открытым насилием — добывали показания против него. В результате доказательная база обвинения, выдвинутого против митрополита, оказалась основанной на клевете и лжесвидетельствах… Филиппа осудили. Архиерейские одежды были насильно сорваны с него прямо в храме, во время богослужения, и заменены на рваную рясу. Некоторые мужественные иерархи противились суду, а когда под давлением Ивана Васильевича бывшего митрополита все-таки признали виновным в «порочной жизни», выступили против его сожжения. Смертную казнь заменили ссылкой в Тверской Отроч монастырь. Это произошло в ноябре 1568 года. А в декабре 1569 году инока Филиппа умертвил там опричник Малюта Скуратов.
В следующем году по царскому приказу лишились жизни святой Корнилий, архимандрит Псково-Печерский, Митрофан, архимандрит Печерского Вознесенского монастыря в Нижнем Новгороде, а также Исаак Сумин, архимандрит Солотчинского монастыря на Рязанщине. Они упомянуты в официальных синодиках опальных. Синодики содержат также немало имен «старцев», «иноков», архиерейских приближенных и служилых людей. Некоторые персоны духовного звания, вплоть до архиереев, умученные по велению царя, не вошли в синодики, но их гибель подтверждается иными источниками.
К сожалению, русский православный царь отличался несовместимой с его званием любовью к астрологам и «чародеям», порой надолго подпадая под их влияние и даже поступая по их советам в государственных делах. Елисей Бомелий, астролог с репутацией злейшего колдуна, долгое время ходил у Ивана Васильевича в доверенных лицах.
Наконец, нельзя не сказать о том, что Иван Васильевич женился шесть раз. Его жены: Анастасия Захарьина-Юрьева, Мария Черкасская, Марфа Собакина, Анна Колтовская, Анна Васильчикова, Мария Нагая. Почитатели Ивана IV отрицают некоторые браки царя, например с Марфой Собакиной, Анной Колтовской и Анной Васильчиковой, но источники подтверждают факт свадеб. Так, до наших дней дошел официальный свадебный разряд бракосочетания с Марфой Собакиной.
Это намного больше, чем предусмотрено православными канонами. Уже четвертый брак — прямое нарушение твердых церковных правил на сей счет. Церковь вынужденно разрешила его: память о недавно закончившемся массовом терроре была свежа, и ни один русский архиерей не мог быть спокоен за свою жизнь. Правда, на царя наложили епитимью… Для всех прочих, дабы никто не соблазнился примером государя, последовало церковное разъяснение: «…да не дерзнет [никто] таковая створити, четвертому браку сочетатися…» под страхом проклятия. По свидетельству Антонио Поссевино, после заключения четвертого брака Иван Васильевич до конца жизни лишился права принимать причастие.
Дважды он вынуждал сына, царевича Ивана, постригать жен в монахини. А в 1581 году, не умея сдержать ярость из-за слишком вольного, по его мнению, поведения очередной невестки, поссорился с ним и нанес ему смертельную рану. Как иностранные, так и отечественные источники, в том числе неофициальные летописцы, подтверждают факт убийства царем сына. Иван IV прекрасно понимал собственную порочность и время от времени начинал каяться — всерьез, тяжко, скорбно. Нет смысла сомневаться в искренности его покаяния. В 1551 году, обращаясь к церковному собору, государь признается в том, что «заблудился», уйдя от заповедей Господа «душевне и телесне» по причине «юности» и «неведения». В 1572 году слова глубокой скорби о своей греховности звучат в его духовной грамоте (завещании). Другое дело, что покаянные слова и действия государя всякий раз бывали результатом настроения. Кажется, определенную стойкость царь проявил лишь в конце 40-х — начале 50-х годов XVI века, да еще, может быть, в конце жизни, когда здравый смысл подсказывал ему: пора бы всерьез задуматься о встрече с Высшим Судией…
Вне зависимости от глубины раскаяния царя, Церкви он нанес огромный ущерб. Гибель и страдания архиереев, священников, близких им людей, унижение церковного авторитета, нарушение канонов, покровительство оккультной деятельности — вот далеко не полный результат государева своевольства.
Не так давно в околоцерковной среде появилось движение за канонизацию Ивана Грозного, Григория Распутина и некоторых других деятелей нашей истории. Но это невозможно. В отношении Ивана IV церковная иерархия стоит прочно и непримиримо: этот человек не должен быть канонизирован. Вот отрывок из речи патриарха Московского и всея Руси Алексия II, обращенной к клиру и приходским советам храмов города Москвы: «Если признать святыми царя Ивана Грозного и Григория Распутина и быть последовательными и логичными, то надо деканонизировать митрополита Московского Филиппа, преподобного Корнилия, игумена Псково-Печерского, и многих других умученных Иваном Грозным. Нельзя же вместе поклоняться убийцам и их жертвам. Это безумие. Кто из нормальных верующих захочет оставаться в Церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых?»
Невозможно, неправильно говорить о правлении Ивана Грозного вне контекста всей истории Русской цивилизации[114], вне понимания, что она собой представляет. Державство первого русского царя завершило блистательный, цветущий период в судьбе Русской цивилизации. Побывав на пике, она начала входить в период великих испытаний и больших катастроф. Поэтому финал в очерке жизни и деяний этого правителя — объяснение того, к каким разрушительным итогам, к каким тяготам близкого будущего он подвел весь цивилизационный строй Руси.
Русская цивилизация — прежде всего цивилизация церковная, религиозная. Православие — самый глубинный ее код. Всё в России можно объяснить либо исходя из православия, либо исходя из нарочитого противостояния православию. Лучшее в русской культуре так или иначе вышло из православной веры. Со второй половины XIII столетия христианство на Руси укрепилось. Его закалило иноплеменное и иноверное иго. Церковь — одна на всю раздробленную до состояния политического крошева страну — была самым мощным объединяющим фактором. А укрепившись, русский побег христианского куста дал прекрасный цветок «северной Фиваиды». Возникшая в местах диких, лесных, суровых, на неплодородных землях и в условиях неласкового северного климата, «Русская Фиваида» оказалась, может быть, лучшим из всего, что подарила Россия миру. Раскинувшаяся на просторах от Северного Подмосковья до Кольского полуострова и Соловков, «Русская Фиваида» свидетельствует о великом времени, когда тысячи людей ради Христа и веры Христовой искали тишины, уединения, спокойствия духа и бежали суетной жизни, оставляя мирские блага, не думая об условиях простейшего комфорта.
Русская церковь и русская вера привыкли жить в условиях осажденной цитадели. То противник на дальних подступах, то у самых стен, вот он занял первую линию укреплений, а вот обессилел и отступает… В XIV–XVI столетиях Церковь обязана была стать воинствующей и благословлять пересветов на рать с басурманами.
В XV–XVI веках наше православие имело вид пестрый и разнообразный. Оно вмещало в себя заволжских старцев с их проповедью скитского пустынножительства, бедности, отказа от сокровищ материальных ради главного сокровища — стяжания Духа Святого; рядом с ними существовало и до поры до времени относительно мирно уживалось домовитое, практичное иосифлянство; народная стихия плодила романтические образы христианства, а заодно и корявые, неуклюжие апокрифы. Являлись и горластые еретики, но их не жаловали, хотя до поры кое-кто и увлекался их речами… Да и рясофорная Русь в середине XIV — первой половине XVI века отличалась многоцветьем: знала и монастырскую киновию, заботливо поддержанную святителем Алексием и преподобным Сергием Радонежским, и скиты, и величественную монашескую колонизацию, и хозяйство больших обителей, работавшее как часы, и одинокое нищее пустынничество, и утонченное исихастское учение, и византийскую обрядовую строгость, и византийскую же литургическую роскошь.
Церковь послемонгольских времен выпестовала Русь, дала ей правильную, регулярную форму и открыла ей дорогу в Россию…
Монархическая власть также знала разные виды и формы. Патриархальная ее форма досталась в наследство от XIV столетия, прошла испытание на прочность в горниле междоусобной войны второй четверти XV века. Не выдержав этого испытания, она была переделана Иваном III в спокойное эффективное единодержавие, стоящее над военно-служилым сословием, хотя и зависимое от него в разумных пределах. Из хаоса XV века родилась стройная, почти византийская иерархия следующего столетия. И единодержавие, и подчеркнуто иерархичная структура политической власти, и весьма значительный комплекс ее прав по отношению к подданным также стали частью русского цивилизационного узора. Мощь центральной власти была абсолютно необходима. В пору, когда рыхлая, аморфная, неоднородная администрация пыталась управлять огромной страной, из которой можно было уйти на Север или в Сибирь, страной, бедной природными ресурсами, страной, с трех сторон не защищенной от сильных врагов, самодержавная («македонская»[115]) форма высшей власти обязана была родиться. А наличие ее впоследствии неоднократно оказывалось спасительным для России. Вместе с благой стороной «русской македонщины» родилась и ее противоположность. Суровое и прагматичное единодержавие хорошо только тогда, когда государь — первый из христиан — сам осознает это и к подданным относится как к братьям и сестрам во Христе, когда он помнит свой главный долг — защитить своих подданных и создать наилучшие условия для спасения души каждого из них. Если этого нет, простой злой деспотизм (та же опричнина, например) не имеет никакого оправдания. Впрочем, такой же дух должен овевать лиц, стоящих ближе всего к монарху, иначе нет оправдания и их честолюбию; простое стремление к свободе, независимости и процветанию таким оправданием служить не может. У монарха российского — как бы он ни назывался — есть только три ограничителя власти, и ни один из них к правовой сфере не относится. Это, во-первых, бунт, который подданные могут устроить, если увидят в монархе разрушителя веры или же бессмысленно жестокого мучителя христиан; во-вторых, заговор вельмож, высшей аристократии любого рода, если ее самовластие допущено при дворе; и, в-третьих, непримиримый конфликт с Церковью. Монархическая власть, если Церковь не поддерживает ее своим пастырским словом, бесконечно много теряет в авторитете. Только симфония Священства и Царства дает России благое состояние. Так было, например, в середине XVI века при митрополите Макарии.
Фаза акме в нашей культуре отмечена необыкновенным подъемом. Именно тогда творили живописцы и воздвигались постройки, ставшие впоследствии эталоном «русскости», основой «русского стиля»: Даниил Черный, Андрей Рублев и Дионисий; Успенский собор в Московском Кремле, церковь Вознесения в Коломенском, Покровский собор на Рву (собор Василия Блаженного). Летописание и хронография испытали расцвет[116]. Общественная мысль наполнилась шумом полемик; идеи, рожденные тогда, остаются в интеллектуальном быту вплоть до нашего времени («Москва — Третий Рим», «Москва — Второй Иерусалим», «Москва — Дом Пречистой», диспут между властью в лице Ивана Грозного и «первым диссидентом» — князем Андреем Курбским, диалог стяжательского и нестяжательского мировидения). В стране утверждается книгопечатание, вводится целый ряд технических новинок.
И в то же время акме нашего культурно-исторического типа проходило в условиях, когда чужой нож редко удалялся от русского горла. Пока Россия была достаточно сильна и организованна, ей удавалось удерживать стальной хваткой руки своих убийц. Но московский разгром 1571 года был тревожным звоночком, преддверием страшной Смуты: нож никуда не делся, страна не имеет права быть слабой. Равнинное положение России, отсутствие естественных географических рубежей по границам делали необходимым тратить прорву ресурсов на поддержание обороноспособности. Это — ахиллесова пята России…
Правление Ивана IV, «артиста на престоле», легло тяжким бременем на старомосковское общество. России пришлось нести крест государева своеволия, нетвердости и безумных фантазий. Дело не только в том простом факте, что опричнина была кровавым умыванием для России. Дело прежде всего в том, что цивилизация держалась на безусловном признании очень высокого статуса Церкви и военно-служилого сословия (всех его слоев!), а в опричную и постопричную эпоху Церковь подверглась терзаниям и унижению, не способствовавшему сохранению ее авторитета. Что же касается служилых людей по отечеству, то этот слой в грозненскую эпоху являлся не особенно многочисленным. Чудовищный ущерб, нанесенный ему в 60—70-х годах XVI века, пошатнул обороноспособность страны, а значит, существенно ухудшил общее состояние цивилизации.
Собственно, хронологическое пространство от опричнины до Петровских реформ трагично. Россия исполнена колоссальной жизненной силы, ей устраивают кровопускания — одно другого ужаснее, она болеет, встает на ноги, получает еще один удар, опять болеет и все-таки опять встает на ноги… На протяжении нескольких десятилетий старомосковское общество, вздыбленное опричниной, болезненно пережившее конец династии Рюриковичей и годуновское самовластие, находится в состоянии еле сдерживаемого взрыва. Наконец рванула Смута.
Выходили из нее тяжело, долго, мучительно. А шрамы, нанесенные ею, долго сохранялись на теле грозной державы Романовых.
ИВАН ШУЙСКИЙ Защитник Пскова
Князь Иван Петрович Шуйский вошел в анналы русской истории одной-единственной победой, отстояв Псков, осажденный армией польского короля Стефана Батория. Но род его знаменит. Эта ветвь Рюриковичей способна по знатности соперничать с московскими Даниловичами. Подчинившись Москве, служа ее правителям, Шуйские стояли так близко к трону, что мысленно не раз примеряли державный венец государей на свою голову. И один из них, младший современник князя Ивана Петровича, действительно станет однажды русским царем. Шуйские — высокая кровь.
Князья Шуйские были не просто Рюриковичами, они происходили от ветви, ближайшей к той, из которой выросло древо Московского правящего дома. Кое в чем они оказались даже выше, нежели государи, которым служил их род. Корнями родословие Шуйских уходило к великому князю Владимирскому Андрею Ярославичу. Он приходился младшим братом великому князю Александру Ярославичу, прозванному Невским, а именно от Александра Невского произошел Московский княжеский дом. Но на великокняжеский стол во Владимире князь Андрей попал раньше старшего брата — в 1249 году — и правил до 1252 года, когда на его месте оказался Александр Ярославич.
Две основные линии Шуйских восходят к Василию Кирдяпе и его брату Семену — сыновьям одного из крупнейших политиков Северо-Восточной Руси XIV столетия, великого князя Дмитрия Константиновича Суздальско-Нижегородского. Еще в первой половине XV века их предки сохраняли положение независимых правителей. Затем они попали в зависимость от Москвы, став «служилыми князьями», но всё еще «ставились» московскими великими князьями на управление старинными родовыми землями — Суздалем, Нижним Новгородом, Городцом. Там у них сохранились огромные вотчины. В 50—70-х годах XV столетия князь Василий Васильевич Гребенка-Шуйский помимо воли московских государей и по приглашению вечевых республик княжил во Пскове и Новгороде Великом. Он даже участвовал в войнах новгородцев против Москвы. Но в целом семейство к концу XV века перешло на службу к московским государям.
При Иване III Великом и его сыне Василии III из этого рода рекрутировались дипломаты, наместники и воеводы. Со стороны великих князей московских им оказывалось большое доверие. В 1512 году князь Василий Васильевич Шуйский входит в Боярскую думу с чином боярина. Более того, этот видный политик породнился с правящей династией, женившись на внучке Ивана III. Иными словами, великие амбиции потомков суздальских правителей не мешали им быть прочной опорой Московского государства.
Князья Шуйские при Иване IV имели чрезвычайно высокий статус, да и позднее сохраняли его — вплоть до восшествия на престол государя Василия Ивановича из их рода. Они всегда были у кормила важнейших политических дел. Они неизменно присутствовали в Боярской думе. В конце 1530-х — начале 1540-х годов установился период «шуйского царства»: при малолетнем государе Иване IV придворная партия Шуйских захватила огромную власть в стране и могла даже самовольно свергать митрополитов московских… Затем доминирующее положение было ими потеряно, однако прочные позиции на высших этажах власти все-таки сохранились. В зрелые годы первый русский царь не любил и опасался Шуйских, но от их службы отказываться не собирался.
За Шуйскими в популярной исторической литературе утвердилась недобрая слава дворцовых интриганов, лукавых и себялюбивых вельмож. В них многие видели вечных зачинщиков «боярской фронды». Людей, метавшихся между стремлением ослабить русского монарха и самим захватить монарший трон.
Это мнение однобоко. Да, конечно, Шуйские просто по положению своему должны были участвовать в интригах у подножия российского трона. Там, на высоте власти, слабые и бездеятельные личности не задерживались надолго. А многолюдное могучее семейство Шуйских оставалось на высшем этаже отечественной политики в течение века. Однако следовало бы обратить внимание и на другое обстоятельство. Шуйские превосходно проявили себя в служебной деятельности. Из них выходили энергичные администраторы, искусные и отважные воеводы. Во времена Ивана Грозного, помимо князя Ивана Петровича Шуйского, в армейскую элиту Московского государства входили также князья Иван Андреевич, Иван Михайлович и Петр Иванович Шуйские, а также их ближайший родственник князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский. На Шуйских легло тяжкое бремя постоянного участия в военных предприятиях России. Свое высокое положение они «отслужили» полностью. Убери их деятельный клан из командного состава вооруженных сил нашей страны, и сейчас же образуется громадная брешь, которую очень трудно закрыть. А в эпоху русской Смуты начала XVII века именно из этого семейства вышел знаменитый полководец князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский.
Будущий защитник Пскова имел в лице деда и отца двух выдающихся военачальников своего времени. Ему было у кого поучиться воинскому искусству: ближайшая родня всю жизнь воевала и управляла людьми… Это очень важно для понимания того, как складывалась его личность. В XVI веке не существовало каких-либо военных училищ. Главной школой полководца оказывалась его собственная семья. Чем выше стояли родственники в военной иерархии, тем больше он мог получить от них тактического и стратегического опыта с верхних эшелонов командования. Они обороняли крепости — значит, и он мог узнать от них, как надо оборонять крепости. Они били врага в чистом поле — так и ему доставались знания о том, как бить врага в чистом поле. С этой точки зрения род Шуйских представлял собой лучшую академию изо всех возможных в России того времени.
Иван Петрович начинал службу, как и отец, на относительно скромных должностях. В Полоцком походе 1562–1563 годов он всего-навсего один из знатных людей в свите государя. Честь без власти.
В конце 1568-го или начале 1569 года он уже назначается на воеводство в Донков, одну из небольших крепостей на юге России. Малая крепостица на пути у хищной степной конницы. Но высота его рода быстро вознесла князя к гораздо более высоким постам. Первые его должности — «проверка службой», получение необходимого опыта. Таков был обычай того времени: столь знатному человеку давали понюхать пороху на должности в свите, сопровождавшей государя во время больших походов, — например, рынды (телохранителя-оруженосца), поддатни (помощник рынды) или иного свитского человека; затем выдерживали недолгое время в простых воеводских чинах, чтобы он мог примерить на себя тяготы военной работы, и если армейская карьера манила его, то дальше он получал только первостепенно важные посты.
Уже в 1569–1570 годах, оставшись на второй год воеводой в захолустном Донкове, Иван Петрович получил право возглавить трехполковую оборонительную рать против крымских татар. В следующем, несчастливом для русской армии 1571 году, когда Девлет-Гирей прорвался к Москве, Шуйский командовал полком левой руки. После отхода крымцев ему доверили сторожевой полк, сведенный из остатков московских войск. Для того чтобы вести своих людей, князю требовалось тогда сильное напряжение воли: в горящей столице погиб его младший брат.
В августе 1572 года вооруженные силы России проводили большую оборонительную операцию против того же Девлет-Гирея, окончившуюся поражением татар у Молодей. Тогда Шуйский вновь был поставлен во главе сторожевого полка. Весь полк насчитывал 2063 бойца — «детей боярских и казаков с пишальми». Первым бой с крымцами принял у Сенькина брода именно Шуйский. Впоследствии воевода со своим полком оборонял «гуляй-город». Именно бойцы его полка взяли тогда в плен лучшего татарского полководца — Дивей-мурзу.
После двух таких встрясок Иван Петрович должен был считаться человеком, сведущим в военных делах и отважным. В 1570-х годах ему пожаловали чин боярина. По одним данным, это произошло в 1572 году, по другим — в 1576-м.
В середине 1570-х годов Иван Грозный пытается изменить невыгодную для него ситуацию на Ливонском фронте личным участием в наступательных операциях. Так, в конце 1572 года царь идет с большой армией под Пайду и берет ее в январе 1573-го. Шуйский участвует в походе на той же должности — первым воеводой сторожевого полка. Тогда же он принимает участие в другой победоносной операции — взятии Каркуса; в ней русские войска соседствуют с контингентом полузависимого от России правителя, ливонского короля Магнуса. Русский корпус продолжает удачно начавшееся наступление и берет мызу Ропу. Однако в дальнейшем наших воевод постигла неудача: под городом Коловерью их разбили. В том сражении погиб родственник Ивана Петровича — князь Иван Андреевич Шуйский. Несмотря на поражение полевой армии в открытом бою и значительные потери, взятые крепости остались за русскими.
Во второй половине 1573 года князь Шуйский наместничает во Пскове вместе с крещеным ногайцем князем П. Т. Шейдяковым. Эта роль станет для него привычной: во Псков с Шейдяковым и другими военачальниками его будут назначать неоднократно в конце 1570-х — начале 1580-х годов. Как правило, Иван Петрович числится вторым воеводой, но выполняет роль наиболее активного и ответственного командира. Воеводство в богатом и славном Пскове (хотя бы и на втором месте) — большая честь.
Царь видит в Иване Петровиче толкового военачальника. Продолжая давление на неприятеля в Ливонии, Иван Васильевич вторгается туда летом 1577 года с большой русской армией и союзным войском короля Магнуса. Судя по документам того времени, для похода планировалось собрать очень значительные силы: более 19 тысяч дворян, казаков и стрельцов, мощную артиллерию. Ивана Петровича назначили вторым воеводой в Большой полк. Однако, по всей видимости, реальное командование полком осуществляет тогда именно князь Шуйский.
Этот поход принес воеводе, да и всей нашей армии значительный успех. По разным источникам, русские полки, а также отряды Магнуса взяли тогда то ли 24, то ли даже 27 ливонских городов, в том числе и довольно значительные — Режицу, Чествин, Линовард, Кесь (Венден).
Возвращаясь из похода, Иван Васильевич устраивает пир, на котором среди прочих воевод присутствует и князь Шуйский. Царь ценит воеводу и с тех пор благоволит ему. Зн&ком высокой милости станет приглашение Ивана Петровича на празднество по случаю женитьбы государя на Марии Нагой (1580). Царские свадьбы того времени посещали только те вельможи, которыми государь особенно дорожил.
По окончании большого Ливонского похода Шуйский возвращается во Псков, на воеводство. Здесь он пробудет до начала правления Федора Ивановича.
С 1579 года над западными землями России нависает мрачная тень польского короля Стефана Батория. На протяжении нескольких лет он вторгается с огромными наемными армиями на нашу территорию и берет один за другим наши города. В руки поляков попадают Полоцк, Великие Луки, Заволочье, а также несколько других менее значительных крепостей. Кажется, никто не способен остановить грозного противника. Он дерзко вызывает на бой самого Ивана IV. Стремительные отряды поляков наносят нашим ратям поражение за поражением. Вот они уже в Тверской земле, и сам царь из своей резиденции в Старице видит полыхающие в отдалении пожары. По натуре своей Баторий — государь-кондотьер. Он знает толк в военном деле, он решителен, свиреп, энергичен, талантлив. У польской шляхты воинственный Баторий пользуется популярностью. Король располагает достаточными средствами, чтобы восполнять потери, которые несут корпуса вторжения в боях с русскими гарнизонами. А Россия уже разорена вконец долгой кровопролитной войной, эпидемиями, опричными репрессиями. Крестьяне, обнищав, разбегаются от государева тягла в места дикие и отдаленные. Помещики скрываются «в нетях» от царских приставов, набирающих новые полки.
Московское государство находится на грани военной катастрофы.
У Пскова то и дело концентрируется русское войско для нанесения контрудара по Баторию, для помощи осажденному Полоцку. Однажды полки во главе с князем Шуйским выдвигаются к псковскому «пригороду» Порхову. Он готов в любой момент сцепиться с Баторием. Но до решающего сражения дело не доходит.
Псковские воеводы спешно приводят в порядок обветшавшие укрепления. Гарнизонные стрельцы, дворяне и их начальники, а также псковичи, сбежавшие под защиту крепости, приводятся к крестному целованию в том, что будут отстаивать город от иноземных полчищ.
В 1581 году сам Баторий приходит с новой армией под древние стены Пскова. Через бойницу за строительством вражеского лагеря наблюдает князь Иван Петрович Шуйский, второй воевода городского гарнизона. В ближайшие месяцы его ждет новое испытание…
Русская аристократия того времени жила богато, имела всё, что душа пожелает. А персоны из высшего ее слоя, самые «сливки», получили к тому же полное преобладание над остальным дворянством в делах службы. Но вот настает час, когда за хорошую жизнь, за право на господство, за непререкаемую власть надо платить. Требуется в жестоком противоборстве одолеть сильного и опасного врага. Само время проверяет на прочность национальную политическую элиту. Она выращена своим народом органично, поколение за поколением, и обязана постоянно доказывать право на существование всего народа. Если надо — кровью, а если потребуется — то и жизнью своей. Чего она стоит? Крепка ли? Или превратилась в сборище баловней судьбы? Если она даст слабину, то всё общественное здание может рассыпаться, погребая под собой знатных и незнатных, воевод, дворян, стрельцов… и последних бедняков вместе с ними.
Для И. П. Шуйского этот час наступил летом 1581-го.
В августе армия Стефана Батория осадила Псков. Польский король располагал 25–27 тысячами конников, пехотинцев и артиллеристов. Шуйский, считая все прорвавшиеся в город подкрепления, мог этой силе противопоставить 10 тысяч, в лучшем случае 15 тысяч бойцов. Притом значительную часть их составляли плохо вооруженные, не имеющие опыта в военном деле горожане. А у Батория всё войско состояло из профессионалов войны.
Осада Пскова — не только мужество и героизм, не только столкновение двух экономических потенциалов, не только противоборство двух культур. Это еще и поединок двух «гроссмейстеров», севших за шахматную доску. Это борьба тактической мысли — личных талантов и личного опыта.
7 сентября началась бомбардировка Пскова. Три батареи — одна польская и две венгерские — непрерывно били в стену и башни южной части укреплений. Одна из них вела огонь из Завел ичья.
«Стены клубились, как дым; мы не думали, что они будут так непрочны… — пишет поляк, участник осады. — В окопах убили пушкаря и из мортир — несколько рядовых: но без этого обойтись нельзя. Из города стреляют тоже не дурно, но из названных двух башен русские должны были поспешно убрать орудия в другое место и прекратить пальбу».
Могучие оборонительные сооружения Пскова казались несокрушимыми. Но эта иллюзия была развеяна очень быстро. Польским и венгерским артиллеристам, располагавшим современными пушками, удалось всего за один день нанести городским укреплениям страшный ущерб. Сказалась непрочность строительного материала, да и цельнокаменные стены не были рассчитаны на такую бомбардировку.
Пушкари королевской армии снесли своим огнем Покровскую башню, разбили стену на 24 сажени рядом с ней и еще на 69 — в других местах, сильно повредили Угловую и Свинусскую башни. Король отдал приказ начать общий штурм на следующий день.
8 сентября штурм начался. Несколько десятков «охотников» осторожно двинулись к проломам, чтобы осмотреть их и, вернувшись, дать рекомендации к наилучшему проведению штурма. Когда они вышли, артиллерия и стрелки осаждающих открыли огонь по тем участкам стены, которые не были разрушены до того, — для отвода глаз.
Как только «охотники» начали свое дело, остальные — венгры, а за ними немцы, поляки — бросились вперед без всякого порядка, не дожидаясь возвращения разведчиков. В лагере Батория велик был энтузиазм по поводу предстоящего штурма. Немало отыскалось добровольцев — попытать счастья в проломах. Поэтому, когда у венгров не выдержали нервы, остальных невозможно было остановить.
Вражеские толпы добежали до развалин башен и заняли их, горделиво поставив хоругви. Первыми оседлали Свинусскую башню немецкие наемники, но их отбили с большим уроном. Венграм, литовцам и полякам удалось не только занять две башни с участком стены, но и удерживать позицию в течение трех часов. Однако дальше случилось непредвиденное! Оказывается, Иван Петрович просчитал «партию» и приготовил неприятный сюрприз для неприятельских отрядов. Они больше не могли наступать: путь им преградил ров, заранее вырытый сразу за крепостной стеной. За этим препятствием располагались свежие земляные насыпи со срубами — еще одна цепь мощных укреплений! На них стояли русские пушки, а ратники Шуйского поливали огнем из пушек и пищалей разбитые башни и проломы. Баторий, опытный и удачливый полководец, не предвидел, в сколь тяжелое положение попадут его бойцы. Автор «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков» рассказывает: «Государевы… бояре и воеводы и все ратные люди, и псковичи с ними… крепко и мужественно бились. Одни под стеною с копьями стояли, стрельцы стреляли по врагам из пищалей, дети же боярские из луков стреляли, другие же бросали в них камни, остальные, кто как мог, помогал спасению града Пскова. И из орудий непрестанно по врагу стреляли и никак не давали сойти в город. Литовское же воинство упорно и настойчиво со стен, и из башен, и из бойниц беспрестанно стреляло по русскому воинству…»
Штурмовые колонны понесли большие потери от русского огня, и все-таки боевой задор «градоемцев» еще не иссяк. Поляки даже захватили древоземляное оборонительное сооружение, поставленное за башней. Попытки выбить их оттуда сразу же, наличными силами, успеха не имели. Но оставлять неприятелю занятые им укрепления никто не собирался. Шуйский постепенно усиливал напор, бой шел с невероятным напряжением…
Штурмующим отрядам пришла подмога из королевского лагеря — еще две тысячи свежих бойцов. Настал решающий момент боя. Русских немногое отделяло от поражения. Однако защитников Пскова выручило искусство артиллеристов. Они установили на насыпи, недалеко от пролома, мощное орудие «Барс» и ударили по Свинусской башне, занятой польской пехотой. Меткая стрельба выбила из строя множество нападающих. Их напор ослабел. Верхняя часть башни, уцелевшая после вражеской бомбардировки, обрушилась на атакующих, многих изранив. Тут опять сказалось предвидение Шуйского: тяжелое орудие могли перетащить на позицию за крепостной стеной, на новом месте, только заранее и только по приказу воеводы.
Наконец русские заложили под занятое поляками деревянное укрепление за Свинусской башней пороховые заряды. Там как раз укрепилась свежая группа, недавно прибывшая из расположения королевских войск. В ее состав входили высокородные вельможи. Серия взрывов привела к пожару оборонительного сруба и окончательному уничтожению самой башни. По словам очевидца, польские шляхтичи «смешались с псковской каменной стеной Свинусской башни и из своих тел под Псковом другую башню сложили…». Неприятель принужден был оставить Свинусскую башню.
Штурмовые отряды, понеся громадные потери, всё еще не были остановлены королем от дальнейших попыток. Бой продолжался. Польскому монарху казалось, что превосходство в живой силе еще может переломить ход дела в его пользу…
Венгерский отряд, засевший в остатках большой — воротной — Покровской башни, сопротивлялся дольше всех. Венгры пытались форсировать ров и взять приступом вставшие на их пути бревенчатые оборонительные сооружения, покрытые дерном. До 23 часов они отражали контратаки псковского гарнизона, цепляясь за свою позицию. Но и тамошняя команда «градоемцев» уступила напору псковичей.
Польский историк Рейнгольд Гейденштейн приводит любопытные подробности осады. Рассказывая о решающем моменте первого штурма, он пишет: «…B то время как наши были задержаны при взятии стен, Иван Шуйский разъезжал тут и там на раненом коне; он своими угрозами, просьбами, наконец, даже слезами, и с другой стороны епископ, выставляя мощи и иконы, успели остановить бегство и ужас своих. Враги сперва стали стрелять в наших из пушек и бросать камни, в то время как наши, в свою очередь, метали в них копья… с той и с другой стороны очень многие были ранены…» Вот важный эпизод, характеризующий Шуйского с наилучшей стороны. Воевода не боялся сунуться под вражеские пули, оказавшись на передовой. Он личным примером, личной отвагой укреплял волю подчиненных к победе. Возможно, он и призвал на помощь изнемогшим защитникам крепости псковское духовенство.
Иван Петрович многое предвидел и ко многому готовился. Может быть, к удивлению псковичей, которым каменные стены их города казались непреодолимо мощными, он велел делать рвы, создавать насыпи за каменными укреплениями и ставить пушки за линией стен. Князь расставил лучшие пушки по уязвимым местам, дал защитникам этих участков искусного и храброго командира — Андрея Хворостинина, вовремя отвел людей с линии внешних оборонительных сооружений… Он сделал много других полезных распоряжений. Но в час, когда у него не осталось резервов, когда возможности умной контригры оказались исчерпанными, он попросту использовал последний ресурс — себя. Высокородный аристократ Рюрикович не побоялся поставить на кон собственную жизнь. Так — вполне привычно и обыденно — делали в XV и XVI веках представители русской военно-политической элиты. Это многое говорит о ее качестве.
После того как псковичи очистили от неприятеля руины Покровской башни, порыв атакующих окончательно иссяк. Ночь пала на заваленные трупами развалины стен и башен. Под ее покровом венгерская пехота небольшими кучками стекалась в лагерь, оттаскивая трупы товарищей. В итоге последней жестокой схватки за полуразрушенную башню остатки неприятельских штурмовых отрядов были выбиты за стену, в поле. В качестве трофеев нашим достались вражеские знамена, множество брошенного оружия, полковые трубы и барабаны. Несколько знатных пленников предстали перед русскими воеводами, чтобы в подробностях рассказать о королевской армии.
Потерпев поражение на приступе и в переговорах, неприятель сменил тактику. Не имея должной артиллерийской поддержки, Баторий отказался от мысли организовать новый штурм. Шуйский переиграл его по всем статьям: выполняя приказ воеводы, псковичи быстро «закупорили» бреши в стенах. Здраво рассудив, что в подобных условиях очередная лобовая атака лишь увеличит и без того значительные потери, король перешел к «минной войне».
По свидетельствам польских источников, не позднее 12 сентября Баторий велел копать несколько подземных галерей. Шуйский предусмотрел и такую возможность. Он распорядился заранее проделать «слухи» — подземные коридоры, ведущие от стены крепости далеко в поле. Дежурившие там «слухачи» по шуму строительных работ услышали бы, что поляки роют подкоп в том или ином направлении. Однако в данном случае псковичам помогли не столько «слухи», сколько активная тактика Ивана Петровича. Он приказал совершить вылазку 12 сентября — при первом подозрении на подземные работы.
У поляков были все основания опасаться, что их план раскрыт. Уже 17 сентября они перехватили тайное послание князя И. П. Шуйского Ивану IV. В письме воеводы они обнаружили самые неприятные для себя известия: «Уведомляют, что король ведет подкопы под стены, и пишут подробно, как и в каких местах… Хорошо знают в Пскове о том, что делается у нас в лагере, и, кажется, придется нам оставить этот подкоп, чтобы не унесли из него пороху».
Но король не разочаровался в затее с подкопами. Осаждающие принялись рыть три подземные галереи. Из них две — «не остерегаясь», так что обе скоро стали известны русским, и те принялись подводить «контрмины»; третью же — тайно. На последний подкоп надеялись больше всего.
В ночь с 23 на 24 сентября защитники Пскова взорвали один из двух «парадных» подкопов, устроенный венграми. 27 сентября — второй. А с третьим, на который было столько упований, вышла промашка чисто инженерного свойства. «Наши минеры, — пишет поляк Пиотровский, — встретили скалу, которую напрасно стараются пробить, так что вся работа, как слышно, пропала. Мы повесили носы. Жолнеры, т. е. ротмистры, говорят, что их товарищи не хотят более служить: что по причине голода не могут оставаться тут до зимы…»
«Минная война» закончилась для поляков бесславно. Позднее они даже не пытались возобновить ее.
Между первым и вторым приступами князь И. П. Шуйский с добротной регулярностью отправляет ратников псковского гарнизона на вылазки. Прежде всего он добивается постоянного захвата свежих «языков». А «языки» и перебежчики снабжают его сведениями обо всех подкопах неприятеля.
Вылазки, предпринимаемые по приказу Шуйского, иной раз превращаются в большие сражения. Так, 11 октября на вылазку Шуйским были отправлены основные силы гарнизона, и тогда поляки потеряли 30 пехотинцев.
В начале ноября осаждающие предприняли новый большой штурм.
17-го им подвезли порох из Риги. Вот что об этом рассказывает рижский бургомистр Франц Ниенштедт: «[Король Стефан Баторий] послал гонцов в Ригу, чтобы там дали ему взаймы несколько пороху и как можно скорее переслали его с несколькими стрелками к Пскову. Это было быстро исполнено, и вместе с 200 стрелками было послано королю 80 бочек пороху, что, конечно, тогда очень его обрадовало, и он за это дружески благодарил рижан во многих письмах, а между прочими и городского толмача Иоахима, который был послан вместе с порохом». Вновь начинается общая бомбардировка города, однако значительного урона она не наносит. Обстрел раскаленными ядрами деревянных хором, служивших жилищем для большинства горожан, должен был, по мысли польского командования, привести к большому пожару. Он вызвал бы смятение в рядах защитников, и тогда их упорную оборону удалось бы взломать без труда. Но псковичам удалось предотвратить общий пожар.
Напротив, действия тяжелых русских пушек постоянно разрушают полевые укрепления осаждающих, сооруженные из корзин с землей.
Король решается еще раз попытать счастья — произвести вторую атаку на городские стены. В русских летописях об этом рассказывается так: «Октября в 24 день стреляли, розжигая ядра, в город. Октября в 28 день Литва пришла со щиты стену подсекати кирками и всякими запасы. Ноября во 2 день от Великия реки по л еду приступаху». Город устоял. Несколько раз волны королевской армии накатывали на Псков по льду и отступали, выкладывая черный ковер телами убитых и умирающих… Ротмистры секли саблями «гайдуков» — польскую легкую пехоту, заставляя ее двигаться к пролому. Но стрельцы укладывали атакующих одного за другим…
Когда штурмовые отряды «зацепились» за позицию в проломе, им, по остроумному приказу Шуйского, начали подбрасывать… мешки с солью! Во Пскове знали: голод уже терзает вражеский лагерь, и особенно страдают там именно от недостатка соли. Когда атакующие обнаружили дармовую соль, они и думать забыли о вооруженной борьбе: награбить побольше драгоценного продукта — вот что оказалось для них важнее…
Неприятель откатился. А вскоре русские пушкари удачно накрыли огнем «соляной торжок», который устроили вояки, бежавшие с добычей из-под стен.
У неудачного ноябрьского штурма было важное последствие. 6–7 ноября королевские военачальники отвели солдат из окопов и оттащили пушки к лагерю. Это значило, что польское командование потеряло желание вновь бросать людей на штурм. Атаковать можно было только из окопов. Эффективно обстреливать стены — тоже. Покинув их, ратники Стефана Батория утратили обе возможности. С этого момента у осаждающих остался лишь один инструмент давления на город — плотная блокада.
Наконец войска покинул и сам король, оставив командующим коронного гетмана Замойского. Баторию ничего не оставалось, как согласиться на мирные переговоры с Иваном Грозным. Положение армии — критическое. Расходы на ее содержание превысили все мыслимые и немыслимые суммы. Ни о каких новых завоеваниях и речи быть не могло.
Пока шли переговоры, осадная армия оставалась под Псковом, пытаясь выморить его голодом. Но ее собственное состояние было не лучше, чем у защитников города. В условиях русской зимы осаждающие несли новые потери от холода, голода и недостатка фуража. Уже с ноября в лагере поляков воцарились страшный голод и конский падеж. Катастрофически не хватало дров. Солдаты потихоньку растаскивали ими же возведенные бревенчатые сооружения. Еще раньше начались стычки между отдельными отрядами неприятеля за угнанный у русских скот и отобранный конский корм.
Польское командование прекрасно понимало: твердость защитников крепости подпитывается высоким боевым духом их командира — князя Шуйского. Поэтому поляки, разозленные последней схваткой, решили погубить его каверзой. Артиллерийский офицер Иван Остромецкий предложил коронному гетману подорвать Ивана Петровича…
9 января 1582 года из лагеря осаждающих в крепость пришел русский пленник, отпущенный во Псков с большим ларцом. «Легенда» его была такова: среди королевских офицеров сыскался некий дворянин Гонсумеллер, решивший стать перебежчиком. Он и отправил во Псков человека с ларцом, дав ему также грамоту. В пересказе этот текст звучит следующим образом: «Первому государеву боярину и воеводе, князю Ивану Петровичу, Гансумеллер челом бьет. Бывал я у вашего государя с немцем Юрием Фрянбреником[117], и ныне вспомнил государя вашего хлеб-соль, и не хочу против него стоять, а хочу выехать на его государево имя. А вперед себя послал с вашим пленным свою казну в том ларце, который он к тебе принесет. И ты бы, князь Иван Петрович, тот мой ларец у того пленного взял и казну мою в том ларце один осмотрел, а иным не давал бы смотреть. А я буду в Пскове в скором времени».
Хитрость была шита белыми нитками. Только ярость отчаяния могла подвигнуть командование осаждающих на такую подлость и в то же время на столь наивную уловку. Посовещавшись с прочими военачальниками, Иван Петрович решил не открывать ларчик с секретом. Вещицу отнесли подальше от воеводской избы. Там им занялся псковский умелец, отперший ларец со всей осторожностью. «Казна» в нем оказалась знатная! Внутри поляки установили 24 заряженных пистолета. Их направили во все стороны. Замки пистолетов соединялись ремнем с запором ящичка, а поверх «самопалов» польские хитрецы насыпали с пуд пороха. Если бы воевода неосторожно откинул крышку, то непременно получил бы свинцовый залп и мощный взрыв…
Наконец осада закончилась. Автор «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков» смог вздохнуть с облегчением: «Месяца февраля в 4 день польский гетман, канцлер, отошел от града Пскова в Литовскую землю со всею силою литовскою. Тогда же в граде Пскове раскрылись затворенные ворота».
Итак, прорыв польской армии в центральные области России не состоялся. Мощное войско короля Стефана Батория обломало зубы о северную русскую твердыню. Переговоры об окончании войны, шедшие в Яме Запольском, закончились десятилетним перемирием. Условия его были тяжелыми для России, но после побед, ранее одержанных Стефаном Баторием, Речь Посполитая могла надеяться на большее. Требовать Смоленска, Новгорода и Пскова после того, как под стенами последнего едва не вымерла победоносная армия Батория, поляки уже не могли.
Тяжелое поражение под Псковом остановило неудержимый, казалось бы, порыв поляков на восток. Стратегический успех, достигнутый князем Иваном Петровичем Шуйским и его соратниками, ободрил Россию, уставшую от известий о неудачах. А Стефан Баторий вынужден был вернуть многие русские города, захваченные им в 1580–1581 годах, прежде всего Великие Луки. Слава отважных псковичей и их воеводы князя Шуйского прокатилась по всей России из конца в конец.
При новом государе, Федоре Ивановиче, судьба Ивана Петровича Шуйского, да и всего семейства Шуйских резко переменилась.
Первые годы после смерти Ивана IV они по-прежнему в чести. Они добывают боярские чины для своей родни, владеют огромными родовыми вотчинами, занимают значительные должности военачальников и управленцев.
В ту пору виднейшим из всего семейства Шуйских был именно князь Иван Петрович. И ему принадлежали крупное поместье на 2038 четвертей земли у Бежецкого Верха, огромное поместье на 3500 четвертей у села Вача в Муромском уезде да еще другие поместья — в Ростовском, Козельском, Московском и Псковском уездах. Таким образом, Иван Петрович был одним из богатейших землевладельцев России. Кроме того, по царскому указу он получал доходы со всего Пскова и Кинешмы. На заре царствования Федора Ивановича (до начала 1586 года) он воеводствовал во Пскове и лишь на время выезжал в Москву.
Английский торговый агент в Москве Джером Горсей сообщает: «Князь Иван… Шуйский, первый князь царской крови, пользовавшийся большим уважением, властью и силой, был главным соперником (Бориса Годунова. — Д. В.) в правительстве, его недовольство и величие пугали». Шуйские оставались главными претендентами на престол в случае вымирания московского рода. Право на старшинство среди прочих князей Рюриковичей оставалось за ними. Именно в них, а не в Годуновых, должна была видеть московская знать, да и все русские люди, сколько-нибудь сведущие в вопросах престолонаследия, самых вероятных преемников царя Федора Ивановича. А он к моменту восшествия на престол весной 1584 года продолжал оставаться бездетным.
Русская служилая знать не увидела ничего зазорного в дерзком матримониальном проекте: сливки аристократии российской объединились, требуя у монарха развода с Ириной Годуновой и вступления в новый брак. Их поддержал митрополит Московский и всея Руси Дионисий. Борьба за изгнание Ирины Федоровны с престола велась с одной, совершенно очевидной целью — удалить род Годуновых от царя, уничтожить влияние этой придворной группировки. Кандидатура же новой царской «невесты» превосходно показывает, с какой стороны нависла опасность над браком Федора Ивановича. Ему предлагали соединиться с Анастасией, дочерью князя Ивана Мстиславского. Анастасия Ивановна в роли русской царицы открывала блестящую политическую комбинацию. Настолько соблазнительную, что интриганы, стоявшие за спиной этой женщины, не принимали в расчет даже ее относительно близкое родство с Федором Ивановичем: его «невеста» приходилась правнучкой прадеду царя Ивану III. Анастасия Мстиславская родилась от брака князя Ивана Федоровича с И. А. Шуйской. Таким образом, она приходилась родной кровью и Мстиславским, и Шуйским, что позволяло им сплотиться, проталкивая свою «отрасль» в царицы.
Федор Иванович развестись отказался.
Князь И. Ф. Мстиславский отправился в Кириллову обитель на Белоозеро, где и постригся в чернецы под именем Ионы. Что же касается Шуйских, то с ними поступили намного жестче. Когда со стороны Годуновых посыпались удар за ударом, их «партии» был нанесен тяжелый ущерб.
Очевидно, после падения князя Мстиславского они вели себя весьма свободно, не ожидая, что к одному из могущественных аристократических семейств применят по-настоящему суровые карательные меры. Они даже осмелились инициировать большие беспорядки «посадских людей» (купцов и ремесленников) в Москве.
Когда, воспользовавшись передышкой, не видя перед собой гневных посадских толп, Годуновы взялись мстить Шуйским, за тех вступились немногие — лишь митрополит Дионисий да еще один из архиереев.
Бог весть, почему Иван Петрович, большую часть времени проводивший во Пскове, позволил родне, в частности князю Андрею Ивановичу Шуйскому, бунтовать посад. Может быть, его дух оказался потрясен и смятен смертью жены, которая скончалась в феврале 1586 года? Может, пошатнулось здоровье? (Он сделал большой вклад в кремлевский Успенский собор, чтобы монахи «о его здравии Бога молили».) Или, как свидетельствуют некоторые источники, Шуйские оказались вынуждены защищаться от жестокой мести Годуновых за игру с «царской невестой»? В любом случае Иван Петрович не был заводилой в истории с мятежом посадского люда, но не отступил от родни и тут вновь оказался замаран.
Русские посланники, отправленные в Речь Посполитую, получили инструкцию, по которой видно особое отношение правительства к Ивану Петровичу. Если сам король или кто-то из королевского окружения заведет разговор о судьбе князя И. П. Шуйского, то следует отвечать, что, мол, Федор Иванович жаловал его, но «братья его князь Ондрей Шуйской з братьею учали измену делать, неправду и на всякое лихо умышлять с торговыми мужики… а князь Иван Петрович их потакаючи, к ним же пристал и неправды многие показал перед государем. И государь наш ещо к ним милость свою показал не по их винам, памятую княж Иванову службу, опалы своей большой на них не положил: сослал их в деревни…».
Годуновы — первейшие враги князя! — какое-то время пытались сохранить ему жизнь. Вероятно, казнь народного любимца грозила новыми волнениями, а потеря Ивана Петровича для армии лишала русское войско одного из лучших его вождей. Долгое время он всего лишь отбывал ссылку. Но энергичная натура не давала ему смириться с поражением. Гордыня жгла сердце князю Ивану: кто победил его? Если бы царская тяжелая рука! Если бы равные по крови — те же Мстиславские, Воротынские! Только не Годуновы — знать второго сорта, выскочки, самый низ московского боярства, низший слой старинной боярской знати! Им покориться — срам!
Весной 1587 года Иван Петрович принимается за какие-то странные переговоры со старицей суздальского Покровского монастыря Прасковьей — бывшей женой царевича Ивана Ивановича. Москва живо интересуется ими: ведь если расстричь старицу, то она после смерти Федора Ивановича может оказаться реальным претендентом на престол.
Как видно, последняя «матримониальная комбинация» переполнила чашу терпения Годуновых.
16 ноября 1588 года жизнь блистательного полководца и неудачливого политика оборвалась. Сначала его сослали на Белоозеро и там постригли в монахи. Но этого торжествующим Годуновым показалось мало. В ноябре 1588 года Ивана Петровича убил пристав князь И. С. Туренин, по всей вероятности, имея на этот счет инструкцию от Бориса Годунова. По свидетельству Пискаревского летописца, Иван Петрович «положен» (то есть похоронен) в Кириллове монастыре. На нем, видимо, извелась и вся младшая ветвь Шуйских: родословия не упоминают каких-либо его детей. Богатое имущество, конфискованное у боярина «на дворе», отошло казне.
Так завершилась биография славного воеводы грозненских времен. Вся придворная партия Шуйских была разогнана, некоторых лишили жизни, кто-то оказался в тюрьме, а кому-то пришлось отведать горький хлеб ссылки. На несколько лет род Шуйских ушел в тень…
ФЕДОР I ИВАНОВИЧ Блаженный
Федор Иванович родился 31 мая 1557 года. Царевич претерпел многие беды из-за неустройства в его собственной семье.
Он знал материнскую любовь совсем недолго. Анастасия Захарьина-Юрьева умерла летом 1560 года. Ее сыну незадолго до того исполнилось три года. С этого момента и до восшествия Федора Ивановича на престол о нем известно немногое. Единственным по-настоящему близким человеком для него стал старший брат царевич Иван. Отцу заниматься младшим сыном было некогда: Иван IV очень много ездил, часто бывал в походах и дальних богомольях. К тому же он быстро обзавелся новой женой — Марией (Кученей) Темрюковной Черкасской из северокавказского рода. Новая царица крестилась перед замужеством и с азов постигала христианскую веру. Скорее всего, она не знала русского языка и русских обычаев — как минимум в первые годы замужества — и не имела никакого резона с душевной теплотой относиться к детям царя от другой женщины. А когда она умерла (1569), на ее месте скоро явилась Марфа Собакина, затем — Анна Колтовская и т. д., вплоть до Марии Нагой, последней супруги Ивана Грозного[118]. Какое им всем было дело до мальчиков, лишившихся матери — царицы Анастасии?
Но всё же отец по-своему заботился о младшем сыне. Так, составляя в 1572 году «духовную грамоту» (завещание), он повелевал дать Федору после своей смерти огромные владения — Суздаль, Ярославль, Кострому, Волок Ламский и множество других городов.
Родитель старался приучить царевича Федора к государственным делам. Если не к участию в них, то хотя бы к присутствию на разного рода важных церемониях. Так, в ноябре 1562 года Иван и Федор участвовали в крестном ходе перед отправкой большой армии во главе с государем в поход на Полоцк. Царевичи проводили отца до первого стана в Крылатском. Там же 20 марта 1563 года Федор встретил отца, возвращавшегося из победоносного похода. Этот крестный ход имел особый смысл. Наступлению на Полоцк придавалось значение православного крестового похода против «латын и безбожных лютор», утеснявших православное население Великого княжества Литовского. И крестный ход — в сущности, традиционное православное действие — мыслился как часть идеологического оформления большой войны. В марте 1564 года мальчик, которому не исполнилось и семи лет, присутствовал на поставлении старца Афанасия в митрополиты Московские и всея Руси, а через два с небольшим года он был и на возведении в митрополичий сан Филиппа. В декабре 1564 года, при учреждении опричнины, он — вместе с отцом и всей семьей и свитой государевой — отправился в Александровскую слободу. В 1567-м отец возил его на Вологду — смотреть «градское строение». Так с младых ногтей Федор Иванович жил по соседству с делами державного правления, видел, как они совершаются, и даже немного участвовал в них…
Именно царь Иван выбрал невесту для сына. И выбор его должен был продемонстрировать отпрыску методы игры на матримониальном поле: дав царевичу в жены Ирину Годунову (это произошло между 1573 и 1575 годами), он закрепил за ним небольшой, но крепкий клан надежных союзников. Годуновы относились к числу старинных московских боярских родов, приходились родней влиятельным Сабуровым, но сами по себе, помимо милости государя, значили не столь уж много. Они даже среди семейств московской нетитулованной знати стояли не в первом ряду по родовитости, богатству, влиянию на «дворовые» дела. Захарьины-Юрьевы, Шереметевы, Колычевы-Умные, Бутурлины превосходили их. О высокородной титулованной аристократии и речь не идет: князья Мстиславские, Шуйские, Трубецкие и т. п. превосходили их на порядок. Но по благоволению царя Годуновы поднялись выше того, что давала им кровь, выше того, что предназначалось им по рождению. Теперь их будущее оказалось накрепко связано с будущим царского сына. Иван Васильевич рассуждал прежде всего как политик. И, вероятно, политическому подходу пытался научить сына. А тот, женившись, безмятежно привязался к супруге. Вся отцовская «политика» отлетела от него напрочь.
Младшему сыну уделялось меньше внимания, чем старшему: Иван считался основным кандидатом в наследники царского престола, Федор — лишь «резервным». Иван был старше, ему отец доверял кое-какие дела, брал его в походы. С Федором всё получалось сложнее: сначала ему было рано заниматься державными заботами, потом внимание родителя сосредоточилось на его брате как на будущем преемнике. Незадолго до смерти самого Ивана Грозного этот преемник ушел из жизни — надо было приучать к походам и сидению в Думе младшего, а… уже поздно. Некогда. Да и вкуса никакого к политической деятельности царевич Федор не приобрел, ему милее казалась красота богослужения — с колокольным звоном, прекрасными голосами певчих, раскатистым басом дьякона… Московские дипломаты неоднократно выдвигали его как претендента на королевский трон в Речи Посполитой; однако знал ли он сам об этих переговорах? Мальчик стал юношей, юноша — молодым человеком, но, прожив четверть века бок о бок с крупнейшими политиками великой державы, он не получил простых начатков политической школы. Он постоянно находился на втором плане.
18 марта 1584 года наступил последний срок для царя Ивана Васильевича. По свидетельствам некоторых источников, первый русский царь принял насильственную смерть от рук собственных вельмож, после чего духовник, действуя вопреки церковным канонам, возложил на холодеющее тело «монашеский образ». Другие источники сообщают о естественной смерти, незадолго до которой Иван Васильевич постригся во иноки с именем Иона. Версия об уходе государя из жизни под действием яда или даже удушения весьма вероятна. Однако последнюю точку ставить рано, доказательств для этого недостаточно.
Знать, да и в целом «дворовые», то есть придворные люди, не слишком-то огорчились, узнав о смерти государя. По словам одного из русских публицистов того времени, «…рабы его, все вельможи, страдавшие от его злобы… опечалились при прекращении его жизни не истинною печалью, но ложной, тайно прикрытою. Вспоминая лютость его гнева, они содрогались, так как боялись поверить, что он умер, думали, что это приснилось им во сне. И когда, как бы пробудившись от сна и придя в себя, поняли, что это не во сне, а действительно случилось, чрез малое время многие из первых благородных вельмож, чьи пути были сомнительны, помазав благоухающим миром свои седины, с гордостью оделись великолепно и, как молодые, начали поступать по своей воле. Как орлы, они с этим обновлением и временной переменой вновь переживали свою юность и, пренебрегая оставшимся после царя сыном Феодором, считали, как будто и нет его…».
Разумеется, подобное поведение лишь подлило масла в огонь сплетен, связанных с кончиной монарха. Темные слухи о насильственной смерти царя Ивана Васильевича, носившиеся по дворцу и проникавшие в город, сделали свое дело: население столицы заволновалось. В начале апреля 1584-го политическим дельцам из числа служилой знати удалось поднять его на восстание и привести к стенам Кремля.
В скором восстании москвичей, в приходе их под кремлевские стены видятся не столько спонтанный гнев, тревога, растерянность, сколько действия, срежиссированные аристократическими группировками. Русские летописцы прямо писали о вражде и «смятенье великом» между вельможами.
Восставших успокоили с большим трудом. Фаворита прежнего царствования и недруга великородной знати Богдана Бельского отправили воеводой в Нижний Новгород.
Царевича Дмитрия с Нагими также отослали подальше от Москвы — на удел в Углич. Перед венчанием Федора Ивановича на царство второй человек царской крови, стоя рядом с ним, мог вызвать у каких-нибудь столичных авантюристов надежды на еще один раунд рискованной политической игры.
Любопытно, что во всех этих перипетиях начала царствования роль Федора Ивановича просто не видна. Английский дипломат Баус, пребывавший тогда в Москве, писал о безвластии сына Ивана IV, а посол Речи Посполитой Сапега выразил суть ситуации еще резче: «Между вельможами раздоры и схватки беспрестанные… а государь не таков, чтобы мог этому воспрепятствовать». Волнения москвичей и переговоры с ними, удаление Бельского, Нагих и царевича Дмитрия из столицы — всё это словно бы происходит помимо его воли. Грязь дворцовых интриг не пристает к биографии Федора Ивановича.
Венчание Федора Ивановича на царство произошло 31 мая. В день восшествия на престол государю исполнилось 27 лет.
Чин венчания на царство, помимо незначительных исправлений, не отличался от чина, разработанного для коронации его родителя в 1547 году. В Московском летописце подчеркнуто: современники воспринимали поставление русского правителя на царство как возобновление «греческого обычая», за исключением ряда маловажных подробностей. Прежде был великий православный государь в Константинополе, но главный город греков «по грехом их», из-за вероотступничества, утратил царственность, и она перешла в Москву.
Царевич Федор являлся в 1584 году единственным законным сыном Ивана IV, сравнимых с ним претендентов на трон не существовало в принципе. Взрослый человек, известный всей стране, женатый, царская кровь от царской крови, добрый христианин… Таким образом, весной 1584-го преемник для всего народа был совершенно очевиден. Единодушное одобрение преемника выразилось в том, что, помимо митрополита Дионисия, высшего духовенства и служильцев государева двора, со всей России съехались представители, присутствовавшие при возведении Федора Ивановича на трон. Это многолюдство создало впечатление, будто царя «выбирали», будто прошел даже особый Земский собор, хотя ничего подобного не было.
Венчание на царство давало русскому монарху власть, законодательно никак не ограниченную. Пережив тревожные дни восстания, Федор Иванович сделался законным самодержцем, живым источником всякой власти — законодательной, исполнительной, судебной и военной. Лишь Церковь располагала самостоятельной, независимой от государя, властью в духовных вопросах. Да и то со времен Ивана III в России постепенно укреплялась традиция, согласно которой государь мог по своей воле сократить или расширить сферу дел, находившихся в ведении Русской церкви… А за пределами ее полномочий всё сколько-нибудь важное в Московском государстве формально должно было происходить по указу монарха.
Но, во-первых, источники наперебой говорят о том, что Федор Иванович был «прост умом» и непригоден для дел правления, более того, особенно к ним и не прикасался. До какой степени это верно? В чем конкретно выражалась «простота ума» русского монарха? Был он безумен или просто кроток? В сущности, это главные вопросы в биографии Федора Ивановича.
Во-вторых, столь же общим местом в источниках конца XVI века стало утверждение, согласно которому истинным правителем Московского государства стал шурин Федора Ивановича, Борис Федорович Годунов. Но сколь далеко простиралась его власть? Как скоро она установилась прочно и нерушимо? И как относилось к подобному «соправительству» русское общество конца столетия?
Как говорилось выше, исторические источники, труды академических историков и, еще того более, трактаты историософов полны прямо противоположных, порой взаимоисключающих оценок относительно умственных способностей Федора Ивановича. Кто-то уверен в очевидном слабоумии монарха. Кто-то — в особом даре его святости, не совместимом с мирскими заботами.
Корни высокомерного, уничижительного мнения о последнем государе из династии Даниловичей уходят в XVI столетие.
Английский торговый агент Джером Горсей писал о Федоре Ивановиче, что тот «прост умом» и, в другом месте, «слабоумен». Во втором случае резкая оценка англичанина связана с тем, что царь расплакался и принялся креститься, поскольку был расстроен обидой самого Горсея на падение его статуса в Москве; Федор Иванович уверял, что не подавал никакого повода для обиды. Но здесь можно говорить скорее об особой чувствительности государя, не любившего несправедливость, особенно если он сам оказывался в чьих-то глазах несправедливым человеком.
Французский наемник на русской службе Жак Маржерет писал несколько резче: «…власть унаследовал Федор, государь весьма простоватый, который часто забавлялся, звоня в колокола, или большую часть времени проводил в церкви».
Наиболее развернутая характеристика русского государя принадлежит перу Джильса Флетчера, английского дипломата. В частности, он пишет: «Теперешний царь (по имени Феодор Иванович) относительно своей наружности росту малого, приземист и толстоват, телосложения слабого и склонен к водяной; нос у него ястребиный, поступь нетвердая от некоторой расслабленности в членах; он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется. Что касается до других свойств его, то он прост и слабоумен, но весьма любезен и хорош в обращении, тих, милостив, не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен. Кроме того, что он молится дома, ходит он обыкновенно каждую неделю на богомолье в какой-нибудь из ближних монастырей».
Любопытно, что авторы многих научных и популярных работ этой цитатой из Флетчера и ограничиваются. Между тем она представляет собой всего лишь один абзац, взятый из целой главки в трактате англичанина, посвященной домашнему обиходу и частной жизни Федора Ивановича. Главка же, если привести ее в целом, оставляет несколько иное впечатление. Стоит привести ее здесь всю, без одного уже процитированного абзаца:
«Домашняя жизнь царя, сколько она известна, состоит в следующем. Обыкновенно встает он около четырех часов утра. Когда оденется и умоется, к нему приходит его отец духовный, или придворный священник, с крестом, которым благословляет его, прикасаясь сперва колбу, потом к ланитам царя, и дает ему поцеловать конец креста. Затем так называемый крестный дьяк вносит в комнату живописную икону с изображением святого, празднуемого в тот день, ибо каждый день у них имеет своего святого, как бы своего патрона. Образ этот он ставит к прочим образам, которыми уставлена вся комната, сколько можно поместить на стене, с горящими перед ними лампадами и восковыми свечами. Образа богато и пышно украшены жемчугом и драгоценными каменьями. Когда поставят образ на место, царь начинает креститься по русскому обычаю, осеняя сперва голову, потом обе стороны груди и произнося: Господи помилуй, помилуй мя, Господи, сохрани меня грешного от злого действия. С этими словами он обращается к образу, или к святому того дня, которого поминает в молитве, вместе с Богородицей (называемою у них Пречистою), св. Николаем, или другим святым, в которого более верует, падая перед ним на землю и ударяя об нее головою. Такой молитве царь посвящает четверть часа или около того. Затем входит опять духовник, или придворный священник, с серебряной чашей, наполненной святой водой и кропилом св. Василия (как они его называют), которым окропляет сперва образа, потом царя. Святую воду приносят каждый день свежую из дальних и ближних монастырей, так что присылает ее царю игумен, от имени того святого, в честь которого построен монастырь, в знак особенного благоволения его к царю.
Окончив этот религиозный обряд, царь посылает к царице спросить, хорошо ли она почивала и проч., и через несколько времени сам идет здороваться с нею в средней комнате, находящейся между ее и его покоями. Царица почивает особо и не имеет ни общей комнаты, ни общего стола с царем, исключая как в заговенье или накануне постов, когда обыкновенно разделяет с ним и ложе, и стол. После утреннего свидания идут они вместе в свою домовую церковь или часовню, где читается или поется утренняя служба, называемая заутреней, которая продолжается около часу. Возвратясь из церкви домой, царь садится в большой комнате, в которой для свидания с ним и на поклон являются те из бояр, которые в милости при дворе. Здесь царь и бояре, если имеют что сказать, передают друг другу. Так бывает всякий день, если только здоровье царя или другой случай не заставят его изменить принятому обыкновению.
Около девяти часов утра идет он в другую церковь в Кремле, где священники с певчими отправляют полное богослужение, называемое обедней, которая продолжается два часа, и в это время царь обыкновенно разговаривает с членами Думы своей, с боярами или военачальниками, которые о чем-либо ему докладывают, или же сам отдает им свои приказания. Бояре также рассуждают между собой, как будто бы они находились в Думе. По окончании обедни царь возвращается домой и отдыхает до самого обеда.
За обедом прислуживают ему следующим образом: во-первых, каждое блюдо (как только оно отпускается к накладчику) должен прежде отведывать повар в присутствии главного дворецкого или его помощника. Потом принимают его дворяне-слуги (называемые жильцами) и несут к царскому столу, причем идет впереди них главный дворецкий или его помощник. Здесь кушанье принимает кравчий, который каждое блюдо дает отведывать особому для того чиновнику, а потом ставит его перед царем. Число блюд, подаваемых за обыкновенным столом у царя, бывает около семидесяти, но приготовляют их довольно грубо, с большим количеством чеснока и соли, подобно тому, как в Голландии. В праздник или при угощении какого-либо посланника приготовляют гораздо более блюд. За столом подают вместе по два блюда и никогда более трех, дабы царь мог кушать их горячие, сперва печеное, потом жареное, наконец, похлебки. В столовой есть еще другой стол, за коим сидят некоторые из знатнейших лиц, находящихся при дворе, и духовник царский, или капеллан.
По одну сторону комнаты стоит стол с прекрасной и богатой посудой и большим медным чаном, наполненным льдом и снегом, в коих поставлены кубки, подаваемые к столу. Чашу, из которой пьет сам царь, в продолжение всего обеда держит особый чиновник (чашник) и подносит ее царю с приветствием всякий раз, как он ее потребует. Когда поставят кушанье на стол, то, обыкновенно, раскладывают его на несколько блюд, которые потом отсылает царь к тем дворянам и чиновникам, кому он сам заблагорассудит. Это почитается великим благоволением и честью.
После обеда царь ложится отдыхать и, обыкновенно, почивает три часа, если только не проводит один из них в бане или на кулачном бою. Спать после обеда есть обыкновение, общее как царю, так и всем русским. После отдыха идет он к вечерне и, возвратясь оттуда, большей частью проводит время с царицей до ужина. Тут увеселяют его шуты и карлы мужского и женского пола, которые кувыркаются перед ним и поют песни по-русски, и это самая любимая его забава между обедом и ужином.
Другая особенная потеха есть бой с дикими медведями, которых ловят в ямах и тенетами и держат в железных клетках, пока царь не пожелает видеть это зрелище… Бой с медведем происходит следующим образом: в круг, обнесенный стеной, ставят человека, который должен возиться с медведем, как умеет, потому что бежать некуда. Когда спустят медведя, то он прямо идет на своего противника с отверстой пастью. Если человек с первого раза дает промах и подпустит к себе медведя, то подвергается большой опасности; но как дикий медведь весьма свиреп, то это свойство дает перевес над ним охотнику. Нападая на человека, медведь поднимается обыкновенно на задние лапы и идет к нему с ревом и разинутой пастью. В это время если охотник успеет ему всадить рогатину в грудь между двумя передними лапами (в чем, обыкновенно, успевает) и утвердить другой конец ее у ноги так, чтобы держать его по направлению к рылу медведя, то, обыкновенно, с одного разу сшибает его. Но часто случается, что охотник дает промах, и тогда лютый зверь или убивает, или раздирает его зубами и когтями на части. Если охотник хорошо выдержит бой с медведем, его ведут к царскому погребу, где он напивается допьяна в честь государя, и в этом вся его награда за то, что он жертвовал жизнью для потехи царской. Чтобы пользоваться этим удовольствием, царь содержит несколько ловчих, определенных для ловли диких медведей. Травлею царь забавляется обыкновенно по праздникам.
Иногда проводит он время, рассматривая работу своих золотых дел мастеров и ювелиров, портных, швей, живописцев и т. п., а потом идет ужинать. Когда приходит время спать, священник читает несколько молитв и царь молится и крестится, как и поутру, около четверти часа, после чего ложится».
Что видно из этой главки в труде Флетчера? Может быть, царь предстает в ней каким-то идиотом с трясущимися руками и струйкой слюны, тянущейся изо рта? Или он выглядит полуживой развалиной, бледной немочью, не способной связать двух слов? Или же со страниц флетчеровского сочинения сходит образ дурачка-живчика, этакого царя-скомороха, потешающего своими ребяческими выходками взрослых людей? Ничуть не бывало. Конечно, по словам англичанина, Федор Иванович совсем немного времени отдает государственным делам: принимает с утра вельмож, а затем может во время обедни обсудить с боярами нечто, не терпящее отлагательства. Флетчер не совсем точен: другие иностранные дипломаты сообщают также об участии русского царя в дипломатических приемах, а русские воинские разряды рассказывают, как он возглавлял православное воинство в походе. Но, допустим, англичанин не ошибается, говоря, что рядовой будний день из жизни великого государя Федора Ивановича бывал заполнен большей частью молитвами, пребыванием в храме, общением с женой, трапезами, обходом мастерских и забавами. Так или иначе, монарх не был совершенно оттеснен от дел правления, он просто занимался ими мало. Царь избирает традиционные потехи, пирует, много молится, словом, ведет себя как самый обычный человек, разве что богомольный и крепко верующий. Он никак не является деятелем государственного ума, но также не видно в его образе жизни каких-либо следов помешательства или хотя бы слабоумия.
Если же суммировать три высказывания, сделанных Горсеем, Маржеретом и Флетчером, у которых не было оснований относиться к Федору Ивановичу с особенной приязнью или, напротив, с ненавистью, то из их слов можно вынести общее мнение: русский монарх «прост» и, возможно, лишен способностей к политической деятельности, но это добрый, спокойный и благочестивый человек.
К сожалению, вот уже несколько поколений отечественных историков и публицистов большей частью опираются в своих выводах не на эти свидетельства, а на другие, гораздо более радикальные. Так, без конца приводится фраза из шведского источника, согласно которой Федор Иванович — помешанный, а собственные подданные величают его русским словом «durak». Кто, когда и за что обозвал государя, остается за пределами этого высказывания, то есть оно бесконтекстно. Однако его очень любят люди с тягой к радикальным суждениям. Другая излюбленная фраза этого ряда принадлежит польскому посланнику Сапеге, который заявлял, что у Федора Ивановича вовсе нет ума. Наверное, нет смысла лишний раз подчеркивать, что Польско-Литовское государство и Шведская корона находились тогда в натянутых отношениях с Московским государством; конфликт со шведами в конечном итоге был решен силой русского оружия. Ни у тех, ни у других не было ни малейших причин испытывать сколько-нибудь добрые чувства к вражескому правителю.
А вот Стефан Гейс или Гизен, сопровождавший в Москву императорского посла Николая Варкоча, в путевом дневнике посольства неоднократно писал об аудиенциях у Федора Ивановича и дал подробный очерк пира, во время которого царь то и дело общался с послом, но нигде даже намеком не дал читателю повод усомниться в умственных способностях русского монарха. Варкочу удавалось привозить из России столь богатые «подарки» императору, что их можно считать уже финансовой помощью в обстоятельствах вооруженной борьбы с общим врагом — турками. Иными словами, австрийский дипломат добивался успеха. Так, может быть, оценка, выданная представителями разных держав уму Федора Ивановича, зависела прежде всего от того, до какой степени «московиты» позволяли им решить основные задачи посольства? Тот же Горсей, благодаря особому покровительству со стороны Бориса Годунова, успешно служил английским интересам в Москве. И он точно так же, подобно Гизену, не приводит признаков скудоумия русского царя, когда тот должен проявить себя на людях — во время дипломатического приема. На дипломатическом приеме, осмотрев подарки и выслушав приветствие, Федор Иванович ответил Горсею кратко. Затем, выслушав совет Б. Ф. Годунова, встал с тронного кресла, снял головной убор и объявил, «что рад узнать, что его возлюбленная сестра Елизавета находится в полном здравии». Есть ли в этих действиях признаки помешательства или слабоумия? Или, может быть, для шведов и поляков, не умевших вырвать у русского правительства уступки по внешнеполитическим вопросам, наш монарх был глуп, а для более удачливых германцев и англичан он оказался в самый раз, хотя и чуть простоват?
Впрочем, существуют и откровенно доброжелательные отзывы иностранцев, где акцент перенесен с «простоты ума» Федора Ивановича на его религиозность. Так, голландский купец и торговый агент в Москве Исаак Масса со всей определенностью говорит о русском царе: «…очень добр, набожен и весьма кроток». И далее: «Он был столь благочестив, что часто желал променять свое царство на монастырь, ежели бы только это было возможно…» Даже манерой поведения царь более напоминал инока, нежели правителя. О слабоумии — ни слова. Между тем Исаак Масса считался весьма информированным автором, в России он появился всего через три года после смерти Федора Ивановича и общался со знатью и верхушкой «приказных», то есть с людьми, которые хорошо знали покойного царя. Конрад Буссов (немецкий ландскнехт, написавший в соавторстве с лютеранским пастором Мартином Бэром «Хронику событий 1584–1613 годов») с крайней неприязнью относился к православию в целом. Но все-таки признавал Федора Ивановича человеком «весьма благочестивым» и «на их московский лад» богобоязненным, отмечая, что монарх «больше любил ходить к Николе и к Пречистой, чем к своим советникам в Думу». Петр Петрей де Ерлезунда — швед, исполнявший в Москве на протяжении нескольких лет службу шпиона и, позднее, дипломата, — считал царя Федора «от природы простоватым» и даже «тупоумным». Но и Петр Петрей не отрицал благоверия монарха, пусть и относился к православию без пиетета: «Он не имел большой охоты заниматься государственными делами и приводить в лучший порядок управление, но находил свою отраду в образах и духовных делах, иногда бегал сам по церквам, благовестил и звонил в колокола, когда народу надобно собираться к богослужению и слушать обедню: отец часто упрекал его в том, говоря, что он больше походит на пономарского, чем на великокняжеского сына»; в другом месте Петр Петрей прямо называет Федора Ивановича «благочестиво воспитанным». Греческий архиепископ Арсений Элассонский, лично знавший Федора Ивановича и обласканный им, писал о государе без затей: «Человек весьма кроткий, добрый, миролюбивый и всегда боящийся Бога».
Итак, если пользоваться одними иностранными источниками, то картина получается неровная, лишенная цельности. Никто не отрицает выдающегося благочестия Федора Ивановича. Совершенно так же никто не говорит о его способностях решать государственные вопросы. А вот уровень его умственного развития оценивается по-разному.
Русские источники рисуют царя Федора Ивановича в другом свете. Знаменитый публицист XVII века Иван Тимофеев, автор историко-философского трактата, который известен под названием «Временник Ивана Тимофеева», писал о сыне Ивана Грозного с восхищением, в превосходных тонах. Самому Ивану Васильевичу не досталось и трети таких похвал, с ним Тимофеев обошелся без особого пиетета.
Для того чтобы понять, как далеко простирался восторг Ивана Тимофеева, стоит привести обширную цитату из его «Временника»: «Своими молитвами царь мой сохранил землю невредимой от вражеских козней. Он был по природе кроток, ко всем очень милостив и непорочен, и, подобно Иову, на всех путях своих охранял себя от всякой злой вещи, более всего любя благочестие, церковное благолепие и, после священных иереев, монашеский чин и даже меньших во Христе братьев, ублажаемых в евангелии самим Господом. Просто сказать, — он всего себя предал Христу и всё время своего святого и преподобного царствования, не любя крови, как инок проводил в посте, в молитвах и мольбах с коленопреклонением — днем и ночью, всю жизнь изнуряя себя духовными подвигами… Монашество, соединенное с царством, не разделяясь, взаимно украшали друг друга; он рассуждал, что для будущей (жизни) одно имеет значение не меньше другого, (являясь) нераспрягаемой колесницей, возводящей к небесам. И то и другое было видимо только одним верным, которые были привязаны к нему любовью. Извне все легко могли видеть в нем царя, внутри же подвигами иночества он оказывался монахом; видом он был венценосцем, а своими стремлениями — монах».
В государственной летописи сохранилось описание начальных дней царствования этого государя. Нигде не видно каких-либо признаков слабоумного поведения. Напротив, когда проходил обряд венчания на царство, Федор Иванович дважды публично выступал с речами, утверждая свое желание повторить эту церемонию, впервые введенную при его отце. Это сейчас, из XXI столетия, после 370 лет пребывания России под управлением царей, видится естественным и неотменным делом, что после смерти одного царя тот же титул принимает его наследник. Но для XVI века царский титул в отношении Московской державы был новинкой. Еще родитель Федора Ивановича начинал правление как великий князь Московский, а вовсе не как царь. И соседи России далеко не сразу и не без сопротивления приняли это нововведение. Царственность, помимо высочайшего статуса в православном мире, помимо повода претендовать на византийское наследие, была еще и тяжким бременем: она доставляла немало трудностей в общении русского монарха с собственной служилой знатью, к тому же утверждалась на арене внешней политики с помощью упорной дипломатической борьбы. В 1584 году, при всей очевидности ответа на вопрос, кто станет преемником Ивана IV, совсем не очевидно было, что этот преемник обязательно примет царский титул. Требовалось усилие государственной воли, дабы возвести первый опыт в ранг традиции. И, конечно, абсолютно уместно прозвучали слова, сказанные Федором Ивановичем в день восшествия на престол.
Летопись вложила в его уста следующие слова, обращенные к митрополиту Московскому Дионисию: «О преосвященный богомолец наш Дионисей митрополит всеа Руси. Божиим изволением прародители наши великие государи детей своих благословляли Российским царьством и великим княжеством. И отец наш блаженные памяти великий государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа России самодержец оставль земное царьство и приим аггелский образ и отъиде на небесное царьство, а меня сына своего благословла великими государьствы Владимерским и Московским и Новгородским, и царьством Казанским и царьством Астороханьским и государством Псковским и великим княжением Смоленским и Тверьским и всеми гоударьствы всего Росиискаго царьствия. И велел мне на те великие государьства венчатися царьским венцом и диадимою по древнему нашему чину. И ты бы богомолец наш на то царьство и на великое княжение по Божий воли и по благословению отца нашего блаженные памяти великого государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея великия Россия самодержца благословил и венчал царьским венцом и диадимою по древнему нашем царьском чину». Конечно, сейчас трудно судить, сколь точно передано летописцем содержание монарших речей. В летописных памятниках, не имеющих государственного происхождения, приводится несколько иной текст, хотя и близкий по смыслу. И если даже всё передано более или менее верно, нет никакой уверенности в авторстве государя Федора Ивановича: тот же митрополит Дионисий, кто-то из ученых монахов митрополичьего дома или некий книжник из числа приближенных Бориса Годунова мог подготовить текст выступления, как это делается и в наши дни. Но сам факт их произнесения никаких сомнений не вызывает: англичанин Горсей, беспристрастный свидетель происходящего, также пишет о том, что царь прилюдно держал речь. Это можно считать твердо установленным фактом.
Можно ли представить себе слабоумного в роли оратора? Слабоумного, выстаивающего без ошибок всю длинную, сложную церемонию венчания на царство и вовремя вставляющего свое слово? Слабоумного, хотя бы воспроизводящего вслух и прилюдно столь замысловатую, столь цветистую идеологическую конструкцию?
Наконец, исключительно важно свидетельство неофициального, иными словами, частного исторического памятника — Пискаревского летописца. От летописного повествования, неподконтрольного правительству, естественно ждать оценок, радикально расходящихся с теми, которые «спущены сверху». И действительно, Пискаревский летописец наполнен разоблачительными высказываниями, в том числе в адрес Ивана IV. Зато о Федоре Ивановиче сказано столько доброго, сколько не досталось никому из русских правителей. Его называют «благочестивым», «милостивым», «благоверным»; на страницах летописи приводится длинный список его трудов на благо Церкви. Кончина его воспринимается как настоящая катастрофа, как преддверие худших бед России: «Солнце померче и преста от течения своего, и луна не даст света своего, и звезды с небеси спадоша: за многи грехи християнския преставися последнее светило, собиратель и облагодатель всея Руския земли государь царь и великий князь Федор Иванович…» Обращаясь к прежнему царствованию, летописец вещает с необыкновенной нежностью: «А царьствовал благоверный и христолюбивый царь и великий князь Феодор Иванович… тихо и праведно, и милостивно, безметежно. И все люди в покое и в любви, и в тишине, и во благоденстве пребыша в та лета. Ни в которые лета, ни при котором царе в Руской земли, кроме великого князя Ивана Даниловича Калиты, такие тишины и благоденства не бысть, что при нем, благоверном царе и великом князе Феодоре Ивановиче всеа Русии».
Вот так «durak»!
Не менее благосклонны к Федору Ивановичу и провинциальные летописцы. Так, в одной из псковских летописей говорится, что царь пребывал в великом христианском подвиге, молясь Богу день и ночь.
Первый патриарх Московский и всея Руси Иов создал крупное произведение, посвященное государю Федору Ивановичу: «Повесть о честном житии царя и великаго князя Феодора Ивановича всея Руссии». Там, среди прочего, о последнем монархе из московских Даниловичей говорится следующее: «Сей… благочестивый самодержец праведный и досточюдный и крестоносный царь и великий князь Феодор Иванович всеа Руси древним… царям благочестивым равнославен, нынешним же красота и светлость, будущим же сладчайшая повесть и слуха благое наслаждение, не токмо единыя Росийския богохранимыя державы, но всея подсолнечныя пречестнейши быти явися». Можно, конечно, объяснить столь ярко выраженное благоволение патриарха царю мотивами прозаическими. Иов был возвышен среди архиереев Русской церкви во времена правления Федора Ивановича и по его воле; сказалось тут и влияние главного политического дельца тех времен — государева шурина Бориса Годунова (Борису Федоровичу Иов, как никто другой, помог в 1598 году взойти на царский престол после кончины царя Федора). В 1586 году Иова возвели на Ростовскую архиепископскую кафедру. И года не минуло с этого момента, а владыка уже стал митрополитом Московским и всея Руси. А в 1589 году он вошел в нашу историю как первый патриарх всея Руси. Конечно, это скорое возвышение должно было питать естественное чувство благодарности Иова. Но объяснение может быть и другим, гораздо проще: именно митрополит, а затем патриарх должен был хорошо знать Федора Ивановича, постоянно общаться с ним, вести богослужение в его присутствии, беседовать с монархом о духовных делах. И в конечном итоге глава Русской церкви написал о государе правду. Самую простую правду, какую видел в течение многих лет, какую знал лучше, чем кто бы то ни было.
Через шесть лет после кончины Федора Ивановича началась Смута, полыхавшая на протяжении полутора десятилетий. Русские города и села, разоренные «воровскими» казаками, бандами «лисовчиков», отрядами польских, литовских, шведских интервентов, запустели. Закопченные порталы храмов зияли, словно отверстия от ружейного свинца на теле Церкви. Крепостные стены напоминали челюсти с выбитыми зубами. Печи, оставшиеся от сожженных изб, вздымали к небу заснеженные трубы. Нищие дворяне едва могли нести воинскую службу. Недостаток был во всем — от хлеба до пороха. Жизнь чуть теплилась в израненной Московской державе.
И эпоха Федора Ивановича вспоминалась многим как Царствие Небесное на земле. Сытая, спокойная, безмятежная жизнь того времени вызывала добрые воспоминания. Старые люди еще держали в памяти свирепства грозненской поры, молодые знали только Смуту, но в глазах и тех и других царствование кроткого монарха выглядело как островок благоденствия в океане тягот житейских. Пусть в исторической действительности эти 14 лет не были столь уж легкими для России. Бремя восстановления экономики несли на своих плечах крестьяне, постепенно лишавшиеся свободы. Города медленно приходили в себя после разорительной Ливонской войны, а неприятель, хотя и бывал отбит от коренных русских областей, всё же время от времени вторгался в пределы России и наносил стране ущерб.
Но не сравнить всё это ни с опричниной, ни с гибелью Москвы, сожженной крымцами в 1571 году, ни с вторжениями полчищ Стефана Батория, ни тем более с чудовищем Смуты… Поэтому на человека, ставшего живым символом краткого золотого века в русской судьбе, готовы были молиться несколько поколений наших людей, переживших Смутное время.
Если патриарх Иов в «Повести о честном житии…» приводил аргументы для канонизации Федора Ивановича, в частности, связывал с последними днями его жизни истинные чудеса, то дьяк Иван Тимофеев уже открыто писал о святости царя.
Блистательный интеллектуал и плодовитый писатель первой половины XVII столетия, князь С. И. Шаховской, человек своевольный, переменчивый, с очень широкими взглядами на веру — чуть ли не еретик, по представлениям той эпохи! — также был весьма снисходителен к Федору Ивановичу и его времени. В «Летописной книге», посвященной событиям Смуты, он высказался следующим образом: «…сжалился Бог над людьми и счастливое время им дал, прославил царя и людей, и повелел управлять государством без волнений и смут, в кротости пребывая». И далее: «Царствовал благоверный царь Федор Иванович на Москве мирно и безмятежно 14 лет и умер бездетным… И скорбели о нем и горько оплакивали его люди и волновались повсюду, словно овцы, не имеющие пастыря».
Похоже, «слабоумным» Федор Иванович представлялся только тем, кто привык к язвительной, глумливой премудрости и беспощадной жестокости его отца. Конечно, после «грозы», присущей царствованию Ивана Васильевича, его сын мог выглядеть в глазах служилой аристократии слабым правителем… А иноземные дипломаты, решавшие наиболее важные вопросы с Борисом Годуновым, а не с царем, могли счесть последнего недоумком. Особенно когда их дела в России складывались не лучшим образом. Но при его слабости, «простоте» и благочестии дела государства устроились лучше, чем во времена неистового родителя.
Любопытно, что сам Иван IV, знавший младшего сына, как никто другой, видел в нем волю и характер. Составляя завещание 1572 года, когда старший сын еще был жив, он обращался к юноше Федору с предостережениями от бунта против брата! К тому времени младший сын грозного царя достиг пятнадцатилетнего возраста. И если бы он был слабоумным ничтожеством, то отец, опытный политик, не стал бы отговаривать его от измены и мятежа…
Наконец, государь Федор Иванович лично отправился в поход против шведов и участвовал в боевых действиях. Стали воеводы бы брать с собой царя, если бы он был беспомощным идиотом? Кого могла вдохновить в войсках подобная фигура? Очевидно, государь в глазах десятков тысяч военных людей не выглядел ни «юродивым», ни «помешанным».
Исторические источники по временам царствования Федора Ивановича сходятся в том, что царский шурин Борис Федорович Годунов занимал при дворе исключительное положение. Тут иностранные авторы, наши летописцы, патриарх Иов и дьяк Иван Тимофеев пишут об одном. Расхождения можно видеть лишь в оценке того влияния, которое Годунов имел на дела правления, да еще в сроках — когда именно установилось его беспрецедентное «соправительство» с венчанным монархом.
Только определив действительную роль Годунова, можно понять, кто и до какой степени правил государством на протяжении четырнадцати лет царствования Федора Ивановича. Ведь, в сущности, словом «правитель» для периода от 1584 до 1598 года в русской истории следует называть странный симбиоз, состоящий из двух личностей, двух компетенций, двух образов, сложившихся в массовом сознании. Проще всего сказать: «Федор Иванович царствовал, но не правил, Борис Годунов правил, но не царствовал». В самом общем смысле это правильно. Однако… как только доходит до частностей, получается гораздо более сложная картина.
Борису Федоровичу приходилось делить реальную политическую власть с другими служилыми аристократами. Притом большая часть тех, с кем ему приходилось сталкиваться на этой почве, была намного знатнее его.
Как минимум на протяжении первых месяцев или даже первых лет царствования Федора Ивановича Б. Ф. Годунов должен был считаться с великими людьми царства. Прежде всего с «партиями» бояр Захарьиных-Юрьевых-Романовых, князей Шуйских и князей Мстиславских. Притом власть Годунова, даже учитывая его выдающиеся личные качества политика, была бы непрочной, если бы он не имел возможности выступать от имени царя, как бы постоянно воплощая в жизнь монаршую волю. Любые планы вельможи приобретали какую-то значимость лишь после того, как они облекались в форму указов «великого государя, царя и великого князя всеа Руси Феодора Иоанновича». Следовательно, Годунов должен был пребывать в постоянном диалоге с царем, не терять его милости и доверия, отрезать от него любых политических деятелей, которые могли бы вести через государя собственную игру. Наконец, Федор Иванович, как это следует из сообщения Джильса Флетчера, хотя и занимался делами правления мало, но все-таки не отстранился от них окончательно. Следовательно, его воля, его желания и его характер также в какой-то мере оказывали воздействие на политический курс правительства. Ему Борис Федорович отказать не мог ни при каких обстоятельствах. А значит, должен был стать послушным исполнителем царских поручений — хотя они, быть может, давались не столь уж часто.
Самым серьезным противником Годуновых являлись князья Шуйские. По образному выражению историка Г. В. Абрамовича, они играли при дворе московских государей роль «принцев крови». Будучи, как и династия московских Даниловичей, потомками великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича, они должны были считаться «персонами, имеющими право на великокняжеский престол в случае вымирания Московского рода». Это право в будущем приведет на трон князя Василия Ивановича Шуйского. Именно в них, а не в Годуновых, должна была видеть московская знать, да и все русские люди вероятных преемников царя Федора Ивановича, который к 1584 году оставался бездетным.
Шуйские были богаты, знатны, имели широкий опыт вооруженной борьбы, поднаторели в придворных интригах. Пользуясь собственным высоким положением и, не менее того, поддержкой многочисленных сторонников, также имевших немалый вес, они могли оказывать серьезное влияние на важнейшие государственные дела. Их союзниками стали могущественные князья Мстиславские.
Что могли противопоставить Годуновы Шуйским? И что они вообще собой представляли в глазах современников? Годуновы входили в состав служилой знати «второго ранга». Предки Бориса Федоровича хотя и редко, но бывали на воеводстве. А происходил он со всеми родичами от семейства старых костромских вотчинников, в середине XIV столетия перешедших на службу московским князьям. Их старшей родней и союзниками были Сабуровы — влиятельный боярский род. Сохранилось предание, согласно которому родоначальником всего обширного и разветвленного семейства Зерновых-Сабуровых-Годуновых является некий знатный ордынец Чет-мурза. Однако достоверность этой легенды ничтожна. И даже если предположить, что за несколько столетий до возвышения Бориса Федоровича Годунова в основание его рода легло несколько капель татарской крови, то ко времени правления Ивана IV и Федора Ивановича род успел вчистую обрусеть.
Сам Борис Федорович родился в 1552 году. В отрочестве он оказался при дворе. Его сестра Ирина также оказалась вовлечена в придворную жизнь с младых ногтей: родившись в 1557 году, она воспитывалась в царских палатах с семилетнего возраста. На протяжении опричнины (1565–1572) Борис Федорович был еще слишком молод для участия в серьезных делах. Зато видное положение занимал его дядя Дмитрий Иванович, постельничий при дворе Ивана IV. Как видно, именно он распорядился судьбой молодого племянника, осуществив выгодный матримониальный проект: Годуновы породнились с могучим опричным временщиком Малютой Скуратовым — дочь Малюты Мария Григорьевна стала женой Б. Ф. Годунова. Благодаря сильной родне молодой человек рано получил первый «дворовый» чин, однако в дальнейшем его карьера шла неспешно. Несколько успехов в местнических тяжбах, получение заметного, но отнюдь не ключевого чина кравчего…
Положение Годуновых при дворе резко улучшилось благодаря двум бракам: сначала царевич Иван женился на Евдокии Сабуровой, и с ним семейство установило добрые отношения, сохранившиеся даже после того, как он развелся; затем царевич Федор стал мужем Ирины Годуновой. Когда Иван Иванович получил смертельную рану от рук отца, Б. Ф. Годунов на некоторое время оказался в опале, но затем обрел прощение. А для Федора Ивановича Годуновы за несколько лет до восшествия на трон стали первейшими советниками. Именно тогда семейство было осыпано благодеяниями. Когда царь Иван IV скончался, позиции семейства при дворе были исключительно прочны. Влияние Б. Ф. Годунова на нового царя с первых месяцев правления было огромным, можно сказать, доминирующим, если сравнивать с иными персонами (кроме, пожалуй, царицы). Годуновы занимали три места в Боярской думе: Дмитрий Иванович и Борис Федорович имели боярский чин, а Степан Васильевич — окольнический. Их близкая родня — Сабуровы — имели еще два места: боярское и окольническое. Иван Васильевич Годунов неоднократно хаживал в походы воеводой и был опытным военачальником. Еще до венчания Федора Ивановича на царство боярский чин и должность дворецкого получил Григорий Васильевич Годунов. Борису Федоровичу досталось звание «конюшего», означавшее номинальное первенство среди бояр. В день восшествия Федора Ивановича на престол боярами сделались Семен и Иван Васильевичи Годуновы, притом последний оказался затем во главе приказа Казанского дворца и наместничал в Рязани. Мало того, Годуновы имели сильных союзников, также прочно удерживавших места на Олимпе власти. Их друзьями и сторонниками являлись князья Хворостинины, Трубецкие, Глинские.
Иными словами, вступая в борьбу с могущественными Шуйскими, Б. Ф. Годунов располагал отличными картами для дерзкой политической игры. Более того, он сумел присоединить к ним «козырного туза», давшего, думается, решительный перевес в силах. В роли последнего выступила еще одна сильная придворная группировка — Романовых-Захарьиных-Юрьевых. Они оказались на стороне Годуновых, когда наступил решающий момент противоборства. Годуновы и Романовы-Захарьины-Юрьевы скоро заключили «союз дружбы» в борьбе за власть.
Шуйские потерпели страшное поражение.
Первый удар обрушился на семейство сторонников Шуйских-Головиных, контролировавших в 1584 году государственную казну. Петр Головин был «дерзок и неуважителен» с Б. Ф. Годуновым. В их ведомстве прошла проверка и найдены были тяжкие хищения. Один из Головиных отправился в тюрьму, где был тайно умертвлен (или, по другой версии, убит на пути к месту заключения); двое других подверглись опале, причем один из них бежал от опалы за литовский рубеж.
Опале подверглись князья И. М. Воротынский и А. П. Куракин.
Наконец, удалился от дел, покинув Боярскую думу, князь И. Ф. Мстиславский. Он вынужден был постричься в монахи. С его падением, поразившим современников, связана печальная история.
По словам шведского агента Петра Петрея, бояре приняли решение развести правящего монарха с бесплодной Ириной Годуновой и женить его на молодой дочери Мстиславского. Ходили даже невероятные слухи, будто князь задумал призвать Б. Ф. Годунова к себе домой на пир, чтобы лишить его жизни. Но матримониальный план рухнул, не встретив у царя согласия. Годуновы же получили основание видеть в Иване Федоровиче лютого врага, посягающего на благополучие их семейства.
Что же касается Шуйских, то с ними поступили намного жестче.
Вражда Шуйских и Годуновых привела к восстанию московского посада в первых числах мая 1586 года. Главной организующей силой восставших стали «гости» — привилегированная корпорация, объединявшая самых богатых купцов или, как тогда говорили, «торговых людей». Следовательно, у волнения имелась мощная финансовая база. Поддержка московских гостей давала Шуйским очевидный перевес в силах. А о том, что конфликт принял самые острые формы, свидетельствуют жутковатые сообщения иностранцев о нападении купцов и посадских людей на Бориса Годунова и даже о ранениях, нанесенных друг другу Борисом Годуновым и одним из Шуйских в какой-то стычке. В начале 1587 года, давая инструкции послам, отправлявшимся за рубеж, правительственные люди требовали отрицать то, что Кремль недавно побывал в осаде, но позволяли соглашаться со смягченной версией событий: караулы — да, стояли на крепостных стенах и у ворот усиленные…
Купеческую верхушку даже пригласили в Грановитую палату — передать челобитья, принять участие в переговорах, где Шуйские и Годуновы пытались достичь примирения. Но вскоре после того, как «высокие стороны» договорились, «гостей», выступавших на стороне Шуйских, казнили. А затем и самим аристократам пришлось отведать некрасивой смерти в отдалении от дворцовых интриг.
Князя Василия Ивановича Шуйского свели с воеводства в Смоленске. Затем его вместе с несколькими родичами отправили в ссылку. Василия Ивановича еще вернут к делам правления, но в целом род его ни при Федоре Ивановиче, ни при Борисе Федоровиче прежнее свое положение не восстановит.
Князья Иван Петрович и Андрей Иванович Шуйские также отправились в ссылку. Там первого из них — великого полководца, известного всей стране после яркой победы над полчищами Стефана Батория! — заставили постричься в монахи. Затем обоих убили приставы. Уничтожение двух крупнейших русских государственных деятелей, совершенное в отдалении от Москвы, не имело сколько-нибудь серьезного политического резонанса. Но для семейства Шуйских это было подобно удару молота по голове.
Таким образом, всесильным правителем Московского царства Борис Федорович сделался лишь на исходе 1586 года. Только после этого он смог безмятежно наслаждаться политическим первенством.
Список крупных успехов боярского правительства 1584–1586 годов, куда входили и Годуновы, и их противники, весьма велик.
Прежде всего, была проведена грандиозная чистка, выбившая с должностей главных мздоимцев из числа приказных людей, судей, военачальников. Пришлось уйти многим неправедным судьям. Девизом царствования стало обещание никого не подвергать наказаниям без улик.
Упорядочена была ямская служба, жизненно важная для правительства огромной страны.
Удалось обеспечить стабильность во внешнеполитической сфере. Московское государство, ослабленное, оскудевшее полками, отдавшее многие области Новгородчины шведам и полякам по результатам Ливонской войны, нуждалось в мирной передышке. В середине 1580-х оно пребывало в состоянии, когда начало нового серьезного противоборства на западных рубежах грозило военной катастрофой. И каждый год, проведенный без войны, способствовал восстановлению сил. Поднималась из руин экономика, росла смена воинам, павшим на полях сражений грозненской эпохи. А эпоха эта была очень богата войнами и очень мало давала стране отдышаться — откормиться перед очередным масштабным столкновением… Иначе говоря, при Федоре Ивановиче мир требовался России как воздух. Он был единственной гарантией того, что страна сумеет вновь подняться на ноги.
В декабре 1586 года скончался воинственный король Стефан Баторий, и в Москве вздохнули спокойнее. Теперь Польша, лишенная превосходного полководца на троне, занятая муками бескоролевья, уже не выглядела столь опасным противником. На следующий год наши дипломаты сумели заключить с ней перемирие сроком на 15 лет.
Зато бесконечная война с татарами, унаследованная Федором Ивановичем от длинной череды предков, не прекращалась. Опаснее всего было положение на территории бывшего Казанского ханства, присоединенного к России тридцатью годами раньше (1552). Здесь то и дело начинались восстания, наносившие страшный урон. Их подавление стоило огромных сил. В 1582 году полыхнул большой бунт «черемисы», и для его окончательного разгрома сил не хватало.
Сначала при Федоре Ивановиче на «луговую черемису» отправилась армия во главе с князем Д. П. Елецким. Видимо, этого не хватило. Пришлось ставить на землях «луговой черемисы» крепость Санчурск («Санчюрин город»), которой уготована была роль опорного пункта русских войск во враждебном краю. «Для береженья» при строительстве отрядили армию из трех полков во главе с князем Г. О. Засекиным. Осенью 1586 года биться с незамиренной черемисой пошла еще одна трехполковая армия. Роль главнокомандующего исполнял князь И. А. Ноготков. Он огнем и мечом прошел по черемисским улусам. Такой разор, кажется, сломил волю черемисы к сопротивлению. Область покорилась.
Хуже дела шли на юге. Московское царство испытывало страшный натиск ногайцев и крымцев. В 1584–1586 годах удары с юга градом сыплются на страну. И война с бунтующей черемисой дает крымцам новую надежду на успех. Пока руки у русского царя связаны битвами в Поволжье, ему было трудно выставить сильную оборонительную армию к Оке — главному рубежу российской обороны против Степи.
Летом 1585 года Крымское ханство попало в полосу затяжной междоусобной борьбы. От рук собственной родни пал тамошний правитель Магмет-Гирей. Ханом стал Ислам-Гирей, его наследником — Алп-Гирей, а братья Ислама бежали к соседям. Один из них, Мурат, решил обратиться за покровительством к новому русскому царю. Он явился в Астрахань, оттуда с многочисленной свитой направился в Москву и был принят Федором Ивановичем с распростертыми объятиями. Его, по словам летописи, «пожаловали великим жалованием». Лучшего подарка для страны, истекавшей кровью в борьбе со своим извечным неприятелем — крымцами, и придумать было невозможно! Турки, чьим вассалом являлось Крымское ханство, скоро предложили вьщать Крыму беглеца с ханской кровью Гиреев, но в Кремле имели иные планы относительно судьбы этого человека. Тем более что его поддерживала часть крымских родичей, в том числе братья — Сеадат-Гирей и Сафа-Гирей, оказавшиеся в ногайских кочевьях. Москва взяла под свою державную руку одного из царевичей Гиреев, вступила в союзнические отношения с другими из них, сея рознь в стане врага. Теперь она могла надеяться даже на то, что при благоприятных обстоятельствах Крым окажется в вассальной зависимости от нее.
Мурат-Гирей пробыл гостем московского государя год. Летом 1586-го он в добавку к своему татарскому отряду получил войско из двух тысяч бойцов и отправился с ним к Астрахани, дабы оттуда беспокоить набегами крымский фланг. Ногайский хан Урус, также склоняясь на сторону России, принес царю присягу. И на месте слабо защищенной русской степной окраины против зарвавшихся крымцев выстроилась агрессивная коалиция.
Мурат-Гирей прожил в Астрахани несколько лет и скончался в 1590 году, исполнив службу, возложенную на него российским правительством. По словам Нового летописца, царевич «многие бусурманские языки (народы, племена. — Д. В.) под его царскую высокую руку подвел». После его кончины проводилось масштабное расследование, выявлявшее крымских «ведунов», которые «испортили» Мурат-Гирея, его семью и доверенных людей. Найдя виновных, их подвергли пыткам и сожгли. Московский летописец добавляет в картину службы татарского царевича конкретные факты. Когда ногайцы напали на владения крымского хана, Мурат-Гирей отправил с ними русский отряд — дворян, казаков, стрельцов во главе с Федором Яновым.
Помимо этого крупного успеха в борьбе с Крымским ханством, добрые плоды приносила традиционная и очень эффективная политика строительства новых городов на восточных и южных рубежах. Действуя из-за их крепких стен, русские полки чувствовали себя намного увереннее. И хотя продвижение с опорой на новые крепости стоило очень дорого, оно надежно закрепляло целые области за Московским государством. Помимо упомянутого Санчурска, в Поволжье и на землях вятских марийцев выросли стены Царевококшайска, или Кокшажска (1584), Цывильска (1584) и Уржума (1584). Позднее на Волге появился Самарский городок — чуть поодаль от древней, к тому времени разрушенной пристани (1586), а на юге — деревянные крепостицы Воронеж (1586) и Ливны (1586). В Предуралье около 1586 года на месте более древнего поселения возникает русский городок Уфа, и управляет им воевода Михаил Александрович Нагой — из тех самых опальных Нагих, родственников последней жены Ивана Грозного. Россия расширялась на юг и восток, власть московского государя утверждалась на степных просторах топором плотника и пищалью стрельца.
Точно так же следовало защитить и сердце державы. Поэтому родился колоссальный строительный проект — возведение стен московского Белого города. Этот проект начали осуществлять в 1585 году. Летопись сообщает: «Повелением благочестиваго царя Феодора Ивановича всея Руси зачат делати град каменой на Москве, где был земляной, а имя ему „Царьград“». Это было первое, древнейшее название Белого города. Очевидно, современники воспринимали его строительство как поистине царственную затею. Впрочем, может быть, дело не только в этом. Москва мыслилась тогда русскими книжниками как столица не одной лишь России, но всего восточного, православного христианства, как город, который по благодати Господней является «Вторым Иерусалимом», а по державной мощи — «Третьим Римом». Знания о могучих стенах, окружающих «Второй Рим» — Константинополь, или «Царьград» русских летописей, вызывали желание и в этом уподобиться прежней столице христианского мира.
Главным зодчим Белого города стал Федор Савельевич Конь, лучший русский фортификатор того времени. Он возвел стену, подковой охватывавшую Кремль, Китай-город, а также разросшиеся вокруг них посады и торги, усадьбы знати и монашеские обители. Стена эта упиралась в берега Москвы-реки западнее Кремля и восточнее Китай-города, а по краям заворачивала внутрь, защищая столицу от нападения не только с суши, но и с воды[119]. Роль основных узлов ее обороны играли 27 мощных башен. Крепость имела десять проездных ворот, и от них расходились в разные стороны главнейшие улицы древней Москвы. У основания стену складывали из белого камня, выше — из большемерного беленого кирпича.
Многолетние усилия строителей завершились только в 1593 году. Общая протяженность «Царьгорода» составляла немногим менее десяти километров — при десятиметровой высоте и толщине, достигавшей от четырех с половиной до шести метров. Зубцы сооружались по образцу кремлевских — в форме «ласточкиных хвостов». У подножия располагался ров, заполнявшийся водой. Грандиозная работа! К тому же начатая в высшей степени своевременно. В 1591 году под Москвой опять встанет армия крымских татар во главе с ханом Казы-Гиреем. Тогда-то новенький каменный пояс, надетый на тело столицы, окажется спасительным…
Могучие стены возводились тогда не только в Москве и на южном, «татарском» направлении. Границу крепили новыми «городками» повсюду, где это оказывалось необходимым, в том числе и в Поморье, и на Кольском полуострове. В 1584 году воздвигаются деревянный острог и пристань в Архангельске, ставшем впоследствии главным портом страны на севере, фактически северными воротами России. Тогда же начинается титаническая работа, результатом которой стало рождение главной русской твердыни на Белом море — мощнейшей крепости, никем никогда не взятой. Речь идет об укреплениях монастыря на Большом Соловецком острове. В 1585–1586 годах, вскоре после окончания Ливонской войны, в Ладоге был сооружен земляной город — небольшое укрепление бастионного типа, пристроенное с южной стороны крепости.
Той же политики при Федоре Ивановиче придерживалось русское правительство и в Сибири.
В исторической литературе — главным образом популярного и публицистического характера — бытует миф, согласно которому русские прорвались в Сибирь при Иване Грозном. Более сдержанный вариант того же: «начали завоевание Сибири» или, чуть осторожнее: «освоение», «присоединение» Сибири. Но в действительности ничего подобного не произошло. Ермак, нанятый купцами и промышленниками Строгановыми, одержал ряд блистательных побед над сибирскими татарами, занял столицу ханства и только тогда получил поддержку из Москвы. Однако его экспедиция закончилась разгромом отряда и гибелью самого вождя. Завоевание Сибири как одно из главных достижений русского народа за всю его историю начато было не им. И до Ермака — в XIV, XV и XVI столетиях русские воинские люди бывали в Сибири, брали там ясак, проповедовали Христову веру. На какое-то время сибирские татары оказывались даже в вассальной зависимости от Москвы, притом задолго до Ермака. Но все эти временные достижения не принесли России никакой пользы, помимо репутации сильного и упорного противника. Совершенно так же и Ермак, попытавшись закрепиться, привести бескрайнюю землицу сибирскую под руку московских государей, нисколько не преуспел. На протяжении нескольких лет казачий богатырь играл роль потрясателя Сибири. Он вышел в поход при Иване IV, пережил грозного царя и погиб в 1585 году, уже при Федоре Ивановиче. Саваном для его тела стали воды реки Иртыш. Русское дело в Сибири пало. Хан сибирских татар Кучум и иные местные правители воспрянули духом.
И вот тогда люди с негромкими именами, люди, не называемые на страницах учебников, повели планомерное наступление на Сибирь.
Всё это были дворяне из семейств, более или менее известных в Москве. Провинциальный «выборный сын боярский» Иван Алексеевич Мансуров добился первого действительного успеха — срубил «Обский городок» и отбился от наседавшего неприятеля. Вослед Мансурову пошли Иван Никитич Мясной, Василий Борисович Сукин, Даниил Даниилович Чулков. Первые двое воздвигли острог, из которого поднялась Тюмень. В 1586 году на реке Тюменке, притоке Туры, строится деревянная крепостица. От нее сейчас ничего не осталось, впрочем, как и от всех наших рубленых крепостей XVI столетия. Но именно из этого истока выходит полноводная река исторических судеб нынешней Тюмени.
Д. Д. Чулков основал крепость Тобольск (1587) и пленил татарского правителя Сеид-хана. Потом, через много лет, Тобольск станет столицей Сибири, обзаведется мощным каменным кремлем… А изначально это было такое же маленькое, на скорую руку рубленное укрепление, как и многие другие опорные пункты России тех времен, поставленные на опаснейших направлениях.
Трое дворян, выполняя правительственную волю, заложили основу для необратимого движения русских отрядов к Тихому океану, для завоевания Сибири, расселения там русских людей и распространения христианства. И произошло это при тихом, богомольном царе Федоре Ивановиче. В годы, когда во главе России стояло разнородное аристократическое правительство, занятое междоусобной борьбой.
Годунов поднялся на степень царского соправителя по воле самого Федора Ивановича и еще, быть может, с согласия или даже при содействии великого государственного деятеля боярина Никиты Романовича Юрьева. Выводя царского шурина на самый верх русской политической иерархии, они не видели в сравнительно узком кругу возможных претендентов никого лучше Годунова.
В сущности, Федор Иванович и Борис Годунов составили идеальную пару. Они сыграли роль «соправителей» столь удачно и слаженно, будто сам Небесный режиссер подобрал эту пару актеров для совместного участия в одной постановке. В государе своем русские того времени видели милостивого «молитвенника», давшего им отдохнуть от тягот и страхов предыдущего царствования. Пусть иноческий его образ действий вызывал удивление, может быть, и насмешку… однако помимо этих чувств подданные явно возлагали на своего монарха еще и надежду. В его постоянном молении, в его благочестии, в его богомольном рвении видели своего рода мистический щит, заграждавший большим бедам путь в Россию. А «для жизни низкой» у государя был Борис Годунов. И пока Федор Иванович своей непрестанной молитвой устраивал дела страны на небесах, его шурин занимался делами земными. Опытному практическому дельцу для его работы требовалась санкция. Царь ее дал. В силу этого главенство Бориса Федоровича как администратора получило законную силу. Его ум, пущенный не на интриги, а на решение державных задач, давал стране очень много.
Неправильно было бы приписывать ему все успехи этого царствования. Некоторыми из них Россия обязана самому государю, другие достигнуты были смешанным аристократическим правительством в 1584–1586 годах. Годунову следует отдать прочее, оставшееся. За первые два с половиной года совершилось очень многое; главное же — политический курс Московской державы устоялся по всем основным направлениям. Борису Федоровичу оставалось прилагать усилия к тому, чтобы страна продолжала двигаться выверенным маршрутом, не сбиваясь с ритма, не сворачивая в придорожные низины. Однако и на то, чтобы удержать и развить успехи, достигнутые в первые годы царствования Федора Ивановича, требовались недюжинный ум, отвага, непреклонная воля. Годунов располагал всем этим. Один из псковских летописцев, повествуя о царствовании Федора Ивановича, выступает с откровенной похвалой Борису Годунову: «А правление земское и всякое строение и ратных людей уряд ведал и строил его (Федора Ивановича. — Д. В.) государев шюрин Борис Феодорович; многие земли примиришася, а инии покорищася под его государеву высокую руку Божиею милостию и пречистые его Богоматере и его государевым прошением и счастием, и промыслом правителя и болярина и конюшего Бориса Феодоровича». По этому отзыву видно: и среди современников были люди, считавшие «соправительство» Федора Ивановича и Бориса Федоровича идеальным вариантом для страны.
Политический почерк «соправителя» виден по тому курсу, который Годунов проводил на протяжении двенадцати лет после 1586 года. В подавляющем большинстве случаев конюший повторял или развивал ходы, сделанные русским правительством ранее.
Так, против крымцев Борис Федорович использует уже созданную коалицию с царевичами Гиреями и ногайцами, а когда ее не хватает, просто встречает вражеские набеги русской военной силой. На 1587 год приходится вспышка военной активности Крымского ханства. Летом сорокатысячная орда сжигает посад и берет острог у Крапивны. Под Тулу вышла пятиполковая оборонительная рать во главе с боярином Иваном Васильевичем Годуновым, притом передовым полком командовал блистательный Дмитрий Хворостинин. Неприятельские силы терпят поражение, теряют множество пленников и откатываются восвояси. На несколько лет юг России избавлен от гибельной опасности крымских набегов.
Применяется стратегия, успешно «опробованная» в 1584–1586 годах: вырастает еще целый ряд русских крепостей у окраин царства. Мощными каменными кремлями и новыми каменными храмами обзаводятся Казань и Астрахань. На Волго-Донской «переволоке» основывается Царицын (ныне Волгоград). Прежде в этих местах господствовали банды волжских казаков, теперь Российская держава становилась тут твердой ногой, оттесняя казачью вольницу к Дону и Яику. В первой половине — середине 1590-х, когда опасность татарских вторжений была особенно сильна, рождается обновленная крепость в Ельце, появляются Кромы, Курск, Белгород, Оскол, Севск. Иначе говоря, русские всего за несколько лет получили на степном рубеже не только новый оборонительный пояс, но еще плацдарм, с которого их теперь уже нельзя было выбить. Этот плацдарм позволил в будущем осваивать просторы Дикого поля, распахивать землю, селить крестьян под защитой надежных стен. Строили тогда фантастически много и быстро. Один только список новых русских городков на юге и юго-востоке страны, появившихся всего за полтора десятилетия, поражает воображение.
В Сибири шел тот же самый процесс, только меньшей кровью и с меньшими расходами. Область, подчиненная московскому государю, расширялась стремительно, росла год от года. Это опять-таки происходило благодаря упорному следованию правильно выбранной стратегии «наступления городами». В 1590-х строятся Лозьва, Пелым (на месте более древнего селения), Тара, Обдорск, Нарым, Верхотурье, Сургут… Враждебные России правители пелымские и кондинские были разбиты, земли эти оказались под монаршей рукой Федора Ивановича.
На западном направлении дела России также складывались не худшим образом.
В отношениях с Речью Посполитой Борис Годунов добился успеха, используя не только дипломатические средства. Важнейшим козырем в руках Москвы стала мощная крепость, воздвигнутая в Смоленске тем же Федором Конем, строителем Белого города.
Отношения со Шведской короной с неизбежностью катились в сторону войны. И для шведов оказалась сюрпризом та военная мощь, которую смогло противопоставить им в поле Московское государство всего через несколько лет после тяжелого поражения в Ливонской войне.
Борису Федоровичу приходилось разумно экономить, не браться за рискованные проекты, маневрировать малыми резервами. Он принужден был, располагая невеликим военным и экономическим потенциалом, везде успевать, всюду закрывать бреши, вести хитрую дипломатическую игру компромиссов, драться только там, где это становилось неизбежным.
Но при этом социальное напряжение постепенно нарастало, поскольку снаряжать войска и строить города стоило людей, денег, транспортных средств, а всё это приходилось выжимать из страны со сравнительно слабой экономической основой. Крестьянство, державшее страну на своем хребте, едва выносило бремя государева «тягла». Земледельцы бегут от пашни, ищут счастливой доли у новых хозяев, подаются в казаки. Во второй половине 1590-х правительство принимает драконовские меры по сыску беглых холопов; мало того, в 1597 году объявляется пятилетний сыск крестьян, ушедших от помещиков в нарушение законов. Перегнул ли Борис Федорович палку, выкачивая ресурсы из страны путем нажима на крестьянство? Видимо, все-таки нет — во всяком случае в царствование Федора Ивановича.
Годунов, сколько мог, удерживал страну на грани Смуты. В своей политической деятельности он не столько блистает гениальными комбинациями, сколько гениальной расторопностью, умением упрямо продолжать игру, имея плохую карту на руках, и в конечном итоге уходить от поражения. Он ведет политику с большой осмотрительностью и осторожностью, предпочитая надежность сколько-нибудь серьезному риску.
Царь Федор Иванович, покуда был жив, освящал своим присутствием деятельность Годунова, давал ей легитимную основу, а в глазах крепко верующих людей — заодно и своего рода мистическую защиту для всей страны.
Сильная и чистая вера Федора Ивановича — главная отличительная черта, оставшаяся в памяти современников и будущих поколений наряду с загадкой «простоты» его ума. Как ни парадоксально, именно благочестие этого монарха порой заставляло его удаляться от молитв и развлечений, подвигало на практическую деятельность. Именно благочестием объясняются многие события в жизни государя, в частности действия, произведенные им как правителем России. Пусть и нечасто, но такое происходило: самодержец, на девять десятых передавший бразды правления другим людям, иногда вмешивался в ход державных дел, влияя на них по своей воле.
С детских лет Федор Иванович много ездил по монастырям, должен был знать строгий и чистый иноческий обиход. Летописи свидетельствуют о том, что с восьмилетнего возраста отец брал мальчика в дальние поездки по монастырям, а с семилетнего — в ближнее богомолье за пределы Москвы. Осенью 1564-го, на Покров, мальчик посетил Троице-Сергиеву обитель. Летом 1565 года ребенок вновь побывал в Троице-Сергие-вом монастыре, а затем в Никитском (Переяславль-Залесский). Всего богомолье это заняло месяц. А осенью того же года он отправился с семьей по обителям на гораздо больший срок. Начав с того же удела преподобного Сергия, Иван IV, в сопровождении царицы и царевичей, побывал в Переяславле-Залесском, Ростове, Ярославле, Вологде и на Белом озере, «в доме» преподобного Кирилла. На следующий год путь царского богомолья, начавшись там же, пролег через Иосифо-Волоцкий монастырь и Вязьму. В феврале 1567 года государево семейство вновь посетило северные города и обители, совершая поездку, у которой были как деловые, так и молитвенные цели. Царевич опять посетил Троицу, Вологду и Кириллов монастырь на Белом озере…
Любопытная деталь: патриарх Иов в «Повести о житии» Федора Ивановича сказал совершенно определенно, что будущий монарх с молодости, то есть задолго до «царских лет», был духовно умудренным человеком.
Он проходил ту же школу, что и его отец, брат. Такую же школу пройдут в будущем и первые государи из рода Романовых. Но столь же сильное или, по крайней мере, сравнимое благочестие проявит лишь один из них — Алексей Михайлович (1645–1676). Все они любили богомолье, все ездили по монастырям, все регулярно посещали службы в храмах, все — кто больше, кто меньше — основывали новые монастыри, строили церкви, жертвовали немалые средства на храмовые нужды. Но сколь же разительно расходились их характеры, их образ действий как политиков!..
Взойдя на трон, Федор Иванович сохранил искреннюю любовь к богомолью и надеялся на чудодейственный дух монастырей как на лучшее средство для решения самых сложных проблем в своей жизни. И еще он всю жизнь был кроток, имел поистине голубиное сердце.
Для русского государя любая сторона жизни — политика, поскольку она так или иначе связана с судьбами тысяч людей. Формально оставаясь в отдалении от державных дел, царь Федор Иванович именно тихим своим благочестием вводился в некоторые сферы правления как весьма активный деятель. Монарх-инок не только молился и не всегда перекладывал решение практических задач на чужие плечи.
Добродушная крепкая вера Федора Ивановича еще в царствование отца, Ивана Грозного, вовлекла будущего монарха в серьезный конфликт. Государь Иван Васильевич не имел обыкновения церемониться с женщинами. Сам он женат был большее количество раз, нежели позволяют православные церковные каноны, и ничуть не ставил себе во грех, когда заставлял сына, царевича Ивана, разводиться с его супругами. Иван Иванович к моменту смерти (1581) пребывал в третьем браке. Зато тишайший, «простой умом» Федор Иванович на увещевания отца не поддался.
О тяжелых семейных обстоятельствах царевича Федора Исаак Масса сообщает следующее: «Федор Иванович взял себе жену еще при жизни своего отца-тирана, и так как в течение трех лет у него не было от нее наследника, она родила одну только дочь, которая вскоре умерла[120], то Иван Васильевич пожелал, чтобы сын, следуя их обычаю, заточил ее в монастырь и взял себе другую жену… Федор Иванович, человек нрава кроткого и доброго, очень любивший свою жену и не желавший исполнить требование отца, отвечал ему: „Оставь ее со мною, а не то так лиши меня жизни, ибо я не желаю ее покинуть“. В досаде, что сын не подражает ему, Иван горько раскаивался, что предал смерти своего сына, весьма походившего на него».
Нет никакой уверенности в том, что царевич Иван Иванович по характеру своему был близок Ивану IV, но во всяком случае он оказался более послушен отцовской воле, чем младший брат.
Кроткий Федор нашел для неистового родителя единственную угрозу, способную переломить его настойчивость: царевич поставил на кон свою жизнь. А для Ивана IV жизнь сына обрела теперь особенную ценность, ведь это была еще и жизнь единственного законного престолонаследника, плоть от плоти царской…
Что заставило царевича поступить подобным образом?
Развод сомнительно выглядел с точки зрения веры, а Федор Иванович как христианин вел себя безупречно. И он захотел остаться чист перед Богом.
В 1585 году, уже будучи государем, Федор Иванович опять столкнулся с необходимостью оборонять свой брак от вмешательства извне, когда знать потребовала от него развода с Ириной Годуновой и вступления в новый брак. Федор Иванович развестись отказался.
Бездетность Ирины Годуновой была главным душевным мучением для царственной четы. Постоянное пребывание в молитве, поездки на богомолье по монастырям, церковная благотворительность Федора Ивановича и его жены во многом связаны были с этим их общим горем.
Англичанин Джером Горсей, то ли получив тайное распоряжение от Б. Ф. Годунова или даже самого царя, то ли решив оказать Борису Федоровичу услугу, о которой тот не просил, взялся устраивать семейные дела царицы Ирины. По его словам, Ирина Федоровна часто оказывалась беременной, но с рождением детей у нее возникали какие-то проблемы. Горсей получил консультации «оксфордских, кембриджских и лондонских медиков касательно… затруднительных дел царицы Ирины», а также вывез в Россию английскую повитуху. Но с повитухой вышла странная история. Она прожила почти год в Вологде, вернулась в Англию, так и не увидев царицу, и, разгневанная, подала жалобу королеве Елизавете; та связывалась с русской государыней об этой проблеме, так что дело приобрело широкую огласку. В Московском государстве побывал английский медик Роберт Якоби, прибывший с королевским рекомендательным письмом в распоряжение Ирины Федоровны. Миссия его, видимо, не имела успеха. Попытки врачебной помощи не приводили к желанному результату: жизнеспособных детей у царицы не появлялось в течение многих лет.
Александро-Невская летопись содержит известие о том, что 25 июля 1585 года была завершена работа над драгоценной ракой для мощей преподобного Сергия Радонежского, которую начали изготавливать при Иване Грозном в 1555 или 1556 году. Федор Иванович совершил поход в Троице-Сергиев монастырь с царицей Ириной, чтобы там молить Сергия, «аще угодно ему будет преложити чюдотворивые его мощи в новую раку». Там же возносились молитвы о «чадородии» «неплодной» царицы.
В декабре 1591 года Федор Иванович отправился на большое богомолье, возможно с супругой, и объезжал монастыри на протяжении нескольких месяцев. Он побывал в Троице-Сергиевом, Никольском Можайском, Пафнутьеве Боровском и Саввино-Сторожевском Звенигородском монастырях. Пафнутьев Боровский монастырь Федор Иванович любил, надо полагать, не менее Троице-Сергиевой обители, поскольку ездил туда неоднократно — так, царь отправился туда на богомолье и в 1594/95 году. Кроме того, борове кая иноческая община получила от него поистине царский подарок — там был построен Успенский храм «больши старого». К преподобному Пафнутию, как и к преподобному Сергию, царь обращался с молитвой о «чадородии»: тогда было распространено мнение, связывающее рождение государя Ивана Васильевича с «прошением» и «молением» святого Пафнутия.
Недалеко от современной Пречистенской набережной, во 2-м Зачатьевском переулке, располагается Зачатьевская обитель, обязанная своим существованием царю Федору Ивановичу и, возможно, его супруге. Еще в середине XIV столетия на этом месте был основан Алексееве кий женский монастырь. Впоследствии его перенесли. Но небольшая община, не ушедшая со старого обиталища, при попечительстве Федора Ивановича обрела каменный храм Зачатия святой праведной Анны (около 1584) с двумя приделами, освященными во имя святого Федора Стратилата и святой мученицы Ирины (освящены в 1585-м), что связано с участием царственной четы в судьбе обители. Да и само освящение храма — «говорящее». Мечтая о чуде, вымаливая у Бога чудо — рождение ребенка, государь и государыня вспомнили об ином, библейском чудесном рождении, совершившемся милостью Господней.
Царь вообще был весьма щедр в отношении Церкви. Когда речь шла об общегосударственной политике, решения принимало аристократическое правительство или, позднее, единолично Борис Годунов. Государь же мог одобрить меры, наносившие материальный урон Церкви, — если всей стране требовалось потуже затянуть пояса. Когда же речь шла о персональных пожертвованиях, Федор Иванович оказывался великим милостивцем в отношении храмов и монашеских обителей. Он раздавал им земли, деньги, дарил ценное имущество.
Как щедрого жертвователя Федора Ивановича знали и на Православном Востоке. Русское серебро и русские меха отправлялись в монастыри Афона, шли на поддержку православных иерархов Константинополя, завоеванного турками, Святой земли, Египта, и т. п. на протяжении столетий.
Иного рода царская милость и пожалование были явлены Псковской земле в трудный час. В 1592 году в северных областях России началась эпидемия, от которой не знали спасения. Государь, твердый в вере, уповающий на помощь Божью, решил прибегнуть к небесному заступничеству. По словам Псковской летописи, он «прислал со святою водою с Москвы чюдотворцовых мощей Петра, Алексея, Ионы, и мед чудотворцов Алексеев». По мнению самих псковичей, именно эта мера и оказалась спасительной: «С тех мест преста мор».
Уже в зрелых годах царь с царицей получили то утешение, которого лишены были в юности. В июне 1592 года у них родилась девочка, царевна Феодосия. Однако царская радость вышла недолгой. Не известна причина, по которой маленькая царевна скончалась; известно лишь то, что она не пережила младенческого возраста. 25 января 1594 года «преставися благочестивая царевна Феодосия Федоровна, единочадная царя Федора Ивановича дщерь, и погребена бысть в Вознесенском девичье монастыре, в церкви Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, с прежними благочестивыми царицами и с княгинями великими. Царь же Феодор Иванович печален бысть многое время, и плач бысть на Москве велий, и повеле государь по монастырем и по храмом и нищим давати милостыню», — говорит летопись. С 1930 года и поныне тело несчастной девочки покоится в Архангельском соборе Московского Кремля.
Вероятно, смерть дочери худо повлияла на здоровье Федора Ивановича, а ведь он и до того не отличался телесной крепостью. Дочь свою московский государь пережил всего на четыре года, далеко не дожив до старческого возраста.
Одним из величайших событий, случившихся в царствование Федора Ивановича, стало учреждение патриаршего престола в Москве. Патриаршая кафедра пришла на замену митрополичьей, утвердившейся здесь еще в XIV столетии. Это поставило Русскую православную церковь на одну ступень с древнейшими церквями Восточного христианства — Константинопольской, Иерусалимской, Александрийской и Антиохийской.
Государь Федор Иванович оказался в числе главных участников грандиозного действия, связанного с введением патриаршества.
В июне 1586 года в пределах Московского государства появился патриарх Антиохийский Иоаким, искавший милостыни. Правительство приняло его ласково и обставило его приезд с необыкновенной пышностью, даже пригласив на обед к государю. Но Церковь отнеслась к визиту Иоакима настороженно, чуть ли не холодно. В российской столице очень хорошо знали, в каком состоянии находятся иерархи Православного Востока. С Москвой их связывала «дорога смирения»: туда ехали, надеясь получить русские деньги на устройство самых насущных дел. А получая необходимые средства, сталкивались с подозрительным отношением. Эти подозрения имели под собой вескую основу: греческие православные иерархи действовали под полным контролем турецких мусульманских властей либо оказывались в тесной связи с Ватиканом; значительная часть греческих «книжников» получала богословское образование на Западе, в латинизированных училищах. Глядя на это, русские архиереи испытывали сомнения в стойкости веры греческих церковных властей. Иной раз подобные сомнения оказывались верными.
Когда патриарх Иоаким встретился с митрополитом Дионисием в Успенском соборе, в присутствии высшего духовенства, глава Русской церкви едва сдвинулся с места ему навстречу; более того, Дионисий, хотя и пребывал в более низком сане, первым благословил гостя, вместо того чтобы смиренно принять от него благословение. Иоакима не пригласили служить литургию и даже не пустили в алтарь. В ответ патриарх ограничился лишь кратким замечанием в адрес митрополита.
Вскоре после инцидента в Успенском соборе государь Федор Иванович выступил в Боярской думе. Среди прочего, монарх заявил о своем желании, «если Богу угодно и писания божественныя не запрещают, устроить в Москве превысочайший престол патриаршеский». На это присутствующие согласились, решив обратиться за утверждением к патриархам Православного Востока. Предположительно, Федора Ивановича мог подтолкнуть к подобного рода действиям энергичный, суровый и весьма книжный митрополит Московский Дионисий. Несколько месяцев спустя из-за выступления против Годуновых он потеряет митрополичий сан. Однако идея Московского патриаршества, ему, очевидно, принадлежавшая, не была забыта.
Впоследствии, на протяжении нескольких лет, события развивались неспешно. И только в 1589 году их течение ускорилось, увенчавшись благополучным завершением.
Борис Годунов, начав переговоры с Иоакимом, уговорил его взять на себя почетную и ответственную функцию. Надо полагать, не обладая щепетильностью Федора Ивановича в делах веры, конюший напомнил патриарху Антиохийскому, что источник богатой милостыни — двор государя Московского — может откликаться на прошения греческих архиереев с разной интенсивностью… Видимо, для пригляда за святейшим и для раздачи щедрого подаяния вместе с ним отправился в путь русский дипломат Михаил Огарков.
Иоакиму потребовался год, чтобы добраться до дома, установить связь с прочими православными патриархами и начать подготовку к большому церковному собору по столь важному делу. Летом 1587-го в Москву явился некий грек Николай с мольбами о новой порции милостыни, а также докладом о приготовлениях, устроенных по воле Иоакима и патриарха Константинопольского Феолипта. Собор четырех патриархов только еще планировался, глав Иерусалимской и Александрийской церквей только еще пригласили на него, но те пока не доехали до места. Иначе говоря, иерархи Православного Востока не торопились, разбирая проблему, поставленную перед ними энергичной Москвой.
Эту сонную неспешность взорвали внешние обстоятельства. В Москве сменился митрополит[121], а в Константинополе — патриарх. Феолипт был свергнут по воле турецкого султана, и на его месте оказался патриарх Иеремия II, прежде уже бывавший на Константинопольской кафедре. Этот человек, весьма искушенный в богословских вопросах, успешно полемизировавший с протестантами, волевой, умный, вернулся на патриаршую кафедру из ссылки. Здесь он застал полное разорение. Турки за долги отобрали для последующего превращения в мечеть патриарший собор… Константинопольская патриархия находилась в плачевном состоянии, духовенство ее бедствовало от ужасающей нищеты.
Смена патриарха и открывшиеся Иеремии обстоятельства не позволяли ему сколько-нибудь продвинуть дело, о котором радели в Москве. Но молва о чудесном нищелюбии Федора Ивановича, наделявшего восточных иерархов с великой щедростью, позвала Иеремию в путь. Собираясь посетить столицу России, он думал о том, как поправить дела патриаршей кафедры в Константинополе, но никак не ожидал, что от него потребуют учредить новую патриаршую кафедру в Москве.
Проехав через земли Речи Посполитой, Иеремия добрался до Смоленска в июне 1588 года. Для начала Иеремии оказали почет, которого не знал Иоаким. Спутник его, архиепископ Элассонский Арсений, писал позднее, что патриарха за пять миль до Москвы встретили посланцы государя и митрополита: четыре архиерея, власти московских обителей, «почетные бояре» и «много народу». Принимая патриарха, царь Федор Иванович повелел устроить для него второй трон — «весьма благоукрашенный». Доселе невиданная почтительность!
Поселив гостей на подворье владыки Рязанского, правительство вместе с тем выставило вокруг палат крепкую стражу, обеспечившую полную их изоляцию от внешнего мира… Другой спутник Иеремии, митрополит Монемвасийский Иерофей, сообщает подробности, связанные уже не с почетом, а с политическими предосторожностями в отношении патриарха: «Никому из местных жителей не дозволяли ходить к нему и видеть его, ни ему выходить вон с подворья, — и когда даже монахи патриаршие ходили на базар, то их сопровождали царские люди и стерегли их, пока те не возвращались домой».
Итак, Иеремия сидел со свитой на подворье рязанского епископа, окруженный почтением, обеспеченный всем необходимым и… без всякого внимания со стороны правительства. В день царского приема он поговорил на протяжении часа с Годуновым, не сделал ни единого официального шага к созданию патриаршей кафедры в Москве, был отпущен на обед и как будто забыт. Не на день и не на неделю, на месяцы! От патриарха Константинопольского ждали «проявления доброй воли» — если говорить языком современного политического этикета. Второстепенные чиновники вели с Иеремией беседы, наводя его на мысль о необходимости даровать России своего патриарха. Ни царь, ни Годунов, ни кто-либо из высшего духовенства не вступали с ним в беседы. Но и обратно его не торопились отпустить. Вопрос о большой милостыне — не о подарках, а именно о значительной финансовой помощи — московские власти также, видимо, не торопились решать.
Иеремия гневался, недоумевал, колебался, но спокойному русскому упорству ничего противопоставить не мог.
В январе 1589 года патриарх Константинопольский наконец дал себя уговорить. Он согласился поставить Иова.
Незадолго до этого по воле государя должен был сойтись для «советования» большой церковный собор. Он состоял из десяти русских архиереев во главе с Иовом и представителей главнейших монастырей. Церкви дали высказаться. Это не была пустая формальность, как напишут впоследствии некоторые историки. Царь всё решал, его конюший Борис Годунов всё устраивал, но они не могли распорядиться судьбой Церкви вопреки ее устремлениям. Требовалось официальное согласие на два изъявления монаршей воли. Во-первых, учредить в Москве новую патриаршую кафедру, а в прочих городах «умножить» епископов, архиепископов и митрополитов. Во-вторых, возвести в патриарший сан митрополита Иова, а не иного претендента. Соборное совещание постановило во всем согласиться с пожеланиями, высказанными Федором Ивановичем.
23 января 1589 года Иеремия впервые за время пребывания в Московском царстве посетил Успенский собор. Здесь он встретился с русским духовенством и совершил ритуал избрания кандидатов на патриарший престол. Для духовных властей в действиях грека не было ничего неожиданного, да и сам Иеремия видел свой путь до самого финала: ему предстояло назвать трех заранее обговоренных лиц[122], а затем из их числа царь Федор Иванович выбрал Иова. Двое других претендентов возводились в митрополичье достоинство. Иеремия благословил на поставление в сан всех троих.
26 января произошло поставление Иова. Церемония была обставлена с необыкновенной роскошью, подобно венчанию Федора Ивановича на царство. Царь, патриарх и «нареченный патриарх» со свитами собрались в Успенском соборе. Федору Ивановичу пришлось играть в торжественном обряде весьма активную роль. Именно он подал Иеремии драгоценную панагию, клобук и посох — знаки патриаршей власти, чтобы тот передал их Иову. Монарх также произнес речь. Затем он вручил Иову подлинный посох митрополита Петра, которого особо чтило московское духовенство, поскольку именно в годы его пребывания на митрополичьей кафедре престол был перенесен в Москву.
Торжества шли еще несколько дней. Наконец праздничная полоса была исчерпана. Русские дипломатические чиновники и доверенные люди от высшего духовенства приступили к формальному закреплению достигнутого. По «Уложенной грамоте» об учреждении патриаршей кафедры в Москве, помимо введения патриаршества и двух новых митрополий (Ростовской и Новгородской), на Руси появились дополнительно еще две митрополии (Крутицкая и Казанская), а также шесть архиепископий (Тверская, Вологодская, Суздальская, Нижегородская, Рязанская и Смоленская)[123]; кроме того, возникли шесть епископий в городах, где раньше не было архиерейских кафедр, — во Пскове, Устюге, Ржеве, Дмитрове, Брянске, а также на Белом озере.
В феврале 1593 года прошел Константинопольский собор, где вопрос о новой патриаршей кафедре получил благополучное разрешение.
Установление патриаршества сопровождалось еще одним «нововведением» или, вернее, реставрацией старого, но крайне полезного учреждения. Речь идет о восстановлении книгопечатания в Москве. Первая после значительного перерыва книга, изданная московскими печатниками, Триодь постная, вышла 8 ноября 1589 года. Приуроченность издания к возведению митрополита Иова в патриарший сан подчеркнута в послесловии. О трудах Федора Ивановича по возобновлению книгопечатания там же сказано прямо: «Свет истинный, Слово Божие и Сын Отчь возсия молнию светолучныя благодати в сердцы благочестиваго царя нашего и государя великого князя Феодора Ивановича всея Руси самодержца, дабы царьство его исполнилося божественных книг печатных. И повелением его, великого государя, благочестиваго царя… начата бысть печатати в богохранимом царствующем граде Москве… во исполнение церковнаго богогласия, боговдохновенная сия книга Триодь постная с Синоксари и с Марковыми главами».
К настоящему времени историкам русской печати известны экземпляры четырех московских изданий времен Федора Ивановича: Триодь постная 1589 года, Триодь цветная 1591 года, Октоих 1594 года и Апостол 1597 года.
В царствование государя Федора Ивановича совершилось три великих деяния, прямо связанных с волей и поступками монарха. Первое из них — учреждение патриаршества в Москве, второе — разгром шведов на северо-западных рубежах страны, а третье — основание московского Данилова монастыря. И если первое и последнее легко и естественно ложатся в судьбу царя, мечтавшего быть иноком, то второе, если не всматриваться, совершенно выпадает из нее.
Государь лично участвовал в походе против шведов, победоносно завершил его и вернулся в Москву триумфатором, хотя в характере его не видно ни малейшей тяги к войне, армии, воинскому делу.
Иван IV принужден был отдать шведскому королю, помимо значительных завоеваний в Ливонии, еще и целый ряд собственных городов — Ям, Копорье, Ивангород, Корелу. Особенно жалели о Нарве, которая сыграла роль стратегически важного для России портового центра. Все эти города, безусловно, требовалось отвоевывать: там жило русское православное население, шли богослужения в храмах, канонически подчиненных митрополиту Московскому. Таким образом, причины войны были не только и даже не столько политическими, сколько вероисповедными.
Возможно, решающую роль в возобновлении войны сыграло событие, ничтожное по количеству участников, но больно уколовшее и Русскую церковь, и русского государя. Известно, что примерно в это время подданные шведского короля напали на Печенгский монастырь — самую северную обитель Православного мира, основанную за полстолетия до того святым Трифоном. Как должен был отнестись к этому Федор Иванович, великий миролюбец?
Прежде всего, как государь православного народа. Он должен был мыслить себя и мыслил себя как первый защитник веры в стране. Официальный документ сообщает: «7098-го году месяца декабря в 14 день царь и великий князь Федор Иванович всеа Руси пошол в свою отчину в Великий Новгород. А из Новгорода идти ему на свийского короля»[124].
18 января 1590 года войска покинули Новгород. А уже 23 января государь Федор Иванович с армией, пришедшей «в силе тяжкой», осадил город Ям. Двух дней бомбардировки хватило, чтобы «фортеция» капитулировала[125]. С воинством, пытавшимся ее защищать, поступили милостиво, отпустив всех сдавшихся. Это был поступок в духе царя-миролюбца, и он сказался на успехе кампании гораздо сильнее, нежели та свирепость, которую 12 лет назад проявлял в Ливонии его родитель, царь Иван. Часть шведских солдат перешла на российскую службу.
Не успел сдаться Ям, как очередной «легкий корпус» скорым маршем устремился к Ивангороду и Нарве. Здесь должны были развернуться главные события войны. Шведы уже знали о масштабах вторжения и опасались осады. На подступах к обеим крепостям действовало полевое соединение противника под командой Густава Банера. Его разбил полк князя Дмитрия Хворостинина. Главные силы нашей армии подошли к Ивангороду и Нарве 2 февраля. И тот, и другая обладали первоклассными крепостями. Нарву защищал гарнизон в 1600 человек. Ивангород располагал меньшим гарнизоном, но само место, выбранное когда-то русскими фортификаторами для строительства его стен, отлично защищало укрепления. Подобраться к высоким ивангородским стенам для штурма было весьма неудобно. И там, и там осажденные могли использовать сильный артиллерийский парк.
Штурм Нарвы не удался. Но русская тяжелая артиллерия сделала свое дело. Неся тяжелые потери от ее огня, шведы согласились сдать Федору Ивановичу Ивангород и Копорье, лишь бы он снял осаду.
На этих условиях 25 февраля государь Федор Иванович и шведское командование заключили перемирие сроком на год.
Армия возвращалась домой с победой. Хотя и не удалось добыть Нарву, но огромная территория от южного побережья Невы до Наровы была возвращена России.
В январе 1593 года Швеция и Московское государство заключили двухлетнее перемирие. Осенью 1594 года в Тявзине, близ Ивангорода, начались трудные переговоры об окончательном мирном соглашении. Переговорный процесс затянулся на полгода. Русская сторона настаивала на возвращении под власть московского государя Нарвы и Корелы. Лишь в мае 1595-го шведские и российские дипломаты пришли к приемлемому варианту. Главным успехом для Московского государства стало не только закрепление за ним земель, отвоеванных в 1590 году, но и возвращение Корелы[126] с уездом.
В то время когда на северных рубежах Московская держава перешла в наступление, на юге ей пришлось держать оборону от извечного неприятеля — крымцев.
В июле 1591 года крымский хан Казы-Гирей шел к сердцу России с огромной армией. Помимо своих подданных, хан вел на Москву ногайцев и черкас, при нем находились турки, в том числе янычары, и турецкая артиллерия. По одним данным, его войско насчитывало 100 тысяч бойцов, по другим — у страха глаза велики! — 400 тысяч.
Между тем тысячи московских ратников пребывают на Ливонском и Карельском фронтах. Московские воеводы, прикидывая, сколько они могут выставить против Казы-Гирея, понимают: численное превосходство будет не на их стороне. Давать татарам бой в чистом поле — очень рискованно. Можно лишиться армии, а с ее разгромом почти неминуемо падет и Москва. Полки, вышедшие было на юг, к Окскому рубежу, спешно оттягиваются к столице. До прибытия неприятеля русскому командованию удается сконцентрировать под стенами столицы значительные силы для отпора. И, что особенно важно, собрать мощный артиллерийский парк.
Помня, что в предыдущем генеральном столкновении с крымскими татарами, на Молодях, в 1572 году, их остановил «гуляй-город», наши воеводы распорядились опять развернуть его. Это значило: создать из телег, с укрепленными на них деревянными щитами, импровизированное укрепление, за которым располагались стрелки, а также конница, готовая выйти в контратаку. Русская подвижная крепость встала южнее Замоскворечья, приблизительно по линии современных улиц Донская площадь — Серпуховской Вал — Даниловский Вал. Древняя Данилова обитель оказалась в роли своего рода «форта».
Когда наши полки заняли назначенные позиции, подошли крымцы Казы-Гирея. Первой неожиданностью для хана стал «гуляй-город», за которым русские ратники изготовились драться насмерть. Второй — Белый город, со множеством башен и с орудиями, возле которых стояли пушкари с зажженными фитилями. Татарская конница, пусть и усиленная бесстрашными янычарами, была не лучшей силой на приступе. Вряд ли крымцы готовились штурмовать мощные укрепления…
Казы-Гирей расположил свои силы по широкой дуге от Коломенского до Воробьевых гор. Вероятно, штурм «гуляй-города» казался ему делом более простым, нежели атака на каменные стены Белого города. В случае успеха его армии открывалось «мягкое подбрюшье» русской столицы — богатое Замоскворечье. А оттуда, при удаче, конные лучники могли запустить «красного петуха» в центр Москвы. Благо стояла страшная жара, и большой пожар вновь, как при Иване Грозном, мог уничтожить город за несколько часов…
4 июля татары оттеснили русские дворянские сотни к «гуляй-городу» и начали атаку на него. Основные усилия прикладывались к взлому русской обороны на флангах. Отряды «царевичей» бросались в атаки у Данилова монастыря, у Котлов, от Воробьева. Крымцев неизменно отбивали, нанося сильный урон, захватывая пленников. Однако и глубокие контратаки русских захлебывались — дворянскую кавалерию отбрасывали назад, к «гуляй-городу». По свидетельствам летописцев и разрядов, легкие силы обеих сторон «травились» долгое время, наши ввели в бой литовских и немецких наемников, но никто не мог перебороть неприятеля, бой шел «ровно».
Бой тянулся до ночи с 4 на 5 июля. Он так и не принес решающего успеха ни одной из сторон.
Наутро 5-го русские ратники, защищавшие Москву, пришли в изумление: враг пропал! До рассвета снялся со станов и скорым ходом отступал на юг, оставляя имущество, лошадей, бросая тела задавленных в спешке. Обратный путь крымской орды был устлан мертвецами и умирающими. Дворянская конница и казаки гнались за нею, но успели совершить немногое: потрепать обоз да сцепиться с арьергардными отрядами, отбив часть пленников и, в свою очередь, захватив, по разным данным, от четырехсот до тысячи татар. Трофеями московских воевод стали кони и верблюды, во множестве оставленные неприятелем. 6 июля Казы-Гирей был уже за Окой.
О причинах, побудивших татар к отступлению, подробно рассказал иноземец Исаак Масса: «Борис, как главный воевода и наместник царя, подкупил одного дворянина отдаться в плен так, чтобы неприятель не открыл обмана, и татары, видя, что он одет в золотую парчу, расшитую жемчугом, подумали, что он, должно быть, знатный человек, и привезли его связанного в лагерь к своему царю; на вопрос хана, чего ради в эту ночь беспрестанно стреляли, не причиняя никакого вреда неприятелю, он весьма мужественно отвечал, что в эту ночь 30 тысяч поляков и немцев прибыли в Москву с другой стороны на помощь московиту; пленника жестоко пытали, но он оставался непоколебим и твердил всё одно, не изменяя ни слова, так что татары подумали, что то правда, и, поверив, весьма испугались и… в чрезвычайном беспорядке и сильном замешательстве обратились в бегство…» Свидетельство дьяка Ивана Тимофеева позволяет внести некоторые коррективы в этот рассказ. Во-первых, пленник не рассказывал татарам о каких-то, неведомо откуда взявшихся немецких и польских союзниках; он сообщил иное: «Радость в городе из-за того, что из западных стран, из земель Новгородской и Псковской, согласно ранее посланным царем приказам, на помощь ему, соединившись вместе, быстро вошли в город многочисленные вооруженные войска, которых царь и жители города с нетерпением ожидали». Во-вторых, сам русский пленник, героически выдержавший пытки, сумел сбежать от крымцев, когда они ударились в бегство.
Что же происходило летом 1591-го с государем Федором Ивановичем? Какую роль он сыграл в событиях московской обороны?
На первый взгляд царь явился лишь безучастным свидетелем великого вооруженного противостояния. Исаак Масса сообщает о нем: «Великий князь Федор Иванович видел всё это (боевые действия у „гуляй-города“. — Д. В.) из своего дворца, расположенного посреди Москвы, на высокой горе у реки Москвы, и горько плакал, говоря: „Сколько крови проливает за меня народ. О, если бы я мог за него умереть“». Пискаревский летописец сообщает, что царь молился о спасении Москвы. Новый летописец уточняет: царь стоял на молитве день и ночь. То же пишет и патриарх Иов. По его свидетельству, царь вспомнил о чуде, дарованном от Бога через икону Богородицы его предку, великому князю Дмитрию Ивановичу, на поле Куликовом, где русские полки разбили Мамая. Федор Иванович приказал устроить «соборное моление» Богородице и крестный ход с Ее чудотворной иконой; он сам долго молился перед образом, призывая Пречистую заступиться за город «и всю страну христианскую». Как только крестный ход завершился, государь дал распоряжение отнести святыни к «гуляй-городу», туда, где располагался в походном шатре храм Преподобного Сергия Радонежского. В день битвы царь вновь молился и «укреплял» своих приближенных, говоря им, что бояться Казы-Гирея не стоит, поскольку заступничество Богородицы и святых чудотворцев заставит хана отступить со стыдом и срамом. Новый летописец прямо сообщает о чуде, совершенном тогда монархом. Когда царь наблюдал из окна за своими ратниками и крымцами, бившимися вдали, за его спиной встал боярин и дворецкий Г. В. Годунов. Не выдержав напряжения, Григорий Васильевич расплакался. Утешая его, Федор Иванович молвил: «Не бойся: сее же нощи поганые побегут и завтра тех поганых не будет». Это доброе пророчество Годунов сейчас же разнес «многим людем».
Таким образом, Федор Иванович, отпуская воевод на битву и не вмешиваясь в их распоряжения, в то же время напряженно искал защиты сил небесных для своей страны и своей столицы. Он вел духовную брань, вымаливая заступничество для грешного своего народа. Вера его приближенных в добрый исход вооруженной борьбы упрочилась, ведь они видели в словах Федора Ивановича Божие откровение. Между тем для малой горсти войск, собранных под Москвой, любое известие, укреплявшее духовную стойкость, имело важнейшее значение.
Вслед за победой над Казы-Гиреем происходит событие, не менее важное для русской истории, в особенности для истории Москвы. По воле Федора Ивановича создается монастырь, который в будущем станет одним из знаменитейших в нашей стране.
Пискаревский летописец так рассказывает об этом: Федор Иванович «на том месте, где обоз[127] стоял, велел поставить храм камен Пречисты[е] Богородицы Донския и монастырь согради, и и[г]умена и братию учинити, и вотчину пожаловал под Москвою село Семеновское, семь верст от Москвы по Колужской дороге». О том же повествует Арсений Элассонский. Новый летописец уточняет, что царь желал видеть в новой обители общежительное устройство. Патриарх Иов сообщает, что по прошествии года с небольшим после победы над крымцами «благочестивый самодержец повеле устроити монастырь честен близ царьствующего града Москвы на том месте, идеже прежереченный град-обоз стояше, и в нем созда церковь камену во имя Пречистые Богородицы, честныя и славныя Ея похвалы, и всякими изрядными лепотами пречюдно украси ю; и подобие пречюдные иконы Пречистые Богородицы Донския написати повеле, златом и камением драгим украсив».
Собор Донского монастыря начали возводить в конце лета или осенью 1592 года. Судя по документам того времени, в 7101 году от Сотворения мира (1592/93) собор уже существовал. Значит, его строительство завершилось не позднее августа 1593 года. Там хранился список с чудотворной иконы Богородицы Донской[128], и каждый год 5 июля, в память об избавлении от «агарян», совершались особое празднование и крестный ход из Кремля в монастырь.
Старый (или, иначе, «Малый») собор Донского монастыря — тот самый, возведенный при Федоре Ивановиче, — дошел до наших дней. Он до сих пор напоминает москвичам о доблести их далеких предков, о молитве царя за свой народ, о заступничестве Богородицы.
Великий государь, царь и великий князь Московский и всея Руси Федор Иванович провел на престоле тринадцать с половиной лет. Ночью с 6 на 7 января 1598 года после тяжкой болезни он ушел из жизни.
Кончина Федора Ивановича не меньше, чем смерть Ивана Грозного, окружена слухами, за давностью лет превратившимися в легенды. Твердо известно следующее: до наступления последнего срока монарх успел исповедаться, причаститься и собороваться; 8 января царя похоронили. Его супруга Ирина вскоре стала инокиней Александрой Новодевичьего монастыря. После тяжелой политической борьбы и при поддержке патриарха Иова Борис Годунов занял русский престол. Ныне останки государя Федора Ивановича лежат в Архангельском соборе Московского Кремля, рядом с останками царя Ивана IV и царевича Ивана Ивановича. Тело государыни Ирины Федоровны покоится в подвальной палате Архангельского собора, куда оно было перенесено из разрушенного Вознесенского собора в 1930 году.
Через несколько лет после кончины царя-инока патриарх Иов напишет житийную повесть о святом блаженном государе Московском и всея Руси. Именно так отнесутся к нему некоторые публицисты и летописцы XVII столетия. Почитание Феодора Иоанновича быстро установится в столице России, он попадет в святцы, войдет в Собор Московских святых как чудотворец.
Память святого Феодора совершается в день его преставления 7 (20) января и в Неделю перед 26 августа (8 сентября) в Соборе Московских святых.
ДМИТРИЙ УГЛИЦКИЙ Несчастный младенец
В череде высокородных Рюриковичей есть личности, которых прославило не удачное правление, не победы над неприятелем и не особое христианское благочестие, вообще не что-либо относящееся к их жизни, а одна только кончина. Самой известной из таких фигур является царевич Дмитрий. Это младший сын царя Ивана IV, родившийся от брака с Марией Нагой.
После смерти отца он жил с матерью в Угличе, на положении удельного князя. Характер мальчика еще не сформировался. Смутные известия о нем, сохранившиеся в иностранных источниках и русских летописях, малодостоверны. Короткая жизнь мальчика, оборванная после того, как он едва вступил в возраст отрочества, — сплошное белое пятно с редкими проблесками твердо установленных фактов.
Загадка гибели царевича волнует умы русских людей на протяжении нескольких столетий. И начать рассказ о нем стоит именно… со дня кончины.
Царевич Дмитрий Углицкий, родной брат государя Федора Ивановича, ушел из жизни 15 мая 1591 года.
Его смерть вызвала большой бунт в Угличе, убийство царского дьяка Михаила Битяговского, приглядывавшего за Нагими, а также его сына Данилы, Осипа Волохова (сына мамки царевича Василисы) и еще нескольких человек. 19 мая до Углича добралась следственная комиссия, спешно собранная в Москве. Ее возглавляли князь Василий Иванович Шуйский, а также митрополит Сарский и Подонский Геласий.
До наших дней дошло «следственное дело» о смерти царевича. Это плод разыскной работы, проведенной комиссией Шуйского. Исследователи сломали немало копий, оценивая достоверность этого документа, весьма внушительного по объему. Он вызвал целую дискуссию. Однако состояние «дела» и приемы работы комиссии отступают на второй план перед одним фактом. Глава комиссии, князь Василий Иванович, будущий государь всея Руси, озвучил три разные версии по поводу судьбы царевича. Официальная версия, опирающаяся на результаты следственной деятельности, такова: играя в «тычку», мальчик испытал приступ «падучей болезни»[129], коей страдал сызмальства, и заколол себя ножом. Для царя Федора Ивановича Шуйский озвучил именно этот вариант (1591). При Лжедмитрии I он признал «подлинность» нового царя, а значит, и возможность чудесного спасения мальчика (1605). Воцарившись, Василий Иванович заявил, что царевича полтора десятилетия назад все-таки убили (1606). Какая может быть достоверность у «следственного дела», если человек, персонально отвечавший за его составление, полностью отверг содержащиеся там выводы? Можно 200 лет заниматься палеографическим и текстологическим анализом этого памятника старомосковского делопроизводства, но итог в любом случае придется ставить под сомнение из-за трех взаимоисключающих свидетельств Шуйского. Всякий раз он под давлением политических обстоятельств менял «показания», и не факт, что последние его заявления по «делу царевича Дмитрия» правдивы.
В разное время политические круги, связанные с Борисом Годуновым, Лжедмитриями I и II, Василием Шуйским и первыми государями из династии Романовых, насаждали одну из трех этих версий.
В царствование Федора Ивановича и Бориса Федоровича правительство внушало народу несомненную правильность официальной версии: мальчик случайно закололся во время игры. Никакого криминала. Никакого душегубства. Никакого политического интриганства. А вот мятеж в Угличе и убийства приказных людей, совершенные с подачи Нагих, — настоящее преступление. Сторонники иного мнения, смевшие высказываться публично, подвергались ссылкам и казням.
При Лжедмитриях подданным и дипломатам соседних государей заявляли вполне официально и безо всякого сомнения: царевич спасся. Его хотели убить клевреты Бориса Годунова, но мальчика уберегли от душегубов, и ныне он честно взошел на московский престол… Потом опять хотели убить и опять уберегся… и т. д. Лжедмитриев было как минимум трое, и каждый «уберегся», причем последний уберегался три раза, как в компьютерной игре, — пока русскому народу не надоело возиться со самозванческими бирюльками.
При Василии Шуйском и первых Романовых столь же официально и несомненно принималось на уровне государственной политики: Дмитрия Ивановича убили злодеи, подосланные Борисом Годуновым, который возмечтал о царском венце. При государе Василии Ивановиче произошло обретение мощей невинноубиенного царевича и он был прославлен в лике святых Русской церковью.
Подавляющее большинство русских публицистов и летописцев конца XVI — первой половины XVII столетия разделяет третью версию. Мнение Церкви, в сущности, такое же. Большинство иностранцев, хорошо знавших русскую жизнь, не сомневались в том, что Дмитрий Иванович пал от рук убийц. Та же версия в разных вариациях признана наиболее вероятной большинством серьезных ученых, занимавшихся историей Московского государства. Наконец, русский интеллектуал пошел за мнением Николая Михайловича Карамзина, Александра Сергеевича Пушкина и Алексея Константиновича Толстого, осудивших Бориса Годунова за убийство мальчика. У первой версии, опирающейся на «следственное дело», немного сторонников — что при Федоре Ивановиче, что сейчас, но все-таки они существуют. Что же касается второй, о «чудесном спасении», то она оказалась хороша в основном для авторов авантюрной исторической прозы.
Надо признаться честно: несмотря на усилия историков-профессионалов, состояние источников не позволяет дать точный ответ на вопрос о том, был ли убит Дмитрий Иванович или же стал жертвой несчастного случая. Наиболее правдоподобна версия, согласно которой царевича убили. Именно — наиболее правдоподобна, окончательного доказательства у нее нет.
Царевич Дмитрий Иванович лишился жизни, когда ему было восемь с половиной лет (он родился 19 октября 1582 года). Мальчик находился на пороге отрочества. Он начинал, хотя бы в первом приближении, понимать обстоятельства политической жизни, связанные с ним самим и его семьей. Он мог уже проявлять интерес к ним, и некоторые источники как будто сообщают о подобном интересе. Наконец, сам государь Федор Иванович, будучи бездетным, мог заинтересоваться судьбой брата, потенциального наследника. А потом и приблизить его к себе, повести с ним разговоры, в перспективе — переместить из Углича поближе к своей особе. Прежде у монарха не было оснований заводить диалог с царевичем. О чем говорить царю с малышом? Теперь же мальчик пришел в возраст, когда беседа со взрослым братом получала смысл. И тут царевич пропал. Исчез с доски большой политики. Его миновали хвори младенчества, он спокойно пережил несколько детских лет, а встретился со смертью на пороге того возраста, который сделал бы его значимой политической фигурой. Слишком вовремя, чтобы ныне историк мог спокойно соглашаться с версией случайной смерти…
С конца 1586 года Б. Ф. Годунов во главе большой группировки родственников и сторонников доминировал в политической жизни России. Сам царь влиял на дела нечасто, притом более всего в тех сферах, которые мало интересовали Годуновых. Взросление царевича Дмитрия ставило перед всей «партией Годуновых» серьезную проблему. Федор Иванович, пожелав однажды вернуть брата ко двору, вместе с ним возвратил бы и Нагих, раздосадованных полным отстранением их от придворной жизни. Те, влияя через мальчика на царя, могли добиться высоких постов для себя и, во всяком случае, получили бы места в Боярской думе. А это грозило совершенно новыми, непросчитываемыми раскладами большой политики. Более того, ставило под сомнение всякую возможность для Годуновых сохранить влияние после кончины Федора Ивановича.
Если бы Федор Иванович умер не в 1598 году, а в начале 1591-го, до смерти своего брата, как знать, кто бы выглядел более легитимным претендентом на престол?! Вдова Федора Ивановича, царица Ирина, конечно, была связана с государем законным браком, а его брат Дмитрий произошел от брака, который не имел правильной канонической основы. Но… он являлся сыном и братом царя, порфирородным. У него в жилах текла кровь московских Рюриковичей. Это — во-первых. А во-вторых, при наличии такого кандидата на трон против Годуновых могли подняться оставшиеся семейства высшей знати: лучше делить власть с «несмысленным» отроком да слабыми Нагими, нежели с могучими Годуновыми. Иначе говоря, царевич отлично подходил на роль живого знамени для большого междоусобия. И кто знает, чья сила взяла бы верх в подобном противостоянии… В 1605 году Лжедмитрий, тень настоящего царя, пришел в Москву и уничтожил Федора Борисовича, сына законно венчанного монарха, то есть гораздо более легитимного наследника, нежели его отец Борис Годунов. Что послужило основой для победы самозванца? Прежде всего, даже у незаконного сына Ивана Грозного кровь была намного «выше», нежели у кого-либо из Годуновых. Устоялась бы новая династия, привыкли бы к ней, да хотя бы успели венчать Федора Борисовича на царство, тогда — другое дело! А невенчанный сын выскочки, вызывавшего бешеное раздражение у родовитой аристократии, ни в ком из сильных людей не порождал сочувствия.
Теперь хотелось бы прокомментировать одно обстоятельство из сферы чистой медицины. Насколько вероятно, что у мальчика, страдающего эпилепсией, во время игры в «тычку» начнется приступ и он убьет себя ударом ножа? Дабы не подменять собой медэксперта, автор этих строк решил обратиться с подобным вопросом к дипломированному врачу Дмитрию Федотову, долгое время практиковавшему (в том числе и в составе бригады «скорой помощи»), а ныне ставшему известным писателем.
По его словам, эпилептик, потеряв контроль над телом, может кольнуть себя ножом. Но вот заколоться ударом в горло — крайне сомнительно. Для этого больному человеку надо удержать в руке нож, претерпеть одновременное судорожное сокращение нескольких групп мышц, притом в момент, когда нож направлен именно в горло, а не куда-нибудь еще, и удар должен непременно прийтись на жизненно важный орган. Дмитрий Федотов резюмировал: «Очень маленькая вероятность».
А если учесть, что для игры в «тычку» нож держат за лезвие, то во время эпилептического припадка мальчик скорее изранил бы себе руку, чем горло.
Получается труднопредставимая ситуация. Скорее, кто-то, воспользовавшись приступом у несчастного царевича, мог направить его руку, нежели он сам сильным и очень неудобным движением нанес колющий удар себе в горло.
Итак, царевич самим фактом своего существования создавал колоссальную проблему для Годуновых. Его не убили в младенчестве. Всё же поднять руку на младенца, к тому же царской крови, — великий грех. Не всякий решится запятнать им душу. Да и надеялись, надо полагать, на одно простое соображение: может, приберет его Господь, как прибрал Он другого отпрыска Ивана Грозного — старшего сына от Анастасии Захарьиной-Юрьевой. Тот утонул во младенчестве, так и этот заболеет или будет сражен иной какой-нибудь напастью…[130] В общем, сам.
Но вот не получилось.
Пришлось убирать.
Слишком уж вовремя приспела «случайная» смерть царевича Дмитрия Ивановича.
Историк Р. Г. Скрынников высказал точку зрения, хотя и экстравагантную, но всё же покорившую умы некоторых историков: «Смерть Дмитрия была выгодна не столько Годунову, сколько его противникам. Они обвинили правителя в преднамеренном убийстве младшего сына Грозного… Восстание могло обернуться для Годуновых катастрофой». Кое-кто прочитал этот тезис как обвинение неким силам антигодуновской оппозиции в убийстве царевича.
Но… кому из реальных политических деятелей в 1591 году могла принести выгоду насильственная смерть Дмитрия?
Нагим? О нет. Они лишались своего единственного сокровища, единственной надежды впоследствии приблизиться к престолу.
Шуйским? Странно же они отыграли эту партию, если глава следственной комиссии, князь Василий Иванович Шуйский, поддержал версию, выгодную Годуновым.
Романовы-Юрьевы? Но они находились в союзе с Годуновыми.
Знатнейший аристократ князь Ф. И. Мстиславский? С его стороны нет никаких действий против Годуновых. Напротив, Годуновы надеются на него как на знатнейшего человека страны, способного возглавить армию перед лицом смертельно опасного врага. Летом 1591 года к Москве придет Казы-Гирей и Мстиславского назначат главнокомандующим. Если бы он интриговал против Бориса Федоровича, ожидала бы его ссылка, если не что-нибудь похуже ссылки, а вовсе не командование вооруженными силами державы.
Таким образом, замечание Скрынникова не удается связать с какой-либо действительной политической силой.
Остается повторить сказанное выше.
Анализ источников по «делу царевича Дмитрия», проводившийся несколькими поколениями российских историков, исследование каждой строчки, каждого нюанса в показаниях очевидцев, каждого свидетельства современников, показывает следующее: наиболее правдоподобна гипотеза, согласно которой Дмитрий Иванович подвергся умышленному убийству и нити от этого убийства тянутся в лагерь Годуновых.
Не сходится лишь одно: такая неосязаемая, почти невидимая вещь, как политический почерк, манера «вести дела». Борис Федорович Годунов — тонкий знаток интриги. Он не был сторонником массовых публичных казней в стиле Ивана Грозного. Он вообще не любил расправляться с врагами прилюдно, у всех на виду. В его стиле было убрать врага с глаз долой, аккуратно подвести его под опалу, отправить его в ссылку, а уж там тихо прикончить руками пристава или иного верного человека. Так он поступил с Мстиславским-старшим, с Шуйскими, с митрополитом Дионисием, притом последнего не стал уничтожать, довольствуясь лишением сана. В Риге жила с дочерью вдова ливонского короля Магнуса Мария — дочь удельного князя Владимира Андреевича Старицкого и правнучка великого князя Московского Ивана III Великого. В случае смерти Федора Ивановича она оказалась бы претендентом первой величины — на уровне того же царевича Дмитрия, ибо появилась на свет от законного брака. В 1585 году, исполняя поручение Б. Ф. Годунова, Джером Горсей выманил Марию Ливонскую из Риги посулами богатой жизни — там ее содержали без особой роскоши. Но и в России королеву ожидала не лучшая судьба. Ее постригли вместе с дочерью в монахини. А инокине уже не взойти на престол ни при каких обстоятельствах… Она жила безбедно (хотя и желала большего), среди прочих инокинь подмосковного Подсосенского монастыря — близ Троице-Сергиевой обители. Дочь ее недолго оставалась в живых после приезда в Россию; она умерла, возможно, насильственной смертью. Держатель Тверского княжения и бывший правитель всей России в течение года, крещеный чингизид Семион Бекбулатович также мог рассматриваться русской знатью как отличный кандидат на роль царя-марионетки; его лишили обширных владений на Тверской земле и отправили в село Кушалино. Таким образом, он скатился к статусу хотя и очень знатного, но совершенно безвластного человека. Столь же виртуозно и негромко Борис Федорович будет убирать со своей дороги неприятелей, когда станет государем Московским. Без какого-либо социального взрыва исчезли из московской жизни Романовы-Юрьевы, князья Черкасский, Сицкий… Притом чаще всего, не имея прямой необходимости убивать, Борис Федорович оставлял противнику жизнь, лишь отобрав у него средства для продолжения борьбы.
Напоминает ли инцидент в Угличе хоть сколько-нибудь эту расчетливую, «шахматную» рациональность? Убийство среди бела дня, при свидетелях, мятежное буйство, скандал… Притом не все Годуновы готовы были поддержать тогда «семейное дело», а представители некоторых родов — Клементьевы-Чепчуговы, Загряжские — прямо отказались мараться душегубством, когда их пытались использовать для злого дела в Угличе[131]. Убийцы не успели еще приступить к своей работе, а заговор уже получил огласку. «Хорошо сделана» только работа следственной комиссии. Врагу Годуновых князю В. И. Шуйскому дали поработать на благо Годуновых и его именем скрепили версию, подтверждающую непричастность Бориса Федоровича к убийству. Жутковато, аморально, но с точки зрения «большой игры» — красиво. Всё остальное в большей степени напоминает «уголовную разборку», пользуясь терминологией нашего времени, чем заранее спланированное политическое убийство, результаты которого просчитаны на несколько шагов вперед. А потом является следственная комиссия, собранная усилиями Бориса Федоровича, и в какой-то степени выправляет «корявины» дела…
Это наводит на мысль о том, что инициатором убийства был не Борис Федорович лично, а кто-то из его родственников или приближенных, ретивый не по уму[132]. Притом человек, которого сам Б. Ф. Годунов непременно простил бы за самоуправство, за жестокий план, реализованный у него за спиной. Например его дядя, Дмитрий Иванович Годунов. Он, во-первых, обеспечил восхождение Бориса Федоровича, помог ему оказаться у кормила власти. Во-вторых, сам играл весьма значительную роль в правящем кругу. Наконец, в-третьих, все-таки дядя — родная кровь… Он мог начать действовать по собственному плану, не ожидая угрозы со стороны племянника. Дядя сделал дело — страшно, безнравственно, глупо. Племянник, хотя и жестокий интриган, а всё же умный, государственный человек, исправил дядины «труды», насколько мог. Он понимал дядю — или кто еще мог быть организатором убийства — и сам бы, вероятно, предпринял какие-то действия в том же направлении, только аккуратнее, тише… А может быть, не предпринял бы, убоявшись Бога. Остается гадать. Но, так или иначе, бродя по кровавым следам, оставленным родней в Угличе, Борис Федорович замарался так, что репутация злодея прикрепилась к нему бесповоротно.
Быть причастным к умерщвлению маленького мальчика, какой бы политикой ни оправдывалось это действие, — большой, страшный, губительный грех. Даже если великий государственный муж, каким являлся Борис Годунов, не отдавал приказа убить царевича, одни его усилия укрыть истину, казнить правдолюбцев, защитить преступную родню — уже глубоко греховны. А если все-таки именно он затеял уничтожить Дмитрия, что ж, величайшие заслуги Бориса Федоровича перед российской государственностью и русским народом не перевешивают подобного преступления.
Возможно, угличская трагедия свыше дарована России, чтобы поколение за поколением, вникая в ее смысл, избавлялись от шелухи политических соображений и задумывались о страшном грехе убийства… Возможно, Господь послал нашему народу притчу о том, к чему ведет нарушение заповеди «Не убий!». Один мальчик, погибший при загадочных обстоятельствах, — и великая Смута, вытекшая из этого малого источника, чтобы погубить миллионы христиан… А злополучный Борис Федорович стал Божьим инструментом воспитания. Иваном Грозным отучали православный народ России от своевольства и гордыни, а Борисом Годуновым — от жажды власти и склонности к душегубству. Они, быть может, сыграли роль резцов в деснице Господней, роль устроителей нашей земли в отрицательном смысле: так поступать нельзя! Благодатен опыт отказа от пороков, а не следования им. Вся история царевича Дмитрия и рода Годуновых была, вероятно, одним словом Бога, произнесенным специально для нашей страны.
Что же царь Федор Иванович? Убит его младший брат. Страна полнится слухами о причастности Годуновых к его смерти. Люди, служащие в составе государева двора, говорят о том же самом. Некоторых подбивали участвовать в душегубстве…
А государь не лишает близости к престолу человека, которого столь многие считают главным виновником угличской трагедии. В источниках, близких по времени к «делу царевича Дмитрия», нет свидетельств о какой-либо немилости, выраженной Федором Ивановичем по отношению к Борису Годунову. Ни казни, ни опалы, ни злого слова. Смиренная тишина. В чем причина? Ужели столь слаб царь, столь безволен или даже столь глуп, чтобы спустить Годуновым такое преступление или просто не увидеть их виновности?
Ответ на эти вопросы не так прост, как может показаться. Нет ничего простого, ничего очевидного в отношении царя к Годуновым после смерти царевича.
Прежде всего, Федор Иванович переживает страшное время. Печаль сокрушает его. Он бездетен. Родители его давно в гробу. Один брат ушел из жизни давным-давно, другой же недавно лег в могилу… Теперь — никого родного в целом свете, кроме супруги Ирины. И вот приходят разные люди, укоряя единственного близкого человека в страшных грехах.
Верить не хочется…
И никаких душевных сил самому заняться расследованием.
«Когда это известие[133] пришло в Москву, — пишет иноземец Исаак Масса, — сильное смущение овладело и народом, и придворными, и царь был в таком испуге, что жел&\ смерти; его утешали, как только могли (курсив мой. — Д. В.); царица также была глубоко огорчена и желала удалиться в монастырь, ибо подозревала, что убийство совершилось по наущению ее брата, жаждавшего управлять царством и владеть короной; но она молчала и всё, что слышала, таила в сердце, никому ничего не сообщая». Царь, сломленный горем, желавший окончить свой путь земной после такого удара, размышляет отнюдь не об отмщении. Он просто не находит себе места от душевных терзаний. Господь через него, как думали тогда многие, давал защиту всей Русской земле. Но сам Федор Иванович в делах личных, семейных, подвергался страшным бедам.
И его в таком состоянии не так уж сложно было обмануть. Ведь это человек с голубиным сердцем. Смиренный, тихий молитвенник, богомолец, избегавший всякой скверны. Может быть, бесхитростная интуиция, позволяющая таким людям читать в сердцах добрые и злые намерения, указала бы ему истинных виновников смерти бедного царевича, кабы сам царевич не был ему столь дорог. Невыносимая боль мучила Федора Ивановича. И он, по мягкости и добродушию, в молениях о душе брата, сокрушаясь сердцем, поверил докладу Шуйского. Федор Иванович не был ни слишком слаб, ни слишком малоумен, чтобы недостаток воли или здравого разумения отнял у него возможность наказать Годуновых. Тут другое. Царь проявил необыкновенную доверчивость лишь по одной причине: большое горе лишило его всякой решимости вглядываться в чашу с обыденным человеческим злом.
Летопись с полной отчетливостью показывает, как совершался обман: «Князь… Василей [Шуйский] начал роспрашивати града Углеча всех людей, како небрежением Нагих заклася сам [царевич]. Они же вопияху все единогласно, иноки и священницы, мужие и жены, старые и юные, что убиен бысть от раб своих от Михаила Битяговского по повелению Бориса Годунова с ево советники. Князь же Василей пришед с товарыщи к Москве и сказа царю Федору неправедно, что сам себя заклал. Царь же Федор положи опалу на Нагих (курсив мой. — Д. В.); Борис же з бояры поидоша к пытке и Михаила Нагово и Андрея пыташа накрепко, чтобы они сказали, что сам себя заклал. Они же никак тово не сказаша: то и глаголаху, что от раб убиен бысть. Борис же, розъяряся, хотяше и достальных погубити; царицу ж Марею повеле пострищи и повеле сослати в пусто место за Белоозеро, а Нагих всех розосла по городом по темницам; град же Углеч посла и повеле разорити… И иних казняху, иних языки резаху, иних по темницам розсылаху; множества же людей отведоша в Сибирь и поставиша град Палым (Пелым)[134] и ими насадиша, и оттово же Углеч запустел».
Одна из новгородских летописей свидетельствует о том же, добавляя лишь ряд подробностей. К государю Федору Ивановичу сразу после бунта в Угличе из мятежного города отправлена была грамота, согласно которой смерть царевича произошла «от нарочно присланных убийц». Однако Борис Годунов предъявил царю, давно оставившему рычаги правления страной, иную грамоту — о случайном самозаклании Дмитрия. Царь, «вельми… скорбея», отправился в Углич (эта подробность в других источниках отсутствует, а достоверность ее спорна), но по наущению Годуновых на Москве начали устраивать пожары, дабы отвлечь умы от угличского дела. И царю также было сказано: «Уже… брата не воскресиши, а свое здравие больше повредиши, а тем временем на Москве до последней хоромины выгорит, и не к чему будет возратитися, но повели твоя держава послати лутшия мужи во град Углечь на взыскание истины». Царь, как сообщает летопись, «не разуме коварства сего злохитрого, но яко сродника своего, добра ему желающего, послушав, послал перваго своего боярина Василья Шуйскаго, сам же возвратился к Москве». Ну а следственная комиссия во главе с князем Шуйским скрыла от монарха истину.
Многие ли осмеливались прийти к царю со словами обличения? Многие ли смогли преодолеть боязнь перед могущественными Годуновыми? Не столь давно они расправились с величайшими родами царства. Сам князь Василий Иванович Шуйский покорно склонил голову перед Годуновым, доложив царю ложную версию угличских событий. Должно быть, страх замкнул уста большинству влиятельных людей, способных донести правду до царя. Дьяк Иван Тимофеев впоследствии с необыкновенной силой выразит тяжкий смысл этого угрюмого молчания в своем трактате. Обвиняя в злодействе Бориса Годунова, что, как уже говорилось, не совсем очевидно, он пишет о нем: «Знал он, знал, что нет мужества ни у кого и что не было тогда, как и теперь, „крепкого во Израиле“ от головы до ног, от величайших и до простых, так и благороднейшие тогда все онемели, одинаково допуская его сделать это, и были безгласны, как рыбы… Знатнейших он напугал и сделал несмелыми, менее знатных и ничтожных подкупил, средних между ними не по достоинству наградил многими чинами… Думаю, что здесь грешно умолчать и о том, что не меньшую тяжесть мук, которые суждены этому цареубийце[135], понесут в будущем и все, молчавшие пред ним и допустившие его сделать это».
А если кто-то и сумел преодолеть соблазны — не поддался сребролюбию, не покорился тщеславию, не убоялся расправы, то и это слово правды попадало на каменистую, неплодородную почву. Ведь, в сущности, кому должен был поверить Федор Иванович? Служильцам своего двора, угличским челобитчикам или…
Стоит всмотреться в этот список:
Ирина Годунова, царева супруга;
Борис Годунов, царский шурин и главное доверенное лицо в делах державного управления;
князь Василий Шуйский, враг Годуновых, большой вельможа, боярин, глава следственной комиссии в Угличе;
Андрей Петрович Клешнин, участник следственной комиссии, окольничий, бывший «дядька» царевича Федора Ивановича, да еще и тесть Г. Ф. Нагого;
митрополит Сарский и Подонский Геласий, духовный глава той же следственной комиссии;
патриарх Московский и всея Руси Иов.
Всё это — великие люди царства. Всё это — ближайшее окружение царя. Всё это — персоны, которым Федор Иванович должен был доверять в первую очередь. Больше, чем кому бы то ни было. И прежняя вражда князей Шуйских с Годуновыми подводила очень серьезный фундамент под нынешнее выступление главы следственной комиссии в пользу Годуновых.
И все они так или иначе поддержали версию князя Шуйского о случайной смерти царевича. А если не поддержали, то, во всяком случае, не стали ее оспаривать. Причины, по которым сами Годуновы и Шуйский придерживались ее, не вызывают особенных вопросов. Но отчего Церковь наша свидетельствовала в пользу душегубства? Ведь минет всего лишь полтора десятилетия после 1591 года, и она канонизирует невинноубиенного царевича Димитрия. Невинноубиенного, а вовсе не налетевшего на нож во время припадка! Почему же тогда, в мае 1591-го, русские иерархи смолчали? Может, испугались судьбы, постигшей незадолго до того митрополита Дионисия и владыку Крутицкого Варлаама, лишенных сана из-за столкновения с Годуновыми? Конечно, можно было бы допустить такое мнение — кто из добрых и крепко верующих православных не допускает порою слабости? — если бы не весьма мужественное поведение Иова при Лжедмитрии I. Патриарх, едва не убитый озверевшей толпой, все-таки нашел в себе силы прилюдно обличить власть самозванца. Чего он, монашествующий, так убоялся в 1591-м? Как видно, причина его молчания заключается не в страхе за собственную жизнь или сан. Иов, а за ним и Варлаам, надо полагать, чувствовали разлитый в воздухе тяжелый запах всеобщего озлобления. Еще искорка — и вся страна запылает как один громадный костер! Толпы пойдут громить Кремль и убивать Годуновых, те выведут стрельцов, прикажут открыть огонь, запылает провинция, высокородные аристократы вновь поднимутся против годуновской партии… Брат пойдет на брата, крови прольется нескудно, разрушится та благодатная тишь, которая давала государству Российскому столь необходимую передышку. Два иерарха — Иов в первую очередь — ощутили зловонное дыхание Смуты. Они испугались не за себя, а за страну. И кто посмеет судить их за страшное молчание?! Ведь два больших духовных пастыря взяли, быть может, тягчайший грех на душу. Они не обличили Годуновых, но надолго отсрочили великое кровопролитие…
А теперь, вооружившись здравым смыслом, надобно окунуться в обстоятельства тех майских дней 1591-го. Допустим, кто-то сумел встретиться с царем и передать ему слово правды об убийстве царевича. Более того, подобное могло случиться не один раз. Федор Иванович, обеспокоенный, идет к супруге: «Иринушка, кто виноват, как ты думаешь?» А та отвечает уклончиво: «Не ведаю. Неужто ты думаешь, что это сродственники мои?» Идет царь к самому Борису Годунову: «Признайся, ты сотворил злодейство! Зачем же ты младенца…» На это Борис Федорович спокойно молвит: «Бог свидетель, я не виновен. И вот злейший мой враг, князь Шуйский, скажет тебе, великий государь, то же самое». Василий Иванович Шуйский подтверждает слова Бориса Федоровича. Здесь же оказывается Андрей Петрович Клешнин и, дружелюбно улыбаясь, говорит: «Поверишь ли мне, великий государь, старому твоему дядьке? Я в родстве с Нагими, это все знают[136], но скажу честно: дело чистое, шурин твой нимало не запачкан». Чему тут верить? По здравому рассуждению, верить следовало бы не каким-то смутьянам, а вот этим людям. И вот являются патриарх Иов с владыкой Варлаамом и обращаются к царю с такими словами: «Доныне тишь была на Москве и по всей Руси. Убережем ее, великий государь. Бог найдет виновных, а ныне понаказать бы мятежных людей, но иной крови отнюдь не проливать. Великий государь, смилуйся, яви милосердие!» — «Да кто ж царевича убил?» — «Не уберегли младенца, прибрал его Господь. А ныне ты не поддавайся гневу, великий государь, сия страсть — пагубная».
И остался Федор Иванович тих, милосерден, негневен.
Ему было очень плохо. И он поверил в самую добрую версию угличского дела.
Печальной этой истории самый верный, самый правдивый итог подвел Алексей Константинович Толстой, вложивший в уста Федора Ивановича реплику, обращенную к Борису Годунову:
Шурин! Прости меня! Я грешен пред тобой! Прости меня — мои смешались мысли — Я путаюсь — я правду от неправды Не отличу!Великий праведник просит прощения у великого грешника. Он ошибается.
Но разве не остается после этого праведник праведником, а грешник — грешником?
И разве не остается — неисповедимыми путями — правда об этой истории в памяти народной?
ВАСИЛИЙ IV ШУЙСКИЙ Страж порядка
Василий Иванович Шуйский — последний Рюрикович на русском престоле.
Род князей Шуйских не уступал в знатности Рюриковичам Московского княжеского дома — потомкам Даниила Александровича, Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Предки Шуйских несколько раз занимали великокняжеский престол во Владимире. А значит, и они сохранили право претендовать на него, если правящая династия пресечется.
Помня об этом, Шуйские с неистовой энергией стремились породниться с московскими государями и приблизиться к трону. При Федоре Ивановиче их борьба вылилась в большие городские волнения 1586 года. Но впоследствии род их со всей могучей группировкой сторонников подвергся жестокому разгрому от Годуновых. Те понимали: если уйдет из жизни бездетный Федор Иванович, Шуйские окажутся первейшими претендентами на престол.
Некоторые из Шуйских погибли в ту пору, иные оказались в ссылке. Им больше не доверяли командовать армиями, держали в отдалении от великих государственных дел.
Но они всё еще оставались богаты и влиятельны. Их высокую кровь невозможно было испортить опалой: Годуновы могли только мечтать о высокородной знатности, какой обладали Шуйские. Когда-нибудь их семейство должно было вернуться ко двору.
В 1591 году князя Василия Ивановича Шуйского призвали на старшинство в одном державном деле крайне сомнительного свойства.
В Угличе, играя в ножички, погиб царевич Дмитрий — младший брат царя Федора Ивановича. То ли случайно закололся (что крайне маловероятно с медицинской точки зрения), то ли принял смерть от злодеев, инсценировавших несчастный случай. Второй вариант гораздо более вероятен. Молва приписала злодейство Годуновым. Скорее всего, не сам Борис Федорович, но кто-то из его ближней родни, возможно, дядя Дмитрий Иванович Годунов, влиятельный вельможа, отдал приказ об убийстве царевича.
Главой следственной комиссии назначили Василия Ивановича, представителя семьи явно враждебной к Годуновым. Идеальная кандидатура! Кто посмеет усомниться в выводах, сделанных недоброжелателем Бориса Федоровича и его родни? С другой стороны, осмелься Шуйский озвучить версию, невыгодную для Годуновых, и…
Здесь необходимо сделать паузу и обратиться к годам детства и юности князя.
Василий Иванович родился в 1552 году. Его отец, князь Иван Андреевич Шуйский, приходился родным сыном опальному боярину, казненному юным Иваном Грозным или, вернее, казненному по слову Ивана Грозного — государя-отрока, руководимого аристократической «партией», враждебной Шуйским. Василий Иванович смерти деда не застал, он появился на свет позже. Но видел, как трудно дается родителю карьера, сравнительно с отпрысками других линий разветвленного рода, как медленно двигается он в должностях. То скромный «спальник» при особе государя, то воевода во второразрядных Великих Луках или маленьком Дорогобуже, то предводитель «полка левой руки», низшего «по чести» в действующей армии… Отец рвался к более высоким постам, жаждал места в Боярской думе. И постепенно царь стал доверять чаду большого «крамольника». Взял его в опричнину, дал боярский чин, назначил в большом походе на Ливонию первым воеводой «полка правой руки» — второго «по чести» во всей армии. За счастье карьерного возвышения князь заплатил нескудно: ему пришлось женить сына Дмитрия (младшего брата Василия Ивановича) на дочери Малюты Скуратова. А Григорий Лукьянович Скуратов-Вельский по прозвищу Мал юта имел репутацию весьма «худородного» человека и заплечных дел мастера. Зато — государев любимец! Этим счастьем Иван Андреевич Шуйский пользовался недолго. В начале 1573 года он сгинул в большой битве под Коловерью[137], проигранной шведам.
Василий Иванович обретает старшинство в семействе Шуйских. Не по возрасту, но по происхождению. Он старший сын в старшей ветви рода. И государь до поры до времени ему благоволит, перенеся доброе отношение с отца на сына. В 1581 году уже Василий Иванович возглавляет оборонительную армию, развернутую против татар на юге. Вообще, на протяжении зрелых лет князь довольно много ходил в походы, возглавлял отдельные полки и целые армии, набрал большой воеводский опыт. Не прославился великими победами, но и не опозорил своего имени. Роль полководца он примерил еще при Иване Грозном, а впоследствии исполнял ее неоднократно.
Карьера его пошла на подъем. Он женился на весьма знатной даме — Елене Михайловне из княжеского рода Репниных-Оболенских. Родня его успешно бьет шведов и поляков на фронтах Ливонской войны.
Все так удачно складывается… И вдруг — опала, арест!
Охлаждение царя к аристократу длилось очень недолго, всего лишь несколько месяцев. Но Василий Иванович понял на своей шкуре: тот, кто находится на верхних ступенях власти, может в одночасье потерять всё. Князю повезло, что царь вернул его ко двору, отменил опалу, дал воеводскую должность. При гневливом, переменчивом, артистическом характере Ивана IV дело могло кончиться гораздо хуже.
При новом царе, Федоре Ивановиче (1584–1598), Шуйские блаженствуют. Они — у кормила власти, им даются выгодные, высокие посты. Василий Иванович пожалован чином боярина, ему доверяют воеводство в огромном Смоленске. Это не скромный Дорогобуж, где когда-то мыкался его отец! Иностранцы видят в нем крупную фигуру. К тому же за ним следует слава умнейшего в роду Шуйских.
Семейство достигает высоты, на какую не восходило вот уже лет сорок — со времен малолетства Ивана Грозного. Но и падение его удивительно!
Проиграв борьбу за власть с Годуновыми, Шуйские жестоко расплатились. Двое из них легли в могилу, в том числе брат Василия Ивановича Андрей. Почти все представители рода лишились земель, должностей, отправились в непочетную ссылку. Где и пребывали на протяжении нескольких лет.
А теперь самое время вернуться к событиям 1591 года, началу рассказа о судьбе Василия Ивановича.
Князь расследует смерть царевича Дмитрия. Он следователь опытный, возглавлял когда-то Московский судный приказ. Почти наверняка он докапывается до сути, и логика разбирательства ведет его к Годуновым. Как поступить князю? Рассказать во всеуслышание о том, что ему открылось? Его дед лишился жизни в опале. Его отец согласился на позорный брак одного из сыновей, чтобы восстановить благосостояние семьи и открыть дорогу собственной карьере. Он сам угодил в опалу при Иване Грозном. Его брат убит Годуновыми. Его родня унижена и раздавлена.
Сказать правду?
А в ответ Годуновы не только уничтожат его, но еще и дотопчут родню. Опыт собственных несчастий и, не менее того, бед, обрушившихся на близких, говорил ему, что это будет сделано незамедлительно, жестоко, беспощадно.
Василий Иванович доложил: несчастный случай.
Можно ли его оправдать? Во всяком случае, можно понять — у него имелись самые серьезные причины бояться и за свою жизнь, и за судьбу всего рода.
Старшего из Шуйских немедленно обласкали. Свидетельство того, что правительственная группировка (те же Годуновы и прочие союзные им вельможи) вернула доверие Василию Ивановичу, отыскивается в официальном документе. Тогда Россия вела большую войну со Швецией. Боевые действия шли вот уже несколько лет, принося то успехи, то неудачи. В списке воевод, направленных летом 1592 года в Новгород Великий — на формирование новой армии для борьбы со шведами, первым стоит имя Василия Ивановича Шуйского. Князю дают положение первого воеводы большого полка. А это, по воинским обычаям того времени, означало статус командующего. Семь лет никому из Шуйских не давали под команду не то что целое соединение, а хотя бы один полк! Теперь — дали. Показали им самим и всем прочим царедворцам: Шуйским государево благоволение возвращено.
Роду вернули кое-что из прошлого величия. Шуйские заседают в Думе, водят полки. Сам Василий Иванович рассуживает местнические тяжбы, воеводствует в богатом Новгороде, по праздничным дням бывает приглашен к царскому столу. Относительное благополучие и его, и рода длится весь остаток царствования Федора Ивановича и продолжается при Борисе Годунове (1598–1605). Когда Борис Федорович восходит на престол, Шуйские, по знатности, по древнему праву своему первейшие кандидаты на царский венец, не противодействуют ему.
Страшно.
Хотя и поворчали немного, но тихо, между собой, неофициально. А «Утвержденную грамоту» об избрании старого врага на царство подписали. Ворчание потом припомнили: одного из братьев Василия Ивановича обвинили в ведовстве, понизили в чине, а свитских людей его угнали в Сибирь. У самого В. И. Шуйского ничего не отобрали, зато позволили «худородным» выскочкам позорить его и бесчестить, вплоть до публичных побоев.
Вот так, униженно, тени своей остерегаясь, но всё же при дворе, на положении большого боярина, доживает Василий Иванович последние годы перед Смутой. Последние годы порядка и покоя. Последние годы главного своего неприятеля — царя Бориса Федоровича. И он доволен. Как и при Иване Грозном — всё могло сложиться гораздо хуже.
Что ему этот царевич Дмитрий? Бастард из рода московских Даниловичей, нагло присвоивший себе всю власть над Русью! Жалко его? Да нимало. Братьев своих жалко. Земель своих жалко. А мальчишку… да кому он нужен! Без него, пожалуй, может завязаться интересная игра… Одним наследником трона меньше, не так ли?
Эта ложь, благотворная для рода, вернется к Василию Ивановичу еще трижды, и под занавес так ударит облагодетельствованный им род, что он навсегда сойдет со сцены большой политики. Есть в судьбе Василия Ивановича великая трагедия. Бог требовал от него правды, род — лжи. Выбрав кровь, отвернувшись от неба, Шуйский еще раз высоко поднимется. Но и рухнет больнее, чем прежде.
В 1604 году против Бориса Годунова выступил самозванец Григорий Отрепьев, именовавший себя «чудесно спасшимся царевичем Дмитрием Ивановичем». В русскую историю он вошел под именем Лжедмитрия I. Авантюрист получил помощь от поляков, набрал войско и вступил в пределы России.
Любопытно, что среди воевод царя Бориса Федоровича с особенным упорством и умением Лжедмитрию противостояли Шуйские — братья Дмитрий и Василий. Первый из них командовал полком в армии князя Мстиславского, нанесшей самозванцу удар под Новгородом-Северским. Второй удачно действовал в сражении при Добрыничах (1605), где воинство Лжедмитрия разбили наголову. Затем, выполняя государев приказ, Василий Иванович упорно стоял с войском под Кромами, осаждая сторонников Лжедмитрия.
Когда Борис Федорович умер и его сменил на троне сын Федор Борисович, Шуйские вернулись в Москву. Здесь, как сообщает современник-иноземец, князь Василий публично «клялся страшными клятвами, что истинный Димитрий не жив и не может быть в живых, и показывал свои руки, которыми он сам полагал во гроб истинного [Димитрия], который погребен в Угличе, и говорил, что это расстрига, беглый монах, наученный дьяволом и ниспосланный в наказание за тяжкие грехи, и увещевал [народ] исправиться и купно молить Бога о милости и оставаться твердым до конца».
Иначе говоря, Василий Шуйский оказался в числе твердых сторонников годуновского семейства. На поле боя он проявил отвагу. На московских площадях — верность государю.
Возможно, эти душевные качества князь показал из страха перед всемогущим родом царя Бориса. Но, скорее, сыграло роль глубокое презрение князя к безродному выскочке-авантюристу, покусившемуся на русский престол. Василий Иванович, хоронивший царевича Дмитрия, мог увидеть и даже, скорее всего, увидел в злом маскараде, предпринятом подменышем, пощечину всей русской знати. Кто желает в государи русские? Ничтожный человечишка, ряженый, грязь! Годуновы — те хотя бы знатный род, невеликий, но — знатный, боярский. А это что такое? Собаку — на трон?!
Твердости Василия Ивановича хватило ровно до того момента, когда стало ясно, что Годуновы проиграли большую политическую игру и власти им не удержать. Войска стремительно переходили на сторону Лжедмитрия. Гонец от самозванца явился под Москву, в Красное Село. Тамошние жители, по свидетельству другого иноземца, «приняли этого гонца с большим благоговением и честью, великой толпой пошли с ним в город на площадь, окружили его там и созвали московскую чернь. Посол прочитал им письмо Димитрия, передал им приказания его и все подробности. Простолюдины стали между собою советоваться, пошли к князю Василию Ивановичу Шуйскому, просили его не скрывать от них правды, подлинно ли он велел похоронить молодого Димитрия, родного сына Ивана Васильевича, убитого в Угличе. Тогда тот отвечал им и дал знать, что Димитрий избежал козней Бориса Годунова, а вместо него убит и похоронен по-княжески сын одного священника».
Шуйский отправился ко двору самозванца, стоявшего в Туле, и там присягнул ему.
Несмотря на это, судьба Василия Ивановича висела на волоске. Когда сторонники Лжедмитрия убили молодого царя Федора Борисовича с ближайшей родней, князь оказался худшим врагом самозванца. Шуйского подозревали в желании убить новоявленного «Дмитрия Ивановича» и уж точно не могли простить речей, произнесенных против самозванца публично незадолго до падения Годуновых. По словам французского наемника Жака Маржерета, он «был обвинен и изобличен в присутствии лиц, избранных от всех сословий, в… оскорблении величества и приговорен императором Дмитрием Ивановичем к отсечению головы, а два его брата — к ссылке. Четыре дня спустя он был приведен на площадь, но когда голова его была уже на плахе в ожидании удара, явилось помилование, испрошенное императрицей — матерью названного Дмитрия, и одним поляком, по имени Бучинский, и другими; тем не менее он был отправлен в ссылку вместе с братьями, где находился недолго. Это было самой большой ошибкой, когда-либо совершенной императором Дмитрием, ибо это приблизило его смерть».
С большой прямотой высказался о том же эпизоде шведский агент в Москве Петр Петрей де Ерлезунда: «Князь Василий Иванович Шуйский… свидетельствовал, что он [Лжедмитрий] не истинный Димитрий, за которого выдавал себя. Потому что Шуйский знал настоящего Димитрия, когда он был жив, видел его мертвого после убийства, узнал и похоронил его. По этой-то причине Гришка и велел взять под стражу Шуйского, отвести его на площадь и положить голову его на плаху, располагая казнить его, если он не откажется от распущенных им слухов. Как человеку, жизнь была ему милее смерти: он показал, что язык у него мельница, отперся от своих слов и таким образом ложь и жизнь счел выше и благороднее правды и чести». Из ссылки братьев Шуйских довольно быстро вернули. Воцарившись на Москве, самозваный правитель не желал ссориться с главной общественной силой России — аристократами. А Шуйские пребывали на самой вершине аристократического слоя. Тронь их, и остальные встревожатся. Старший в роду изъявил покорность — что ж, пусть возвращается ссыльный князь из далекого Галича в столицу.
Иначе говоря, вертясь ужом, Василий Иванович выторговал себе сначала жизнь, а потом свободу.
Глядя на все эти увертки, вроде бы можно согласиться с теми, кто видел в Шуйском лукавого царедворца, вельможу с лисьим умом. Но уж очень мало согласуется с этим расхожим мнением жизненный путь опытного полководца и энергичного заговорщика. Как видно, лисий ум сочетался в характере Василия Ивановича с львиной отвагой. Он пережил четырех царей и от каждого терпел опалу, но сохранил положение большого государственного деятеля. Качества льва находились под гнетом постоянной угрозы потерять жизнь и погубить род. Но вот подошел срок, и Василий Иванович показал и храбрость, и волю, и способность отчаянно драться, стоя на краю бездны. Удары львиных лап смели с шахматной доски большой политики немало персон, мнивших себя великими людьми царства.
Именно князь Шуйский возглавил настоящий заговор. Не тот, в котором его ложно обвиняли, а действительный, втянувший в свою орбиту дворян и аристократов, стрелецких офицеров и московский посад. На посаде позиции Шуйских были традиционно прочны: этот аристократический род превосходно ладил со столичным купечеством.
Тот же Петр Петрей повествует: «Этот Шуйский велел тайком позвать к себе на двор капитанов и капралов с некоторыми дворянами и богатейшими гражданами, которые были самые искренние его друзья. Он объяснил им, что вся Россия каждый час и каждую минуту находится в великой опасности от нового великого князя и иностранцев, которых набралось сюда такое множество: чего давно боялись русские, теперь сбылось, как они сами узнают на деле. Желая прежде всех на что-нибудь решиться для этого дела, он едва было не потерял своей дорогой головы, и во всей Москве не нашлось бы никого, кто бы сделал что-нибудь для того или отважился на что для себя и государства. Но теперь они ясно видят, что из того выходит, а именно: погибель и конец всем русским; они будут крепостными холопами и рабами поляков, подвергнутся их игу и службе, потому что этот великий князь, выдающий себя за истинного Димитрия, ни во веки веков не родной сын Ивана Васильевича, а расстрига Гришка Отрепьев».
Василий Иванович сконцентрировал значительные силы. И все они в назначенный час принялись за работу, как шестеренки хорошо отлаженных часов.
В начале мая 1606 года невеста Лжедмитрия I, польская аристократка Марина Мнишек, венчалась с царем, не перейдя из католичества в православие. Более того, она приняла и другой венец — русской царицы! Вспышка недовольства странным царем и его чужачкой-женой подготовила почву для восстания. А безобразия поляков, большой массой приехавших в Москву, давно бесили горожан. Василий Иванович по достоинству оценил такой «подарок». Минула неделя со дня царской свадьбы, и по всей Москве грянул набат. Князь Шуйский повел своих бойцов свергать кремлевского самозванца.
Действия восставших отличались стремительностью и большим размахом. Немногие охранники «Дмитрия Ивановича» да его любимец вельможа Петр Басманов оказали сопротивление, за что поплатились жизнями. Пришлых поляков, разгневавших москвичей своими бесчинствами, рубили в домах и среди улиц. Лжедмитрий попытался спастись, но его схватили, умертвили, а над телом надругались.
Василий Иванович действовал с бешеной энергией. Князь остановил убийства иноземцев. Он повел переговоры с польским королем, предотвращая скорое вторжение с запада. Низложил лжепатриарха Игнатия, навязанного Русской церкви после того, как истинный патриарх Иов выступил против самозванца и лишился кафедры. Сослал Марину Мнишек в Ярославль.
И, главное, сам венчался на царство. 17 мая Лжедмитрий I лишился жизни, а уже 19 мая на его место был избран Василий IV Иванович из рода князей Шуйских.
Об этом избрании на царство сказано много скверного. Уже в XVII веке говорили: московская толпа выкликнула его в государи! Всю землю о нем не спросили! Но правда — гораздо сложнее.
Вот три взаимодополняющих показания иноземцев о событиях того времени.
Английское известие 1607 года: «Нынешний государь Василий Иванович достиг власти по праву наследования и соответственно утвержден по избранию его боярством, дворянством и общинами Москвы…»
Заметки грека-архиерея Арсения Элассонского: «Через три дня по кончине царя Димитрия все бояре и синклит и народ великой Москвы, без согласия всего народа великой России и прочих городов и начальников, провозгласили царем великой Москвы и всей России Василия Шуйского».
«Московитская хроника» немца-наемника Конрада Буссова: «Князь Василий Шуйский без ведома и согласия Земского собора, одною только волею жителей Москвы, столь же почтенных его сообщников в убийствах и предательствах, всех этих купцов, пирожников и сапожников и немногих находившихся там князей и бояр, был повенчан на царство патриархом, епископами и попами, и присягнул ему весь город, местные жители и иноземцы».
Все-таки не выкликнули из толпы. Избрание, конечно, обошлось без Земского собора, но, видимо, в результате полной поддержки московского посада, с которым у Шуйских имелась давняя приязнь, а также по итогам какого-то совещания служильцев государева двора — дворян и большой знати. Церковь его кандидатуру одобрила. 1 июня государя Василия Ивановича венчал на царство митрополит Новгородский Исидор, старший из русских архиереев, обретавшихся тогда в Москве. Позднее, когда главой Русской церкви стал Гермоген, он также безоговорочно поддержал Василия Ивановича. Желая упрочить свое положение, новый царь дал крестоцеловальную запись никого не карать бессудно, не наказывать без расследования, не мучить невинных людей за преступления их родни и не слушать клеветников.
Но отчего же не был созван Земский собор? В 1598 году Борис Годунов, желая подкрепить свою власть над Россией согласным мнением всей земли, собрал его и воцарился, заручившись одобрением страны. Василий Иванович Земским собором пренебрег. Судя по историческим сочинениям того времени, современников это покоробило. Торопился? Возможно. Опасался конкуренции со стороны других родовитых аристократов? Скорее всего. И, кажется, князь Федор Иванович Мстиславский рассчитывал обойти его в условиях большого общегосударственного собрания: он был более знатен. Великий интриган, позднее он строил козни против Шуйского… Но, вероятнее всего, сыграло роль иное соображение. Сейчас оно может показаться странным и даже необоснованным, но 400 лет назад звучало веско. Во всяком случае, англичане, судя по приведенному выше известию, восприняли его серьезно.
Как уже говорилось, Василий Иванович имел неоспоримые наследственные права на престол. Шуйские считались при дворе «принцами крови». Их предок по прямой, суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович в 1360–1363 годах занимал великокняжеский престол. Да и прежде Дмитрия Константиновича, еще в XIII веке, иные предки Шуйских бывали в великих князьях.
Аргумент серьезный. И зачем природному Рюриковичу, потомку великих князей, дождавшемуся своей очереди на их наследие, ради подтверждения своих прав созывать Земский собор? Он ведь не из Годуновых — семьи, не имевшей царственной крови… Он — знатный Рюрикович на русском троне. Василий Иванович, конечно, не знал, что окажется последним в череде государей Рюриковичей. Он мечтал, надо полагать, об утверждении суздальской ветви на царстве. И удержись Василий IV в царском звании, «прав крови» явно хватило бы для легитимизации новой династии.
Но он удержаться не смог.
Действия его проникнуты желанием разрубить узел, завязавшийся с его участием еще в 1591 году.
Тогда Василий Иванович доложил о «несчастном случае». Позднее, стиснутый обстоятельствами, признал в поддельном царевиче «настоящего», чудесно спасшегося. Затем опять разглядел «подделку». Первый раз опасался мести Годуновых. Второй раз — мести самозванца. Третий — спешил с заговором. Став государем, он мог более никого не бояться и сказать правду о событиях пятнадцатилетней давности.
В Углич к останкам царевича отправилась комиссия во главе с боярином князем Иваном Воротынским и митрополитом Ростовским Филаретом. Оттуда пришло известие: обретены нетленные мощи царевича, через них происходят исцеления. Мощи вскоре были перемещены в Архангельский собор Московского Кремля. Во всеуслышание прозвучала официальная версия: царевич пострадал от убийц, посланных Годуновыми.
Вот она и правда об угличском деле.
Эта правда легла в основу канонизации невинноубиенного царевича Димитрия Иоанновича.
Но сторонники Лжедмитрия I, давно покинувшие Москву, не желали ее признавать. Области, получившие от фальшивого царя весомые льготы, не хотели с ними расставаться. Провинциальное дворянство, отрезанное московской знатью от высших государственных постов, предпочитало порядку хаос, видя в нем шанс возвыситься. Казаки искали корысти в мутной воде мятежей, вспыхивавших по окраинам державы. Поляки чаяли разорить старинного неприятеля.
Слишком поздно прозвучала та самая правда, которую Василий Иванович утаил в 1591 году. И слишком дорого придется заплатить ему самому, его семейству и всей стране за эти 15 лет лжи.
Путивль и Елец запылали мятежом. Иван Исаевич Болотников, боевой холоп и бывший военный служилец князя Телятевского, выдал себя за воеводу «царя Дмитрия Ивановича»[138]. Вокруг него быстро сложилась настоящая армия.
В ее основу легли отряды «городового» дворянства. Из той же среды вышли и ее главнейшие вожди — стрелецкие сотники Юшка Беззубцев и Истома Пашков, рязанский дворянин Прокофий Ляпунов, тульский дворянин Григорий Сумбулов, князья Григорий Шаховской и Андрей Телятевский.
Другой частью военной силы бунтовщиков стали казаки. Так, например, казак Илейка Коровин, родившийся в Муроме, объявил себя еще одним «чудесно спасшимся царевичем», только не Дмитрием Ивановичем, а Петром Федоровичем. Набрав целое войско мятежников, он творил злодеяния в южных городах России. Илейка-Петр сделался видным соратником Болотникова.
Царские воеводы с переменным успехом бились с бунтовщиками. То побеждали, то терпели поражение. На сторону Болотникова перешли многие города, и там присяга Василию Шуйскому оказалась сорванной. Постепенно болотниковщина докатилась до московских предместий. Но ужасающее разорение и дикое беззаконие, которые несла с собой мятежная стихия, испугали многих сторонников самого Болотникова. Дворянские и стрелецкие отряды стали переходить на сторону правительственных войск. Бесчинников выбивали из городов, занятых ими прежде. Схватили Юшку Беззубцева. Наконец, в декабре 1606 года, под селом Коломенским воеводы Василия Шуйского разгромили бунтовское воинство наголову.
Болотниковцы отхлынули от столицы, но борьба с ними далеко не завершилась. В их распоряжении оставались богатые центры — Калуга и Тула. Опираясь на них, удалось отбить натиск царских войск.
В мае 1607 года Василий Иванович сам вышел из Москвы с полками. К тому времени ему исполнилось 54 года — это, по понятиям XVII столетия, преклонный возраст для полководца. Однако государь должен был вспомнить военную науку, чтобы нанести решающий удар. Борьба с болотниковщиной грозила затянуться надолго, а страна и без того стонала от потерь. В грамотах, рассылавшихся патриархом Гермогеном, говорилось: «А пошел государь… на свое государево и на земское дело, на воров и губителей хрестьянских».
Лев вышел из ворот Москвы.
Один удар львиной лапы — царем взят Алексин.
Между тем государевы воеводы разбили болотниковцев на речке Восме.
Другой удар львиной лапы — царю сдалась Тула.
Осенью 1607 года болотниковщина перестала существовать. Илейку-Петра казнили прилюдно, Ивана Болотникова убили тайно, как и многих его приспешников.
Государь, сочтя, что заслуживает отдохновения и радостей, женился на высокородной княжне Екатерине Петровне Буйносовой-Ростовской. Она подарила супругу двух дочерей, к несчастью, скончавшихся в младенчестве.
Но и отдых его, и радости длились недолго. На Россию наплывала новая гроза.
Идея самозванчества имела гибельную притягательность для русского общества. На смену Лжедмитрию I и его «воеводе» Болотникову скоро явился новый мятежник, принявший ложное имя «царя Дмитрия Ивановича».
Отчего воцарение природного русского аристократа, высокородного Рюриковича Шуйского не успокоило Россию? Отчего страна с такой легкостью поднялась на новые бунты?
Трудно представить себе, что русское общество столь долго обманывалось на счет самозванцев и добросовестно верило в очередное «чудесное спасение» Дмитрия. Некоторые — возможно. Огромная масса — вряд ли… Люди с мятежными устремлениями жаждали получить нового «Дмитрия Ивановича», дабы именем его творить бесчинства и добиваться власти. Россия наполнилась самозванцами. Лжедмитрии, попавшие на страницы учебников, далеко не исчерпывают страшного русского увлечения безжалостным авантюризмом под маской «восстановления справедливости». Новых «царей» и «царевичей» лепила свита, выпекала бунташная толпа, а подавали к столу отчаянные честолюбцы.
При Василии Шуйском оставались в действии как минимум три причины для всеобщего кипения в русском котле.
Во-первых, экономическое состояние страны ничуть не улучшилось, оно лишь упало еще ниже. Крайне угнетенное состояние крестьянской массы заставляло ее приходить в движение. Земледельцы покидали села и деревни, отыскивая лучшей доли, нападали на своих вотчинников и помещиков, подавались в казаки. Иными словами, сельские хозяева отрывались от размеренной и правильной жизни, составляя пищу для подвижной стихии бунта. Ничто не ослабляло утеснения, вынужденно предпринимаемого правительством в отношении крестьян. Но теперь они нередко предпочитали восстание и смертельный риск размеренному быту прежней жизни.
Во-вторых, смерть Лжедмитрия ослабила иноземный элемент в столице, но никак не решила проблем, связанных с состоянием военно-служилого класса России. Шуйский смотрелся на троне «честнее» Годунова. Тот поднялся из московской знати второго сорта, если не третьего, а Шуйские всегда стояли на самом верху ее. Но Василий Иванович был одним из аристократов, и он привел к власти одну из партий придворной знати. Другие партии не видели для себя никакого улучшения. Что для них Шуйский? Свой, великий человек, однако… равный прочим «столпам царства», знатнейшим князьям и боярам. Отчего же именно ему быть первым среди равных? Князь Федор Иванович Мстиславский еще, пожалуй, повыше станет, если посчитать по местническим «случаям». А может, и князь Василий Васильевич Голицын. И Черкасские… и Трубецкие где-то рядом… и Романовы… Московское государство было до отказа набито умной, храброй, неплохо образованной и яростно честолюбивой знатью. Политические амбиции были у нее в крови, витальной энергии хватало на десяток царств. Русская держава долгое время сдерживала горячий пар боярского властолюбия, распиравший ее изнутри. Но Борис Годунов, при всех его неординарных политических достоинствах, проделал в сдерживающей поверхности слишком большую дыру — указал путь к трону, личным примером «разрешил» рваться к нему без разбора средств… Теперь никакая сила не могла заделать отверстие, оно только расширялось. Каждый новый царь, будь он стократ знатнее Годунова, вызывал у больших вельмож страшный вопрос: «Почему не я?» И коллективное сознание русской знати не знало ответа на этот вопрос. А снизу, из провинции, шел еще один поток раскаленного честолюбия. Провинциальное дворянство еще со времен царя Федора Ивановича было прочно заперто на нижних ступенях служилой лестницы. Никакого хода наверх! Там, наверху, — «родословные люди», их и без того очень много, им самим места не хватает. Семьдесят — восемьдесят родов делят меж собою лучшие чины и должности, еще сотня родов подбирает менее значимые, но всё же «честные» назначения, а остальным — что? И шел русский дворянин к Ивану Болотникову, и к Истоме Пашкову, и к иным «полевым командирам» Великой смуты, осененным «святым» именем «царя Дмитрия Ивановича». Не крестьяне и не казаки составляли основную силу повстанческих армий в начале Смуты, нет. Служилый человек по отечеству шел из дальнего города к Москве, желая силой оружия вырвать повышение по службе, закрытое для него обычаями прежней служилой системы.
В-третьих, пал великий сакральный идеал Русского царства. Власть государя для всего народа, кроме, быть может, высшего слоя знати, долгое время окружена была священной стеной почтительного отношения. Монарх парил над подданными, монарх был в первую очередь защитником христианства, главным соработником Церкви в великом православном делании, справедливым судией, Божьим слугой на Русской земле. Старая смута середины XV века, когда князья Московского дома грызли друг друга, подобно волкам, давно забылась. Но запах новой смуты появился в Московском государстве после того, как у подножия трона началась неприглядная суета. Странная смерть царевича Дмитрия, о которой глава следственной комиссии князь Василий Иванович Шуйский трижды говорил разные вещи. Странное восшествие на престол царя Бориса. Восстание Отрепьева. Убиение царского сына и невенчанного царя Федора Борисовича. Убиение самого Лжедмитрия I. Воцарение Василия Ивановича в результате заговора и восстания… Подлая суета, связанная с прекращением старой династии московских Рюриковичей-Даниловичей, а также совершенные ради трона преступления донельзя опустили и сакральность царской власти, и общественный идеал верного служения государю. Еще он сохранялся, но сильно обветшал. Общество чем дальше, тем больше развращалось. Соображения простой личной пользы всё больше побеждали долг и веру как традиционные основы русской жизни…
Государя Василия Ивановича ждало одно только усиление источников Смуты. Он вышел на неравную борьбу.
Лжедмитрий II в нескольких сражениях одолел воевод Василия Шуйского. Летом 1608 года он занял позиции рядом с русской столицей. Основные силы его разбили лагерь в Тушине, и потому сам новый самозванец обрел прозвище «Тушинский вор». Его войско, усиленное значительными отрядами польско-литовских авантюристов, представляло собой огромную опасность. Царь Василий Иванович постарался дать ему должный отпор. Он не пускал вражеские отряды в Москву, вел с ними вооруженную борьбу и оставался фактически единственной силой, противостоящей разгулу беззакония.
На подступах к столице шли кровавые столкновения. Бой следовал за боем. Из подмосковного лагеря отряды Тушинского вора расползались по всей России. Они несли с собой имя Дмитрия — то ли живого, то ли мертвого. И это страшное имя действовало как искра, упавшая на сухую траву. Тут и там разгорались малые бунты. Два десятка городов — Псков, Вологда, Муром, залесские и поволжские области — присягнули на верность Лжедмитрию II. Польские отряды, казачьи шайки, группы недовольного Шуйским провинциального русского дворянства и всякий случайный сброд пополняли его воинство.
Более того, высокородная московская знать, почуяв за тушинским «цариком» силу, принялась «перелетать» к нему. А за ней потянулись дворяне, дьяки, служилый люд разных чинов.
Царю Василию Ивановичу с каждой неделей становилось всё труднее находить преданных военачальников и администраторов. Наказывая кого-то за явные оплошности, прямое неповиновение или же за отступление от закона, царь мог завтра недосчитаться еще одной персоны в лагере своих сторонников. Не наказывая и даже даруя самое милостивое жалованье, государь всё равно имел шанс нарваться на очередной «перелет»: в Тушине обещали многое, а служба законному монарху стала рискованным делом… Того и гляди войдет «царик» в Кремль, ссадит Шуйского, а верным его служильцам посшибает головы!
В ту пору «изменный обычай» привился к русской знати. Многими нарушение присяги воспринималось теперь как невеликий грех. О легкой простуде беспокоились больше, нежели о крестном целовании. То развращение, о котором говорилось выше, с особенной силой развивалось в верхних слоях русского общества.
Летописец с горечью пишет: государю пришлось заново приводить своих подданных к присяге, но очень скоро о ней забывали: «Царь… Василий, видя на себя гнев Божий и на всё православное християнство, нача осаду крепити [в Москве] и говорити ратным людем, хто хочет сидеть в Московском государстве, и те целовали крест; а кои не похотят в осаде сидеть, ехати из Москвы не бегом (то есть не украдкой, а открыто. — Д. В.). Все же начаша крест целовати, что хотяху все помереть за дом Пречистые Богородицы в Московском государстве, и поцеловали крест. На завтрее же и на третий день и в иные дни многие, не помня крестного целования и обещания своего к Богу, отъезжали к Вору в Тушино: боярские дети, стольники, и стряпчие, и дворяня московские, и жильцы, и дьяки, и подьячие…»
Но за Шуйского продолжали стоять многие. Смута не успела до такой степени развратить умы, чтобы измена, комфортная и прибыльная, сделалась нормой. Изменять стало легче, укоры за измену слышались реже, но «прямая» и честная служба всё еще оставалась для многих идеалом.
В том-то и состоит значение тех лет, когда правил Шуйский! Государя Василия Ивановича ругали современники, скверно отзывались о нем и потомки. Но он был последним, кто отчаянно стоял за сохранение старого русского порядка. При нем еще жило Московское государство, каким создал его величественный XVI век — с твердо определенными обычаями и отношениями между разными группами людей, с прочной верой, со строго установленными правилами службы, с почтением к Церкви, с фигурой государя, высоко вознесенной над подданными. Этот порядок, истерзанный, покалеченный, со страшно кровоточащими ранами, всё же находил себе защитников. Сам царь, интриган и лукавец, проявлял недюжинный ум, энергию и отвагу, отстаивая его. Может быть, твердость Шуйского, не до конца оцененная по сию пору, оказалась тем фундаментом, без которого выход из Смуты был бы найден позднее и при больших потерях. А то и не был бы найден вовсе… Шуйский отчаянными усилиями очень долго задерживал Россию на краю пропасти. Он хранил то, что его же знать беречь уже не хотела. И его твердость многих воодушевляла.
Пока царь под стягом, сражение еще не проиграно…
Василий Иванович не мог решить проблем, стоявших перед страной, поскольку решением их могло стать лишь ужасающее кровопускание, да еще покаяние народа в грехах с последующей переменой ума. Но он был прямой царь, делавший то, что и положено делать русскому православному государю. Он знал, что все самозванцы — обманщики, поскольку видел когда-то труп истинного царевича Дмитрия. Он дрался со Лжедмитриями и поддерживающими их поляками. Он делал правильное дело, хотя и делал его с необыкновенной жестокостью. Впрочем, делать его в ту пору иначе было до крайности трудно…
В таких условиях стоять за царя означало: стоять за старый порядок. По большому счету, вообще за порядок.
Борьба с самозванцем шла переменчиво. Города по нескольку раз переходили из рук в руки, подвергаясь грабежу и поджогам. Победители устраивали побежденным резню… чтобы пасть жертвами новой резни, когда их воинский успех сменится неудачей. Половина страны пострадала к тому времени от Смуты. Блокада Москвы отрядами Лжедмитрия II отрезала великий город от источников питания. Обозы с продуктами уже не доходили до стен Белокаменной: их перехватывали по дороге. Над столицей нависла угроза голода. Лишь героическими усилиями удалось освободить Коломенскую дорогу для подвоза хлеба.
1608 год и начало 1609-го прошли очень тяжело. Россия стояла на краю пропасти. Москва полнилась настроениями: а не поменять ли царя? Авось другому выпадет больше удачи в делах правления!
Но Василий Иванович с необыкновенным упорством собирал войска, искал союзников, рассылал грамоты с призывом не поддаваться «ворам».
Вот одна из них, отправленная в Свияжск: «Ведома нам ваша многая служба, что в Свияжском живете с великим береженьем, а головы и дворяне и дети боярские и посадцкие люди и пушкари и стрельцы и всякие люди, паметуя Бога и православную християнскую веру и наше крестное целованье, воровской смуте не верят и себя и своих жон и детей и домов своих в разоренье вором не дадут, и татаром служилым и ясачным чюваше и черемисе разговариваете, и татаровя нам по тому ж прямят и служат, к воровской смуте не приставают… Воры русские люди, забыв Бога и православную християнскую веру, содиначась с такими же воры с литовскими людьми… для воровские своей корысти затевая, смущают и Московское государство и православную веру хотят разорити, пустошат и грабят и многую християнскую кровь проливают, и святыя Божии церкви разоряют и святым иконам поругаютца, и жон и детей поругают и в полон в Литву отсылают. И как к вам ся наша грамота придет, и вы б, собрав голов и детей боярских и стрельцов и всяких служивых и посадцких людей, шли в соборную церковь и велели сею нашу грамоту прочесть всем людем в слух и сказали им, чтоб они вперед по тому ж, паметуя Бога и православную християнскую веру и свои души, и воровской смуте не верили»[139].
Человек, не обладающий железной волей, давно отказался бы от борьбы, сдался, уступил царский венец наглому авантюристу. Но бешеный дух Рюрикова рода и львиная сила не иссякали в царе Василии. Отчаянно борясь, он всё более напоминал древних, домонгольских князей Рюриковичей — тех, чья личная отвага иной раз переламывала ход сражений.
В 1609 году положение понемногу стало улучшаться.
Зимой 1608/09 года нижегородская рать воеводы А. С. Алябьева нанесла ряд чувствительных ударов по тушинцам. Захватить Нижний сторонникам Лжедмитрия так и не удалось. От шведского короля в обмен на городок Корелу с уездом царские дипломаты получили крупное наемное войско. В Новгороде оно соединилось с большой русской ратью князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Князь медленно двинулся на юг, очищая от тушинцев города, нанося им поражения в поле. Героически отбивалась от литовцев и русских «воров» Троице-Сергиева обитель. В январе 1610 года отряды Скопина-Шуйского сняли осаду с монастыря.
Летом 1609-го тушинцы потерпели поражение от царских войск под Москвой, на реке Ходынке. Они едва смогли отстоять собственный осадный лагерь, о захвате Москвы уже и речи не шло. Примерно тогда же из Нижнего двинулась выручать столицу армия боярина Ф. И. Шереметева. Нижегородским ратникам удалось отбить у врага Касимов и Владимир. Правда, польский король Сигизмунд III, воспользовавшись участием Швеции в русских делах как предлогом для вторжения, вошел в русские пределы и осадил Смоленск. Но город оказался крепким орешком. Тамошний воевода боярин М. Б. Шейн надолго остановил у стен города королевских солдат.
Зимой 1609/10 года князь Д. М. Пожарский разбил большой отряд тушинцев на речке Пехорке.
В марте 1610 года большая угроза Москве миновала. Тушинский лагерь, наконец, прекратил существование. Армия Скопина-Шуйского вошла в столицу.
Казалось, перестал Бог испытывать Русскую землю, а самого царя избавил от величайших опасностей. Казалось, еще немного и Смуте — конец! Москва праздновала приход освободителей. Василий Иванович устраивал пышные пиры…
Но всего за три месяца рухнуло всё, чего столь тяжкими усилиями добивались в течение года! Скончался после лютой болезни Скопин-Шуйский. Царскую родню многие обвиняли тогда в отравлении: дескать, позавидовали славе полководца, испугались, что пожелает он взойти на престол… Неизвестно, так ли это на самом деле. Царь Василий был очень заинтересован в Скопине-Шуйском: ведь ему еще предстояла вооруженная борьба с королевским войском, и армии требовался талантливый вождь. В любом случае репутация государевой семьи многое потеряла от этих слухов. 24 июня русские полки и корпус наемников-иноземцев потерпели от поляков тяжелое поражение у деревни Клушино. Командующий, царский брат князь Дмитрий Иванович Шуйский, бежал с поля боя. Многие из его подчиненных легли на месте, прочие разбежались. Лишь незначительная часть русской силы отошла в Можайск.
После клушинского разгрома государь Василий Иванович лишился армии. Более того, он утратил всякий авторитет. Смутное время утвердило в умах людей странное представление об особой удаче общественного лидера или же об отсутствии этой удачи — словно они даются не силой личности и не милостью Божьей, а являются каким-то химическим свойством вожака. Люди вернулись к древним, почти первобытным идеям о достоинствах правителей. Так вот, новое поражение Шуйского одни сочли признаком неправоты его дела перед лицом сил небесных, другие — утратой удачи. Ну а третьи… третьи просто увидели в слабости правительства повод для переворота.
В июле 1610 года грянул переворот, оказавшийся гибельным для Московского царства. «И собрались разные люди царствующего града, — пишет русский книжник того времени, — и пришли на государев двор и провозгласили: „Пусть-де отобрана будет царская власть у царя Василия, поскольку он кровопийца, все подданные за него от меча погибли, и города разрушены, и всё Российское государство пришло в запустение“». Ну, разумеется. А еще его некому охранять, поскольку воинство его разбито, и, следовательно, можно над ним как угодно изгаляться.
Государя ссадили с престола, затем попытались принудить к пострижению во иноки, но патриарх Гермоген такого пострижения не признал. Вскоре законного русского царя Василия Ивановича передали в руки его врагов, поляков.
В отношении Василия Шуйского русской знатью и русским дворянством было совершено чудовищное преступление. Враги Василия Ивановича, растоптавшие его власть, обвиняли царя в том, что он неистинный монарх, не избран-де всей землей. Но Церковь ясно показала, кто в России истинный государь, возложив на Шуйского царский венец и неоднократно с полной ясностью высказавшись в его пользу. Смещая царя, заговорщики прямо шли против патриарха и самой Церкви.
Два с лишним года Шуйский томился в плену со всем своим семейством. Осенью 1612-го Василий Иванович и брат его Дмитрий с супругой Екатериной ушли из жизни с подозрительной стремительностью… Девять лет спустя в Россию вернется лишь князь Иван Иванович Шуйский-Пуговка, не являвшийся ни крупным политическим деятелем, ни крупным полководцем. Младший брат единственного московского государя из династии Шуйских претендовать на царство уже не смел…
Мытарства последнего царя из рода Рюриковичей во вражеском плену совпали по времени с муками страны, отдавшей его на поругание. Два года — с июля 1610-го по осень 1612-го — дно Смуты. Самый мрачный ее период, самый разрушительный. Полноценной государственности на землях бывшей Русской державы не существовало.
Целая эпоха сгорела в беспощадном пламени гражданской войны. Россия исчезла, распалась.
И только потом страна начала восстанавливаться — великими трудами, большой кровью. Но когда она победит в себе Смуту, восстанет от разорения, начнет жизнь с чистого листа, это будет уже совсем другое государство и совсем другая династия воссядет на престоле.
ДМИТРИЙ ПОЖАРСКИЙ Покоритель Смуты
Дмитрий Михайлович родился осенью 1578 года[140]. Крестили его с именем Козьма — в честь древнего проповедника и лекаря-бессребреника. День поминовения святых Козьмы и Дамиана Месопотамских приходится на 1 ноября. Около этого времени Дмитрий Михайлович и появился на свет.
Имя Козьма в ту пору — весьма редкое и даже несколько неудобное для дворянина, или вернее, для «служилого человека по отечеству», как тогда говорили. Детям государевых служильцев чаще давали иные имена: Федор, Василий, Иван, Андрей, Петр, Дмитрий, Григорий, Юрий, Семен, Михаил… За экзотического Козьму мальчика задразнили бы до умопомрачения. Зваться Козьмой для человека его круга — почти неприлично. Поэтому всю жизнь он носил не крестильное имя, а «прозвище» Дмитрий.
Святой Димитрий Солунский пользовался большим почитанием на Руси и считался вполне «дворянским» святым. К тому же память его отмечается 26 октября, незадолго до 1 ноября. А потому имя второго небесного покровителя — Димитрия — родители с легкой душой взяли из святцев и дали своему отпрыску в качестве прозвища.
В семействе Дмитрия Михайловича распространено было родовое прозвище «Немой». Князь носил его, унаследовав от деда, Федора Ивановича. Это прозвище князь Дмитрий передаст и своим сыновьям, Петру и Ивану. Как видно, в его отрасли разветвленного «куста» Пожарских ценили молчунов…
О детстве и молодости князя почти ничего не известно. Он принадлежал роду, не относившемуся к числу особенно влиятельных и богатых, но и не павшему на самое дно «захудания».
Пожарские были Рюриковичами. Они происходили из древнего семейства стародубских князей. Более того, являлись старшей ветвью Стародубского княжеского дома; правда, сам Дмитрий Михайлович происходил от одного из младших колен. Пожарские — потомки знаменитого Всеволода Большое Гнездо — могучего властителя конца XII — начала XIII века. Родоначальник их семейства, князь Василий Андреевич Пожарский, владел обширной местностью Пожар. Его отец, богатый князь Андрей Федорович Стародубский, участвовал в битве на поле Куликовом.
Но при столь значительных предках сами Пожарские в эпоху господства Москвы оказались на задворках.
При Иване III Пожарских вообще не видно: ни разряды, ни иные административные документы их не упоминают. При Василии III и в годы молодости Ивана IV пять представителей рода, в том числе прадед Дмитрия, оказывались в наместниках и волостелях, то есть управляли волостями, но чаще — второстепенными, и надолго: Переяславлем да половиной Дмитрова. Ничего особенного.
С другой стороны, семейство Пожарских долгое время было весьма и весьма состоятельным.
Еще в XV столетии Пожарские сохраняли огромные богатства, доставшиеся им от предков. Весь XVI век они щедро раздают села и деревни в приданое, делают большие вклады в монастыри. Их древнее родовое владение Пожар (или Погар) еще в середине XV века перешло к князю Д. И. Ряполовскому в обмен на села Мугреево (оно же Волосынино) и Коченгир (Кочергин) с деревнями. Очевидно, Пожарские нуждались тогда в деньгах: вместе с Мугреевом они получили 150 рублей серебром (колоссальные деньги, целое состояние), а также коня и шубу еще на 20 рублей. Иначе говоря, разница в размерах или ценности земель была покрыта звонкой монетой. Но и мугреевские владения оказались весьма велики: это хорошо видно по землеописаниям старомосковской эпохи и по вкладам в суздальскую Спасо-Евфимиеву обитель. Семейство было связано прочными нитями с этой обителью. Там Пожарских на закате жизни постригали во иноки, там же многие из них погребены. Так вот, во второй половине XVI века древнее земельное богатство Пожарских, давно разошедшееся на части между многочисленными представителями рода, стремительно уходит к этому монастырю — за долги и по вкладам, сделанным из христианского благочестия. Если суммировать все древние вотчины Пожарских, отданные тогда монахам, получится громадная область: села Богоявленское, Могучее, Троицкое, Федотово, Фалалеево, Дмитриевское, 60 деревень, два починка, шесть пустошей и два селища. По представлениям XV–XVI веков — настоящее удельное княжество! Между тем земли уходили из рода не только в этот, но и в другие монастыри, например в Троице-Сергиев…
Как ни парадоксально, Пожарских могло погубить собственное богатство: они не поспешили укрепить свое положение, отыскивая службу при дворе великих князей московских. Возможно, родовое состояние давало этому семейству слишком значительный доход, чтобы Пожарские торопились вступить в конкуренцию с другими Рюриковичами и старомосковским боярством за высокий служебный статус в столице объединенного Русского государства. А когда стало очевидным, что вся жизнь знатного человека поставлена в зависимость от гнева и милости государя, время оказалось упущенным. И огромная область, издревле принадлежавшая их роду, начала понемногу «таять»…
Опалы при Иване Грозном несколько ухудшили положение рода Пожарских, но со времен создания Московского государства он никогда и не выдвигался в первые ряды военнополитической элиты. Пожарские были знатны, но слабы службою. Не храбростью, не честностью уступали они другим аристократическим семействам, нет. Прежде всего умением «делать карьеру».
В 1560—1580-х годах род Пожарских пришел в упадок, потерял старинные вотчины. Младшие ветви Стародубского княжеского дома — Палецкие, Ромодановские, Татевы, Хилковы — обошли Пожарских по службе.
Во второй половине царствования Ивана IV семейство Пожарских занимало слабые позиции в служебной иерархии России. Пожарские выглядят не столько как аристократы, сколько как знатные дворяне без особых перспектив при дворе и в армии. Высший слой провинциального дворянства — вот их уровень.
В те времена показателем высокого положения любого аристократического рода было пребывание его представите — лей на лучших придворных должностях, в Боярской думе, назначения их воеводами в полки и крепости, а также наместниками в города. Для того чтобы попасть в Думу, требовалось получить от государя чин думного дворянина, окольничего или боярина. На протяжении XVI столетия десятки аристократических родов добивались «думных» чинов, сотни — воеводских.
При Иване Грозном — как в опричные времена, так и позднее — у Пожарских ничего этого не было.
Их назначали на службы более низкого уровня — не воевод, а «голов» (средний офицерский чин), не наместников, а городничих (тоже рангом пониже). Многие из Пожарских в разное время погибли за отечество. Не вышли они ни в бояре, ни в окольничие, ни даже в думные дворяне, несмотря на знатность. И когда кого-то из них судьба поднимала на чуть более высокую ступень — например на наместническую, то он гордился такой службой, хотя она могла проходить где-нибудь на дальней окраине державы, в вятских землях. Если бы не высокое «отечество», то есть древняя кровь Рюриковичей и хорошее родословие, Пожарские могли бы «утонуть» в огромной массе провинциального «выборного дворянства» — людей, едва заметных при дворе.
Таким образом, в детские годы князя Д. М. Пожарского его семейство находилось в униженном состоянии, не имело места в составе военно-политической элиты и даже не могло надеяться на возвышение за счет служебных достижений. Стоит добавить еще один факт, особенно неприятный для Дмитрия Михайловича лично. Его отец, князь Михаил Федорович, не дослужился даже до чина воинского головы. Единственным его заметным достижением стал удачный брак. Женой князя в 1571 году стала Евфросинья (Мария) Федоровна Беклемишева, происходившая из старинного и влиятельного московского боярского рода. Но мужу своему она по родственным связям помочь не смогла.
Ничуть не исправилось положение рода при сыне Ивана IV — царе Федоре Ивановиче. Как и все дворяне того времени, Дмитрий Михайлович с молодости и до самой смерти обязан был служить великому государю Московскому. Начал службу он с небольших чинов как раз при Федоре Ивановиче (1584–1598). 23 августа 1587 года отец Д. М. Пожарского ушел из жизни, оставив после себя двух сыновей, Дмитрия и младшего Василия, а также дочь Дарью. Отцовское поместье (незначительное по тем временам — всего 405 четвертей) по указу царя Федора Ивановича было передано Дмитрию и Василию Пожарским с требованием, чтобы они вышли на государеву службу, достигнув пятнадцати лет.
На исходе правления этого государя, примерно в 1593 году, Дмитрий Михайлович начал служебную деятельность. Его пожаловали чином «стряпчего с платьем». Летом 1598 года в списке «стряпчих с платьем» молодой князь Д. М. Пожарский занимает последнее место. Очевидно, стряпчим он стал незадолго до того.
Равным с ним положением обладало несколько десятков аристократов и московских дворян — таких же стряпчих при дворе. Эти люди прислуживали царю за столом, бывали в рындах — оруженосцах и телохранителях монарха — да изредка исполняли второстепенные административные поручения. В виде исключения кого-то из них могли назначить на крайне незначительную воеводскую службу.
Чуть более видное положение родня Дмитрия Михайловича заняла при царе Борисе Федоровиче Годунове (1598–1605).
Правда, в начале царствования Пожарским пришлось претерпеть опалу, но уже в 1602 году Дмитрий Михайлович возвращается на придворное поприще. После прекращения опалы семейству удалось вернуть кое-что из родовых вотчин. Кроме того, Пожарские набрались смелости и начали вступать в местнические тяжбы — с князьями Гвоздевыми и Лыковыми.
Смутное время князь Дмитрий Михайлович встретил с возвращенным при Борисе Годунове чином стряпчего. В конце 1604-го или же начале 1605 года, ему было пожаловано чуть более высокое звание — стольника. Но и чин стольника заметно уступал по значимости «думным чинам» — боярина, окольничего, думного дворянина.
До воцарения Василия Ивановича князь Пожарский почти не имел боевого опыта.
Предполагают, что при Борисе Годунове он участвовал в походе против первого Самозванца. Допускают даже, что Дмитрий Михайлович бился в большом сражении при Добрыничах. Однако отправка его в поход сомнительна: перед самой кампанией против Самозванца Пожарский получил жалованье и купил хорошего коня. Возможно, на этом коне он ездил сражаться с неприятелем, а возможно… не ездил. Свидетельства источников смутны. Сохранились списки должностных лиц воинства, отправленного против Лжедмитрия I. Имени Пожарского там нет. Значит, даже если князь ходил на Самозванцеву рать, никаких командных должностей он не занимал. Не был ни воинским головой, ни тем более воеводой.
Неотвратимо приближавшийся к Москве призрачный «царевич» не испытывал к молодому царедворцу злых чувств. Для игры, которую он вел, Пожарские вряд ли могли считаться серьезными фигурами… В лучшем случае — пешки. А какой с пешек спрос? Когда Борис Федорович умер, а Лжедмитрий I воцарился на Москве, ни сам Дмитрий Михайлович, ни род его не пострадали.
Для биографии князя Д. М. Пожарского важнее другое: он начинал карьеру при незыблемом порядке. А теперь на его глазах этот порядок начал распадаться. Политический строй Московского государства обладал колоссальной прочностью и сопротивляемостью к внешним воздействиям. Но Смута начиналась изнутри. Самозванец, ставший русским царем хотя и получал поддержку поляков, а всё же ничего не сумел бы совершить в России, если бы не внутренняя трещина, легшая поперек государственного устройства.
После воцарения Лжедмитрия I Дмитрий Михайлович остается при дворе. Он исполняет обязанности стольника.
Современный историк, изучающий биографию князя Пожарского, за весь период с конца 1604 года по лето 1606-го располагает всего-навсего двумя краткими известиями. Весной 1606 года Пожарский вершил свою придворную службу у Лжедмитрия 1 на пирах. Он присутствовал на свадебных торжествах Самозванца, когда Расстрига венчался с Мариной Мнишек, а также при встрече ее отца, Юрия Мнишека.
Какие из этого можно сделать выводы?
Неизвестно, был ли князь Пожарский верен Лжедмитрию I. Позднее Дмитрия Михайловича жаловал новый государь — Василий Шуйский. А Шуйский пришел к власти в мае 1606-го путем вооруженного переворота, когда Самозванец был убит. Как знать, не стал ли Пожарский одним из участников майского восстания, похоронившего Расстригу?
Но это домыслы, гипотезы. А вот правда: если и не оказался князь среди восставших, на добром имени его всё равно пятен нет.
Прежде всего, бóльшая часть русского общества приняла Расстригу как царевича Димитрия, действительного сына царского. Это для наших современников он Лжедмитрий. А тогда подавляющее большинство русских восприняло историю с его чудесным «воскрешением» и восшествием на престол как восстановление правды. Эйфорическое отношение к «государю Дмитрию Ивановичу» продержалось довольно долго. Отрезвление наступило не скоро и не у всех.
Но терпеть поляков в Москве и служить царице-польке не стали. Лжедмитрий пал, воцарился Шуйский. Для князя Пожарского правление этого государя — время успехов и побед. Щедрое время.
В годы царствования Василия Ивановича (1606–1610) Дмитрий Михайлович наконец-то выбился на воеводскую должность. Но прежде его испытали ответственным боевым поручением.
Осенью 1606 года к Москве подступили с юга войска Ивана Болотникова, именовавшего себя «воеводой царя Димитрия». С ним шли отряды Истомы Пашкова — вождя тульского дворянства, Прокофия Ляпунова с рязанцами, а также других повстанческих военачальников. Судьба столицы и самого Шуйского висела на волоске. В той грозной ситуации князю Пожарскому доверили пост воинского головы.
Об этом назначении документы сообщают следующее: «за Москвою рекою противу воров» царь велел встать армии во главе с князьями Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским, Андреем Васильевичем Голицыным и Борисом Петровичем Татевым. В ту пору «с ворами бои были ежеденные под Даниловским и за Яузою»… Очевидно, оборонительная операция носила маневренный характер. То и дело требовалось бросать отряды лояльных войск навстречу неприятелю, рвущемуся в Москву с разных направлений. Следовательно, очень многое зависело от младших командиров — от тех, кого ставили во главе подобных отрядов. Их личная отвага, преданность государю и умение действовать самостоятельно могли решить исход боя. Среди таких младших командиров — воинских голов — и появляется имя Дмитрия Михайловича Пожарского.
Тогда Москва впервые стала для него театром военных действий…
Болотникова счастливо одолели. Царские воеводы проявили твердость, к тому же Истома Пашков с Прокофием Ляпуновым перешли на сторону правительства. В итоге полки Болотникова потерпели двойное поражение — у Коломенского, а потом под деревней Заборье. На следующий год его бунтовской армии пришел конец.
Неизвестно, участвовал ли Д. М. Пожарский в борьбе с болотниковцами после их разгрома в столичных пригородах. Но как минимум первая его боевая работа под Москвой оставила хорошее впечатление и запомнилась. Именно она, думается, подсказала государю идею дать самостоятельное воеводское назначение Дмитрию Михайловичу, когда над Москвой разразилась новая гроза.
Лжедмитрий II, еще горший самозванец, разбив армию Василия Шуйского, летом 1608 года подошел к Москве и осадил ее. Справиться с ним оказалось намного сложнее, чем с Болотниковым. Царь Василий Иванович так и не решил этой задачи. Но он хотя бы постарался организовать должный отпор Тушинскому вору.
Где был тогда князь Дмитрий Михайлович? Нет точных сведений на этот счет. Известно одно: он сохранял верность государю. Скорее всего, ему опять пришлось драться на полях сражений близ московских окраин, скрещивая саблю с клинками тушинцев.
Особую важность приобрело Коломенское направление. Чуть ли не единственная артерия, по которой к Москве доставляли продовольствие, шла через коломенские места. К ужасу царя, воеводы Иван Пушкин и Семен Глебов прислали известие о том, что «от Владимира идут под Коломну многие литовские люди и русские воры». А драться за город и за дорогу, через него пролегающую, уже некому. Ратники есть, но доверенные лица в недостатке…
Вот тогда-то переламывается судьба князя Пожарского, который хранил верность государю и при Болотникове, и при Тушинском воре. По свидетельству летописи, «царь… Василий послал воевод своих под Коломну, князя Дмитрия Михайловича Пожарского с ратными людьми. Они же пришли под Коломну и стали проведывать про тех литовских людей. Вестовщики, приехав, сказали, что литовские люди стоят за тридцать верст от Коломны в селе Высоцком. Князь Дмитрий Михайлович с ратными людьми пошел с Коломны навстречу литовским людям, и пришел на них в ту Высоцкую волость на утренней заре, и их побил наголову, и языков многих захватил, и многую у них казну и запасы отнял. Остальные же литовские люди побежали во Владимир».
Итак, под Коломной Дмитрий Михайлович осуществляет в ночное время стремительное нападение на лагерь вражеского войска. Противник разбегается, в панике бросив армейскую казну. Дмитрий Михайлович показывает себя опытным и решительным военачальником. Его действия спасают столицу от крайне неприятной участи. В Белокаменную потек хлеб… Таким образом, Пожарский оправдал повышение по службе честным воинским трудом.
Одоление врага под Коломной произошло в начале 1609 года — в январе или первой половине февраля, скорее в феврале.
Скоро Дмитрий Михайлович получил новое поручение — в большей степени почетное, нежели боевое. Как видно, Василий Шуйский хотел показать свое благоволение Пожарскому. Весной 1609 года Россия подверглась страшному бедствию — массовому вторжению крымских татар. Смута ослабила способность страны оборонять южные рубежи. Крымцы почувствовали это: они и в первые годы правления Шуйского устраивали опустошительные набеги. Теперь крымские полчища разорили серпуховские, боровские, коломенские места, дошли до Тарусы, стояли в двух шагах от русской столицы.
Требовалось договориться с татарами. Царь едва справлялся с тушинцами. От крымцев ему оставалось лишь откупиться. Особенно опасная ситуация сложилась в июле: войска крымских «царевичей» вышли на Оку и занимались грабежами в непосредственной близости от Москвы. Тогда, как свидетельствует официальный документ, «от государя к царевичем за Оку з дары и с речью» поехал воевода князь Григорий Константинович Волконский. А «провожать» его послан «с Москвы для воров с ратными людьми стольник и воевода князь Дмитрей Михайлович Пожарской». Смысл этой краткой записи в государственной документации того времени расшифровывается просто: дары — откуп, а охрана Волконского, едущего с дарами, — великая честь и неограниченное доверие. В сущности, полагаясь на преданность Пожарского, государь ставил на кон очень многое. Если бы Дмитрий Михайлович сплоховал, потерял драгоценный груз или же решил присвоить его, то крымская проблема не была бы решена и юг России кровил бы еще очень долго… Царь, по всей видимости, крепко верил: этот — не предаст!
Именно тогда, в разгар Смуты, самым очевидным образом проявляется воинское дарование Пожарского. Начав с коломенского успеха, Пожарский активно ведет боевые действия, защищая столицу от польско-литовских шаек и русских бунтовщиков. Вернувшись из ответственной «командировки» на Оку, Дмитрий Михайлович вскоре получил новое воеводское назначение.
Среди тушинцев появился дерзкий и энергичный полевой командир, некий «хатунский мужик» Сальков. Он собрал большое войско и перерезал Коломенскую дорогу, столь драгоценную для московского правительства. Лояльные государю Василию Ивановичу войска сталкивались с Сальковым неоднократно. Князь Василий Мосальский двинулся было под Коломну — собрать провизию для столицы, но в конце октября неподалеку от Бронниц подвергся нападению сальковских отрядов, поддержанных ратниками польского офицера Млоцкого. Мосальский потерпел поражение и потерял обоз, столь необходимый царю Василию Ивановичу. Шуйский в ответ приказал строить «острожки» по Коломенской дороге. Но, видимо, гарнизоны этих маленьких укреплений не могли защитить обозы, шедшие в столицу: Сальков продолжал «чинить утеснение». Разорив коломенские места и не чувствуя должного отпора, Сальков двинулся ближе к столице. Он появился у Николо-Угрешского монастыря. Там его атаковал воевода Василий Сукин «со многими ратными людьми», однако разбить не смог. С большими потерями Сукин вытеснил Салькова с занимаемых позиций. Непобежденный Сальков стал серьезной проблемой для Москвы.
Тогда вспомнили о воеводских дарованиях Дмитрия Михайловича. Пожарский должен был сойтись в жестоком сражении с отрядом этого тушинца. Ему, как можно видеть по предыдущим «подвигам» Салькова, достался серьезный противник.
Летописное повествование в подробностях извещает об упорной борьбе Дмитрия Михайловича с Сальковым и о полной победе князя: «Тот же вор Салков пришел на Владимирскую дорогу и на иных дорогах многий вред творил. Царь же Василий послал на него воевод своих по многим дорогам, и сошелся с ним на Владимирской дороге, на речке Пехорке, воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский с ратными людьми. И был бой на много времени, и, по милости Божией, тех воров побили наголову. Тот же Салков убежал с небольшим отрядом, и на четвертый день тот же Салков с оставшимися людьми пришел к царю Василию с повинной, а всего с ним после того боя осталось тридцать человек, с которыми он убежал».
Бой на Пехорке произошел в промежутке от ноября 1609-го до первых чисел января 1610 года.
За заслуги перед престолом князь Пожарский награжден был новыми землями. В жалованной грамоте, среди прочего, говорилось: «Против врагов… польских и литовских людей и русских воров… стоял крепко и мужественно и многую службу и дородство показал, голод и во всем оскуденье и всякую осадную нужу терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую не покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо, безо всякия шатости…»
В феврале или марте 1610 года царь Василий Иванович ставит князя воеводой на Зарайск. Место — важное. Зарайск выдвинут на сотню с лишним верст к югу от Москвы, далеко за Оку. Он играет роль правительственного форпоста близ мятежной Рязанщины и закрывает направление, где исстари пошаливали крымцы. К западу от города концентрируются силы Лжедмитрия II, отступившего к тому времени из-под Москвы в Калугу. К тому же город располагает каменным кремлем, а это даже в начале XVII века — редкость для России.
В апреле 1610-го скончался блистательный полководец князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Положение государя немедленно пошатнулось. Отчаянным неприятелем Василия Ивановича сделался тогда неистовый вождь рязанского дворянства Прокофий Ляпунов. Он рассылал по городам грамоты, вербуя сторонников против царя. Ляпунов связывался с тушинцами, стоящими в Калуге. Зарайск, лежащий меж рязанскими и калужскими местами, имел тогда особое значение. Племянник Ляпунова Федор отправился туда с бумагой, содержащей предложение о союзе.
Пожарский, выслушав посланца, «не пристал к совету его и того Федора отпустил… А с той грамотой быстро послал к царю Василию, чтобы к нему на помощь из Москвы прислал людей. Царь же Василий тотчас послал к нему на помощь».
Из Москвы к воеводе явился с большим отрядом Семен Глебов — старый соратник Пожарского еще по боям под Коломной, а также стрелецкий голова Михаил Рчинов со стрельцами. «Прокофий, — сообщает летопись, — услышав о том, что пришли на помощь люди в Зарайский город, с Вором[141] перестал ссылаться. Дума же была у него большая против царя Василия с боярином с князем Василием Васильевичем Голицыным, и от Москвы отложился и начал царя Василия не слушать. В то же время стоял под Шацким князь Василий Федорович Мосальский, а с воровской стороны был князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, и князя Василия под Шацким побили. Царь же Василий, про то услышав, послал к нему на помощь голову Ивана Можарова. И Прокофий сведал то, что идут к Шацкому, повелел Ивана перехватить и их не пропустил, повелел им быть у себя». Таким образом, князь Дмитрий Михайлович проявил лояльность к государю, в результате чего ляпуновцы не получили поддержку из Калуги. Но последовавшее за этим поражение у Шацка резко ухудшило положение правительственных войск на юге России. Пожарский оказался без серьезной поддержки со стороны полевой армии.
Его положение стало просто отчаянным, когда от Василия Шуйского отложилась Коломна. Военачальник Михаил Бобынин, стоявший в городе с сотней ратников, решил переметнуться на сторону Лжедмитрия II. Он увлек за собой горожан. Коломенские воеводы князья М. С. Туренин и Ф. Т. Долгорукий не сумели противостоять стихии бунта. Владыка Коломенский Иосиф также поддался изменным настроениям.
«Коломничи все поцеловали крест и к Вору послали с повинной, — рассказывает далее летопись. — И послали с грамотами на Каширу и к Николе Зарайскому. Посланные же их пришли на Каширу. Каширяне же, услышав про Коломну, начали Вору крест целовать. Боярин князь Григорий Петрович Ромодановский не хотел креста целовать и стоял за правду. Они же его чуть не убили, и привели его к кресту, и к Вору послали с повинной. И пришли в Зарайский город из Коломны посланцы, чтобы также целовали крест Вору».
Но тут нашла коса на камень. Дмитрий Михайлович оказался крепче волей, чем воеводы коломенские и князь Ромодановский. Жители Зарайска собрались вместе и толпой двинулись к воеводе, чтобы принудить его к изъявлению покорности Тушинскому вору. Как видно, часть ратников, присланных из Москвы, также решила перейти на вражескую сторону. У Пожарского остался лишь небольшой отряд. Князь заперся с ним в крепости. Стрельцы наводили свои пищали на бешеную толпу горожан. Пушкари стояли с зажженными фитилями близ орудий. Дворяне, обнажив сабли, встали у ворот — на случай, если озверевший люд полезет на них с тараном. И, как видно, посадский сброд, возбужденный изменными словами, сделал попытку приступа. Но зарайского воеводу не пугали грозные выкрики и народное буйство. За спиной у него стояла великая святыня — древняя высокочтимая икона святителя Николая Мирликийского, к которой приезжали молиться московские государи. Образ хранился в каменном Никольском соборе кремля. Соборный протопоп отец Димитрий Леонтьев встал на сторону воеводы. Надо полагать, выполняя свой долг, воевода надеялся не только на собственные силы, но и на небесное заступничество.
«…Те же воры, видя свое бессилие, прислали в город и винились, и [предлагали] целовать крест на том: „Кто будет на Московском государстве царь, тому и служить“. Он же, помня крестное целование царю Василию, целовал крест на том: „Будет на Московском государстве по-старому царь Василий, ему и служить; а будет кто иной, и тому так же служить“. И на том укрепились крестным целованием, и начали быть в Зарайском городе без колебания, и утвердились между собой, и на воровских людей начали ходить и побивать [их], и город Коломну опять обратили».
Это был серьезный успех. Пожарский не только удержал Зарайск, не только укрепил позиции государя, но и способствовал возвращению жизненно важной Коломны. А значит, и хлебных потоков. Кроме того, своим выбором и твердостью, проявленной в этом выборе, он показал, что слово «царь» еще чего-то стоит, хотя бы и в пламени Смуты.
К несчастью, стратегическая ценность «крепкого стоятельства» Пожарского оказалась сильно сниженной чудовищным поражением на другом направлении.
Борьба за Коломну и Зарайск шла в мае и, может быть, июне 1610 года. Тем временем польский король Сигизмунд III осаждал Смоленск. Воевода смоленский Михаил Борисович Шейн стойко держал оборону от поляков. На помощь Шейну из Москвы отправилась русско-шведская рать под общим командованием князя Дмитрия Ивановича Шуйского с приданными ей отрядами западноевропейских наемников. Против нее выступил талантливый польский полководец гетман Жолкевский. Армия союзников страдала от худого управления, между русским командованием и офицерами иноземцев установились нелады. Последние возмущались из-за невыплаты жалованья. Несогласованность в действиях иноземных отрядов и русских полков лишала их возможности вести совместную борьбу с грозным неприятелем. Итог — военная катастрофа, постигшая Д. И. Шуйского 24 июня под Клушином. После клушинского поражения Жолкевскому сдалась русская армия, оборонявшая Царево Займище. Затем пали Можайск, Борисов, Верея и Руза.
В июле 1610 года совершилось восстание против монарха. Государя ссадили с престола и передали полякам. Затем боярское правительство (так называемая «Семибоярщина») призвало на русский престол польского королевича Владислава. Он должен был явиться в Москву и принять православие, но не сделал ни того ни другого. Вместо этого его отец, король Сигизмунд III, утвердил в русской столице пропольскую администрацию, а «Семибоярщина» впустила в Кремль большой польско-литовский отряд.
Всё то время, пока Москва бушевала, предавая собственного царя, выбирая нового, приглашая в Кремль иноземных воинов, князь Пожарский оставался на зарайском воеводстве. Неизвестно, приводил ли он зарайских жителей к присяге королевичу Владиславу. Кое-кто из историков уверен в этом, но никаких документов, содержащих прямые свидетельства, до наших дней не дошло. Известно, что в конце 1610 года Дмитрий Михайлович являлся убежденным и деятельным врагом московской администрации, поставленной поляками. В последние месяцы 1610-го (не ранее октября) или, может быть, в самом начале 1611-го его официально сняли с воеводства. Скорее всего, смещение произошло в ноябре — декабре 1610 года.
В марте 1611 года он уже в Москве.
Между этими двумя датами в его биографии изменилось очень многое.
Прежде всего, Дмитрий Михайлович вошел в соглашение с дворянами Рязанщины, где и родилось земское освободительное движение, первым вождем которого стал Прокофий Петрович Ляпунов. Именно он сделался союзником Пожарского в его борьбе с пропольскими силами.
«На рязанские места» отправилась армия, состоявшая из запорожских казаков-«черкасов» и небольшого числа русских ратников, лояльных пропольской администрации во главе с рязанским дворянином Исааком Никитичем Сумбуловым (или Сунбуловым), прежним соратником Ляпунова, присягнувшим Владиславу.
Имея под командой лишь незначительные силы, Ляпунов двинулся на защиту Пронска и отбил город у неприятеля. «Черкасы же пошли к городу Пронску, и осадили Прокофия Ляпунова в Пронске, и утеснение ему делали великое. Услышав же о том, воевода у Николы Зарайского князь Дмитрий Михайлович Пожарский собрался с коломничами и с рязанцами и пошел под Пронск. Черкасы же, о том услышав, от Пронска отошли и встали на Михайлове. Прокофия же из Пронска вывели и пошли в Переславль. Князь Дмитрий Михайлович, приняв от архиепископа Феодорита благословение, пошел опять к Николе Зарайскому…» — рассказывает летопись.
Когда Пожарский вернулся из рязанских мест, «черкасы» в отместку совершили быстрый рейд из Михайлова и по ночной поре захватили «острог у Николы Зарайского» — древоземляное укрепление, защищавшее посад. Воевода ответил моментально. Взяв с собой верных людей, Дмитрий Михайлович с этим малым отрядцем ударил на запорожцев, занятых грабежом. Казаки, не ждавшие сопротивления, падали один за другим. Те, кого не положили на месте, бежали из острога. Лишившись самой боеспособной части воинства, Сумбулов отступил в Москву.
Нашествие запорожцев относится к ноябрю — декабрю 1610 года. Очевидно, именно тогда зарайский воевода имел стычки с «черкасами» и сумбуловцами. В конце декабря 1610-го — первых числах января 1611-го запорожцы штурмуют и подвергают разграблению Алексин. Если бы не скорые и решительные действия Дмитрия Михайловича, Пронск с Зарайском ожидала та же участь.
Фактически отряд князя Пожарского действует как часть земского ополчения. Он еще не идет к столице только по одной причине: рязанцы собираются с силами, бойцов пока не столь много, чтобы выходить в большой общий поход. Да и всех сил рязанского воинства маловато для столь великого дела. Нужны союзники! Зарайский воевода — отличный, верный, отважный союзник. Однако помощь его незначительного гарнизона — далеко не тот ресурс, который обеспечит успешное очищение столицы. Дмитрию Михайловичу остается только одно: ждать. Счет идет на месяцы, на недели…
Помощники нашлись там, где их следовало искать в последнюю очередь.
Земское освободительное движение, находясь еще в пеленках, много выиграло от гибели Лжедмитрия II. Русские города и земли, страдая от наглых и алчных иноземных «гостей», колебались: кого поддержать? Но как только ушел из жизни Тушинский вор, поле выбора резко сузилось. Конечно, еще оставались в Калуге Марина Мнишек и ее новорожденный сын Иван. Однако в 1610 году мало кто решался всерьез «поставить» на эти фигуры.
До самой своей смерти Лжедмитрий II контролировал очень значительную область. Войска его, пусть и не столь многочисленные, как во времена Тушинского лагеря, оставались большой силой. Теперь судьба страны зависела от того, кто сумеет привлечь эту силу на свою сторону.
Главнейшие люди тушинцев сомневались недолго. На сторону Ляпунова встали казачий вожак Иван Заруцкий и лидер дворян, стоявших за Лжедмитрия, князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой.
Зимой 1610/11 года идет быстрое формирование Первого земского ополчения. На протяжении февраля и марта разрозненные силы повстанцев стягиваются к русской столице. Вожди ополчения, и прежде прочих Ляпунов, заводят тайные связи с сочувствующими их делу людьми в самой Москве.
19 марта, до подхода главных сил ополчения, в столице вспыхивает восстание.
Пожарский оказался в Москве раньше прочих. Свое появление он, мягко говоря, не афишировал: после боев с правительственным отрядом Сумбулова он рисковал угодить под стражу, а то и подняться на плаху.
Напряженность в русской столице постепенно росла. Поляки вели себя своевольно, москвичи их недолюбливали. Глава польского гарнизона Александр Гонсевский первое время поддерживал дисциплину среди своих подчиненных. Он даже казнил нескольких молодчиков, причинивших тяжкие обиды московским жителям. Но присутствие иноземного гарнизона не могло не провоцировать стычек с местными жителями.
Хуже того, самих поляков раззадоривали подлые советы русской администрации, выхватившей власть у боярского правительства. Эти люди выслуживались, как могли. По их рекомендациям город принялись разоружать. Снесли решетки ночных караулов, защищавшие ночной покой москвичей. Именно они, люди изменного обычая, предлагали найти удобный предлог и ударить как следует по местным жителям — раздавить их силу, пока не началось массированное организованное сопротивление.
Поляки располагали шестью тысячами собственных бойцов и восьмистами немецкими наемниками. Они боялись при столь ограниченных силах не справиться со стихией городского восстания, а потому приготовились к самым радикальным мерам по его подавлению.
Все — и русские, и поляки — чувствовали, сколь недолгий срок отделяет их от начала открытой борьбы. В преддверии ее худший из русских изменников, Михаил Салтыков, подступался к Гонсевскому и его офицерам с планом: «Упредить удар москвитян, пока в город не вошли подкрепления, посланные Ляпуновым». Поляки принялись готовиться: на башни и ворота Китай-города и Кремля они втащили пушки.
Вожди восстания дали сигнал к бою, когда приготовления поляков стали серьезно угрожать успеху их дела.
Польский офицер ясно говорит: открытое противодействие гарнизону началось, когда его офицеры принялись ставить артиллерию в наиболее опасных местах. «Страстное восстание» не было спонтанным. В Москве его готовили заранее, притом в подготовке приняли участие лица из столичного дворянства и, вероятно, аристократии. Среди них, очень похоже, действовал князь Андрей Васильевич Голицын, пусть и стесненный условиями домашнего ареста. По своему влиянию, родовитости, а также как брат крупнейшего политика В. В. Голицына, он мог оказаться на самом верху иерархии повстанцев. Снаружи организаторы получали помощь от Ляпунова. Им не удалось сохранить приготовления в тайне. Очевидно, вооруженное выступление планировали на тот момент, когда к предместьям столицы подойдут крупные силы земских ратников. Поляки, получив информацию о готовящемся взрыве, начали действовать раньше. Но и повстанцы среагировали на контрмеры Гонсевского очень быстро. Как только группы иноземцев начали расходиться по московским улицам, а офицеры поляков принялись ставить орудия в ключевых местах, им было оказано сопротивление. Гонсевский сделал ход раньше, чем от него ожидали. Повстанческое руководство бросило против его бойцов небольшие группы ратников, которые удалось собрать быстро, без всеобщего сосредоточения. К ним моментально присоединился московский посад, уставший терпеть бесчинства поляков. Тогда гарнизон принялся убивать всех посадских, не разбирая, где виноватые, а где невиновные. Бойцы Гонсевского разбрелись по лавкам Китай-города, резали хозяев и обогащались награбленным.
19 марта грянул бой, разошедшийся по многим улицам от Китай-города и Кремля.
Бой за Великий город отличался необыкновенным ожесточением: поляки штурмовали русские баррикады, а их защитники расстреливали толпы интервентов из ружей и пушек. Именно тогда среди вождей «Страстного восстания» высветилась фигура Дмитрия Михайловича Пожарского.
Польские отряды устроили дикую резню в Китай-городе, положив тысячи русских, большей частью мирных жителей. Затем они вышли из-за стен и попытались утихомирить море людское, двигаясь по крупнейшим улицам русской столицы. Отряд, наступавший по Тверской улице, наткнулся на сопротивление в стрелецких слободах и остановился. Движение по Сретенке также затормозилось, обнаружив мощный очаг сопротивления: «На Сретенской улице, соединившись с пушкарями, князь Дмитрий Михайлович Пожарский начал с ними биться, и их (поляков. — Д. В.) отбили, и в город втоптали, а сами поставили острог у [церкви] Введения Пречистой Богородицы». Дмитрий Михайлович применил наиболее эффективную тактику: использование баррикад, завалов, малых древоземляных укреплений. Против них тяжеловооруженная польская конница оказалась бессильна. Ее напор, ее мощь, ее организованность пасовали в подобных условиях.
По названию церкви, близ которой Дмитрий Михайлович приказал соорудить острог, можно определить, где проходил оборонительный рубеж. Очевидно, летописец имеет в виду древний Введенский храм на Большой Лубянке. Надо полагать, столь близкое соседство острога с Китай-городом, твердо контролируемым поляками, заставляло Гонсевского нервничать и бросать на разгром Пожарского всё новые силы. Но 19-го Дмитрий Михайлович успешно выдержал натиск противника.
Здесь же, неподалеку, на Сретенке, располагалась родовая усадьба Пожарских. Очень удобно: прячась на задворках собственной усадьбы, договариваться с мастерами Пушечного двора, стоявшего неподалеку. В нужный час они выкатили новенькие орудия и, по приказу Пожарского, открыли по вражеским копейщикам огонь.
В тот же день, 19-го, карательные отряды поляков удалось остановить на нескольких направлениях. Выйдя из Китайгородских ворот, они устремились к Яузе мимо Всехсвятской церкви на Кулишках. Не сразу, с трудом, но их атаки отбил Иван Матвеевич Бутурлин. Он занял крепкую позицию «в Яузских воротах». Вражескую группу, устремившуюся в Замоскворечье по льду, встретил Иван Колтовский с сильным отрядом. Там карателям пришлось туго. Польская конница, очевидно, несла страшные потери. Латных всадников расстреливали, как расстреливают птиц на охоте.
400 немецких пехотинцев-мушкетеров доставили первый успех Гонсевскому. На Никитской улице немцам удалось оттеснить восставших с баррикад и нанести им серьезный урон. Их же ободренные удачей поляки направили в Занеглименье — очевидно, в направлении Воздвиженки и Арбата. Наемная пехота и здесь в трехчасовом бою имела успех. Удивляться не приходится: в конце концов, наступление вели искусные профессионалы пехотного боя… Но затем они сами запросили помощи: в районе Покровки им дали отпор. Битая польская кавалерия, ожидая новых потерь, уныло двинулась из Кремля мушкетерам на спасение.
Неся огромные потери, поляки решили зажечь Москву, лишь бы не потерять ее. Страшный пожар уничтожил бóльшую часть российской столицы. Бои, шедшие 20 марта, прошли под знаком борьбы не только с вражеским гарнизоном, но и с огненной стихией.
Гонсевскому и его младшим командирам подсказали эту мысль — спалить город — русские же приспешники. Тот же Михаил Салтыков, усердствуя, первым ринулся жечь собственный двор. Однако 19 марта эта тактика не принесла им ощутимого успеха. Она просто дала возможность уцелеть тем отрядам, которые отступали под натиском восставших. Как говорит летопись, «…Москвы в тот день пожгли немного: от Кулишских ворот по Покровку, от Чертожских ворот по Тверскую улицу». Из этих районов повстанцы вынуждены были отступить. Одновременно огню и неприятелю они не могли противостоять.
Земские воеводы не успевали подойти вовремя. Войска, двигавшиеся с разных направлений, растянулись на марше. Главные силы отстали. А бросать в московскую мясорубку незначительные отряды начальники ополчения, вероятно, не решались. Расходуя ратную мощь по частям, они рисковали быстро лишиться численного превосходства.
Поэтому к утру 20 марта от Прокофия Ляпунова подошел лишь Иван Васильевич Плещеев с небольшой группой. Но на подходе Плещеева разбил полковник Струсь, явившийся с тысячью кавалеристов из Можайска. Видно, бой вышел жестокий. Струся долго не пропускали к Москве, и он прорвался лишь из-за пожара, спутавшего карты восставшим.
Таким образом, Гонсевский получил подкрепление, а русские повстанцы в Москве — нет.
20-го днем сражение возобновилось.
Поскольку Гонсевский нащупал единственную тактику, сохранявшую его людей от полного истребления и губительную для восставших, он решил применить ее в самых широких масштабах. С помощью пламени ему удалось свести поражение предыдущего дня к относительно приемлемому результату. Теперь он велел использовать поджоги повсюду и везде.
То, что произошло дальше, нельзя назвать сражением. На Москву обрушилась огненная бездна. Поляки с наемной пехотой выжигали квартал за кварталом, улицу за улицей. К несчастью, ветер способствовал их планам, быстро перенося пламя от дома к дому.
В ряде мест русским военачальникам удавалось отстоять свои позиции от пламени и вражеских нападений. Близ Кремля, в Чертолье (район Пречистенских ворот и нынешней станции метро «Кропоткинская») держались мощные укрепления. Через реку, напротив них, тысяча стрельцов обороняла иные укрепления. На обоих берегах над «шанцами» (острожками) повстанцев развевались русские флаги. Близ наплавного моста (неподалеку от Спасской башни) из Замоскворечья била по полякам мощная артиллерийская батарея. На Сретенке непоколебимо стоял Пожарский.
Москва еще не была окончательно потеряна: стрельба повстанцев наносила гарнизону урон, наши воеводы удерживали несколько ключевых позиций. Но все важные пункты на протяжении среды и четверга оказались утраченными.
Жак Маржерет, французский наемник, служивший нескольким русским царям, предложил Гонсевскому нанести фланговый удар. Он взял наемную пехоту и зашел повстанцам в тыл, обойдя их по льду Москвы-реки. Вскоре западная часть города уже пылала, огонь охватил Зачатьевский монастырь, Ильинскую церковь. Так была потеряна позиция в Чертолье.
Это деморализовало стрелецкие сотни, укрепившиеся в Замоскворечье. К тому же именно тогда на помощь к Гонсевскому прорвался Струсь. Усилившиеся поляки предприняли наступление за реку и там с помощью поджогов разгромили русскую оборону.
Последним оплотом сопротивления стал острожек (деревянное укрепление), выстроенный по приказу Пожарского близ церкви Введения Богородицы на Сретенке. Поляки не могли ни взять острожек, ни устроить вокруг него пожар: бойцы Пожарского метко отстреливались и контратаковали. На него надеялись и те, кто еще сопротивлялся людям Гонсевского близ Яузских ворот: туда командиру поляков пришлось вновь послать большой карательный отряд.
Защитники острожка били из ружей, остужая пыл чужеземцев, почувствовавших аромат победы. Сретенка давно превратилась в развалины. Улицу завалило трупами русских, поляков, литовцев и немцев. Дмитрий Михайлович всё не отдавал своим ратникам приказа на отступление. Надеялся, видимо, на помощь от земского ополчения… И повстанцы слушались его, проявляли твердость, не оставляли позиций посреди пылающего города.
Но под конец их командир пал едва живой от ранений. Тогда и дело всего восстания рухнуло. Воля к борьбе иссякла. Поляки лютовали в городе, выкашивая москвичей направо и налево. 21 марта вчерашние храбрецы, не видя ляпуновских знамен, начали сдаваться неприятелю.
Вскоре к Москве прибыли полки Первого земского ополчения, собравшиеся из разных городов Московского государства. Год с лишним они простояли на развалинах столицы, сражаясь с оккупантами. Дмитрий Михайлович не мог участвовать в этой борьбе: ему не позволили тяжелые ранения.
Лето и осень 1611 года были ужаснейшей порой в русской истории. Государство исчезло. Его представляла шайка предателей, засевших в Кремле и пытавшихся править страной при помощи иноземных солдат. Воровские казаки жгли города и села, грабили, убивали. Шведы захватили весь русский Север по Новгород Великий. Войска польского короля стояли под Смоленском и посылали подмогу московскому гарнизону.
Из последних сил стояла на пепле столицы малая земская рать, да и у той начальники умудрились переругаться. Ляпунов, затеявший дело земского восстания, попытался укротить дикое буйство казаков, добиться дисциплины, справиться с разбойничьими наклонностями казацкой вольницы. Но он пал жертвой провокации поляков и злобы казачьей: его убили свои же…
Еще бы шаг в этом направлении, и пропала бы Россия, рухнула в пропасть, не возродилась бы никогда. Но сложилось иначе.
Оставались богатые города, не занятые поляками и не желавшие покоряться новой власти, в частности Казань и Нижний Новгород. Тамошние дворяне, купцы и ремесленники имели достаточно веры в Божью помощь, достаточно воли и энергии, чтобы предпринять новую попытку освобождения страны. Второе земское ополчение начали собирать нижегородцы во главе с торговым человеком Кузьмой Мининым.
На протяжении нескольких месяцев Дмитрий Михайлович никак не участвовал в земском освободительном движении. Его раны требовали долгого лечения. Он лежал в Троице-Сер-гиевом монастыре, а оттуда отправился — или, может быть, его отправили — набираться сил в родовую вотчину, село Нижний Ландех.
Еще не восстав с одра болезни, Пожарский получил от нижегородцев приглашение — возглавить новое ополчение земских ратников.
Нижегородцы могли выбрать иного воеводу. Но они безошибочно призвали именно того человека, который оказался идеальным командующим.
В годы Смуты нижегородцы жили иначе, нежели бóльшая часть России. Важно понимать: их край сохранил свободу от чужеземного владычества и не поддался на уговоры тушинцев. Порой волю Нижегородчины приходилось отстаивать вооруженной рукой. И тамошние жители хотели бы взять себе в воеводы не только «прямого» человека, но еще и полководца, овеянного лаврами побед. В этом смысле Пожарский оказался духовно родствен всему нижегородскому обществу: и он не уклонялся в кривизну, и он не боялся поляков.
Собирая силы, Пожарский с нижегородцами рассылали по городам и землям грамоты. Смысл этих грамот лишь во вторую очередь — политический, агитационный. Прежде всего они являются памятниками христианского миросозерцания, поднявшегося на небывалую высоту.
Составители грамот ясно понимают: «По общему греху всех нас, православных християн, учинилася междоусобная брань в Российском государстве». Вторжение «польских и литовских людей» — такое же несчастье, пришедшее попущением Господним «за грех всего православного християнства». Восставая от греха, видя «неправду» чужеземцев, «все городы Московского государьства, сослався меж собя, утвердились на том крестном целованьем, что бытии нам всем православным християном в любви и в соединении, и прежнего медоусобства не счинати, и Московское государство от… польских и от литовских людей очищати неослабно до смерти своей, и грабежей… православному християнству отнюдь не чинити и своим произволом на Московское государьство государя без совету всей земли не обирати»… Однако это единство разрушилось под Москвой. Кто-то из ополченцев ударился в грабежи, кто-то поддался привычному соблазну самозванщины. Необходимо новое единство. Но глубинная основа его не должна измениться. Следует «за непорочную християнскую веру, против врагов наших, польских и литовских людей до смерти своей стояти и ныне бы идти на литовских людей всем… чтоб литовские люди Московскому государству конечныя погибели не навели… а нашим будет нерадением учинится конечное разоренье Московскому государьству и угаснет корень християнския веры и испразднится крест Христов и благолепие церквей Божиих… ответ дадим в страшный день суда Христова».
Христианское покаяние означает прежде всего «исправление ума». А значит, отказ не только от прежнего образа мыслей, но и от прежнего образа действий. Победа над неприятелем четко связывалась у руководителей ополчения с возвращением нравственной чистоты, с соединением русского народа в любви и вере.
Минин, Пожарский и его воинство покинули Нижегородчину в феврале 1612 года. Но и на Москву не двинулись прямым путем.
В поисках пополнений земцы прошли по городам Поволжья от Нижнего через Балахну, Юрьевец, Кинешму, Плес и Кострому до Ярославля. Заняли Суздаль отрядом стрельцов князя Р. П. Пожарского.
Ополчение встречали с радостью, оказывали ему добровольную помощь. Так произошло в Балахне, Юрьевце, Ярославле. Подошли полки из Коломны, Рязани и Казани.
Движению земской армии воспротивился лишь костромской воевода Иван Шереметев. Он не собирался пускать земцев. Тогда, как сообщает летопись, среди горожан вспыхнуло возмущение против него: «К князю Дмитрию… пришли с Костромы на Плес многие люди и возвестили ему про умышление Ивана Шереметева. Он же, с Кузьмой подумав и положив упование на Бога, пошел прямо на Кострому и встал на посаде близко от города. На Костроме же в ту пору была рознь: иные думали [заодно] с Иваном, а иные со всей ратью. И пришли на Ивана с шумом, и от воеводства ему отказали, чуть его не убили; тот же князь Дмитрий много ему помогал. И просили у князя Дмитрия воеводу. Он же, подумав с Кузьмою, дал им воеводу князя Романа Гагарина да дьяка Андрея Подлесова».
Костромской эпизод важен не столько для истории Нижегородского ополчения, сколько для биографии князя Пожарского. Он шел к Москве не как завоеватель, а как освободитель. Он знал: если Бог дарует ему победу, старый государственный порядок восстановится; тогда к этому порядку прилепятся и те, кто сейчас идет под земскими знаменами, и те, кто противостоит ополченцам. Все — русские, все — православные, все станут подданными одного царя. Поэтому князь проявлял великодушие: ради Христа, ради народного единства, ради будущего России. Ведь на развалинах царства понадобится каждый человек…
1 апреля 1612 года Ярославль встречал армию Пожарского. В Ярославле ополчение простояло четыре месяца, накапливая денежные средства и подтягивая войска. Если из Нижнего вышел небольшой отряд, то в Ярославле сформировалась настоящая армия. Пожарский довел ополченцев до Ярославля, создав из пестрой толпы дисциплинированную боевую силу. Там же возникло и «временное правительство» — Совет всея земли, а вместе с ним приказы (средневековые министерства), монетный двор… Фактически Ярославль стал на время российской столицей.
Стояние в Ярославле продлилось до июля 1612 года. Именно в эти месяцы региональная нижегородская инициатива получила общероссийский размах. Подкрепления идут в Ярославль из разных мест, в том числе из городов, вроде бы контролируемых Подмосковным ополчением. Даже казачьи атаманы переходят один за другим на сторону Ярославля. Соответственно, Минин и Пожарский берут на себя защиту земель и служилых людей, изъявивших верность Совету всея земли. Так, они отправляли рати против казаков, появлявшихся на окраинах подчиненной им области. Князь Дмитрий Петрович Пожарский-Лопата наголову разгромил казачью армию в Пошехонье. Князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский разбил казачий отряд под Угличем, притом четверо атаманов со всеми людьми перешли в его стан.
Чем сильнее становилось Второе земское ополчение, а вместе с ним — независимое севернорусское государство, тем более накалялись его отношения с вождями подмосковного земства. Минин с Пожарским шли очищать Москву от чужих, а порой свои оказывались намного горше. Приходилось применять воинскую силу, защищая города и земли от казачьего разбоя, прямо связанного с подмосковными «таборами». Заруцкий больше не воспринимался как союзник. Его «воровское» поведение обличали. С ним не хотели иметь дела. Его зов идти под Москву игнорировали, поскольку ни единому слову его не верили.
Чувствуя непримиримую вражду к Пожарскому, атаман послал в Ярославль убийц. Они открыто напали на Дмитрия Михайловича с ножом, один из душегубов ранил охранника, но князю не причинил вреда. Мерзавца схватили, пытали, и на пытке он во всем сознался.
Один из русских летописцев того времени сохранил странное сообщение: «Ивашка Заруцкой прислал в Ярославль, а велел изпортити князя Дмитрея Пожарского, и до нынешняго дня та болезнь в нем». То ли отправке откровенных убийц предшествовала попытка околдовать Пожарского, то ли Заруцкий положился на «искусство» хитроумного отравителя, только убить Дмитрия Михайловича ему не удалось. Но, быть может, яд, подложенный князю, способствовал развитию «черной немочи», на протяжении многих лет портившей ему жизнь.
На исходе июля Второе земское ополчение двинулось, наконец, к столице. 14 августа у стен Троицы армия сделала последнюю большую стоянку перед броском к столице. В ближайшие дни им предстояла битва за Москву с польско-литовским корпусом гетмана Ходкевича, шедшим с провизией на-выручку кремлевскому гарнизону.
В распоряжении историков нет точных данных о численности войск, находившихся под командой Пожарского и Трубецкого, а также под командой Ходкевича. Невозможно определить боевую силу их полков даже в грубом приближении. Скорее всего, обе стороны располагали примерно по шесть — десять тысяч бойцов.
Легче разобраться не в количестве воинов у Ходкевича и Пожарского с Трубецким, а в их качестве.
В распоряжении Пожарского было совсем немного хорошо вооруженной, по-настоящему боеспособной дворянской кавалерии и служилой татарской конницы. К счастью, он получил под команду отряд смолян, дорогобужан и вязьмичей, выделявшийся на общем фоне большой воинской опытностью и превосходным снаряжением. Но значительную часть войска составляли пешцы, собранные с бору по сосенке и вооруженные пестро. Дмитрию Михайловичу подчинялось небольшое количество стрельцов, а также казачьи отряды, но их боевая ценность, как правило, оказывалась ниже, чем у дворянских полков. Иначе говоря, Дмитрий Михайлович располагал боевыми силами второго сорта. И еще очень хорошо, что Минин и его помощники смогли собрать хотя бы это. У Трубецкого не было ничего подобного.
Трубецкой располагал незначительным количеством обносившихся, усталых дворян и роем казаков — отважных конечно же, порой просто неистовых, но не слишком искусных в бою и до крайности слабоуправляемых. К тому же ополчение Трубецкого было страшно измотано стоянием под Москвой, боями, потерями, отсутствием подкреплений. Наконец, оно пало духом от прежних неудач.
Если о количественном превосходстве одной из армий, сошедшихся под Москвой, можно только гадать, то качественное было явно на стороне поляков. В их стане царило единоначалие. В состав их армии входили знаменитая тяжелая кавалерия, одна из лучших боевых сил во всей Европе, а также малороссийские казаки, немецкие и венгерские пешие наемники. Полки Ходкевича, конечно, тащили за собой шлейф из авантюристов, привлеченных смутой и жаждой наживы, но это прежде всего было королевское войско, подчиняющееся твердой дисциплине. Бойцы Ходкевича шли выполнять задачу, которую они уже неоднократно решали раньше. Сознание прежних побед поднимало их боевой дух и придавало уверенности в собственных силах. Оружием, продовольствием и снаряжением гетманская армия была обеспечена не хуже ополченцев Пожарского, а скорее даже лучше, и уж точно превосходила в этом смысле ратников Трубецкого.
Самая большая беда русских сил, стоявших под Москвой, — несогласованность в действиях. Неприязнь и взаимное недоверие страшно разделили два ополчения.
Основные силы Второго ополчения добрались до Москвы 20 августа в канун дня святого Петра-митрополита. С первого же дня князь Пожарский занял жесткую позицию: не смешиваться с армией Трубецкого. Тот проявил упорство и на следующее утро явился в расположение Дмитрия Михайловича, чтобы начать новые переговоры. Трубецкой звал Пожарского «к себе в острог», иначе говоря, в деревянное укрепление, где, надо полагать, размещалось командование Первого ополчения. Пожарский, к удивлению Трубецкого, настаивал на своем: он не желал стоять вместе с казаками.
Конечно, это вызвало недовольство тех, кто рассчитывал «приручить» Пожарского и его ополченцев. Как сказано в летописи, «…князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и казаки начали на князя Дмитрия Михайловича и на Кузьму и на ратных людей нелюбовь держать за то, что к ним в таборы не пошли».
Нашлись историки, пенявшие Дмитрию Михайловичу за робость. Отчего не наступил он на горло собственной песне ради общего дела? Так ли уж надо было опасаться казаков? Разве объединенная армия земства не представляла бы собой куда более грозную силу, нежели разрозненная?
Вот уж вряд ли! Надо бесконечно благодарить Пожарского за благоразумие и полное небрежение тем, как будет выглядеть он в глазах современников и потомков. Если бы он уступил Трубецкому, как знать, не последовала бы дезорганизация земской военной силы моментально? Не убил бы Трубецкой армию в битве с Ходкевичем? Прежде, располагая вместе с отрядами Заруцкого значительной силой, он ведь не отбил Ходкевича…
В столь решительном поведении Дмитрия Михайловича видны и незаурядная воля, и незаурядный ум. Взвесив множество «за» и «против», он отказался от сомнительной стратегии, избрав более надежный образ действий.
Боевое ядро армии Пожарского переместилось из-за Яузы в район Арбатских ворот. Перед началом битвы Второе земское ополчение занимало позиции по широкой дуге, соответствующей нынешнему Бульварному кольцу в его западной части. Левое крыло земцев расположилось севернее Москвы-реки близ современной Волхонки (отряды князя В. Туренина и А. Измайлова). Центр войска — в перекрестье нынешних улиц Воздвиженки, Знаменки и Старого Арбата (смоленские дворяне во главе с самим Пожарским). Правое же крыло прикрывало от удара местность от Никитских ворот до Петровских (отряды князя Д. Пожарского-Лопаты и М. Дмитриева).
Остатки Первого земского ополчения стояли «таборами» неподалеку от Яузских ворот. Узнав о приближении Ходкевича, они вышли к Крымскому броду и закрыли собою Замоскворечье.
Течение Москвы-реки разделило ополченцев Пожарского и Трубецкого. Широкая лента воды рассекала их позиции надвое, не давая затевать свары, но и затрудняя взаимодействие.
Ходкевич подступил к Москве утром 22 августа. Гетман двигался от Поклонной горы к центру города. Он перешел Москву-реку близ Новодевичьего монастыря и, оставив рядом с обителью огромный обоз, устремился к местности у Пречистенских (Чертольских) ворот. В тех местах Пожарский поставил заслон из людей князя Туренина. Их явно не хватило бы для отражения массированного удара гетманской армии. Поэтому Дмитрий Михайлович стянул к южной части дуги основные силы. Трубецкой, предлагая удар полякам во фланг, попросил помощи и получил 500 конников.
Рано утром войска Ходкевича пришли в движение. Блестящая польская кавалерия таранила ополченцев Пожарского, стремясь пробить меж их порядками брешь и провести через нее обоз с припасами для осажденного в Кремле гарнизона.
Дмитрий Михайлович контратаковал силами русской дворянской конницы. Все источники как один говорят о страшном ожесточении вооруженной борьбы: в тот день был «бой большой и сеча злая». До крайности тяжело оказалось в открытом поле противостоять панцирной кавалерии поляков, испытанной во многих боях. Требовалось найти тактическое решение, способное переломить ход битвы, начавшейся неудачно.
Как опытный воевода, Пожарский знал, что русская пехота того времени «в поле» редко проявляла стойкость. Зато в обороне мало кому удавалось ее сломить. А вот лишенные укрытия, они могут отступить перед малыми силами неприятеля. Задолго до начала битвы Дмитрий Михайлович велел сооружать в качестве опорных пунктов деревянные острожки, а также копать рвы. Оборонительную тактику пехоты он планировал сочетать с активными, наступательными действиями конницы. Но в первые же часы боя стало ясно: фронтальные столкновения больших масс кавалерии удачи русскому воинству не приносят. Поляки продавливали строй дворянского ополчения. Игра в правильное полевое сражение могла закончиться плохо… Так не лучше ли превратить его в свалку без правил на взаимное истощение?! А для этого имеет смысл воспользоваться чудесными свойствами русской пехоты — с удивительной стойкостью и упорством цепляться за любой мало-мальски обозначенный оборонительный рубеж…
И Пожарский спешивает значительную часть дворянской конницы. Он вообще отказывается от массированного использования конных сотен. Исход битвы должен определиться не в стуке копыт, не в перезвоне сабель и не в яростных криках бешено несущихся навстречу друг другу всадников, а в беспощадных стычках за развалины города, за печи, за ровики, за ямы, за малые острожки, лицом к лицу, топорами, ножами, голыми руками.
Кавалерия Пожарского столкнулась с поляками у Новодевичьего монастыря. Гетман ввел в бой крупные силы, и русская конница отступила, но зацепилась за острожки. Здесь Ходкевич бросил в наступление резервы. Тем не менее сбить земцев с занимаемой позиции гетман не сумел.
Вскоре гетман и сам был вынужден спешить кавалерию, а вместе с ней бросить в дело пехоту. «Бысть бой под Новым под Девичим монастырем с полки князя Дмитрея Михайловича Пожарсково. И сперва литовские конные роты руских людей потеснили, потом же многими пешими людьми приходили на станы приступом и билися с утра и до вечера…» — пишет келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын.
Польский гарнизон Кремля бросался на вылазки, пытаясь помочь прорыву гетмана. Но, как выяснилось, именно таких ходов от интервентов и ждали. Кремль и Китай-город давно были окружены древоземляными укреплениями земцев. Русские дозоры не дремали. Поэтому, когда польско-литовские ратники выплеснулись из ворот, их встретил шквал пуль и стрел. Оккупантов беспощадно расстреливали издалека и в упор. Тех, кто добегал до русских позиций, встречали копьями, саблями и топорами. Волна атакующих, обессилев, откатывалась назад, под защиту стен. На московских деревянных мостовых оставались груды польских тел. Брошенные знамена доставались стрельцам. В тот день вражеский гарнизон Кремля понес тяжелейшие потери, не добившись успеха. Трое польских офицеров сложили головы в бесплодных атаках на укрепления земцев.
Эта победа ополченцев не позволила неприятелю переломить ход битвы ударом в тыл.
Гетман бросал в бой новые и новые резервы. Поляки предпринимали отчаянные атаки по фронту. Упорное противоборство с закаленными солдатами Ходкевича поколебало стойкость земцев, исход сражения оставался неочевидным.
На протяжении семи часов Пожарский вел битву только своими силами. Обе стороны несли жестокие потери. Трубецкой медлил с фланговым ударом, для которого накануне получил 500 отборных конников. Казаки, видя страшную бойню на другом берегу реки, злорадно поговаривали промеж собой: «Богатые пришли из Ярославля, и сами одни отстоятся от гетмана»…
К Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому подступили воинские головы, командовавшие пятью сотнями ратников, присланных Пожарским накануне. «Как же так, — недоумевали они, — мы переброшены сюда ради того, чтобы ударить по врагу в решающий момент боя, а нам до сих пор нет никакого применения…» Вождь Первого ополчения и тогда не отдал им приказа атаковать. Головы рассудили, что главный начальник все-таки Пожарский, а не Трубецкой. Видя изнеможение земцев, бьющихся за рекой, они двинулись в бой сами, без повеления Дмитрия Тимофеевича. Тогда князь отправил к ним человека с приказом: «Стоять на месте!» Те ослушались приказа и перешли через реку ради помощи своим полкам. Свежие силы придали ополченцам Пожарского новую стойкость.
Четверо атаманов из ополчения Трубецкого — Филат Межаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов и Макар Козлов — пришли к своему командующему со словами: «В нашей нелюбви Московскому государству и ратным людям погибель происходит». Тот остался равнодушен к их укоризнам. Тогда атаманы, подняв своих людей, бросились на помощь Пожарскому самовольно. Несколько сотен свежих русских бойцов, явившихся в разгар битвы, оказались для Ходкевича неприятным сюрпризом.
Летописец сообщает: «И пришли на помощь ко князю Дмитрию в полки. И, по милости Всещедрого Бога, гетмана отбили и многих литовских людей убили. Наутро же собрали трупов литовских больше тысячи человек и повелели закопать их в ямы».
Внезапный удар отрядов Первого земского ополчения, пришедших на помощь своим товарищам, решил дело. Наступательный порыв поляков иссяк. Ходкевич увидел, что новые атаки не принесут ему пользы. До вечера оставалось не так уж много времени, атакующие устали: бой продолжался 13 часов! Ратники гетмана ретировались.
Сам Пожарский был ранен пулей в руку. Неизвестно, когда это произошло, судя по всему — 22 августа. Но первый этап битвы за Москву закончился явно в пользу русского ополчения.
В ночь с 22 на 23 августа поляки с помощью русского изменника Григория Орлова захватили острожек в Замоскворечье, у церкви Святого Георгия на Ендове. Для того чтобы понять, насколько опасным был этот маневр для ополченцев, надо всмотреться в карту Москвы и оценить взаимное расположение противоборствующих сторон. В наши дни Замоскворечье отделено от Кремля и Китайгородских улиц Москвой-рекой, обширным островом и Водоотводным каналом. Но Водоотводной канал появился лишь при Екатерине II (1780-е годы). Польско-литовская оккупация Москвы приходится на времена, когда канала еще не существовало, а следовательно, не существовало и острова. В тех местах, где позднее появится канал, тянулась болотистая низина — пересохшая старица Москвы-реки. Лужи, прудики, сырые грязные ямы соединялись «ровушками» и «ендовами» — дренажными канавами. Но по августовской поре все они пересыхали. Таким образом, напротив Кремля и Китай-города, занятых поляками, находился выступ, где исстари находился государев сад. Его прорезала древняя улица Балчуг, тянувшаяся от побережья на юг. Там, где она упиралась в реку, два берега соединял «живой» (наплавной) мост. Он выходил к Москворецким воротам Китай-города.
Других мостов между ядром Москвы и Замоскворечьем тогда не существовало. А церковь Георгия на Ендове (иначе говоря, на канавке) стоит как раз неподалеку от Балчуга, близ наплавного моста. Орлов фактически помог полякам создать на южном берегу Москвы-реки плацдарм, через который они могли провести громадный обоз в Китай-город, к оголодавшему гарнизону Кремля. Командование земского ополчения, понимая стратегическую важность наплавного моста, устроило рядом с ним полевое укрепление — Георгиевский острожек. Оборонявшие его казаки из состава Первого ополчения не сумели отбиться. Внезапное нападение поляков отдало им в руки этот укрепленный пункт. Над ним моментально взвилось вражеское боевое знамя.
Но это еще не всё. Замоскворечье — зона обороны Первого земского ополчения. На огромном пространстве от Крымского брода до впадения в Москву-реку Яузы располагались незначительные по численности русские казачьи отряды и немногие группы дворян-ополченцев. Их положение перед лицом мощной армии Ходкевича выглядело, мягко говоря, ненадежным. А когда в тылу у Трубецкого появились гайдуки Невяровского, над всем Первым земским ополчением нависла смертельная опасность.
У Ходкевича отпала необходимость прорываться через мощные укрепления к западу от Москвы, устроенные земцами Пожарского. Ему не надо было штурмовать Белый город. Ему всего-навсего требовалось провести обоз через «рыхлое подбрюшье» полуразрушенных замоскворецких улиц. А в спину Трубецкому при этом станет бить группа гайдуков…
Сутки польское командование готовило новый удар. Гетман перенес ставку к Донскому монастырю, где прежде располагалась ставка Трубецкого. Туда же переместился и гетманский громадный обоз с продовольствием — самая большая драгоценность в разоренной русской столице.
Пожарскому стало ясно: вторая попытка прорыва будет совершена со стороны Замоскворечья. Он спешно переправил значительные силы на помощь Первому ополчению, занимавшему там оборону. Ни Дмитрий Михайлович, ни князь Трубецкой не делали попыток выбить гайдуков с балчугского плацдарма. Судьба сражения должна была решиться не здесь, а в прямом столкновении с отрядами Ходкевича.
Земцы наспех укреплялись: рыли окопы, ставили легкие пушки.
Рано утром 24 августа гетман Ходкевич начал движение на север, пробивая путь обозу. Основная группировка гетманских сил шла перед обозом, преодолевая сопротивление Трубецкого. Левое крыло прикрывало это движение от ратников Пожарского. Прорыв был намечен по главной «артерии» Замоскворечья — улице Ордынке.
Дмитрий Михайлович, видя наступление поляков, велел дворянским конным сотням атаковать полки Ходкевича, пока те не подошли ко рву Земляного города. Русская конница ринулась на левое крыло гетманских войск. Однако этот маневр, как и 22 августа, не принес удачи. Среди сил прикрытия, действовавших против Пожарского, было порядка 800 панцирных гусар, и в открытом поле отрядам русских провинциальных дворян трудно было сдерживать их тяжкую мощь. После упорного многочасового боя польская кавалерия опрокинула конницу ополченцев, и та устремилась к Крымскому броду — перебираться на безопасную сторону реки. Казаки Трубецкого, также пытавшиеся остановить Ходкевича, потерпели поражение и отошли.
Пожарский с основными силами едва удержал позицию близ Крымского брода. Впоследствии этот плацдарм позволит возобновить боевые действия в Замоскворечье. Но пока о новой атаке и речи быть не могло: требовалось остановить панику и привести разбитые отряды в порядок.
Гетман, решив, что с ополченцами Пожарского покончено, оставил неподалеку от брода заслон из двух рот и перебросил все силы на другое направление. Настал черед русской пехоты, оборонявшей руины Деревянного (Земляного) города. Польским кавалеристам мудрено было подступиться к ней. Стрельцы и казаки вели прицельный огонь. Немногочисленная артиллерия земцев осыпала неприятеля ядрами из-за земляных насыпей.
Ходкевич подтянул свои орудия, началась ответная канонада. Русская пехота упорно стояла и не желала оставлять позиции. Однако она осталась без поддержки конницы. На этот раз дворянские сотни не получили приказа спешиться и отбивать поляков вместе с пехотой… Критический момент для пеших стрельцов наступил, когда Ходкевич распорядился спешить конную шляхту и запорожских казаков, а потом бросил их на штурм Деревянного города. Сдержать атаку столь многочисленных сил одной только стрельбой не получилось. А когда польские кавалеристы, искусные бойцы на саблях, перебрались через ров, началась резня. Не обладая многолетней выучкой в обращении с холодным оружием, стрельцы и казаки начали нести тяжелые потери. Будь рядом с ними ополченцы-дворяне, вероятно, атакующих удалось бы отбросить. Но они давно покинули поле сражения. И русская пехота стала разбегаться, бросая оборонительный рубеж.
Теперь поляки могли отдохнуть, осмотреться, перегруппировать силы. Они глубоко вклинились в Замоскворечье. Об этом ясно свидетельствуют слова летописи: Ходкевич подтянул обоз к храму Святой великомученицы Екатерины. Здание Екатерининской церкви на Всполье несколько раз обновлялось. Но место, где раз за разом выстраивали новые здания, оставалось тем же самым. Ныне это 60-й дом по улице Большая Ордынка. А ведь от него всего полчаса быстрым шагом до Георгиевского храма, где с ночи стояли гайдуки!
Здесь, неподалеку от храма Святой Екатерины, у ополченцев, как видно, был острожек. В него теперь вошли поляки.
Часть русской пехоты зацепилась за Климентовский острожек — деревянную крепостицу, устроенную ополченцами севернее по той же Ордынке, рядом с храмом Святого Климента, папы Римского. Фактически одно это укрепление и отделяло гетманские полки от гайдуков. Именно в борьбе за Климентовский острожек и решилась судьба сражения.
Ходкевич бросил на острожек пехоту из отряда Граевского. Вместе с ней пошли казаки из полка Зборовского. С тыла над позицией русских нависала другая опасность — гайдуки с балчугского плацдарма. Усилия отряда, защищавшего крепостицу, оказались тщетными. Бой за ключевой острожек кончился тем, что значительная часть русского гарнизона оказалась перебитой, а те, кто уцелел, разбежались. Полякам досталось несколько легких пушек.
Задача Ходкевича фактически была решена: он пробился к центру Москвы. От балчугского плацдарма перед наплавным мостом его отделяло пустое, никем не защищаемое пространство. Гайдуки от Георгиевского храма потянулись к захваченному острожку — встречать победителей, провожать телеги с припасами к мосту.
То, что произошло дальше, иначе как чудом назвать нельзя. За несколько часов величайшее поражение обернулось для наших величайшей победой.
Польско-литовская армия устала. Она была до предела измотана кавалерийским сражением, прорывом укреплений по рву Деревянного города, боем за Климентовский острожек. И когда ей оставалось довершить дело, польские военачальники начали ошибаться.
Русские источники свидетельствуют: вражеские роты остались в Климентовском острожке, установили на стенах знамена и ввели внутрь часть обоза. Но как много людей отрядили для его охраны? Быть может, незначительное количество. Добившись столь явного преобладания над противником, даже опытный полководец может недооценить его ресурсы к дальнейшему сопротивлению.
Видимо, Граевский и Зборовский выделили для обороны укрепления слишком незначительный отряд. В любом случае, главные силы вернулись в расположение гетманской армии, к Екатерининской церкви.
Колоссальный обоз требовалось провести по улице, обезображенной окопчиками, ямами, пожарищами. Как видно, земское командование (вероятно, тот же Трубецкой) догадалось затруднить продвижение неприятеля, сделав канавы на главных улицах Замоскворечья. И гетман дал отдых утомленным ратникам. Неким «купцам» велено было «равнять рвы» перед обозом, то есть засыпать канавы. Пехота же и кавалерия поставили походные шатры. Они набирались сил для последнего броска.
А русская пехота, разбитая и рассеянная, никуда не исчезла. Казаки и стрельцы, выдавленные с оборонительных позиций, засели по рвам, укрылись в ямах, огородах, спрятались за печами, в лопухах и крапивных зарослях. Оттуда они внимательно наблюдали за поляками. Здесь были и те, кто пришел из полков Пожарского, и те, кто подчинялся Трубецкому. Вскоре они заметили: большая часть поляков, взявших Климентовский острожек, ушла оттуда. Боевое охранение осуществляется малыми силами. Казачьи начальники, сговорившись между собой, подняли людей. Стремительной атакой они отбили острог и церковь. Венгерские наемники, составлявшие гарнизон острожка, не ожидали нападения. Половину венгров казаки вырезали, остальные спаслись бегством.
Вести об успехе пехотинцев быстро разлетелись по Замоскворечью. Павшие духом ополченцы ободрились. Малыми группками они устремились к деревянному форту, над которым вновь поднялись русские знамена. Климентовский острожек стал местом концентрации казачьей и стрелецкой пехоты. Оттуда русские отряды двинулись южнее и засели слева и справа от Ордынки. Они готовились встретить пальбой Ходкевича, когда он вновь двинется к острожку.
Боевые действия на время прекратились. Войска обеих сторон понесли чудовищные потери и смертельно устали. Пожарский счел этот момент идеальным для перехвата инициативы.
С того момента, когда дворянская конница устремилась в бегство, оставив пехоту без поддержки, он пытался восстановить порядок в войсках. Среди толп испуганных ратников Дмитрий Михайлович мог опираться лишь на свой полк, оставшийся под контролем. Поляки позднее сообщали, что русский воевода выгонял своих людей из таборов силой. Что ж, при тех обстоятельствах Пожарский и должен был поступать подобным образом. Однако даже с его стальной волей, даже используя вооруженное принуждение, князю трудно было поднять на новый бой конников, деморализованных недавним поражением.
На помощь Пожарскому пришли люди, дополнявшие его характер своими качествами. Кузьма Минин добавил к суровым мерам Пожарского свой риторский талант. Он ходил по расположению русских войск и своими речами помогал людям преодолеть растерянность. Пожарский также велел духовенству Троице-Сергиевой обители служить молебен во храме Ильи Обыденного.
И ополченцы стали понемногу приходить в себя. Тогда Минин явился к Пожарскому и попросил дать ему отряд для контрудара. Этот контрудар заставил маятник битвы качнуться в обратном направлении.
Передышка, которую Ходкевич дал своим людям, сработала против него. Теперь он имел перед собою не только рассеянные отряды казаков, но и медленно набухающую на левом фланге угрозу в виде отрядов Пожарского, возвращающихся в Замоскворечье.
Русскому воинству наконец пригодился плацдарм, сохраненный при первом столкновении с поляками. Минин, форсировав Крымский брод с четырьмя-пятью сотнями бойцов, не только разбил фланговый заслон поляков, но еще и собрал для боя конников-ополченцев, беспорядочно метавшихся в садах «Крымских Лужников», близ Якиманки. Они остались тут после разгрома в чистом поле, но не решались собраться вместе и атаковать гетмана. Минин передал им приказ спешиться и идти на помощь казакам, засевшим по обе стороны Ордынки, под носом у Ходкевича.
И опять возвращение к тактике свалки, почти что партизанской борьбы в условиях полуразрушенного города, принесло успех. Неожиданное нападение еще недавно едва державшихся русских застало интервентов врасплох. Наша пехота принялась давить на таборы Ходкевича. Противостоять летучим группам казаков, стрельцов и дворян, атаковавших то тут, то там, оказалось невероятно трудно.
Положение гетманской армии оставалось небезнадежным. Она встретила сопротивление, когда уже не чаяла нового боя. Она несла потери. Она оказалась в неудобной позиции. Но она всё еще оставалась хорошо организованной вооруженной силой и могла долго драться. Более того, Ходкевич сохранил серьезные шансы на победу. Ему всего-навсего требовалось дождаться темноты, перегруппировать силы, выйти из-под натиска русской пехоты. Тогда он сберег бы своих людей, сберег бы обоз и даже мог бы под покровом темноты продолжать движение к балчугскому плацдарму. У него сохранялась надежда на своевременную помощь со стороны кремлевского гарнизона и группы гайдуков. Наступательный же ресурс войск Пожарского иссяк. Они и без того сделали мощное усилие, вернувшись и вступив в новый бой с неприятелем. Требовалась поддержка Трубецкого. Без нее битва могла окончиться как угодно. Но Трубецкой не торопился с поддержкой. Эти его колебания впоследствии станут причиной немалых укоров в его адрес.
Был ли так уж виноват Дмитрий Тимофеевич в том, что помощь с его стороны запаздывала? Уместно усомниться в этом. Он попал в тяжелое положение. Конница его, так же как и конница Пожарского, потерпела поражение в первые часы боя. Но в отличие от Второго земского ополчения Первое, подчинявшееся Трубецкому, вообще располагало неустойчивым боевым элементом. Возможно, полководец попросту не справился с собственной армией. Собственного Минина у него не нашлось, а твердой воли для того, чтобы поднять людей, ему не хватило.
Сообщение между лагерем Трубецкого у Яузских ворот и Замоскворечьем шло вброд и «по лавам» — то ли по какой-то наплавной конструкции мостков, то ли плотами. В любом случае, не составляло труда перейти с берега на берег. И вот уходили с боя в лагерь многие, а возвращаться не собирался никто.
Пожарский отправил в стан Трубецкого троицкого келаря Авраамия Палицына. Добравшись до Климентовского острожка, Авраамий принялся ободрять тамошний невеликий гарнизон. Как видно, он узрел меж казаками шатость. Присутствие духовного лица высокого сана должно было пристыдить колеблющихся и предотвратить их бегство.
Выйдя с «эскортом» из острожка, старец двинулся к побережью Москвы-реки. Там он застал скверное зрелище. Великое множество казаков уходило с поля сражения бродом «против церкви Святаго великомученика Христова Никиты». Авраамий Палицын вновь обратился с речами к ополченцам и, по его словам, обратил некоторых вспять.
Но «егда прииде келарь в станы казачьи, и ту обрете их множество: овых пьющих, а иных играющих»… Келарь обратился к казакам с суровым поучением. Те, как он говорит, «выидошя из станов своих и повелешя звонити и кличюще ясаком (возгласом): „Сергиев, Сергиев!“ И поидоша вси на бой».
В Троице-Сергиевой обители сохранилась память о том, как келарь Авраамий, отлично знавший нравы казаков, не стал в критический момент ограничиваться духовными словесами, а использовал более действенный для них аргумент. Понимая, сколь важно собрать все силы в кулак, он пообещал куражливым казакам казну Троице-Сергиевой обители.
Может, некоторые из ушедших в таборы с поля боя, послушав духовные наставления, устыдились своего малодушия. Кого-то, вероятно, пробрала простая русская совесть. Ну а прочие, думается, не от укоров совести и не от духовных словес поворотили коней, а заслышав, какая плата им обещана. Так или иначе, Авраамий сделал свое дело. Казачья конница вернулась в Замоскворечье и сцепилась с Ходкевичем. Вместе с ней и сам Трубецкой вновь явился на битву.
Приход этой новой силы поставил гетмана в крайне тяжелое положение. Его постепенно выдавливали с позиции у Екатерининского храма. Несколько часов длились перестрелка и жестокая рубка. Но для польского полководца чем дальше, тем больше нарастала опасность совершенно утратить контроль за ходом дела. Его ратники уже не имели сил сдержать русский напор. Им пришлось очистить Екатерининский острожек. Войско, несколько часов назад пребывавшее в шаге от победы, начало откатываться с позиций, завоеванных ценой больших потерь и усилий.
Ходкевич ушел из Замоскворечья без позора. Но он потерял обоз (во всяком случае, значительную его часть) и огромное количество бойцов. О тяжести урона, нанесенного его войску, говорит скорое отступление Ходкевича от Москвы. Он быстро ушел от Донского монастыря и переместился на безопасное расстояние — к Воробьевым горам. Следовательно, опасался нападения земцев и видел, по состоянию подчиненных, что сдержать неприятельский напор они не смогут.
Когда Ходкевич отступил к Воробьевым горам, в стане ополченцев могли вздохнуть спокойно: и впрямь, гетман скоро ушел из-под Москвы. В армии Пожарского принялись совершать молебны, благодарить в молитвах Пречистую Богородицу, московских чудотворцев и преподобного Сергия. Звонили колокола в уцелевших среди всеобщего разорения храмах. Священники отпевали павших. Тысячи тел нашли вечное упокоение в могилах. Велика была жертва, принесенная нашим народом. Ею куплены были свобода и чистота веры.
Победа в борьбе за Москву — общее земское достижение. В этом общем деле князь Дмитрий Михайлович Пожарский сыграл особую роль. Она отнюдь не сводится к приказам, отданным во время битвы с поляками. Она связана не только и даже не столько с проявлениями полководческого таланта, сколько с особыми душевными качествами князя. Сражение длилось столь долго, шло с таким упорством, принесло такие потери как русским, так и полякам, что самым полезным свойством вождей, вставших во главе двух армий, стало умение сохранить в своих людях стойкость. Воины Пожарского и Ходкевича на протяжении двух дней отважно сталкивались в многочасовой рубке. Они подолгу вели бой, то колеблясь, то наращивая наступательный порыв. Полководцу, ведущему такое сражение, не столько нужны тактические ухищрения, сколько вера в Бога, в правоту своего дела и в мужество своих людей. Когда приходит конец силам человеческим, когда всё бежит, когда ратники ни о чем уже не способны думать, кроме спасения, тогда военачальник находит новые резервы, тогда он просит, настаивает, угрожает, подкупает тех, кого еще можно бросить в пламя сражения, и продолжает борьбу. Если требуется — посылает красноречивых ораторов ради воодушевления воинов. Если надо — сам встает в боевой строй. Здоров ли он, ранен ли, много ли у него шансов, мало ли, а он должен надеяться на победу и поддерживать такую же надежду в своей армии. И Пожарский не допустил бегства. Любыми средствами он сохранял боеспособность.
Разбить Ходкевича означало — решить промежуточную задачу. Гетман шел спасать кремлевский гарнизон от голода. А гарнизон ждал помощи короля Сигизмунда III. В свою очередь, король мечтал закрепиться в Москве навсегда. Он мог набрать и более значительную армию, чем та, которой располагал Ходкевич.
Таким образом, разгромленный Ходкевич являлся самым слабым и самым безопасным из врагов земского ополчения. Страшнее всех был Сигизмунд, стоящий во главе вооруженных сил Речи Посполитой. И трудная борьба предстояла еще с оккупантами, удерживающими центр Москвы.
Поляки не собирались сдаваться. К ним пришло пополнение — те самые гайдуки Ходкевича. Гарнизон ждал возвращения гетмана или, еще того лучше, пришествия самого короля под Москву. Неизвестно, сколь велики были силы, оборонявшие центр Москвы от земцев. В литературе всплывают цифры три-четыре тысячи бойцов. Верить им нельзя, слишком уж они гипотетичны. Вероятно, поляков и немецких наемников осталось меньше. Но, во всяком случае, их командир Струсь обладал значительным ресурсом сопротивления. События, последовавшие за разгромом Ходкевича, показали, что он мог драться, и драться успешно. В конце концов, люди Струся занимали две мощнейшие крепости и являлись профессионалами войны. Они могли уповать и на рознь в русском военном руководстве. У них, по большому счету, имелась лишь одна серьезная проблема: недостаток съестных припасов.
Через две недели после ухода Ходкевича русское войско организовало бомбардировку Кремля и подожгло палаты князя Мстиславского, но полякам удалось потушить пожар. Несколько суток спустя ополченцы бросились на штурм Кремля, однако были отбиты.
Прежде всего, общее дело страдало от несогласия между главными полководцами двух земских ополчений.
Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой требовал от Минина и Пожарского если не повиновения, то хотя бы формальных почестей, соответствующих высоте его рода; Пожарский не соглашался. «Начальники же начали между собой быть не в совете из-за того, что князь Дмитрий Тимофеевич хотел, чтобы князь Дмитрий Пожарский и Кузьма ездили к нему в таборы, — сообщает летопись. — Они же к нему не ездили, не потому, что к нему не хотели ездить, а боясь убийства от казаков».
Для современного человека требование, выдвинутое Трубецким, непонятно. За Пожарским — более сильное войско, за Пожарским — Минин и огромная область, доверившая ему власть над ополчением. Казалось бы, какое право Дмитрий Тимофеевич имеет принуждать Пожарского к подчиненной роли? Да хотя бы к видимости подчинения! Но для служилой аристократии начала XVII века требование князя Трубецкого звучало как нечто само собой разумеющееся, ибо семейство Трубецких занимало в старомосковской служилой иерархии место намного более высокое, нежели семейство Пожарских.
Что в большей степени повлияло на поведение Пожарского? Возможно, действительное опасение казачьих каверз. Возможно, уязвленная гордость — хоть и умел князь преодолевать ее позывы. Но не менее того, надо полагать, и тревога иного рода. Дмитрий Михайлович в деле оказался сильнее Трубецкого. Тот стоял вместе с Ляпуновым и Заруцким более года на Москве, но одолеть неприятеля не мог. Явился Пожарский, и поляки отхлынули от столицы. Пожарскому доверяла земская масса из поволжских и замосковных городов. Пожарскому симпатизировали русское дворянство и посадский люд. Трубецкой ладил только с казаками. Даже дворяне уходили от него к Пожарскому. Подчинился бы Дмитрий Михайлович Трубецкому и, как знать, не развалилось бы ополчение, во многом скрепленное верой в своего вождя? Не наделал бы ошибок Трубецкой? Интересы дела и сомнения в способности Трубецкого довести его до конца, вероятно, стали главной причиной отказа.
Этот отказ обставлен был подобающими оговорками. Пожарский не отрицал старшинства Трубецкого, он просто не шел к Дмитрию Тимофеевичу на совет. Трубецкой должен был пойти на уступки ради общей победы. Честь его родовая стоила невероятно дорого по представлениям того времени… Надо отдать должное этому аристократу: он все-таки решил поступиться частью ее ради высокой цели. Единое руководство русскими освободительными силами стало неоспоримой необходимостью. Соединение двух властей потребовало жертв и от Дмитрия Тимофеевича. Он заключил с Пожарским компромиссное соглашение. «И приговорили, — повествует летопись, — всей ратью съезжаться на Неглинной. И тут же начали съезжаться и земское дело решать».
Объединение состоялось через несколько недель после разгрома Ходкевича. До наших дней дошла грамота по земельным делам, составленная от имени князей Д. Т. Трубецкого и Д. М. Пожарского 6 сентября 1612 года.
Однако преодоление розни между двумя полководцами далеко не исчерпывало проблем, стоявших перед земским воинством. Не напрасно Пожарский говорит о «розни» его людей с казаками.
Волнения, вспыхивавшие среди казаков, могли закончиться настоящим большим бунтом и даже вооруженной сварой между ними и дворянами. Пожарский вновь, как при отражении Ходкевича, призвал на помощь троице-сергиевское духовенство. Авраамий Палицын рассказывает о чрезвычайных мерах, понадобившихся для того, чтобы укротить казачью стихию: им обещали оплату от имени Троице-Сергиевой обители.
Пожарский, при всех нестроениях в земском воинстве, отлично подготовился к приходу Ходкевича. Разведка донесла ему и Трубецкому, что гетманская армия вновь на подходе. «Они же начали думать, как бы гетмана не пропустить в Москву. И повелели всей рати от Москвы реки до Москвы реки же плести плетни и насыпать землю. И выкопали ров великий, и сами воеводы стояли, переменяясь, день и ночь. Литовские люди, услышав о такой крепости, не пошли с запасами». Новые земляные укрепления и новые артиллерийские батареи, как видно, совершенно отбили у поляков желание попытать счастья в новом прорыве.
Таким образом, осажденные утратили последнюю надежду на вызволение извне. Для них очередная неудача гетмана явилась страшным ударом.
Имеется множество свидетельств о том, на какие страдания обрек себя польский гарнизон. «Вновь начался голод и до такой степени дошел, что всякую нечисть и запрещенное ели, и друг друга воровски убивали и съедали. И, потеряв силы от голода, многие умерли», — пишет русский современник о поляках. Когда вооруженная борьба прекратилась и ополченцы вошли сначала в Китай-город, а потом в Кремль, они увидели там устрашающие знаки недавнего прошлого. Разрытые могилы, кошачьи скелетики, чаны с засоленной человечиной. Мертвецов бережно хранили, развесив туши по чердакам. Драгоценное мясо закатывали в бочки — кое-кто из осажденных запасался провизией на зиму… Наиболее достоверные показания исходят от самих поляков, пытавшихся отбиться от русского натиска в Кремле и переживших все ужасы нескольких месяцев страшного голода. По данным современного польского историка Т. Богуна, за время осады было съедено порядка 250–280 человек из числа военачальников и рядового состава.
Недостаток продовольствия терзал и ополченцев, несмотря на административный гений Минина, немало способствовавший хорошему обеспечению земских войск. Ополченцы голодали не столь ужасно, как польский гарнизон Кремля, но и в их рядах, как свидетельствуют документы, голодная смерть выкашивала бойцов, в том числе и дворян…
Между тем Трубецкой и Пожарский готовились к новому штурму, расставляли артиллерийские батареи, малыми группами прощупывали, сколь бдительно поляки охраняют стены.
По всей видимости, силу противника русские воеводы оценивали по интенсивности ответного огня. Как только он ослаб, земское руководство поняло: гарнизон не сдержит удара, а значит, появилась возможность для нового приступа. Очевидно, южный участок Китайгородской стены выглядел обнадеживающе. Именно здесь казаки Трубецкого начали штурм.
Летописи четко указывают место и время, где и когда русские войска произвели атаку: «…на память Аверкия Великого», «…с Кулишек от Всех Святых от Ыванова лужку… октября в 22 день, в четверг перед Дмитревскою суботою». Иначе говоря, русские ударили со стороны Всехсвятского храма на Кулишках, там, где Китайгородская стена подходила к побережью Москвы-реки. Бой начался рано утром, когда бдительность польских караулов притупилась.
По описанию современника, сигнал к штурму был подан звуками рога. Ратники по лестницам добрались до бойниц, сбросили поляков и водрузили знамена над крепостными стенами. Очевидно, поляки только тешили себя иллюзиями, что еще могут оказывать достойное сопротивление. На самом деле им для этого недоставало сил.
Сразу после сдачи Китай-города польский гарнизон выпустил из Кремля знатных женщин — жен и дочерей русской аристократии, оказавшейся взаперти, рядом с врагами. К знатным родам, запятнавшим себя сотрудничеством с оккупантами, отношение было недоброе. Особенно в Первом ополчении. Тамошние «старожилы», сидевшие под Москвой аж с середины 1611 года, очень хорошо помнили рассказы москвичей, как жгли родной город вместе с поляками их русские приспешники. Казаки Трубецкого слишком давно дрались с кремлевскими сидельцами и слишком много лиха приняли от врага, чтобы милосердие возобладало в их сердцах. А потому дворяне и бояре, оказавшиеся на территории Кремля, знали: почти наверняка бедных женщин ожидают позор и поругание. Никто не станет разбираться, изменничья это жена или невинная дочь человека, попавшего в осаду по неосмотрительности. Но Дмитрий Михайлович проявил твердость, не дав «грабить боярынь». Да и не только о грабеже идет речь…
Вскоре польский гарнизон принужден был сдаться на милость победителей.
Авраамий Палицын пишет: «И прежде отпустили [поляки и литовцы] из града боярина князя Федора Ивановича Мстиславского с товарыщи, и дворян, и Московских гостей и торговых людей, иже прежде у них бышя в неволи». Троице-сергиевский келарь очень осторожен в выражениях. Действительно, многие из московских дворян и купцов оказались у польского гарнизона в жестокой неволе. Но кое-кто немало способствовал проникновению вооруженного врага в сердце русской столицы.
Казаки пришли к воротам, желая учинить расправу и ограбление кремлевских сидельцев. На этот раз они изготовились защищать свой материальный интерес силой оружия. Но князь Пожарский вновь воспротивился этому, защитив тех, кто выходил из Кремля.
В результате переговоров с поляками русское командование гарантировало им только сохранение жизни и «чести», то есть защиту от издевательств. Гарантия держалась на слове, которое дали командиры ополченцев. Офицеры и солдаты осажденного гарнизона должны были сложить оружие и открыть ворота днем позже, чем выйдут русские сидельцы.
В итоге многие осажденные все-таки лишились жизни. Главным образом урон им нанесли казаки Трубецкого. Тех, кто выходил в полки Пожарского, ожидала лучшая защита.
Кремль пал 26–27 октября 1612 года. «На память святого великомученика и чудотворца Димитрия Солунского», — добавляет благочестивый московский книжник, видя промыслительную связь с именами обоих русских полководцев: Дмитрия Трубецкого и Дмитрия Пожарского. Для двух земских воинств победа над иноплеменным врагом означала нечто гораздо большее, нежели простой военный успех. Она воспринималась как милость, поданная силами небесными. В ней видели мистический смысл и славили в первую очередь не полководцев за их воинское искусство, а Пречистую Богородицу за Ее великое благоволение.
1 ноября оба ополчения совершили крестный ход с иконами и молитвенными песнопениями.
Капитуляция Струся имела продолжение, о котором редко упоминают в популярной и даже научной литературе.
В ноябре Сигизмунд III все-таки явился с войском, дабы заявить польские права на русский престол. Король не посмел двигать к русской столице всю свою армию. Поскольку в тылу у поляков оставались мощные русские гарнизоны, а в людях обнаружилась нехватка, Сигизмунд отправил легкий корпус. Этот корпус имел вид посольства и задачу, которую современный военачальник обозначил бы словами «разведка боем». Не побегут ли русские голодранцы от одного вида польского рыцарства?
Близ города стояли «сторóжи» (дозоры) земцев. Неожиданно налетев на одну из подобных «сторож», поляки завязали сражение. Бой развернулся на Ваганькове у Ходынки. Немногочисленные ополченцы сцепились с врагом и едва сдерживали его натиск. Но в итоге бой закончился полной победой ополченцев: «На них (поляков. — Д. В.) вылезли многия полки московския, и их побили и языки[142] поймали многия». Иначе говоря, как только известие о боевом столкновении достигло Пожарского, он вывел основные силы для контрудара. Ядро вражеского отряда, по одним сведениям, составляло порядка трехсот польских и литовских кавалеристов во главе с ротмистрами, по другим — около тысячи ратников.
Помимо военных забот на плечи Дмитрия Михайловича Пожарского легло тяжкое бремя дел чисто административных. Армия нуждалась в деньгах, продуктах, снаряжении. И даже золотой «финансист» Минин не мог решить всех проблем. Приходилось впрягаться и Пожарскому с Трубецким.
После отступления Сигизмунда земское ополчение могло наконец заняться самым неотложным делом: определить будущее русской государственности. Для этого земское руководство постановило созвать общероссийский собор. Вызов представителей оказался делом долгим и хлопотным. Хотели начать заседания в декабре, но пришлось перенести первоначальный срок на месяц.
Земский собор открылся в начале января 1613 года. Его заседания проходили в Успенском соборе Кремля. К Москве съехались многие сотни «делегатов», представлявших города и области России.
Собор всей земли совершал великое дело восстановления русской государственности. Главной задачей его стало избрание нового монарха. «А без государя Московское государство ничем не строится и воровскими заводы на многие части разделяется и воровство многое множится, — справедливо считали участники собора. — А без государя никоторыми делы строить и промышлять и людьми Божиими всеми православными християны печися некому». Избрание государя проходило в спорах и озлоблении. Участники собора были далеко не единодушны. «Пришли же изо всех городов и из монастырей к Москве митрополиты и архиепископы и всяких чинов всякие люди и начали избирать государя. И многое было волнение людям: каждый хотел по своему замыслу делать, каждый про кого-то [своего] говорил, забыв писание: „Бог не только царство, но и власть кому хочет, тому дает; и кого Бог призовет, того и прославит“. Было же волнение великое», — сообщает летопись.
Земские представители выдвинули больше дюжины кандидатур.
Имя юноши Михаила Федоровича из старомосковского рода Романовых окончательно восторжествовало на соборных заседаниях 21 февраля 1613 года. Под сводами Успенского собора, главного для всей Русской земли, его нарекли государем. Только 11 июля состоялось венчание на царство, а вслед за ним начались большие торжества.
12 июля, на следующий день после возведения на престол государя Михаила Федоровича (1613–1645), первого в династии Романовых, Пожарский получил в награду высший «думный» чин — боярина[143]. Для него, человека совершенно незаметного в рядах блестящей московской аристократии, боярский чин был недостижимым мечтанием. Можно сказать, за время борьбы со Смутой из полковников он прыгнул в маршалы…
Дмитрию Михайловичу пожаловали также обширные земельные владения.
Возвышение Пожарского явно шло вразрез с местнической традицией. На такое нарушение местнической иерархии немедленно отреагировали роды, чьи интересы оказались затронутыми. Но правительство считало необходимым защищать Пожарского от нападок. Не всегда, но в подавляющем большинстве случаев местнические тяжбы решались в его пользу.
Между тем Смута далеко не закончилась. У стен столицы еще дважды происходили большие сражения. Шведы, поляки, литовцы, казаки Заруцкого и бесконечные шайки других воровских атаманов раздирали страну. Трон шатался, горели города, вырезались села. Судьба России еще несколько лет висела на волоске.
Восстановление — настоящее, спокойное, мирное восстановление — началось не ранее 1619 года. Таким образом, после восшествия на престол Михаила Федоровича война шла без малого шесть лет. И меч князя Пожарского опять понадобился.
Летом 1615 года князя отправили с небольшим полевым соединением под Брянск. Пожарский вместе со вторым воеводой Степаном Ивановичем Исленьевым и дьяком Седьмым Заборовским должен был разбить литовцев, недавно занявших город Карачев.
29 июля полки Пожарского вышли из Москвы. Им противостоял исключительно опытный и храбрый авантюрист, полковник Лисовский. Он пользовался огромным авторитетом у наемников. За ним утвердилась репутация искусного полководца.
Пожарский, добираясь до Волхова, отовсюду присоединял к своему воинству малые отряды казаков, дворян, стрельцов. Приведя в Волхове полки в порядок, он выступил на Карачев. «Лисовский же, — сообщает летопись, — услышав, что идет против него боярин, Карачев выжег и пошел верхней дорогой к Орлу. Князь Дмитрий Михайлович, услышав про то, пошел наспех, чтобы занять вперед литовских людей Орловское городище. В воскресный день с утра пришли они оба вдруг. Впереди же шел в ертоуле Иван Гаврилович Пушкин, и начал с ними биться. Люди же ратные, видя бой, дрогнули и побежали назад, так, что и сам воевода Степан Исленьев и дьяк Семой с ними бежали. Боярин же князь Дмитрий Михайлович Пожарский с небольшим отрядом с ними бился много часов, едва за руки не взявшись бились».
Пожарский применил тактику, успешно использованную им в боях за Москву 1611 и 1612 годов. Малый отряд его усталых воинов огородил свою позицию возами, создав, таким образом, небольшую крепость. Теперь бойцам Лисовского предстояло ее штурмовать. А защитники открыли убийственный огонь. Наткнувшись на укрепление, встретив ливень свинца, люди полковника утратили наступательный порыв. Бой с ратниками Пожарского обошелся им одними пленными в три сотни бойцов. Убегая из-под русского огня, «лисовчики» бросали знамена и литавры. Их вождь, раненый, почел за благо отойти на две версты от русских позиций. Поле боя осталось за Пожарским.
Дмитрий Михайлович понимал, сколь рискованно его положение. Большая часть русских бойцов ушла, не выдержав первого натиска «лисовчиков». «Осталось с князь Дмитреем, — сообщают документы, — людей жилецкая сотая да дворянская, да дворян из городов не помногу, да человек с сорок стрельцов». Казаки, как водится, удрали с поля боя. Воинские головы, то есть младшие офицеры удержавших позицию сотен, были: Иван Гаврилович Бобрищев-Пушкин, Григорий Горихвостов и Лаврентий Кологривов. Бой недешево стоил и войску Пожарского: Горихвостов получил ранения, а вместе с ним ранен был находившийся в войске служилый аристократ князь Никита Гагарин.
Оставшиеся упрашивали воеводу отступить к Волхову. Но Пожарский им отказал, говоря, «что [надо] помереть всем на сем месте. Такую в тот день храбрость московские люди показали: с такими многочисленными людьми малочисленным отрядом сражаясь!» — восхищался летописец. И тут есть от чего прийти в восторг. Полководец своим личным примером остановил бегство армии, затем перегруппировал силы и отбросил неприятеля! Стоя лицом к лицу с более сильным отрядом, он предпочел смерть отступлению. И люди, оставшиеся с ним, поверили в своего начальника, не покинули его.
Сам Лисовский докладывал о сражении с армией Дмитрия Михайловича совершенно иначе. Его будто бы застали врасплох, неоднократно атаковали, но не смогли разбить.
Скорее всего, столкновение двух армий оказалось неожиданным и для Пожарского, и для Лисовского. Первый этап — свалка, долгая, беспорядочная, кровавая. Тогда и ушел Исленьев, тогда и разбежалась значительная часть русского войска. Но затем Лисовский собрался с силами, чтобы нанести решающий удар и… разбился об укрепленную позицию, о чем докладывать не стал.
К вечеру (или, по другим сведениям, на следующий день) Исленьев и Заборовский сумели остановить бегство своих людей, пристыдили их и вернули в лагерь Пожарского. Теперь уже Лисовский оказался в сложном положении. Перед ним стояли превосходящие силы противника, притом ободренные своей победой и почувствовавшие вкус неприятельской крови. Столкнувшись с отрядами Лисовского, Дмитрий Михайлович узнал, что значительная их часть состоит из западноевропейских наемников. Зная неустойчивость наемного войска и присущую ему жажду наживы, князь отправил в стан неприятеля грамоту, обещая неприятельским воинам «государево великое жалованье». Демонстрация уверенности в своих силах явилась средством морального давления на врага.
Как только Пожарский всеми силами двинулся на Лисовского, полковник отступил, не приняв боя. Весь его отряд ушел к Кромам. Орел Лисовскому так и не достался.
Дальнейшие события развивались следующим образом: Пожарский, преследуя врага, сам двинулся под Кромы, а оттуда к Волхову, Белеву, Лихвину. Отряд «лисовчиков», спаянный дисциплиной профессионалов войны, а еще того больше — жаждой наживы, мог долго вести маневренную войну. Русские правительственные войска — нет. Побыв несколько недель в поле, растратив запасы хлеба, не получив от казны должного обеспечения, дворяне просто уезжали в свои поместья и только так спасались от голода. Казаки же разбредались по многочисленным разбойничьим бандам. Лисовский имел неиссякаемый источник снабжения — грабежи. Пожарский мог рассчитывать только на законные поставки. И вот под Лихвином воевода сумел удержать при себе лишь ядро армии, совсем уж небольшое.
К счастью, на помощь Пожарскому подошла «казанская рать» — большей частью служилые татары. В сентябре 1615-го Дмитрий Михайлович двинулся к Перемышлю, и Лисовский вынужден был в спешке покинуть город. Уходя, он устроил пожар.
Дойдя до Перемышля, Пожарский почувствовал «болезнь лютую». Сказывались раны, полученные на Сретенке, в бою с поляками. Сказывался ущерб, нанесенный его здоровью душегубами Заруцкого… Больше вести войска князь не мог. Воевода разменял пленных с Лисовским и отправился в Калугу, послав своего родича, князя Дмитрия Пожарского-Лопату, гнать неприятеля дальше. Но без Дмитрия Михайловича тот недолго сохранил контроль над армией — казанцы «побежали» домой. Дела нового командующего обстояли хуже не придумаешь: «Лопата шел по сакме (следу. — Д. В.) за Лисовским к Вязме и, не дошед Вязмы, воротился и стал на Угре. И государь велел Лопате-Пожарскому по вестям итти в Можаеск, и Лопата писал к государю, что ратные люди с службы розбежались, а которые и есть и те бедны; и по государеву указу сам в Можаеск не пошел. И государь велел послать к казакам с жалованьем с денежным князь Петра княж Романова сына Борятинскаго; а Лопату велел посадить в тюрьму в Можайске».
Действия Пожарского спасли от разгрома несколько верных правительству городов. «Лисовчикам» был нанесен серьезный ущерб. Но когда воевода вышел из строя, не нашлось другого командира со столь же твердой волей, и армия распалась.
Борьба с рейдом Лисовского являлась частью большого вооруженного противоборства между Московским государством и Речью Посполитой. Весной 1617 года в поход выступил сам королевич Владислав с большой армией. И поход его стал настоящим бедствием для России.
Осенью 1617 года ему сдали Дорогобуж как законному государю Московскому. Вязьму бросили воеводы и посадские люди: Владислав въехал в город, ударив не пушечными ядрами, но одним именем своим. Агенты его понесли в Москву грамоты, где Владислав величался царем и требовал от «Богом данного» ему Московского государства покорности. Здесь его грамоты поставили ни во что. Но крепко опасались: не отвалятся ли в пользу королевича иные города и земли?
Тут понадобились опять люди прямые — такие как Пожарский. Правительство вспомнило о нем и в октябре 1617 года дало ему армию для защиты левого крыла русских позиций — Калуги с окрестными городами. И он вновь должен был своей твердостью, неподатливостью на хвори смутной поры обеспечить верность защищаемой области, а также… собственной армии.
Счастливо начавшееся наступление Владислава застопорилось. Наемники требовали жалованья, а королевич заготовил не столь много денег, чтобы утолять их постоянно. Зима 1617/18 года выдалась морозной, жестокой. Многие ратники Владиславовы замерзли, иные столкнулись с сопротивлением лояльных Михаилу Федоровичу воевод и легли бездыханными в снега той страны, которую явились завоевывать. Немало поработал для этого и Дмитрий Михайлович Пожарский. Под Калугой он противостоял двум польским военачальникам: Чаплинскому и Опалиньскому. Те укрепились в селе Товаркове и беспокоили округу дерзкими набегами летучих отрядов.
Пожарскому подчинили калужского воеводу князя Афанасия Федоровича Гагарина и дьяка Луку Владиславлева. Гагарин покорился, кажется, не без местнического столкновения. Пожарскому выдали значительные денежные средства — компенсировать на местах невыплату жалованья. Ратников для Дмитрия Михайловича собирали из многих городов. В декабре-январе главные силы сборной армии сконцентрировались под Калугой. Любопытно, что местные служилые люди выпросили у московского правительства дать им в воеводы именно Дмитрия Михайловича и никого другого. Его знали, на него надеялись…
Летучие отряды Чаплинского князь бил с большим успехом. Только за ноябрь и первые числа декабря 1617 года из-под Калуги пришли доклады о пяти (!) победах в стычках с неприятелем. Одними пленными поляки потеряли 48 человек.
Опалиньский и Чаплинский приходили под Калугу дважды: первый раз открыто, второй раз — тайно, рассчитывая овладеть городом с помощью неожиданного удара и надеясь на измену русских казаков. Первое столкновение их с Пожарским обернулось кровопролитным боем. Он начался близ Лаврентьевского монастыря и длился целый день. Никто не мог пересилить. Ничья, дорого стоившая обеим сторонам… Но такой итог был явно не в пользу гостей: им пришлось отойти, не взяв Калугу. Второе столкновение привело к их разгрому. Подойдя к русским позициям ночью, поляки наткнулись на дозоры, грамотно выставленные Дмитрием Михайловичем. Вскоре на польское воинство обрушилась контратака основных сил князя. Выйдя из ворот Калуги, ратники Пожарского «многих литовских людей перебили и от города отбили прочь». Казаки никак не проявили своих изменнических настроений. Видимо, Пожарский вовремя принял меры.
Опалиньский, как видно, отчаявшись захватить Калугу, бросил людей к Оболенску и Серпухову. Но туда отправился по приказу Дмитрия Михайловича Роман Бегичев. Он поставил «острог», отбив нападения поляков. Теперь под носом у польских отрядов стояло русское укрепление. Удар оттуда мог дорого стоить грабителям сел и городов.
Перейдя в наступление, Пожарский сам отправил к Товаркову «многие отряды», наносившие противнику стремительные удары. Неприятель вынужденно оставил занимаемые позиции и отступил к Вязьме.
19 декабря произошел большой бой у села Вознесенского в Оболенском уезде. Он закончился полным разгромом польского отряда. Ратники Пожарского сбили противника «со станов», частью перебили, частью же взяли в плен. Польские боевые знамена оказались в числе трофеев.
Весной Опалиньский вновь идет к Калуге. Поляков ободрил частный успех: один из отрядов Пожарского оказался разгромлен в дальнем рейде. Но под Калугой Опалиньского вновь отбили. Отвечая на польское наступление, Дмитрий Михайлович нанес ряд ударов. В мае 1618-го его младшие командиры добились удачи еще в нескольких стычках, захватили 17 пленников и штабные документы «литовских людей». 12 июля государь Михаил Федорович, довольный действиями Пожарского, решил оказать ему особую почесть — отправить знатного гонца «со своим государевым милостивым словом и о здоровье спрашивать».
Летом 1618 года поляки все-таки придвинулись к Можайску, но не решились его штурмовать, а осадили соседнюю крепость — Борисово Городище. Общее наступление на Можайск — Борисово Городище — Москву не оставило полякам сил для нажима под Калугой. Их финансовые и людские ресурсы оказались довольно ограниченными. Дать им победу в подобных условиях мог лишь бросок в сторону русской столицы с последующим ее захватом. Своего рода «блицкриг».
Пожарского с войсками передвинули в Боровск — действовать во фланг армии Владислава. Против другого фланга направили князя Д. М. Черкасского, он расположился под Рузой. Борисово Городище успешно держало осаду и отбивало штурмы. Поляки попытали всё же счастья под Можайском, но город стоял крепко.
21 июля князь отправил из Боровска в Можайский уезд отряд для разведки боем, и этот отряд разбил противника неподалеку от Борисова Городища, захватил 40 пленников и неприятельские знамена. Борисовский воевода К. Ивашкин, услышав о подходе Дмитрия Михайловича с полками, бросил свой «городок», чтобы присоединиться к нему. Рассерженный своевольством Ивашкина, Дмитрий Михайлович сейчас же отправил в опустевшую крепость воинского голову Богдана Лупандина с астраханскими стрельцами. Тот успешно выбил «литовских людей» и остался в Борисовском городке. Эту позицию вскоре пришлось покинуть, но оттуда удалось вывезти продовольствие и прочие воинские припасы.
Между тем сам Пожарский изнемогал от болезней и старых ран. Почти год князь бессменно возглавлял полки, вел сражения, маневрировал. Действия по поддержке полевой армии Черкасского с Лыковым окончательно истощили его здоровье. С юга надвигалась грозная опасность — большое войско украинских казаков во главе с гетманом Сагайдачным. Дмитрий Михайлович двинулся из Боровска навстречу казакам, дошел до Серпухова, но тут силы оставили его. 17 августа ратники Пожарского ведут бои с казаками и захватывают «языков», еще подчиняясь приказам князя, а 28 августа из Коломны докладывает уже его заместитель князь Г. К. Волконский. Пришлось срочно доставить Пожарского в Москву.
Оставшееся без его твердой руки воинство не смогло преградить путь Сагайдачному, оно лишь уберегло от его удара Коломну. Служилые люди уходили от Волконского, при нем осталось немногим более трехсот ратников.
Боевую работу Дмитрия Михайловича оценили чрезвычайно высоко. 27 сентября 1618 года его вызвали к государю, вручили награду — серебряный кубок да шубу из соболей.
Как в русской, так и в польской армии начались бунты. Казаки бежали из войск Михаила Федоровича на вольный разбой. Но и Владислава покидали ратники, регулярно не получавшие ни жалованья, ни хлеба. Война на истощение приносила бесконечные тяготы обеим сторонам.
Однако в середине сентября московское правительство попало в крайне тяжелое положение. Владислав, оставив в тылу непокорный Можайск, подошел к окраинам Москвы. С ним соединились казаки Сагайдачного — многотысячная армия. Правительственное войско вышло из стен города, однако не решилось драться с гетманскими людьми.
Пожарский оказался тогда в Москве и крепил ее оборону. Ему приказали «быть в осаде». Какой в точности была роль Дмитрия Михайловича, сказать трудно. Ясно лишь одно: богатые пожалования его за «московское осадное сидение в королевичев приход» показывают высокую оценку его заслуг в решающей схватке за Москву. Государю оставалось надеяться на крепость стен города, а также на стойкость воевод. 1 октября 1618 года поляки пошли на штурм русской столицы. В боях у Тверских и Арбатских ворот они потерпели тяжелое поражение и с потерями отошли. Такой удар отбил у интервентов охоту устраивать новые приступы.
В конце октября королевич стал отводить войска от Москвы. Боевые действия еще продолжались, но всё более вяло. Обе стороны в полном изнеможении стремились договориться о мире.
В декабре 1618 года наконец было заключено долгожданное перемирие. Срок его установили на 14 с половиной лет. Для России условия его были весьма тяжелы: пришлось отказаться от Смоленска, Дорогобужа, Чернигова, Новгорода-Северского, Серпейска и других городов. Наши дипломаты с трудом отстояли Вязьму и Брянск. Но для страны, лежащей в страшной разрухе, для государственного устройства, работающего с перебоями, для дворянства, сократившегося за Смуту на пятую часть или даже на четверть, мир был нужен как воздух.
Не последняя роль в этой тяжкой, бесконечно долгой кампании против королевича Владислава принадлежала князю Д. М. Пожарскому. Если бы не его удачные действия на юго-западном направлении, как знать, не пришлось бы соглашаться на худшие условия. Или открывать ворота королевичу…
В судьбе князя Дмитрия Михайловича Пожарского есть один парадокс.
Его широко знают прежде всего как полководца, освободителя Москвы. Но военные дела Пожарского не столь уж хорошо представлены в документах. На период между 1610 и 1618 годами приходится «главный полдень» его жизни. И — как на грех! — от этих лет дошло совсем немного официальных бумаг, служащих самым ценным источником по военной истории. После отступления Владислава от Москвы Россия не нуждалась более в спасителях отечества. Ей требовались люди, готовые заняться тяжелыми и совершенно негероическими делами восстановления страны, погруженной в разруху. Выясняется, что Пожарский — именно таков! Его административная деятельность документирована превосходно, и по ней видно: в приказной избе князь оказался столь же хорош, как и на поле боя.
Впервые Пожарский получил крупное административное назначение в феврале 1617 года — до его отправки на фронт под Калугу. Князя поставили во главе Галицкой четверти. Это учреждение ведало делами, в частности финансовыми, на территории, занятой двадцатью пятью уездами. Пожарскому поручили собирать «пятую деньгу» — чрезвычайный налог, необходимый для продолжения войны с поляками. Очевидно, правительство желало использовать колоссальный опыт, полученный Пожарским, когда он возглавлял Земское ополчение.
После отражения Владислава ему поручили быть «судьей» (то есть главой) Ямского приказа (1619), а затем и Разбойного приказа (1621). В 1631–1632 годах Дмитрий Михайлович возглавляет «Приказ, где на сильных челом бьют», или, как его называли прежде, Челобитенный приказ. Князь становится защитником интересов мелкого дворянства, утесняемого «сильными людьми». Очевидно, это поручение рассматривалось как весьма ответственное: назревала война, и требовалось ободрить дворян, составлявших боевое ядро русской армии. С 1634-го по апрель 1638-го и в 1639–1640 годах князь Пожарский возглавлял Московский судный приказ — крупное учреждение, своего рода предтеча прокуратуры. Занималось оно, опять-таки, делами дворянства.
Служба во главе приказов время от времени прерывалась службами на «городовом» воеводстве. Так, в 1623 году князь исполнял обязанности воеводы в Архангельске — северных морских воротах Московского царства.
Крупнейшая административная служба Пожарского — воеводство в Новгороде Великом. Эта должность не только ответственная и сопряженная с большими трудами, но еще и весьма почетная. До Смуты ее занимали аристократы гораздо более высокого рода, нежели Пожарские. Новгородское назначение говорит и о признании заслуг, и о желании правительства поставить на огромное хозяйство дельного управленца. Очевидно, Дмитрий Михайлович успел к тому времени завоевать добрую славу на административном поприще.
Новгородским воеводой князь Д. М. Пожарский служил с 21 августа 1628-го по 4 ноября 1630 года. На воеводстве Пожарский собирал сведения о сопредельных территориях; принимал и размещал иностранных подданных, приезжающих ради русской службы или научения русскому языку; выдворял с подконтрольной территории нежелательных гостей из-за рубежа; улаживал финансовые конфликты между русскими купцами и их иноземными контрагентами; боролся с контрабандой; организовывал сопровождение иностранных дипломатических представителей; вел розыск по делам, кои сейчас назвали бы коррупционными; собирал налоги… иными словами, работал не покладая рук.
Воеводой ему пришлось быть и позднее — в менее «престижном» Переяславле-Рязанском, но по обстоятельствам чрезвычайным. Опасность татарских набегов чрезвычайно усилилась в 1630-х годах. Следовало обратить самое пристальное внимание на защитные сооружения. Во второй половине десятилетия Пожарскому дважды поручалось следить за строительством укреплений: в 1637 году князь занимается возведением Земляного города в Москве, в 1638-м уже осматривает оборонительные сооружения на Рязанщине. А Рязанщина числилась среди районов, куда крымцы вторгались особенно часто. Пожарский отнесся к порученному делу со всей ответственностью. Он осмотрел засеки и пришел к выводу о запущенном их состоянии. Князю пришлось заняться масштабными фортификационными работами, собрав для них тысячи людей.
Дмитрий Михайлович не просто «отслуживал» положенный срок в том или ином учреждении, но и выходил в Боярской думе с крупными законодательными инициативами. Иными словами, князя по-настоящему интересовала административная деятельность, он имел к ней вкус.
В конце 1620-го или в 1621 году Пожарский, возглавляя Ямской приказ, восстановил действие старого закона о защите государевой ямской службы от злоупотреблений. Осенью 1624 года Дмитрий Михайлович «провел» через Боярскую думу решение о порядке взыскивания ущерба по уголовным преступлениям, совершенным людьми, зависимыми от бояр, дворян и дьячества. В феврале 1625 года, опять-таки по его докладу, Дума ввела закон о возмещении за убийство крестьян и холопов. Ему принадлежит также инициатива по введению законов об ответственности за неумышленное убийство и торговлю краденым имуществом.
Долгое время занимая пост главы Разбойного и Московского судного приказов, князь понаторел в деталях следственной работы и судебного процесса. Несколько раз Дмитрий Михайлович вносил дельные предложения о порядке судопроизводства. Дума принимала положительные решения по его проектам в 1628, 1635 и 1636 годах.
За труды Пожарскому оказывали почтение и любовь. Кроме того, правительство платило ему самой ценной в политике монетой — доверием.
Время от времени его даже ставят старшим среди бояр, остающихся в столице, когда государь надолго выезжает из нее. Первый раз такое случилось в июле 1628 года. В этом смысле Пожарский пользуется полным доверием правительства. Иностранные источники характеризуют его как одного из главных доверенных лиц молодого государя. Шведы доносили своему правительству в середине 1620-х: князю Пожарскому «предан весь народ»; если требуется получить нечто важное от матери государя, то следует обратиться к ней через одного из узкого круга вельмож. В числе этих вельмож — Дмитрий Михайлович.
К началу 1640-х годов Дмитрий Михайлович владеет 2157 четвертями «старых вотчин». Помимо этого, за Пожарским числятся еще 5318 четвертей «выслуженных вотчин» и 1166 четвертей вотчин купленных. А для таких покупок надо было иметь огромный доход. К ним добавлялась без малого тысяча четвертей поместных земель, притом в 1640 или 1641 годах он получил в поместье сельцо Буканово Серпейского уезда явно не за военные заслуги, а за административные. Это 205 четвертей земли — отнюдь не бедное пожалованье.
Как можно убедиться, на закате жизни Дмитрий Михайлович — весьма богатый землевладелец. Но от службы он никогда не наживался. Более того, честно выслуженное состояние Пожарский нередко тратил на государственные нужды: платил за транспорт при перевозке хлеба в действующую армию, нанимал лошадей для встречи посольств и даже покупал пищали для защиты Спасо-Евфимиева монастыря от татарских набегов.
Как в России, так и в Польше знали: большая война не за горами.
Деулинские соглашения обеими сторонами рассматривались как временная мера, промежуточный результат. В 1632 году Московское государство решилось пересмотреть итоги предыдущей войны с Речью Посполитой, используя вооруженную силу.
При начале боевых действий Пожарский остался в Москве — собирать деньги и продовольствие для полевой армии. Осенью 1632 года, когда ратники воеводы Шейна вели бои под Смоленском, Дмитрий Михайлович взялся за сложнейшее дело — очередной сбор «пятой деньги», то есть чрезвычайного налога военного времени. Через год на него возложили еще одну обязанность — набрать из пяти уездов «посошных людей» с заступами и топорами, то есть контингент для инженерных работ, дабы затем отправить его под стены Смоленска.
Осенью 1633 года, когда под Смоленском дела пошли худо, правительство начало формировать новую армию. Первым воеводой назначался князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, вторым уговорили пойти уже немолодого и к тому же разболевшегося Пожарского. 17 ноября им приказали выйти к Можайску.
Как видно, правительство надеялось: присутствие Пожарского способно ободрить русское воинство. Князь готов был двинуться в битву… Вот только армия никак не собиралась. Полки Черкасского и Пожарского стояли у Можайска, не трогаясь вперед. Набор людей шел с необыкновенной медленностью. Приказа из Москвы идти на выручку Шейну не давали. Более того, уже собранное войско не торопились обеспечивать всем необходимым. Обнищалые дворяне кормились грабежами местного населения. Воеводам едва удавалось держать их в узде. Вторая русская армия топталась на месте, ничуть не помогая гибнущему Шейну, но и от нее была польза: Владислав знал, что перед Москвой выставлен заслон, броском до русской столицы ему не дойти.
Смоленская неудача сказалась бы горше, кабы не упорство Шейна и не присутствие хоть какой-то военной силы под Можайском. Поляки устали. Они потеряли немало своих бойцов, сражаясь с Шейным. Наконец, они страшно охолодали от февральских морозов. Владислав двинулся было вперед, но застрял под крепостью Белой. Гарнизон ее храбро бился. Воевода, князь Федор Федорович Волконский, проявлял твердость в переговорах, отвергая предложения сдаться. Ситуация стала переворачиваться. Белая могла стать для Владислава тем, чем Смоленск стал для Шейна. Ослабленная королевская армия могла в любой момент подвергнуться нападению русской силы с фланга, из-под Можайска. Потери росли, успех отдалялся.
Между тем Черкасскому с Пожарским лишь добавилось забот. Пространство между Калугой, Можайском и Смоленском наполнилось казачьими шайками — как во времена недоброй памяти Смутного времени. Ратникам приходилось заниматься тем, что сейчас назвали бы «ликвидацией бандформирований».
Войско сильно дезорганизовала долгая бездеятельная стоянка у Можайска, а еще больше — голод, неустройство. В марте Можайск страшно пострадал от пожара, сгорели склады с припасами. Пожарский криком кричал в донесениях Михаилу Федоровичу: «Ноне я… на твоей государевой службе и с людишки помираю голодною смертью — ни занять, ни купить!» Армия получила немного сухарей. Как видно, их не хватало. Пожарский завел кабаки, чтобы хоть так поддерживать «ратных людей» продовольствием. О выгоде для него лично и речи быть не может: князь истратил целое состояние, обеспечивая доставку припасов к Шейну. Фураж добыть оказалось в принципе неоткуда. К весне запасы, сделанные осенью, оказались исчерпаны полностью. На фоне обоюдной немощи Владислав запросил Москву о переговорах…
Летом 1634 года можайская армия вернулась в Москву.
Смоленская война окончилась Поляновским миром. По условиям мирного договора Россия вернула Серпейск, а Владислав навсегда отказался от претензий на русский престол. Но удачным финал масштабного вооруженного противоборства не назовешь. Смоленск остался за Речью Посполитой. Прочие города, занятые русскими полками, пришлось вернуть неприятелю. А главное, стратегический результат войны не оправдал возлагавшихся на нее упований: огромный расход казенных средств, немалые людские потери, а главные задачи так и не были решены!
Дела христианского благочестия, совершенные князем Пожарским, хорошо известны.
Пожарский часто делал вклады в церкви и монастыри. Так поступали многие. Конечно, особое внимание Дмитрий Михайлович уделял Суздальскому Спасо-Евфимиеву монастырю. С этой обителью род Пожарских связывали долгие отношения, там находилась их семейная усыпальница. Туда Пожарский пожертвовал деревни Три Дворища (1587), Елисеево (1609), село Петраково (1632/33), колокол на 355 пудов, килограммовое серебряное кадило, шубу, множество богослужебных одеяний из бархата, камки и атласа с золотым шитьем, паникадило на 28 свечей, иконы, 20 церковных книг, из которых выделяется золотописное напрестольное Евангелие, украшенное жемчугом и драгоценными камнями. По завещанию князя обители достался образ Казанской Богородицы, отделанный жемчугом, бирюзой, серебром. Доставались от него богатые пожертвования и Троице-Сергиеву, и даже далекому Соловецкому монастырям.
Время от времени Дмитрий Михайлович приобретал на Московском печатном дворе множество экземпляров какого-нибудь свежего издания. Этот факт прежде вводил историков в заблуждение. Многие считали, что князь собирал библиотеку. Но его книжное собрание — никоим образом не библиотека, а коллектор. Там хранились книги, предназначенные не для чтения, а для богослужебных нужд. Оттуда они уходили в вотчинные храмы и на пожертвования монастырям.
Дмитрий Михайлович дал деньги на «возобновление» Макарьевского Желтоводского монастыря близ Нижнего Новгорода, подвергшегося разрушению еще в XV веке. Туда на хранение была передана гражданская святыня — знамя Нижегородского ополчения. Князь содержал и, вероятно, отстраивал небольшую обитель на землях родовой Мугреевской вотчины, а также небольшие храмы в вотчинных селах. На землях подмосковной Медведковской усадьбы Дмитрий Михайлович выстроил шатровый храм Покрова Богородицы, дошедший до наших дней.
Выдающуюся роль сыграл Пожарский в прославлении Казанского образа Пречистой Богородицы. Здесь его служение Церкви поднимается до невиданных высот.
Чудотворный Казанский образ Божией Матери доставили к воеводам Первого земского ополчения. Под Москвой он прославился: ратники Трубецкого и Заруцкого не сомневались, что при взятии Новодевичьего монастыря через икону им оказана была помощь сил небесных. Покинув Москву, священник с иконой добрался до Ярославля, где встретился с земцами Пожарского и Минина. Вожди Второго ополчения также крепко уверовали в особенную святость иконы. Ее поставили для публичного поклонения, списали с нее копию («список») и, возможно, не одну. Вскоре оригинал вернулся к казанцам, список же с него последовал к Москве. «Ратные же люди начали великую веру держать к образу Пречистой Богородицы, и многие чудеса от того образа были. Во время боя с гетманом и в московское взятие многие же чудеса были».
На исходе 1612 года, после освобождения Кремля, Пожарский, по словам летописи, «освятил храм в своем приходе Введения Пречистой Богородицы на Устретинской улице, и ту икону Пречистой Богородицы Казанской поставил тут». Очевидно, речь идет о Казанском приделе Введенского храма, устроенном на деньги полководца. Здесь чудотворный образ находился до 1632 года, затем ненадолго переехал в Китайгородский Введенский Златоверхий храм, откуда пришел в деревянный Казанский храм.
Молодой царь Михаил Федорович и особенно его отец Филарет Никитич увидели в иконе великую святыню. Властвование их династии возникло из земского освободительного движения, а образ Казанской являлся зримым воплощением Божьего покровительства земскому делу. Казанскую икону Божией Матери прославили еще в XVI веке, но это был неяркий свет. Лишь при первых государях из рода Романовых она приобрела сияние, разливавшееся по всей стране.
Государь Михаил Федорович, его мать инокиня Марфа, а затем и патриарх Филарет окружили чудотворный образ из Введенского храма невиданным почитанием. Дважды в год в ее честь устраивались крестные ходы: 8 июля — в память о прославлении ее в Казани и 22 октября (на память святого Аверкия Иерапольского). Второй крестный ход прочно связывал освобождение Китай-города в 1612 году с покровительством Богородицы земскому воинству.
В конце 1624-го — середине 1625 года, как сообщает летописец, «тот же образ по повелению государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея Русии и по благословению великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всея Русии украсил многой утварью боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский по обету своему».
Долгое время с именем князя Д. М. Пожарского связывали создание Казанского собора на Красной площади, разрушенного в 1936-м и восстановленного в 90-х годах XX столетия. Строку из летописи об «украшении» образа «многой утварью… по обету» воспринимали как сообщение о строительстве этой церкви. Однако документы говорят о другом: каменное здание в начале Никольской улицы — там, где она втекает в Красную площадь, строилось, вероятнее всего, на казенные средства и по инициативе «двух государей»: царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета Никитича. Работы завершились осенью 1636 года. Причастность Д. М. Пожарского к его возведению, какие-либо пожертвования или иные знаки участия князя в судьбе Казанского собора нигде не зафиксированы. Нет их ни в государственных, ни в церковных бумагах, ни даже в завещании Дмитрия Михайловича.
В 1632 году у стены Китай-города срочно соорудили деревянную церковку, освященную в честь той же Казанской иконы Божией Матери. Преемственность между этим деревянным, впоследствии исчезнувшим храмом и каменным на Никольской улице очевидна. Может быть, Дмитрий Михайлович дал деньги на строительство этого деревянного «прототипа»?
Возможно также, Дмитрий Михайлович выстроил отдельную часовню или даже небольшую церковку рядом с Введенским храмом на Сретенке — специально под чудотворный образ Казанской. И уж точно он сделал богатое пожертвование на богослужебную утварь. А значит, он оказался одним из главных творцов великого всероссийского почитания Казанской иконы Божией Матери. Оно установилось в 1620—1630-х годах. Если бы князь Пожарский не позаботился об иконе после очищения Кремля, если бы он не создал для нее особый придел во Введенском храме, если бы не рассказал тамошнему духовенству об особой святости образа, тогда громкое его прославление отодвинулось бы на неопределенный срок. И трудно не усмотреть в действиях князя внимание к мистическому вмешательству Бога в земные дела. Трудно не увидеть его готовность покориться воле Божьей, действовать с нею, во имя нее. А такое благочестие дается редко и, возможно, свидетельствует об особой отмеченности свыше.
Умер князь в 1642 году, в ореоле большой славы, до конца исчерпав свой долг перед отечеством и родом. Прах его приняла земля, окруженная стенами Спасо-Евфимиева монастыря.
Князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, помимо тактического таланта, принадлежал еще один, гораздо более редкий и насущно необходимый лишь в исключительных обстоятельствах. Для ведения обычных боевых действий он не нужен, зато яркой звездой вспыхивает в годы гражданских войн, восстаний, всякого рода смут. Этот уникальный талант состоит в том, чтобы стать душой войска, противостоящего мятежникам, всегда и неуклонно проявлять стойкость и самопожертвование ради восстановления общего дома. Если значительная часть народа видит в устоявшемся порядке ценность, именно такие вожди ведут ее к победе. Если старое устройство общества поддерживается малым количеством людей, такие вожди позволяют своим полкам дать последний бой революции и с честью сложить головы на поле боя. Всегда и во все времена они являются оплотом веры, нравственности, долга перед государем и отечеством.
В старину таких людей, как Дмитрий Михайлович, называли «адамантами» — алмазами. Не за ценность, а за прозрачность и твердость. Именно образ камня следует навсегда связать с именем князя. Пожарский — адамант. Им можно резать самые твердые материалы, и трещин на самом резаке не появится. Или, может быть, горный хрусталь. Он всем и каждому дает увидеть то, что лежит внутри его, ибо душа его не содержит зла. Он не знает уловок и хитрости. Он исполнен силы и прочности.
Прозрачный несокрушимый камень.
ПРАВИТЕЛИ РУСИ: ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ КИЕВСКИЕ, ВЛАДИМИРСКИЕ, ГОСУДАРИ МОСКОВСКИЕ. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЕСТР
Использованы материалы издания: Алексеев С. В., Володихин Д. М., Елисеев Г. А. Отечественная история. М., 2006.
Великие князья киевские
История Руси до середины X в. известна преимущественно из летописных преданий, а приводимые там даты вызывают сомнение. Родоначальник династии, скорее всего, Рёрик Фризский и Ютландский, известный русским летописям как Рюрик, правил в Ладоге, а затем в Новгороде в конце IX в. Первым в полной мере историческим «великим князем русским», вероятно, надо считать Олега, о котором можно с уверенностью сказать, что он правил в начале X в. Потомком Рюрика он не является. После Олега правил сын Рюрика Игорь. Датировка начала его княжения дискуссионна.
Игорь I Рюрикович — погиб между 944 и 946 гг.; возможно, в начале правления являлся соправителем Олега.
Ольга — вдова Игоря, фактическая соправительница при сыне Святославе до второй половины 960-х гг.
Святослав I Игоревич — великий князь с середины 940-х до 972 г.
Ярополк I Святославич — князь Киевский с 969-го (наместник отца), великий князь в 972–978 гг.
Владимир I Святославич (Святой) — великий князь в 978—1015 гг.
Святополк I Ярополчич (Окаянный) — великий князь в 1015–1016 гг.
Ярослав I Владимирович (Мудрый) — великий князь в 1016–1018 гг.
Святополк Окаянный (повторно) — великий князь в 1018 г.
Ярослав Мудрый (повторно) — великий князь в 1018–1054 гг. (в 1024–1036 гг. совместно с Мстиславом Владимировичем; в 1021–1044 гг., возможно, также с Брячиславом Изяславичем, внуком Владимира).
Изяслав I Ярославич — великий князь в 1054–1068 гг. (фактически совместно с братьями Святославом и Всеволодом).
Всеслав Брячиславич — великий князь в 1068–1069 гг.
Изяслав I (повторно) — великий князь в 1069–1073 гг.
Святослав II Ярославич — великий князь в 1073–1076 гг.
Всеволод I Ярославич — великий князь в 1076–1077 гг.
Изяслав I (в третий раз) — великий князь в 1077–1078 гг.
Всеволод I (повторно) — великий князь в 1078–1093 гг.
Святополк II Изяславич — великий князь в 1093–1113 гг.
Владимир II Всеволодович (Мономах) — великий князь в 1113–1125 гг.
Мстислав I Владимирович (Великий) — великий князь в 1125–1132 гг.
Ярополк II Владимирович — великий князь в 1132–1139 гг.
Вячеслав Владимирович — великий князь в 1139–1140 гг.
Всеволод II Ольгович — внук Святослава II, великий князь в 1140–1146 гг.
Игорь II Ольгович — великий князь в 1146 г.
Изяслав II Мстиславич — великий князь в 1146–1149 гг.
Юрий Владимирович (Долгорукий) — великий князь в 1149–1150 гг.
Вячеслав Владимирович и Изяслав II (вторично; совместно) — великие князья в 1150 г.
Юрий Долгорукий (вторично) — великий князь в 1150 г.
Вячеслав Владимирович и Изяслав II (в третий раз; совместно) — великие князья в 1150–1154 гг.
Вячеслав Владимирович и Ростислав I Мстиславич (совместно) — великие князья в 1154 г.
Изяслав III Давыдович — внук Святослава II, великий князь в 1154–1155 гг.
Юрий Долгорукий (в третий раз) — великий князь в 1155–1157 гг.
Изяслав III (вторично) — великий князь в 1157–1159 гг.
Ростислав I (вторично) — великий князь в 1159–1167 гг.
Мстислав II Изяславич — сын Изяслава II, великий князь в 1167–1169 гг.
1169 г. — разорение Киева войсками княжеской коалиции; начало нового этапа удельной раздробленности, когда сильнейшие удельные князья принимают титул великих, а Киев окончательно превращается в яблоко раздора между ними.
Глеб Юрьевич — великий князь Киевский в 1169–1172 гг.
Владимир III Мстиславич — сын Мстислава I, великий князь в 1172–1173 гг.
Роман I Ростиславич — великий князь в 1173 г.
Всеволод III Юрьевич (Большое Гнездо) — великий князь в 1173 г.
Рюрик Ростиславич — великий князь в 1173 г.
Ярослав II Изяславич — сын Изяслава II, великий князь в 1173 г.
Святослав III Всеволодович — сын Всеволода II, великий князь в 1173 г.
Ярослав II (вторично) — великий князь в 1173–1174 гг.
Роман I (вторично) — великий князь в 1174–1176 гг.
Святослав III (вторично) — великий князь в 1176–1178 гг.
Рюрик Ростиславич (вторично) — великий князь в 1178 г.
Святослав III и Рюрик Ростиславич (в третий раз; совместно) — великие князья в 1178–1194 гг.
Рюрик Ростиславич (один) — великий князь в 1194–1201 гг.
Ингварь Ярославич — сын Ярослава II, великий князь в 1201–1202 гг. Рюрик Ростиславич (в четвертый раз) — великий князь в 1202–1204 гг.
Роман II Мстиславич — сын Мстислава II, великий князь в 1204–1205 гг.
Рюрик Ростиславич (в пятый раз) — великий князь в 1205–1207 гг.
Всеволод IV Святославич — сын Святослава III, великий князь в 1207 г.
Рюрик Ростиславич (в шестой раз) — великий князь в 1207–1210 гг.
Всеволод IV (вторично; совместно с Рюриком Ростиславичем) — великий князь в 1210–1214 гг.
Мстислав III Романович — сын Романа I, великий князь в 1214–1223 гг. (с 1219 совместно с Владимиром Рюриковичем).
Владимир IV Рюрикович — великий князь в 1223–1235 гг.
Изяслав IV Мстиславич — сын Мстислава III, великий князь в 1235–1236 гг.
Владимир IV (вторично) — князь Киевский в 1236 г. (наместник Даниила Романовича Галицкого).
Ярослав III Всеволодович — сын Всеволода III, великий князь в 1236 г.
Михаил Всеволодович (Святой) — сын Всеволода IV, великий князь в 1236–1239 гг.
Ростислав II Мстиславич — сын Мстислава III, великий князь в 1239 г.
В 1239–1240 гг. Киевом вновь владел Даниил Галицкий, но правил там уже не сам, а через наместника-воеводу. В 1240 г. город разорили монголы. Затем на него продолжали претендовать Даниил и Михаил Святой. Последний погиб в Орде в 1246 г., после чего титул «великого князя Киевского» прекратил свое существование. Неудачную попытку его возрождения предпринял в 1249 г. Александр Невский, получивший ярлык на Киев от ордынского хана, но не оставшийся в городе. Даниил Галицкий в 1254 г. принял новый титул — «короля Руси», который просуществовал до его смерти (1264).
Великие князья владимирские
В 1169 г., после разорения Киева, в числе других князей-победителей, принял великокняжеский титул и суздальский князь (с 1156 г.) Андрей Юрьевич (Боголюбский). В 1175–1176 гг. на первое место в качестве столицы его преемников окончательно выдвигается Владимир, и начинается история Владимирского великого княжества. После монгольского нашествия великий князь Владимирский превращается (по ярлыкам ордынских ханов) в верховного правителя Северной Руси. Окончательно этот новый статус закрепился в 1249 г. Родоначальником владимиро-суздальской княжеской династии являлся Юрий Долгорукий — сын Владимира Мономаха, князь Ростово-Суздальский и великий князь Киевский.
Андрей Юрьевич (Боголюбский) — великий князь Суздальский, Ростовский и Владимирский в 1169–1174 гг.
Михалко Юрьевич — великий князь Владимирский в 1174 г.
Мстислав и Ярополк Ростиславичи — внуки Юрия Долгорукого, великие князья Ростовский и Владимирский в 1174–1175 гг.
Михалко Юрьевич (вторично) — великий князь Владимирский в 1175–1176 гг.
Всеволод Юрьевич (Большое Гнездо) — великий князь в 1176–1212 гг.
Юрий Всеволодович — великий князь в 1212–1216 гг.
Константин Всеволодович — великий князь в 1216–1218 гг.
Юрий Всеволодович (вторично) — великий князь в 1218–1238 гг.
Ярослав Всеволодович — великий князь в 1238–1246 гг.
Святослав Всеволодович — великий князь в 1246–1249 гг.
Андрей Ярославич — великий князь в 1249–1252 гг.
Александр Ярославич (Невский) — великий князь в 1252–1263 гг.
Андрей Ярославич (вторично) — великий князь в 1263–1264 гг.
Ярослав Ярославич — великий князь в 1264–1271 гг.
Дмитрий Александрович — великий князь в 1271–1272 гг.
Василий Ярославич — великий князь в 1272–1276 гг.
Дмитрий Александрович (вторично) — великий князь в 1276–1293 гг.
Андрей Александрович — великий князь в 1293–1294 гг.
Дмитрий Александрович (в третий раз) — великий князь в 1294 г.
Андрей Александрович (вторично) — великий князь в 1294–1304 гг.
Михаил Ярославич (Тверской) — великий князь в 1304–1317 или 1318 г.
Юрий I Данилович — великий князь в 1319–1322 гг.[144]
Дмитрий Михайлович (Грозные Очи) — великий князь в 1322–1325 гг.
Александр Михайлович (из тверской династии) — великий князь в 1325–1327 гг.
Иван I Данилович (Калита; до 1331 г. княжил в соправительстве с Александром Васильевичем Суздальским) — великий князь в 1328–1340 гг.[145]
Александр Васильевич (Суздальский; княжил в соправительстве с Иваном Даниловичем) — великий князь в 1328–1331 гг.
Семен I Иванович (Гордый) — великий князь в 1340–1353 гг.
Иван II Иванович (Красный, или Милостивый) — великий князь в 1353–1359 гг.
Дмитрий Константинович (из суздальско-нижегородской династии) — великий князь в 1350–1362 гг. и очень недолго в 1363 г.
Дмитрий I Иванович (Донской; правил с кратким перерывом в 1363 г.) — великий князь в 1362–1389 гг.[146]
Василий I Дмитриевич — великий князь в 1389–1425 гг.
Василий II Васильевич (Темный; правил с перерывами в 1433, 1434, 1446–1447 гг.; в соправители себе назначил сына, Ивана Васильевича, впоследствии правившего как Иван III) — великий князь в 1425–1462 гг.
Юрий II Дмитриевич (Звенигородский) — великий князь в 1433 и 1434 гг., оба раза по несколько месяцев.
Василий Юрьевич (Косой; правил очень недолго) — великий князь в 1434 г.
Дмитрий II Юрьевич (Шемяка) — великий князь в 1446–1447 гг.
Государи московские
При Иване III происходит возникновение на основе Московского княжества гораздо более крупной державы — Московского государства, или России. Титул великого князя Владимирского к тому времени прочно «прирос» к Московскому княжению. Иван III принял титул «великий князь Московский и всея Руси». Поэтому правильнее говорить не о великих князьях владимирских, а о государях московских.
Иван III Васильевич (Великий; соправитель отца, Василия II; к себе в соправители в разное время назначал сына, Ивана Ивановича Молодого) — великий князь в 1462–1505 гг.
Василий III Иванович — великий князь в 1505–1533 гг.
Иван IV Васильевич (Грозный; до 1538 г. при регентстве матери, великой княгини Елены Глинской) — великий князь с 1533 г., царь в 1547–1584 гг.
Федор I Иванович — царь в 1584–1598 гг.
Борис I Федорович (Годунов) — царь в 1598–1605 гг. Рюриковичем не является.
Лжедмитрий I (короновал как царицу и свою жену Марину Мнишек, однако она не правила) — царь в 1605–1606 гг. Рюриковичем не является.
Василий IV Иванович (Шуйский) — царь в 1606–1610 гг.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Библиография составлена издательством.
Киевская Русь
Пчелов Е. В. Рюрик. М., 2010 (серия «ЖЗЛ»).
Сахаров А. Н. Дипломатия древней Руси: IX — первая половина X в. М., 1980.
Королев А. С. Святослав. М., 2011 (серия «ЖЗЛ»).
Карпов А. Ю. Княгиня Ольга. М., 2009 (серия «ЖЗЛ»).
Карпов А. Ю. Владимир Святой. М., 1997 (серия «ЖЗЛ»).
Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый. М., 2001 (серия «ЖЗЛ»).
Алексеев С. В. Владимир Святой. М., 2006.
Алексеев С. В. Ярослав Мудрый. М., 2006.
Орлов А. С. Владимир Мономах. М.; Л., 1946.
Каргалов В. В., Сахаров А. Н. Полководцы Древней Руси. М., 1986 (серия «ЖЗЛ»).
Морозова Л. Е. Великие и неизвестные женщины Древней Руси. М., 2009.
Пушкарёва H. Л. Женщины Древней Руси. М., 1989.
Мельников А. В. Преподобная Евфросиния Полоцкая. Минск, 1997.
Карпов А. Ю. Юрий Долгорукий. М., 2006 (серия «ЖЗЛ»).
Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995.
Горский А. А. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина»: источниковедческие и историко-культурные проблемы. М., 1992.
Дашкевич Н. П. Княжение Даниила Галицкого по русским и иностранным известиям. Киев, 1873.
Горский А. А. Гибель Михаила Черниговского в контексте первых контактов русских князей с Ордой // Средневековая Русь. 2006. Вып. 6.
Владимирская Русь
Воронин H. Н. Андрей Боголюбский. М., 2007.
Филимонов А. В. Всеволод Большое Гнездо. М., 2002.
Пашуто В. Т. Александр Невский. М., 1995 (серия «ЖЗЛ»).
Бегунов Ю. К. Александр Невский: Жизнь и деяния святого и благоверного великого князя. М., 2003 (серия «ЖЗЛ»).
Карпов А. Ю. Великий князь Александр Невский. М., 2010 («ЖЗЛ: Малая серия»).
Князь Александр Невский и его эпоха. Исследования и материалы / Под ред. Ю. К. Бегунова, А. И. Кирпичникова. СПб., 1995.
Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском: Историко-текстологическое исследование. М., 1974.
Московская Русь
Кучкин В. А. Первый московский князь Даниил Александрович // Отечественная история. 1995. Вып. 1.
Борисов Н. С. Политика Московских князей (конец XIII — первая половина XIV в.). М., 1999.
Борисов Н. С. Иван Калита. М., 1995 (серия «ЖЗЛ»).
Горский А. А. Москва и Орда. М., 2000.
Абрамович Г. В. Князья Шуйские и российский трон. Л., 1991.
Лошиц Ю. М. Дмитрий Донской. М., 1995 (серия «ЖЗЛ»).
Ковалев-Случевский К. П. Юрий Звенигородский. М., 2008 (серия «ЖЗЛ»).
Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. М., 1960.
Зимин А. А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. М., 1991.
Борисов Н. С. Иван III. М., 2000.
Филюшкин А. И. Василий III. М., 2003 (серия «ЖЗЛ»).
Зимин А. А. Россия на пороге нового времени (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972.
Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999 (серия «ЖЗЛ»).
Володихин Д. М. Иван IV Грозный. М., 2010.
Володихин Д. М. Царь Федор Иванович. М., 2011 (серия «ЖЗЛ»).
Володихин Д. М. Иван Шуйский. М., 2012.
Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский. М., 2007 (серия «ЖЗЛ»).
Козляков В. Н. Лжедмитрий I. М., 2009.
Козляков В. Н. Василий Шуйский. М., 2007.
Володихин Д. М. Пожарский. М., 2012.
Иллюстрации
Происхождение российских самодержцев. Миниатюра Степенной книги царского родословия. Список 1670 г.
Князь Рюрик. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Призвание варягов. С картины В. М. Васнецова. 1884 г.
Князья Игорь (слева) и Святослав (справа). Портреты из «Титулярника» 1672 г. Можно предположить, что портреты князей в «Титулярнике» перепутаны местами.
Крещение княгини Ольги. Миниатюра Радзивиловской летописи. XV в.
Князь Владимир Святославич. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Князь Ярослав Владимирович. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Русские войска осаждают Корсунь. Миниатюра Радзивиловской летописи.
Князь Владимир Святославич. Изображение на сребренике. Лицевая сторона.
Князь Ярослав Владимирович. Изображение на печати. Прорись.
Крещение Владимира. Миниатюра Радзивиловской летописи.
Поставление Илариона на митрополию. Миниатюра Радзивиловскои летописи.
Ярослав Мудрый в последние годы жизни. Антропологическая реконструкция М. М. Герасимова.
Князь Владимир Всеволодович Мономах. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Князь Юрий Владимирович Долгорукий. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Новгородский Софийский собор.
Владимирская икона Божией Матери. XII в.
Князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Князь Андрей Юрьевич Боголюбский. Антропологическая реконструкция М. М. Герасимова.
Битва новгородцев с суздальцами. Фрагмент иконы «Чудо от иконы Божиеи Матери Знамения в Новгороде». 1460-е гг.
Предполагаемое изображение князя Всеволода Юрьевича с сыновьями. Фрагмент скульптуры Дмитриевского собора во Владимире.
Успенский собор во Владимире.
Поход князя Игоря Святославича на половцев. Миниатюра Радзивиловскои летописи.
Памятник преподобной Евфросинии Полоцкой в городе Полоцке, Белоруссия.
Князь Александр Ярославин Невский. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Батый. Китайское изображение XIII в.
Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.
Александр Невский в житии. Икона конца XVI — начала XVII в.
Убиение князя Михаила Черниговского в Орде. Миниатюра Лицевого летописного свода.
Великий князь Тверской Михаил Ярославин и его мать Оксиния (Ксения), предстоящие Христу. Выходная миниатюра Тверского списка «Хроники Георгия Амартола».
Город Тверь. Прорись с иконы святых Михаила и Ксении Тверских.
«Древо государства Российского» («Похвала Владимирской иконе Божией Матери»). Симон Ушаков. 1668 г.
Даниил Александрович, князь Московский. Портрет из «Титулярника» 1672 г., Эрмитажное собрание.
Великий князь Иван Данилович Калита. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Московский Кремль при Иване Калите. С картины А. М. Васнецова.
Великий князь Иван Иванович Красный. Портрет из «Титулярника» 16 72 г.
Князь Симеон Гордый. Изображение с фрески московского Архангельского собора. XVII в.
Московский Кремль при Дмитрии Донском. С картины А. М. Васнецова.
Куликовская битва. Миниатюра Лицевого летописного свода.
Великий князь Дмитрий Иванович. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Преподобный Сергий, игумен Радонежский. Шитый покров. 1420-е гг.
Великая княгиня Евдокия Дмитриевна. Антропологическая реконструкция С. А. Никитина.
Великий князь Юрий Дмитриевич. Изображение с фрески Архангельского собора. XVII в.
Великий князь Василий I Дмитриевич. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Великий князь Василий II Васильевич Темный. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Великий князь Василий Дмитриевич и его супруга Софья Витовтовна. Изображение с шитого покрова. XV в.
Великий князь Иван III Васильевич. Гравюра из «Космографии» А. Теве.
Софья Палеолог. Антропологическая реконструкция С. А. Никитина.
Успенский собор Московского Кремля.
Изображение семьи великого князя Ивана III на шитой пелене его невестки Елены Волошанки.
Василий III Иванович. Изображение на иконе XVI или XVII в.
Иван Грозный. Надгробный образ (так называемый «Копенгагенский портрет»).
Опричные казни. Немецкая гравюра XVI в.
Великий князь Василий III. Гравюра из «Записок» С. Герберштейна. XVI в.
Царь и великий князь Иван IV Васильевич. Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Иван Грозный убивает своего сына. С картины И. Е. Репина.
Князь Иван Петрович Шуйский. Художник М. М. Тренихин.
Усыпальницы Ивана Грозного и его сыновей в Архангельском соборе Московского Кремля.
Царь Федор Иванович. Парсуна. 1630-е гг.
Царь Борис Годунов. Портрет XVII в.
Царица Ирина Федоровна Годунова. Антропологическая реконструкция С. А. Никитина.
Ковчежец. Подарок царя Федора Ивановича царице Ирине Федоровне. 1589 г.
Дмитрий, царевич убиенный. С картины М. В. Нестерова.
Убиение царевича Дмитрия в Угличе. Миниатюра из рукописного Жития. XIX в.
Царь и великий князь Василий Иванович Шуйский, последний Рюрикович на русском престоле. Портрет из «Титулярника» 16 72 г.
Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Парсуна. XVII в.
Знамя князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Гравюра 1820-х гг. (предположительно, с парсуны XVII в.).
Сабля Д. М. Пожарского.
Памятник «Тысячелетие России». Скульптор М. О. Микешин. 1862 г.
Примечания
1
Сице бо ся звахуть — поскольку так они себя называют.
(обратно)2
Полоцк.
(обратно)3
Рёрик принял крещение задолго до того, как оказался на Руси.
(обратно)4
Некоторые историки полагают, что Олег приходился Рюрику шурином, но это маловероятно.
(обратно)5
Впрочем, новгородская летописная традиция определяет датой смерти Олега не 912-й, а 922 год и даже называет место его упокоения близ Ладоги. В ученой среде была еще одна версия: о смерти Олега в 928 году. Единого мнения на сей счет нет, но большинство специалистов склоняются к 912 году.
(обратно)6
Последний набег на тамошние города некоторые специалисты связывают со смертью Олега, полагая, что он мог погибнуть не от змеиного яда, а в бою. Но эта гипотеза не имеет под собой ничего, кроме логических спекуляций.
(обратно)7
Существует версия о смерти Игоря не в 945 или 946 году, а в 949-м, но она не получила широкого признания в науке.
(обратно)8
Тризна — это, по мнению одних специалистов, пир на поминках, по мнению других — подобие турнира, ритуальное состязание в память о покойном.
(обратно)9
Использован перевод Д. С. Лихачева.
(обратно)10
Существует версия, согласно которой в этом известии речь идет об установлении порядка взимания дани не на Новгородчине, а на Волыни, однако гипотеза эта не получила широкого признания, и базовой остается новгородская трактовка известия.
(обратно)11
В другом варианте летописи ошибочно назван император Иоанн Цимисхий, но он на самом деле правил много позднее.
(обратно)12
Использован перевод Д. С. Лихачева.
(обратно)13
Существуют версии, утверждающие славянское и даже болгарское происхождение Ольги, но они не получили достаточного подтверждения в источниках. Варяжское происхождение Ольги можно считать прочно установленным фактом.
(обратно)14
Летопись вроде бы приводит точную дату их брака: 903 год. Но все ранние даты древнерусского летописания, как уже было сказано, вызывают сомнение. Мало-мальски определенными можно считать лишь те из них, которые приходятся на вторую половину X века. Не ранее!
(обратно)15
Житие Ольги сообщает, что она разрушала идольские капища. Известие вызывает сомнения, но, во всяком случае, у себя на теремном дворе и в Вышгородской резиденции она имела полное право так поступить.
(обратно)16
Пардус — большое животное из семейства кошачьих, использовавшееся в охотничьих целях: барс, пантера или леопард.
(обратно)17
Использован перевод О. В. Творогова.
(обратно)18
Таврами и тавроскифами византийские историки называли подданных Святослава.
(обратно)19
Позднее — Дристр, Силистра.
(обратно)20
Русская летопись именует его Переяславцем на Дунае.
(обратно)21
Современный историк Н. В. Филин считает: «Основные силы Руси уже осенью 968 г покинули Балканы для передислокации и последующей переброски на Дон, Тамань, Волгу и Каспий».
(обратно)22
Здесь и далее — по старому стилю.
(обратно)23
Использован перевод О. В. Творогова.
(обратно)24
Переяславцы — болгары из Преслава.
(обратно)25
В одном из источников указана численность — шесть тысяч бойцов. Но всё ли это войско или цифра указана с учетом потерь, понять невозможно.
(обратно)26
Имя священника восстанавливается лишь гипотетически.
(обратно)27
Остальным женам Владимира пришлось покинуть его гарем. Некоторые из них вышли замуж вновь за представителей киевской знати, другие приняли монашеский постриг.
(обратно)28
В научной среде нет единого мнения, действительно ли этот документ принадлежит эпохе святого Владимира или же он появился позднее, но, во всяком случае, в домонгольскую эпоху. В данном случае это не столь уж важно: так или иначе Владимир Святославич какой-то устав Церкви дал, и более поздние документы в этой сфере строились на основе его законодательного установления.
(обратно)29
Зелейничество — составление ядов.
(обратно)30
Глава коалиции, польский король Болеслав I, поддерживал своего зятя, князя Святополка, в его заговоре против Владимира Святославича. Святополк оказался под арестом, под стражей содержалась и его жена — дочь Болеслава. Король попытался устроить их дела вооруженной силой.
(обратно)31
Наиболее вероятная дата — 979 год. Высказывались версии, согласно которым Ярослав Владимирович родился чуть позднее: между 979 и 986 годами. Но эти версии дискуссионны.
(обратно)32
Предслава — дочь Владимира Святого, сестра Глеба.
(обратно)33
Использован перевод О. В. Творогова.
(обратно)34
Собственно, речь идет о двух сагах — Эймундовой и саге об Ингваре Путешественнике. Исток у них явно один, война на Руси описана сходно, однако есть и большие сюжетные различия.
(обратно)35
По иной версии, его убили наемные варяги из войска Ярослава.
(обратно)36
Долгое время он являлся «старшим» из храмов всей необъятной Черниговщины.
(обратно)37
Северокавказское племя, ранее побежденное Мстиславом.
(обратно)38
Использован перевод О. В. Творогова.
(обратно)39
Позднее Дерпт, Тарту.
(обратно)40
Собственная же сестра Казимира I стала супругой Изяслава — сына Ярослава Мудрого.
(обратно)41
Собор был возведен на месте недавней победы над печенегами.
(обратно)42
Использован перевод О. В. Творогова.
(обратно)43
О княжении Ростислава ничего не известно. Это младший из сыновей Всеслава Чародея, и по молодости лет он мог вообще не получить удела в Полоцкой земле. Мечтая о возвышении семейства, Ростислав-Георгий имел возможность уповать лишь на удачный брак своих дочерей… каковой не состоялся: дочери стали монахинями.
(обратно)44
Год определить невозможно, но можно назвать наиболее вероятный день пострижения — 25 сентября, поминовение святой Евфросинии Александрийской.
(обратно)45
Другое значение имеет кладбищенский оттенок: надгробный памятник или же склеп в виде домика.
(обратно)46
Святую Евфросинию принято считать основательницей этой обители. Но в житии ничего подобного не сказано. Ей передали землю, являвшуюся «метохией», то есть владением уже существующего монастыря. Так что, возможно, святая Евфросиния просто способствовала расцвету этой обители, основанной до нее и управлявшейся полоцкими епископами. И, может быть, создала там женскую иноческую общину, состоящую из представительниц аристократических родов.
(обратно)47
Житие не позволяет судить с точностью, но это мог быть не родной брат, а двоюродный.
(обратно)48
Ольговичи — ветвь Рюрикова рода, идущая от князя Олега Святославича. Княжили главным образом на Черниговщине и в Новгороде-Северском, иногда захватывали Киев.
(обратно)49
В 1143 или 1144 году с Юрием Владимировичем вел переговоры в Суздале его племянник Изяслав Мстиславич и «не уладися с ним».
(обратно)50
В 1149 году на Поволжье, принадлежащее Юрию Владимировичу, обрушился удар великого князя Киевского Изяслава Мстиславича, родного племянника и давнего врага его.
(обратно)51
В Смоленске сидел враждебный ему князь.
(обратно)52
Встреча состоялась в первых числах апреля 1147 года.
(обратно)53
Вероятно, имеется в виду, что Юрий одарил старших дружинников Святослава.
(обратно)54
При живом предыдущем епископе. Князь позволил ему епископствовать лишь в Ростове, а от Суздаля и Владимира удалил.
(обратно)55
Достоверность рассказа летописи о неудаче Леона в Византии и наказании его — под вопросом. По другим версиям, Леон вернулся на Русь и остался на епископии.
(обратно)56
Фрагмент храма Рождества Богородицы и Лестничная башня.
(обратно)57
Род низших должностных лиц в княжеской администрации.
(обратно)58
Давыд Ростиславич, смоленский князь.
(обратно)59
Ярослав Всеволодович, черниговский князь.
(обратно)60
Основан женой князя Всеволода Марией.
(обратно)61
Чермный — красный (по цвету лица) или, может быть, рыжий.
(обратно)62
Имеется в виду Галич южный.
(обратно)63
Его возникновение относится к периоду между 1246 и 1271 годами. А значит, в нем могли отразиться реальные события, связанные с гибелью Михаила Всеволодовича и задержавшиеся в памяти современников.
(обратно)64
Пороки — камнеметные машины, напоминающие западноевропейские требушеты.
(обратно)65
Некоторые историки считают, что Даниил Романович контролировал и Киевщину, однако сколько-нибудь серьезных доказательств к этому утверждению до сих пор не приведено. Скорее всего, Киев остался за пределами Галицко-Волынской державы, и лишь западная часть Киевской земли какое-то время входила в сферу ее влияния.
(обратно)66
Эта деталь приводится только в житийном тексте, в летописи она не упоминается. Поэтому часть специалистов отрицает ее достоверность.
(обратно)67
К настоящему времени Вороний камень почти полностью ушел под воду.
(обратно)68
Бригандина — панцирь с мягкой (чаще всего кожаной) основой и нашитыми на нее лужеными металлическими пластинами. Бригандину надевали поверх кольчуги, она защищала грудь рыцаря.
(обратно)69
Это слово применялось в указанный период также и к селам (селонам, сету) — не столь многочисленной, как эсты, народности, жившей на землях, близких к театру военных действий. Таким образом, возможно и ее участие в битве — на стороне немецкого рыцарства.
(обратно)70
Из числа покоренных немцами местных народов в этой области эстов жило более всего, они нередко участвовали в общих боевых операциях с немцами, а потому следует предполагать их особую многочисленность в войске Ордена на Чудском озере.
(обратно)71
Отрывок из «Старшей Ливонской рифмованной хроники». То, что сказано о численности русского войска, — естественное преувеличение тех, кто проиграл битву. Откуда немцам знать численность рати князя Александра Ярославича? А вот сказанному о собственных потерях стоит доверять: их-то масштаб немцы должны были знать прекрасно.
(обратно)72
По другому немецкому источнику, относящемуся к XV веку, погибло не 20, а 70 рыцарей. Но достоверность содержащейся там информации вызывает сомнение: к моменту его составления прошло более трехсот лет со времен Ледового побоища.
(обратно)73
Подозревали смерть от отравы, поднесенной Ярославу Всеволодовичу ханшей Туракиной. Но ни окончательно подтвердить это мнение, ни твердо его опровергнуть сегодня не представляется возможным.
(обратно)74
До недавнего времени многие специалисты видели в этом первую «перепись населения» на Руси. Но исследования недавних лет опровергают данную точку зрения: сведения, необходимые для налогообложения по ордынскому образцу, не требовали переписывать население по головам, нужны были только общие данные о его численности и способности выплачивать дань.
(обратно)75
Войско, собранное русскими князьями, ударило в 1262 году на Дерпт. Новгородская летопись сообщает об этом походе следующее: «И был тверд город Юрьев, в 3 стены, и множество людей в нем всяких… но честного креста сила и святой Софии всегда низлагает неправду имеющих. Тако и сий град. Ни во что же твердость та бысть, и люди многы града того частью полегли, частью сдались, частью же погибли в огне, и жены их и дети; взяли же [там] товару без числа…»
(обратно)76
Видимо, позднее Дмитров вышел из состава Московского княжества, чтобы вернуться туда гораздо позднее.
(обратно)77
В другом летописном источнике сказано, что московская рать уничтожила не «татар», подкреплявших силу рязанского князя, а местных «бояр». Но такой поступок вряд ли соответствует политическому стилю Даниила Александровича — князя миролюбца и богомольца.
(обратно)78
Из числа крупных монастырей тому же Даниилу Александровичу приписывается основание московской Богоявленской обители.
(обратно)79
По другой версии — от хана Ногая, соперничавшего с Тохтой.
(обратно)80
Была также дочь Феодора, но о ней мало что известно.
(обратно)81
Предположительно его канонизация совершилась на церковном соборе 1549 года.
(обратно)82
Подругой, менее правдоподобной версии, не четвертым, а вторым.
(обратно)83
Темник — военачальник, командующий туменом или «тьмой», то есть полевым соединением в десять тысяч бойцов.
(обратно)84
По другой версии, сам Иван Данилович подсказал Узбеку такое разделение Руси: ему достались наиболее выгодные в податном отношении области, и он какое-то время мог не заботиться о выколачивании недоимок с дальних и не особенно богатых земель.
(обратно)85
Впрочем, возможно, идея этого брака как своего рода «стратегического проекта» пришла из Орды.
(обратно)86
Существует гипотеза, согласно которой вторая жена, Ульяна, была дочерью галицкого князя Федора Давыдовича. Но это не более чем предположение.
(обратно)87
Подругой версии, галицкие земли были получены Иваном Калитой как приданое его второй жены Ульяны.
(обратно)88
Очевидно, речь идет о Богородице-Рождественском монастыре Владимира, но, возможно, и о соборном храме Успения Пречистой.
(обратно)89
Иначе говоря, быть заодно до скончания жизни, до последнего срока.
(обратно)90
Возможно и другое объяснение. Дело не в красоте князя, а во времени его рождения: он появился на свет на Красную горку — 30 марта. Но эта гипотеза не устоялась в науке.
(обратно)91
Князь Владимир Андреевич Серпуховской являлся внуком Ивана Калиты и двоюродным братом Ивана Красного. Его отец, князь Андрей, получил Лопастну, Серпухов, Перемышль, населенные пункты «Нарунижьское» и «Северьска» от Ивана Калиты и передал удел сыну, правда, в урезанном виде: богатая Лопастна (городок находился около устья реки Лопастны, с правой стороны Оки) отошла к Рязани.
(обратно)92
Часть Лопастенской волости всё же осталась за Москвой.
(обратно)93
В Нижнем — столице — сидел его старший брат Андрей. Он являлся государем всего огромного Суздальско-Нижегородского княжества, но от ярлыка на великое княжение отказался. Младший брат Дмитрий получил его без какого бы то ни было конфликта с Андреем.
(обратно)94
Для Ягайло и для Олега Ивановича Рязанского и Орда, и Москва в равной степени являлись врагами. Ягайло выдвинулся на театр боевых действий, желая, видимо, защитить собственные земли, если на них посягнет один из противников. Олег Иванович в ту пору не располагал большой ратной силой, и ему оставалось молить Бога о том, чтобы два огромных воинства поскорее покинули позиции в непосредственной близости от его границ. Открытое выступление на той или другой стороне грозило ему в будущем ответным вторжением на его собственную территорию. Он и повел себя осторожно.
(обратно)95
Точное расположение места битвы до сих пор вызывает дискуссии. Единства у историков на этот счет нет, бытует несколько взаимоисключающих версий.
(обратно)96
То есть не христиан.
(обратно)97
В трудах разных ученых озвучиваются цифры, отличающиеся друг от друга кардинально. Сколько бойцов вышло от Руси на поле Куликово? Вот ответы, принадлежащие отечественным исследователям: 300 тысяч, 150 тысяч, 100 тысяч, 40–50 тысяч, 36 тысяч, 10–12 тысяч, 5—10 тысяч и даже 5—10 тысяч с обеих сторон… Правда же состоит в том, что ни одна из этих цифр не опирается на сколько-нибудь серьезное обоснование по данным источников. Летописи приводят колоссальные, безусловно завышенные цифры, выходящие за 100 тысяч бойцов. Но даже единое Московское государство XVI века, обладавшее гораздо более серьезным боевым потенциалом, чем Северо-Восточная Русь времен Дмитрия Донского, никогда не выводило в поле столь значительный контингент боевых сил. Когда же речь заходит о том, что на поле Куликовом сражалось всего-то по несколько тысяч воинов с каждой стороны, и в доказательство приводятся цифры «мобилизационных возможностей» Руси, ее демографических характеристик, килограммов фуража, потребного для средневековой татарской и русской кавалерии, то это может произвести неотразимое, сенсационное впечатление на умы… если только не принимать во внимание, что все эти цифры взяты из документов, составленных на несколько веков позднее, или просто носят гипотетически-гадательный характер. Иными словами, документов государственного делопроизводства, по которым хотя бы в самом грубом приближении было известно, сколько ратников могло выставить то или иное княжество в поле в XIV веке, просто нет. Не надо себя обманывать: можно ткнуть в любую цифру между 5 и 50 тысячами, и она теоретически будет подходить для оценки численности полков Дмитрия Донского.
Что же касается воинства Мамая, то там подсчеты будут носить еще более произвольный характер: от 5 до 150 тысяч человек, иногда больше.
В настоящее время большинство специалистов высказываются в пользу цифры от 10 до 40 тысяч воинов с каждой стороны.
(обратно)98
При большевиках монастырь был уничтожен.
(обратно)99
Л. Е. Морозова допускает, что по заданию Евдокии Дмитриевны Троицкую летопись писал знаменитый ученый монах Лаврентий, составитель Лаврентьевской летописи. Но тут уж исследовательница вступает на зыбкую почву бездоказательных предположений.
(обратно)100
Речь идет не о том, что евангелист Лука лично написал эту икону, а о том, что он создал образец, в русле которого она написана. Большинство искусствоведов склоняются к тому, что икона принадлежит византийскому письму XI–XII столетий. Существует предположение, согласно которому мать Василия I, Евдокия Дмитриевна, дала благочестивый совет доставить икону в Москву.
(обратно)101
Существуют гипотезы, согласно которым икона появилась несколькими годами позднее кончины Василия I.
(обратно)102
Важно напомнить: когда составлялось завещание Дмитрия Донского, Василий Дмитриевич еще не имел сыновей, но ничто не говорило о том, что их не будет. Вероятно, предполагалось передать его «удел» брату лишь в случае бездетности Василия Дмитриевича.
(обратно)103
И даже при жизни его младший брат Константин Дмитриевич отказался целовать крест наследнику, Василию Васильевичу. Но потом он всё же принял сторону Василия II.
(обратно)104
Свидригайло приходился ему свойственником или, по терминологии того времени, побратимом: оба были женаты на дочерях смоленского князя Ивана Святославича.
(обратно)105
Разбивка на статьи предложена позднейшими историками. В разных вариантах ими выделялось от 68 до 100 статей. Вариант с 68 статьями получил в науке наиболее широкое признание.
(обратно)106
Андрей Углицкий позднее вновь воспротивится воле великого князя, за что попадет в тюрьму, где и окончит свои дни.
(обратно)107
Одни историки русской литературы считают, что это боярин Софоний Рязанец, другие отрицают его авторство.
(обратно)108
Позднее ее стали называть Васильсурск.
(обратно)109
Стопроцентная уверенность по поводу членства в Избранной раде есть в отношении лишь одного человека — князя Д. И. Курлятева. В отношении прочих так или иначе высказывались сомнения.
(обратно)110
Речь идет о конфискации имущества.
(обратно)111
Есть сведения, согласно которым после пожара московский Опричный двор был возобновлен. Но Иван IV бывал там редко, предпочитая резиденции вне Москвы.
(обратно)112
Об этом — ниже.
(обратно)113
Тафья — головной убор, заимствованный у татар. Церковь осудила его ношение задолго до митрополичьего служения святого Филиппа.
(обратно)114
Слово «цивилизация» используется здесь в том смысле, который предложил Н. Я. Данилевский для термина «культурно-исторический тип».
(обратно)115
Выражение К. Н. Леонтьева.
(обратно)116
Симптоматично, что масштабное государственное летописание прервалось 1567 годом…
(обратно)117
Известный военачальник Юрген Францбек, прежде служивший московскому государю.
(обратно)118
Причем незаконной, по каноническим правилам Русской церкви.
(обратно)119
На западе Белый город начинался от Водовзводной башни Кремля, на востоке он упирался в Китайгородскую стену
(обратно)120
Слова относительно дочери Федора Ивановича, родившейся еще при жизни Ивана Грозного, загадочны. Ирина Федоровна Годунова не была бесплодна. Она неоднократно беременела, однако никак не могла разродиться жизнеспособным ребенком. Русские источники — как документы, так и летописи — ничего не сообщают о девочке, родившейся у царевича и его супруги до 1584 года. Поэтому возможны две трактовки известия Исаака Массы. Либо девочка действительно была, но умерла вскоре после родов, быть может, не дожив до крестильной купели. Либо нидерландский купец путает ее с царевной Феодосией Федоровной, действительно появившейся на свет, но лишь через много лет после смерти Ивана IV, когда Федор Иванович и его супруга давным-давно пребывали в сане царя и царицы.
(обратно)121
С 1587 года митрополичью кафедру в Москве занимает Иов.
(обратно)122
Митрополит Московский Иов, архиепископ Новгородский Александр, архиепископ Ростовский Варлаам.
(обратно)123
Архиепископии появлялись на месте епископий, а митрополии учреждались на месте архиепископий.
(обратно)124
В декабре 7098 года от Сотворения мира шел 1589 год от Рождества Христова.
(обратно)125
Ям сдался 27 января 1590 года.
(обратно)126
Ныне город Приозерск.
(обратно)127
«Гуляй-город».
(обратно)128
Сама икона оставалась в Благовещенском соборе Московского Кремля.
(обратно)129
Эпилепсия или весьма сильная хорея.
(обратно)130
Два сына Ивана IV умерли во младенчестве — первенец Дмитрий и Василий, рожденный от царицы Марии Темрюковны.
(обратно)131
Как говорит летопись, Григорий Васильевич Годунов «не приспе» к заговору против царевича Дмитрия и «плакася о том горько», что родня затеяла срамное дело.
(обратно)132
Подобная версия в разной форме уже высказывалась ранее, например писателем Д. В. Евдокимовым.
(обратно)133
Известие о смерти царевича Дмитрия.
(обратно)134
Пелымский городок действительно начал строиться в конце 1591-го или первой половине 1592 года.
(обратно)135
Иван Тимофеев пишет в данном случае о двух убийствах — царевича Дмитрия Ивановича и царя Федора Ивановича, поскольку он был уверен в том, что к смерти самого государя также приложил руку Борис Годунов, и это новое преступление также было замолчано.
(обратно)136
Как уже было сказано, Г. Ф. Нагой был зятем А. П. Клешнина, но для того, очевидно, давняя дружба с Годуновыми значила больше, чем подобные узы.
(обратно)137
Ливонские немцы называли этот городок Лоде.
(обратно)138
Точнее говоря, поляки убедили его, что он послужит воеводой «спасшемуся» от смерти царю, вместо которого Болотникову был показан приближенный Лжедмитрия, Михаил Молчанов.
(обратно)139
Цитируется только часть документа. Грамота была отправлена из Москвы в апреле 1609 года.
(обратно)140
Год рождения Дмитрия Михайловича оспаривается историком-краеведом В. Е. Шматовым. По его словам, грамота на земли, доставшиеся Пожарскому от отца, датирована февралем 1588 года, и там сказано, что отроку уже десять лет. А если он родился в 1578 году, к февралю 1588 года ему было бы менее девяти с половиной лет: следовательно, князь родился в 1577 году (Шматов В. Е. О дате рождения князя Дмитрия Пожарского // Нижегородская правда. 2005. № 76). Случай спорный: девять лет и четыре месяца могли выдать за десять — семья ведь стремилась сохранить за собой отцовские владения, а чем старше отрок, тем больше шансов, что государь пойдет навстречу его роду, зная, что на службу юноша выйдет несколько лет спустя. Итог: нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, в 1577 или 1578 году родился Дмитрий Михайлович. 1578 год приводится здесь как традиционная дата.
(обратно)141
Лжедмитрием II.
(обратно)142
«Языки» — в данном случае: «пленники». «Поймать языки» — взять кого-то в плен.
(обратно)143
По другим сведениям — 13 июня или даже в день восшествия Михаила Федоровича на престол — 11 июня. В февральской соборной грамоте 1613 года об избрании Михаила Федоровича на царство Пожарский уже написал себя боярином, хотя официально такого чина еще не имел (Собрание государственных грамот и договоров. М., 1813. Т. 1. С. 637). То ли собор счел возможным даровать Пожарскому боярский чин, а царь его подтвердил, то ли от имени сторонников Михаила Федоровича боярское звание было твердо обещано Дмитрию Михайловичу.
(обратно)144
Номера у великих князей владимирских проставлены только в том случае, если они происходят из династии Московского княжеского дома. Эти номера продолжаются в эпоху Московского государства и Российской империи. Юрий Данилович правил на Москве с 1303 г.
(обратно)145
Правил на Москве с 1325 г.
(обратно)146
Правил на Москве с 1359 г.
(обратно)
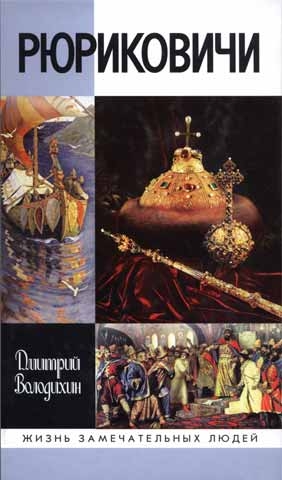


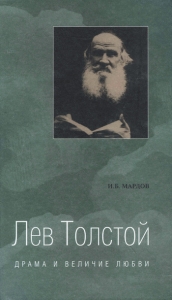

Комментарии к книге «Рюриковичи», Дмитрий Михайлович Володихин
Всего 0 комментариев