Сергей Борисович Смирнов Роман с разведкой. Интернет-расследование
Сергею Скворцову, моему деду, ржеветянину, в 1942 году пропавшему без вести на ржевском направлении, посвящаю!
Пролог
Главный герой
Снежинки таяли на лице, но покойно ждали тепла на пальто. Тенью прошла мысль: «на лице это пока, ненадолго». Он стоял куда привели, возле стены какого-то сарая. Когда подводили, заметил на ней свежие следы вырванных щеп. Не его первого расстреливали здесь. Перед ним, в шагах двадцати, кучкой теснились солдаты. Они приплясывали, стучали сапогами о сапоги и с надеждой поглядывали на его валенки. Каждый надеялся, что они достанутся ему. Им хотелось побыстрее вскинуть винтовку к плечу, покончить с этим русским и уйти в тесное тепло караулки. Измучившая их зима с её варварскими морозами все длилась и длилась. То один, то другой солдат бросал взгляд на стоявших в стороне офицеров, неизвестно чего ждавших в густеющих сумерках. Солдаты молчали, а офицеры иногда тихо бросали друг другу короткие реплики. Демьянов видел все это периферией зрения, но смотрел он выше, туда, где наливавшееся синевой небо упиралось в уцелевшие крыши и остовы домов Гжатска. Это было последнее, что ему было суждено видеть. Но что об этом думать — он уже переступил черту. Рубеж, от которого нет возврата. За этим рубежом, слава Богу, бессмысленно вымаливать жизнь у этих людей, пришедших сюда, чтобы убить его. Нужно было просто дождаться, и он терпеливо ждал. В отличие от солдат, ему, наверное, было тепло в его валенках, зимнем пальто и шапке с опущенными ушами. Только он не чувствовал ни тепла, ни холода, а они мерзли. На мгновение эта злорадная мысль если не утешила, то отвлекла его.
Наконец, один из офицеров, козырнув остальным, заскрипел сапогами по снегу в его сторону. Солдаты стали торопливо строиться в шеренгу, но он, как будто и не заметив этого, направился к Александру. Демьянов досадливо подумал: «Ну что еще». Это был обер-лейтенант, один из тех, кто его допрашивал. Обер-лейтенант остановился в трех шагах от Александра, будто опасаясь безоружного у стены. Громко, как зачитывая приговор, офицер спросил, медленно расставляя русские слова:
— Что вы еще хотите сообщить германскому командованию?
Демьянов, все также глядя поверх, понял, что придется еще с минуту длить опостылевшую игру. Последняя, как он надеялся, реплика далась с трудом, язык не хотел его слушаться:
— Все, что я мог, я уже рассказал. Больше мне добавить нечего.
Помолчали. Было слышно, как мнётся снег под сапогами солдат. Обер-лейтенант вдруг улыбнулся и, уже вполголоса, сказал — теперь по-немецки:
— Идемте, Демьянов. Господин полковник ждёт вас.
Взмахом руки он отпустил солдат, которые, недоуменно переглянувшись, почти бегом устремились в караулку. Последний, по виду самый старший, на ходу оглянулся и с сожалением посмотрел на валенки Александра.
Когда Демьянов в сопровождении обер-лейтенанта вошёл в уже знакомую по допросам комнату, из-за стола навстречу ему поднялся оберет. На его бесконечные вопросы, повторяемые вновь и вновь, он отвечал, лишённый сна, двое суток. Потом ему предложили в последний раз подумать о правдивости его показаний в соседней комнате, где он, рухнув на кровать, тут же уснул, измученный допросами. И откуда его увели к тому самому сараю. Полковник пожал ему руку и жестом радушного хозяина пригласил к хорошо сервированному столу. Видимо, все необходимое для комфортной жизни он возил с собой. Хрусталь, серебро, икра и балык. Его русский был почти безупречен:
— Ну что, Александр Николаевич, закусим с морозца? А как вы насчёт коньячка? У меня отменный, французский. Выпьем за успех нашей совместной работы. Вы держались молодцом. И должны понять нас — только угроза смерти служит настоящей проверкой для человека, собравшегося играть в такую рискованную игру. Кстати, вам большой привет от генерала Улагая. Он чтит память вашего батюшки, хорошо помнит ваших родителей, родственников отца, да и вас самого припомнил.
Демьянову удалось сделать вид, что он благодарно улыбается. И вдруг подумал: «А карты не врали».
Операция «Монастырь» успешно началась.
О чем эта книга
Эта книга — расследование, доставившее автору интеллектуальное наслаждение и заставившее его искренне сопереживать героям само собой образовавшейся истории. Плод восторга, вызванного необъятными возможностями Интернета. Работу, на которую еще десять — пятнадцать лет назад надо было бы затратить годы копания в библиотеках, я проделал за несколько месяцев, не отрываясь от своего ноутбука. Большинство архивных материалов, относящихся к этой истории, по-прежнему доступны только избранным, но зато практически все, появившееся в печати, можно найти в Сети. История операции «Монастырь», а речь пойдет именно о ней, привлекла меня не фабулой, а людьми, ее разыгравшими. Процесс осложнялся тем, что по фактам нам уже известным, нельзя полностью восстановить биографии большинства не только второстепенных, но даже некоторых главных героев. Однако даже если представить, что будет обнаружена и предана гласности вся возможная информация о них, лежащая сегодня в хранилищах документов или таящаяся в ненапечатанных еще мемуарах, разве это даст нам, живущим сегодня, право уверенно судить о мотивах поступков, чувствах и переживаниях этих людей? Ведь и те из них, кто писал сам о себе, не более чем интерпретаторы собственных, уже прожитых судеб. Причем, самые необъективные. Любая книга, даже самая документальная, полна фантазий.
История операции «Монастырь» замечательна еще и тем, что ее предали гласности только в середине 90-х годов XX века, и она не имеет советской литературной и художественной традиции, ее современный, дробящийся образ — продукт нашего времени. Выйдя на свет, она сразу получила жизнь и развитие в только что опутавшей Россию Всемирной Паутине. О моих персонажах писали учёные и публицисты, историки и литературоведы, либералы и почвенники, коммунисты и антикоммунисты, ветераны КГБ и их разоблачители, люди высокообразованные и почти полуграмотные, талантливые и бездарные. Все эти писания стали казаться мне осколками никогда не бывшего целым зеркала, и эти осколки, при всей разности их величины и ценности, отражали какую-то часть или грань исторической правды. Или, по крайней мере, правды о самих авторах и о нас, живущих в России XXI века. Все, что нашёл в Интернете (научные публикации, газетные статьи, беллетристика, документы, фильмы об операции «Монастырь», снятые для телевидения, содержание сайтов, комментарии и обсуждения) я просеял через сито биографий героев этой книги. Оставшиеся в результате крупинки более или менее достоверных фактов и дали материалы для той мозаики, для того калейдоскопа, из которых она сложилась. Вот почему я выражаю благодарность всем моим нечаянным соавторам. То, что я их здесь не перечисляю, а также, как правило, не называю по именам в тексте, извиняет меня только по одной причине — это все-таки не исторический труд. А, по большому счету, все они тоже персонажи книги, пусть и анонимные. Как, впрочем, и я сам. Тем не менее я считаю необходимым дать прямо в тексте ссылки на использованные мной источники, чтобы любой читатель, обратившись к Интернету, мог составить свое представление как о моей добросовестности, так об их качестве.
Когда я не получал ответы на свои вопросы в Интернете, понимал, что их ему бессмысленно задавать в силу закрытости информации или невозможности так сформулировать вопрос, чтобы получить адекватный ответ, я разрешал себе немного фантазии, прибегал к своим знаниям о той эпохе, собственным представлениям о ней. Чтобы меня не обвинили в подтасовке исторических фактов, а я старательно старался им следовать, я в таких случаях откровенно использовал приемы беллетристики.
Несостоявшийся герой
Здесь, в «Альпийской крепости», жила тишина. Германия, корчилась в агонии, а здесь стояла весенняя горная прозрачная неподвижная тишина. Они прятали в заброшенных шахтах оружие и боеприпасы, минировали дороги и горные тропы, заставляли крестьян строить блиндажи и рыть окопы, но сами не верили в то, что все это им пригодится. Ими двигал, долг, инерция войны, страх перед возмездием, но только не вера. Вера умерла. Для кого с Гитлером, а для более умных — куда раньше. Высокие начальники меняли паспорта и биографии, готовились к бегству с чемоданами фальшивых, но надежных фунтов. Те, кто бежать не рассчитывал, постепенно привыкали к предстоящей неизбежности плена. И уже почти с радостью принимали мысль, что это будет не русский, а американский или английский плен.
С внешним миром, с умирающим рейхом их теперь связывало только радио. Так они узнали о падении Берлина, о том, что западный и восточный фронты сомкнулись. Их вожди ещё переговаривались с Дёницем, пытались о чем-то торговаться с американцами, но Скорцени понимал, что для них всё кончено. Он хорошо потрудился для того, чтобы у него было благополучное послевоенное будущее. И еще неизвестно, за кем оно — за этими неудачниками или за ним. Предстояла новая рискованная игра, ставкой в которой была его жизнь и свобода, но разве он не привык к таким играм, разве они не стали его стихией, его способом жить? А пока у него было несколько дней, чтобы подготовиться к новой жизни. 8 мая Германия капитулировала. С небольшой группой офицеров и солдат Отто Скорцени укрылся в горах и стал ждать развязки. Было время подумать.
За его спиной были террор и диверсии, казни немецких солдат и убийства мирных жителей. Я уверен, он не раскаивался. Это он доказал всей своим дальнейшим довольно длинным и благополучным существованием на планете Земля. Об этом он сам неоднократно говорил и писал. Можно не сомневаться, что он думал о другом: почему? Почему мы проиграли? Что предстоит сделать, чтобы не повторить ошибок в будущем? Он считал себя героем и мог назвать множество других немецких героев этой войны, павших и живых. Но они проиграли. Несмотря на все жертвы и подвиги. Он вспоминал своих солдат, чьи планеры разбились при освобождении Муссолини. Защитников Будапешта. Героев Арденн. Полковника Шернхорста, чьи люди прошли многомесячный страшный путь через всю Белоруссию и Литву по большевистским тылам в надежде выйти к своим. Они не сдались, они сражались до конца. Скорцени вспомнил их последнюю радиограмму, когда надежды уже не было: «Мы больше ничего не просим… только говорить с вами… только слышать вас». Он сам хотел полететь к Шернхорсту и лично возглавить операцию по спасению его группы, но фюрер запретил. Фюрер верил в него, знал ему цену. Где-то сейчас Шернхорст и его люди? Пали в бою? Всё ещё сражаются? Томятся в страшном большевистском плену? Чтобы ни было, они — истинные герои и память о них послужит возрождению Великой Германии. По крайней мере, он, Отто Скорцени, легенда СС, сделает все от него зависящее, чтобы эта память жила.
А судилище, которое победители хотят затеять, он заранее презирает. Они хотят судить всех немцев, всех сражавшихся против них? Но в любые времена и при любых режимах долг солдата состоит в том, чтобы выполнять приказы командиров. Герой — кто его выполнил вопреки любым обстоятельствам. Предатель — кто давал присягу и нарушил её, не выполнив приказ. Так было и так будет. Он, Отто Скорцени, выполнял приказы фюрера и его ближайших соратников. И ему не в чем себя упрекнуть.
В эти майские дни и ночи в Альпах так хорошо дышалось и ясно мыслилось.
15 мая 1945 года Отто Скорцени сдался американцам.
Часть первая. Персонажи
Пашка
Пашка понял, что полк разбит. Еще пару часов назад впереди, сквозь сплошной стук винтовочных выстрелов, уверенно пробивались молоточные очереди пулеметов, несколько раз бухнули полковые орудия. Теперь стрельба становилась все реже и ближе, и, что ещё страшнее, справа и слева. Обозные торопливо запрягали, разворачивали телеги с боеприпасами и имуществом, порядка не было, командиры метались и матерились, пытаясь установить строй отступления. Обоз укрыли в балке, и теперь она стала ловушкой: через узкую горловину разом могли вырваться не более двух повозок. А поверху уже неслись те, кому повезло, кто ушел конным и, надеясь на спасение, исступленно и почти весело кричал вниз, обозным: «Бегите! Бросайте все к едрене фене! Казаки окружают!» И исчезали в горячечно дрожащем воздухе полуденной степи. Пехоты, а Мелитопольский рабочий полк именовался стрелковым, было не видно, она не успевала добежать до обоза. По приближающейся и все более редкой стрельбе легко читалась её судьба. На выходе из балки возник затор, повозки смешались, обозные бросились распрягать лошадей, надеясь спастись верхами. За лошадей дрались, трещали выстрелы.
Пашка прибился к полку всего неделю назад, после того, как ещё три дня шёл за ним от Мелитополя. Оголодав, он подкрался к обозной колонне, чтобы попросить хлебца, и был узнан рабочими с батиного завода, а потом, после нескольких затрещин за то, что сбежал из дома, приставлен в помощь к полевой кузнице. Теперь он метался вместе со всеми между телегами и бричками, пока вдруг не понял, что ни одного кузнеца в их кузнечном хозяйстве уже нет. Зато он увидел, как над балкой кружат всадники в чёрном, и встречают бегущих обозников кто пулей, кто саблей. Пашка забился под одну из телег, зарылся лицом в колкую и горькую полынь, живущую на дне балки, закрыл уши руками, только бы не слышать напрасные мольбы о милосердии, прерываемые матом, сухими выстрелами или чавкающими ударами сабель. За себя он почему-то не боялся. И не по малолетству. Просто не мог вообразить собственную смерть ив сё.
Из-под телеги, схватив за выгоревшие и давно нестриженые кудри, его выволок старый казак с сединой в бороде и «Георгием» на черкеске. Он поставил перед собой Пашку, вцепившегося в его руку в напрасной надежде вырваться, и оглядел далеко не воинский наряд мальчишки. Его «униформа» состояла из заправленных в сбитые сапоги, заплатанных на коленях штанов из чёртовой кожи и косоворотки в мелкий цветочек. Казак смачно выругался и, ткнув Пашку наконечником ножен в живот, велел идти впереди него. Когда они вскарабкались по склону, то оказались прямо перед группой казачьих офицеров. Они, видимо, давали роздых коням, остывали и сами, спешившись. Молодой генерал в черной черкеске, вокруг которого и собрались офицеры, говорил слегка возбуждённо с мягким южнорусским выговором:
— В этой войне победит тот, кто наладит дисциплину. Вот возьмите этих сегодняшних бедолаг из Мелитополя. Если бы они не митинговали три дня, оставаться им в городе или присоединиться к остальным отступающим красным, да занялись хоть чуть-чуть военной подготовкой, может, и не стали бы сегодня такой лёгкой добычей для нас. Ведь по одиночке-то сражались отчаянно.
Уловив паузу в словах командира, приведший Пашку казак неожиданно рыкнул:
— Разрешите обратиться, Ваше Превосходительство!
Тот снисходительно улыбнулся:
— Ну и силен ты, Харченко, орать. Что, ценного пленного поймал? Вижу-вижу.
Харченко потупился:
— Сумнение у меня. Что с пацанёнком прикажите делать, Ваше Превосходительство?
Генерал пристально посмотрел на Павла холодными серыми глазами, взгляда которых
Пашка не выдержал, склонил голову, и обратился к одному из своих товарищей:
— Что Вы скажите, господин есаул? Ведь ему лет двенадцать, не больше. И что, он уже законченный звереныш, враг? Или все-таки ребёнок? Что подсказывает вам опыт контрразведчика, господин Демьянов? Как поступить-то с ним? Как с этими?
Ногайкой, которую он держал в руке, генерал описал круг, будто захватывая и окрестную степь, и балку, покрытые телами тех, кто ещё недавно были простыми мелитопольскими рабочими, а последнюю неделю — бойцами мелитопольского полка.
Есаул, все эти минуты не проявлявший особого интереса к Пашкиной персоне, так как изучал какие-то документы, что подсовывал ему стоявший за спиной писарь, оторвался от них и бросил короткий взгляд на Пашку:
— Примитивность большевистских идей как раз для самых неразвитых умов и привлекательна. Все по-детски: отнять и поделить. А что касается этого конкретного персонажа, то его надо как следует выдрать и отправить к мамке. Мать то у тебя есть?
Пашка буркнул:
— Есть.
— А отец?
— Умер три года как.
— Тебе сколько?
— Двенадцать.
— А зовут как?
— Павел Судоплатов.
— А здесь почему оказался, Судоплатов Павел?
Пашка взглянул на него, помолчал, а потом ответил, качнув головой, будто удивляясь такой непонятливости офицера:
— Так все наши здесь. Рабочие с батиного завода. Пацаны с улицы, со двора. Я самый младший, вот меня и к обозным.
Есаул посмотрел на Пашку долгим печальным взглядом. Через его продолговатое, со щеголеватыми тонкими усиками лицо с пугающим повторением пробегала то ли гримаса, то ли легкая судорога. Потом Павел узнал, что такими бывают последствия контузии. Будущему Павлу Анатольевичу Судоплатову, которому не раз в жизни приходилось не только выносить, но и исполнять приговоры, лицо этого первого его судии запомнилось на всю жизнь. Иногда даже снилось. Обращаясь к генералу, есаул повторил:
— Еще раз говорю, Сергей Георгиевич: высечь для поправления разума и отправить к мамке в Мелитополь. Может быть, еще поможет.
— И вздохнул как-то безнадёжно. Оказалось, провидчески. Не помогло.
P.S. Я в курсе, что на самом деле Мелитопольский полк был разбит донскими казаками генерала Шкуро, а они черкесок не носили. Но уж больно сильным оказалось сугубо литературное искушение столкнуть едва народившиеся сюжетные линии. Вот я и решил, что пусть это будут кубанцы Сергея Георгиевича Улагая, под Мелитополем никогда не воевавшие, а есаул, решивший судьбу Пашки Судоплатова, явится дядей Александра Демьянова.
Государственный преступник
12 сентября 1958 года в Москве, на улице Воровского, ныне снова Поварской, в здании Военной коллегии Верховного суда СССР, что совсем рядом с КГБ, рассматривалось дело генерал-лейтенанта Павла Анатольевича Судоплатова по обвинению его в государственной измене. Председательствовал заместитель председателя Военной коллегии генерал-майор Александр Александрович Костромин, в качестве членов суда выступали полковник юстиции Романов и вице-адмирал Симонов. На дворе был «оттепельный» 58-й год, уже два года минуло с «разоблачения культа личности Сталина», отправились в отставку сподвижники бывшего вождя Булганин и Каганович, Маленков, Молотов и даже «примкнувший к ним» Шепилов, сотни тысяч невинно осужденных вышли из лагерей, миллионы были реабилитированы — в огромном множестве посмертно. Молодое поколение граждан Советского Союза, чьим голосом и душой были их сверстники, поэты и писатели, режиссеры и художники, наивно верило в «необратимость перемен» и «светлое будущее», «ленинские нормы законности». А в это время, в самом центре Москвы, после пяти лет пыток и издевательств, генерала Судоплатова судили все теми же, официально осуждёнными методами, в ускоренном порядке, в закрытом заседании, без прокурора и адвоката. На протесты обвиняемого и его требование предоставить защитника, что соответствовало новому, «оттепельному» законодательству, председатель суда в лучших традициях недавней эпохи заявил, что Верховный суд СССР как высшая судебная инстанция может, по согласованию с Президиумом Верховного совета СССР, устанавливать любую процедуру для слушания дел, представляющих особую важность для государства. А если он, Судоплатов, будет упорствовать, то дело рассмотрят и без него, заочно.
Дело Судоплатова было последним в длинной череде расправ над Берией и его соратниками, последовавших после поражения Лаврентия Павловича в борьбе с бывшими коллегами по руководству страной. «Дела» шились по знакомым лекалам, главным обвинением была государственная измена, а самым распространенным приговором — расстрел. Реальные преступления, в огромных масштабах содеянные этими людьми, казалось, были столь чудовищны, что их вину не требовалось усугублять фальсификациями, но они продолжались. Для тех, кто победил, это был способ уберечь себя от аналогий. Весьма малодейственный, как показало будущее, способ. Голодая, симулируя сумасшествие, отрицая обвинения, Судоплатов растянул следствие над ним на годы. Хрущёв чувствовал себя все увереннее, политическая грызня 1953 года постепенно становилась историей, теряла актуальность, и в этом был шанс Судоплатова сохранить жизнь. Тем более что главное обвинение, предъявляемое Павлу Анатольевичу, ставило суд в весьма щекотливое положение. Оно состояло в том, что Судоплатов организовывал политические убийства по приказанию Берия и в его предательских интересах. Суд не интересовали ставшие знаменитыми десятилетия спустя довоенные «подвиги» подсудимого, а только убийства второй половины 40-х годов. Но еще на следствии Судоплатов признал, что «по личному приказу Сталина и его соратников» он в послевоенное время принял участие в организации четырех политических убийств на территории СССР. Самым громким из них было убийство в 1947 году в Закарпатье униатского епископа Теодора Ромжи, сопротивлявшегося присоединению униатской церкви к РПЦ. Неприятность для следствия и суда состояла в том, что это убийство, по утверждению Судоплатова, было совершено по инициативе и настоянию Никиты Хрущёва, тогдашнего руководителя компартии Украины, а теперь непримиримого борца с нарушениями социалистической законности. В деле не оказалось никаких доказательств, что Судоплатов выступал организатором каких-либо террористических акций в пользу Берия.
Сам Судоплатов вспоминал: «Судьи были явно растеряны. Они получили подтверждение, что так называемые террористические акты на самом деле являлись боевыми операциями, проводившимися против злейших противников советской власти, по прямому приказу правительства». Из дела, кроме того, выяснилось, что давно мертвый Берия на допросах также отрицал, что его связывало с Судоплатовым что-либо, кроме сугубо официальных должностных отношений.
Судоплатов понимал, что судили его не за мифическую государственную измену и даже не за близость к Берии, которой, по-видимому, действительно не было, а за то, что он знает о роли Хрущёва в преступлениях сталинской эпохи.
И обстоятельствами убийства епископа Ромжи его познания не ограничивались. В результате, после короткого заседания, отвергнув законное требование подсудимого ознакомиться с его протоколом, суд удалился на совещание. Решение было скорым. В приговоре честно говорилось, что «суд основывает свой приговор на материалах, имеющихся в деле, но не рассмотренных в судебном заседании». Вердикт о пятнадцати годах тюрьмы обжалованию не подлежал. Всё-таки времена действительно изменились, и Судоплатову позволили остаться в живых.
Эту версию суда над ним в своих мемуарах рассказал сам Павел Судоплатов. С тех пор её никто не опроверг, и нам ничего не остаётся, как принять её на веру.
В тот же день Судоплатова доставили к Председателю КГБ Серову, в бывший кабинет Берии, у которого Серов когда-то служил заместителем. Серов пообещал, что Судоплатов останется жив и даже будет амнистирован, если вспомнит что-либо и сообщит ему о преступных приказах Маленкова и Молотова, но при этом не будет упоминать о роли «Никиты Сергеевича». Хотя Маленков и Молотов были сняты со всех постов, КГБ на всякий случай продолжал собирать на них компромат. Судоплатов ничего не вспомнил и ничего не забыл, а потому отсидел во Владимирской тюрьме все оставшиеся ему по приговору десять лет.
Начало славных дел
Страна узнала об операции «Монастырь» в середине 1990-х годов, в первую очередь из мемуарных книг того самого Павла Анатольевича Судоплатова. Они размещены во многих электронных библиотеках. Например, здесь: lib.ru>POLITOLOG/SUDOPLATOW/specoperacii.txt;Lib.ru>…sudoplatov_pavel/raznye_dni … diplomatii... Во многом благодаря этим книгам Судоплатов сегодня воспринимается как одна из ключевых фигур советской разведки конца 30-х — начала 50-х годов XX века. После распада Советского Союза немногочисленные участники тех событий, дожившие до этого момента, посчитали себя свободными от данной когда-то присяги и заговорили публично. Судоплатов громче всех. Ведь он был единственным из высоких чинов советской разведки сталинской эпохи, оставшийся к тому времени в живых. Единственным уцелевшим свидетелем, говорившим, естественно, в свою пользу — как он её понимал. Историки сразу и часто справедливо принялись критиковать Судоплатова, в том числе и его версию операции «Монастырь», но эта критика затруднялась и затрудняется сегодня закрытостью архивов спецслужб.
Биография Судоплатова, несомненно, достойна шпионских романов и приключенческих фильмов. Особенно, если будущим авторам потребуется герой с весьма противоречивой репутацией. Павел Судоплатов родился в 1907 году на Украине, в Мелитополе, в рабочей семье. Русский, он хорошо говорил на украинском языке, что сыграло важную роль в его шпионской карьере. Рано оставшийся без отца, он уже в 1919 году стал воспитанником одного из красных полков, быстро разбитого белыми, а в 1921 году, четырнадцати лет от роду, начал карьеру в «органах». Сначала письмоводителем, потому как успел окончить несколько школьных классов, и быстро научился печатать на «ундервуде» — печатной машинке. Потом — оперативным работником. В начале 30-х годов ряд украинских руководителей ОГПУ были переведены в Москву. Они брали с собой проверенные кадры. Так оказался в столице и Судоплатов. С 1933 года он служил в «иностранном отделе». Этот отдел отбирал нелегальную резидентуру ОГПУ-НКВД и руководил этими агентами. Сам Судоплатов ещё со времен службы на Украине специализировался на украинских националистах. С ними у него были и личные счеты: в бою с петлюровцами погиб его старший брат. В середине 30-х годов он был внедрен в ряды «самостийников» и несколько лет провел за границей на положении нелегала. Ему удалось войти в доверие к соратнику и наследнику Симона Петлюры, руководителю украинских националистов Евгену Коновальцу. По личному распоряжению Сталина Судоплатов, в мае 1938 года, в одном из ресторанов Роттердама убил Коновальца с помощью бомбы, вложенной в коробку конфет. Убийца смог скрыться. Сегодня Коновалец — «национальный герой» «свидомой» Западной Украины.
Судоплатову удалось счастливо избежать гибели во время смены руководства НКВД после отстранения Ежова и назначения Берии, хотя некоторое время он и ожидал ареста. Наоборот, Сталин поручил ему ответственейшее задание — организацию убийства его самого ненавистного врага, Льва Троцкого. Теперь Судоплатову уже не нужно было самому подбрасывать бомбы или орудовать альпенштоком. На него возложили стратегическое руководство этой акцией из Москвы. Операция получила наименование «Утка». Непосредственно организацией убийства в Мексике занимался его заместитель и ближайший друг Наум Исаакович (Леонид Александрович) Эйтингон. Сначала им был организован провальный и хаотический налет на виллу Троцкого боевиков Давида Сикейроса — со стрельбой, но без жертв. Руководство этим террористическим актом не помешало последнему стать потом классиком монументальной живописи XX века. Эйтингон сумел внедрить в окружение Льва Давидовича его убийцу и будущего героя Советского Союза Рамона Меркадера.
Убийство Троцкого в 1940 году выдвинуло Судоплатова на первые роли в разведывательной и контрразведывательной деятельности НКВД. В 1990-е годы Судоплатов утверждал, что они готовились и к выполнению другого задания — к убийству Гитлера. По его словам, у него были оперативные возможности для того, чтобы организовать эту акцию. На вопросы о том, кто планировался на роль или роли исполнителей, Судоплатов, а за ним и сын Берии Серго Берия утверждали, что убийство предстояло совершить знаменитой актрисе, звезде немецкого кино Ольге Чеховой, бывшей жене не менее знаменитого актера Михаила Чехова, племянника А.П. Чехова. Сама Ольга Чехова приходилась племянницей еще одной знаменитой актрисе — Ольге Книппер-Чеховой, жене писателя. Но приказа от Сталина на проведение этой операции Судоплатов так и не получил. Советский Союз и Германия подписали Пакт о ненападении.
Итак, к началу нашей истории, в первые месяцы Великой Отечественной войны, Павел Судоплатов имел звание майора государственной безопасности (в начале августа он станет старшим майором, а это звание примерно соответствовало званию комдива в армии, то есть было уже генеральским чином). Судоплатов являлся заместителем начальника 1-го (Разведывательного) управления. 5 июля он возглавил Особую группу при наркоме внутренних дел. Одна из задач группы — организация партизанской борьбы и ведение радиоигр с немецкой разведкой. Уже в июле Берия дал ему и начальнику секретно-политического управления Горлине — кому поручение готовиться к возможному захвату немцами Москвы. Именно тогда рождается идея внушить противнику, что в Москве якобы существует подпольная монархическая организация, ждущая прихода германской армии. Через своих людей, внедренных в эту организацию, Судоплатов и его коллеги рассчитывали, в случае оккупации немцами Москвы, вести борьбу с их агентурой. Для того, чтобы реализовать идею, нужно было найти две ключевые фигуры. Во-первых, наивного монархиста, способного поверить в возможность деятельности такой организации в столице сорок первого года и искренне играть роль ее руководителя перед немецкой разведкой. Во-вторых, агента, готового вступить в смертельно рискованную игру с немцами, возглавив замаскированную под пронемецкую организацию подпольную группу. Надо отдать Судоплатову, Горлинскому и их подчиненным должное — они смогли быстро подобрать не только кандидатуру будущего основного агента, но и кандидата в главные заговорщики с качествами, столь редкими для Москвы того времени.
Секретный сотрудник
«Я знал, что они способны на все, но чтобы вот так, просто, подбросить пистолет и ничем более себя не утруждать! А мама ни одной семейной фотографии не пощадила, ни одного документа. И меня учила — никакого архива, никаких бумаг, никаких фотографий. Наш дом должен быть стерилен. Ведь мы — «бывшие». За нами обязательно когда-нибудь придут. Вот, подготовились. А они взяли, и просто подбросили пистолет».
Следователь, наконец, оторвался от тоненькой папочки, содержимое которой он молчаливо изучал, и прервал сбивчивое биение мысли Александра вопросом, заданным таким тоном, будто сидящего перед ним человека не привезли на Гороховую среди ночи, а он сам напросился на разговор, лишив его, следователя, законного сна:
— Ну что, Александр Николаевич, а вас слушаю.
— Извините, товарищ следователь, мне…
Следователь, вооружившийся ручкой и придвинувший к себе протокол допроса, заполненный пока только анкетными данными задержанного, прервал его:
— Гражданин следователь! Извините, гражданин следователь, но мне нечего вам сказать.
Следователь позволил себе улыбнуться:
— Все так вначале говорят, а потом разливаются соловьем. Итак, откуда у вас пистолет и для чего вы его собирались использовать?
— У меня никогда не было пистолета.
— Может быть от дяди остался, он ведь у Деникина служил, в контрразведке, должен заметить.
И следователь многозначительно положил руку на папочку. Все мол, мы, про вас знаем.
— У нас был обыск в Анапе, когда его арестовали. Всё что хотели и считали нужным, забрали. И, вообще, мне тогда девять лет было, я в тифе лежал.
— Это ерунда. Может, плохо искали. Значит, утверждаете, что пистолетом вы обзавелись уже в Ленинграде?
— Еще раз заявляю, что никакого пистолета у меня никогда не было.
— Но его нашли у вас при обыске. Или, хотите сказать, что его вам сотрудники ОГПУ подбросили?! Хотите оклеветать «органы»?! Не выйдет, офицерский последыш!
Последнюю фразу следователь, слишком полный для обтягивающей его гимнастерки, вдруг провизжал, дернул себя за воротник, словно ему стало нечем дышать в присутствии клеветника — «последыша», или он собирался вызвать его на бой, как в уличной драке, рванув рубаху на груди. В кабинете следователя, действительно, было жарко. По крайней мере, Александр чувствовал, как прилипла рубашка к вспотевшему телу. Следователь, так и не справившийся с пуговицами воротника, и, как будто, на этом успокоившись, продолжил прежним ровным тоном.
— Ещё раз спрашиваю, что вы имеете показать по поводу пистолета, обнаруженного у вас при обыске в присутствии понятых, что зафиксировано в протоколе обыска?
— Ничего.
— Кто и с какой целью передал вам пистолет? В какую контрреволюционную организацию вы входите? Назовите известных вам членов. Кто должен был стать объектом планировавшегося террористического акта?
Задав эти вопросы, и, не ожидая ответа, следователь вдруг встал во весь свой, оказавшийся недюжинным, рост, наклонился над столом, почти к лицу Демьянова, и неожиданно проорал:
— Можете, конечно, и молчать. Тогда мы сами вам подберём. И организацию, и объект террора. А вы все равно, рано или поздно, но признаетесь. Только вот обратной дороги уже не будет. А вы молоды, прекрасно воспитаны, спасибо матушке вашей.
Он сел так же резко, как вскочил, открыл папочку, так и лежавшую рядом с протоколом допроса, до сих пор ни пополнившимся ни строчкой, заглянул туда, и продолжил проникновенно, даже с некоторым восхищением в голосе:
— Говорят, ваша мама была принята в лучших домах царского Петербурга? Блистала, так сказать, в свете? Вы ведь не хотите, чтобы она оказалась вашей соучастницей? Или я ошибаюсь, пистолет её, а соучастник — это вы?
Александр почувствовал, как липкий страх, все эти минуты допроса медленно поднимавшийся от ослабевших ног все выше и выше, сковывая тело, ухватил его за горло.
— Не трогайте маму. Мне в революцию семь лет было, я ничего не помню. А она мне ничего не рассказывала.
— Ничего, ничего? Согласитесь, это уже само по себе подозрительно. Ну да ладно, оставим маму. По крайней мере, пока. Я повторяю: вы молоды, хорошо воспитаны, не наш брат пролетарий.
Следователь самокритично вздохнул и ткнул пальцем в открытую папочку:
— Вот тут некоторые пишут о вас: «обаятелен, легко сходится с людьми, владеет иностранными языками, имеет хорошее, но, увы, домашнее образование». Кстати, зачем вы пытались скрыть свое происхождение при попытке поступить в Политехнический институт? Нехорошо. А то, что к знаниям тянетесь, это прекрасно. Тут ведь сказано: путем самообразования получил обширные знания в области электротехники. Мосты что ли на расстоянии собираетесь взрывать? Шучу, шучу. А кто знает, может, когда-нибудь и придется. Кстати, о ваших антисоветских настроениях.
Следователь вытащил из папочки еще один лист:
— Вот тут написано: «призывал к свержению советской власти, в том числе с использованием террора». Хорошо знающий вас человек, приятель можно сказать, сигнализирует. Что можете на это ответить?
— Клевета. Да, в гражданскую я был ребенком, но многого насмотрелся. Знаю, что такое междоусобие. И не хочу его повторения. И еще. Два года назад я был на Невском, у партклуба, когда выносили раненых. Это было ужасно.
— Ну, допустим. А теперь скажите честно: вы любите Родину, вы патриот?
Совсем сбитый с толку Александр позволил себе даже повысить голос:
— Я! Да у меня отец за Родину погиб, моему предку и сейчас в Темрюке памятник стоит, маме в двадцатом сколько раз предлагали эмигрировать, а она отказалась!
— Ну, эти ваши предки за царскую Россию воевали, а вот как вы к Советской России относитесь?
— Россия — моя родина. И другой у меня нет. Как бы она не называлась.
— А Вы понимаете, Саша, что неизбежна новая война? Что империалисты в любой момент могут на нас напасть? Вы на чьей стороне тогда будете, Саша? Советского Союза? Советской России? Или нет?
То, что следователь, претендуя на какую-то интимность, назвал его домашним именем, еще больше смутило и сильно покоробило Александра. Он уже понял, что с ним играют и понимал, что это, в любом случае, недостойная игра. И он ответил. Куда ему было деваться. Подчеркнуто медленно, с легкими паузами между слов:
— Я буду на стороне Советского Союза.
Следователь помолчал, давая понять, что принял ответ.
Потом встал, подошел к окну и раздвинул шторы. За зарешеченным окном рассеивался полумрак раннего питерского утра. Он повернулся к Александру, присев на подоконник:
— А вы думаете, что сейчас эта война не идет? Рядовые граждане её, как правило, не замечают, но она в разгаре. За секреты государственные, за души людей. Вот скажите мне честно, как на духу: если завтра война, то кто может ударить нам в спину, от кого, в первую очередь, можно ожидать сотрудничества с врагом?
— От тех, кто всё потерял в революцию.
Александр чувствовал себя как на экзамене и ему, почему-то вдруг захотелось сдать его, иначе зачем все это, вся эта ночь?
— Правильно! Нет, среди представителей бывших правящих классов много людей — искренних патриотов. Таких, как вы с мамой, например, но есть и другие. Причём опаснее всего те, кто на словах приняли советскую власть, пользуются ее благами, а, на самом деле, только затаились. А есть и другие, им нужно просто помочь. Это интеллигенция. Особенно творческая. Люди искусства живут чувствами, не всегда анализируют последствия своих слов и поступков. Их популярность притягивает, с ними дружат высокопоставленные люди, вокруг них самих кого только нет. Александр Николаевич, вы понимаете мою мысль?
— Честно говоря, нет.
— Не верю, вы же умный юноша. Мы зовём вас в союзники и помощники. Учитывая ваши личные качества, мы введём вас в круг творческой интеллигенции. Писатели, художники, актеры, деятели кино. Ваша задача будет состоять в том, чтобы чувствовать и точно передавать настроения этой среды, её надежды и чаянья. Это нужно, чтобы государство держало, так сказать, руку на пульсе и в своей политике учитывало её настрой. Ведь это наша, советская интеллигенция.
— Доносчиком не буду.
— Какие доносы, что вы. Для того, чтобы заниматься конкретными людьми, у нас есть профессионалы. А вы будете наблюдателем. Очень важным, но наблюдателем. Конечно, если вы вдруг схватите шпиона или террориста за руку, вы что, промолчите?
— А зачем вся эта история с пистолетом?
— Александр, не надо прикидываться ребёнком. Вам уже восемнадцать. Вне зависимости от того, как вы ответите на мое предложение, «дело» на вас уже есть.
— Я могу подумать?
— Да, вас отведут в камеру. Сколько у нас там времени? О, уже семь утра. Значит, так. Через двенадцать часов, в семь вечера, я вызову вас на допрос. И мой совет — не отказывайтесь. Мы подарим вам такую интересную жизнь, которой без нас у вас никогда не будет.
В семь часов вечера Александр согласился сотрудничать с ОГПУ, о чем в его деле осталась соответствующая расписка, и тотчас был отпущен домой.
Судоплатов пишет, что Александр Николаевич Демьянов, главное действующее лицо операции «Монастырь», живший тогда в Ленинграде, был в 1929 году арестован по доносу его друга Тернавского, а при аресте ему подбросили пистолет. Ещё до этого его изгнали из Политехнического института за попытку скрыть дворянское происхождение. Замечательна неизменность методов и методик. Однажды меня тоже пытались увлечь перспективами службы в КГБ. Времена были, конечно, другие, шла «перестройка». Меня не запугивали, а прельщали. Вербовщик, милейший человек, представлялся выпускником истфака ленинградского университета. Именно его слова с обещанием ввести в круги творческой интеллигенции я вложил в уста следователя, допрашивавшего Демьянова. Однако начальник моего искусителя, человек старой кэгэбэшной закалки, к которому меня привели для дальнейшей обработки, с порога спросил меня, каким оружием я владею и хорошо ли переношу жаркий климат. Я предпочел академическую карьеру.
P.S. Среди авторов, писавших об операции «Монастырь», многие питали простительную для бывших сотрудников КГБ склонность к вымыслу. В данном случае в форме беллетристики. Один из них, постоянно, при этом, претендующий на информированность, предложил свою версию описанного мной допроса (смотри, например: militera.lib.ru research/sharapovepOl/index.html). При всей его информированности, он, тем не менее, остался в убеждении, что в 1929 году ленинградское ОГПУ располагалось на Литейном проспекте, тогда проспекте Володарского, дом 4, тогда как на самом деле в печально знаменитый «Большой дом» ленинградское отделение политической полиции Советского Союза переехало только после завершения его постройки в 1932 году. А до этого помещалось все по тому же адресу, улица Дзержинского, сейчас снова Гороховая, дом 2, где начиналась достославная история ВЧК еще в декабре 1917-го, воспринявшей это здание от полиции «старого режима». Правда, при царе в подвалах дома на Гороховой, хотя, наверняка, кого-то и били, но не расстреливали. Что касается текста, то считайте мой вариант попыткой соревнования. Или пародии.
Эта история только начинается
Итак, Александр Николаевич Демьянов, оперативное имя «Гейне». Судоплатов, действительно, пишет о том, что он происходил из дворянской семьи. По его словам, прадед Демьянова, атаман Головатый, был одним из основателей кубанского казачьего войска, отец, офицер, погиб в 1915 году на фронте. Дядя, брат отца, в годы гражданской войны руководил контрразведкой белых на Кубани. Мать Александра, выпускница Бестужевских курсов, «признанная красавица в Санкт-Петербурге, пользовалась широкой известностью в аристократических кругах». Её лично знал генерал Сергей Георгиевич Улагай, в годы Второй мировой войны — один из руководителей казаков, перешедших на сторону Германии. Запомнил Судоплатов и то, что Александр Демьянов стал в 1927 году свидетелем террористического акта, совершенного боевиками РОВС (Российского общевоинского союза) в Ленинграде. Эта организация белой эмиграции и после окончания гражданской войны пыталась вести вооружённую борьбу с большевиками. В здании бывшего дома Елисеевых на углу Невского и набережной реки Мойки во время гражданской войны обитал ставший знаменитым «Дом искусств». Созданный заботами Горького он помог выжить многим русским писателям, поэтам и художникам. В период НЭПа большевики превратили этот памятник архитектуры в «Центральный партийный дом». Здесь террористы РОВСа забросали гранатами одно из заседаний. Тогда было ранено 35 человек, а боевикам удалось уйти в Финляндию. Руководитель этой группы В. Ларионов оставил воспоминания об этом акте (ru>forum/index.php?topic=161.0).
После выхода воспоминаний Судоплатова история операции «Монастырь» стала популярной. О Судоплатове, о ней и её участниках были сняты телевизионные фильмы. Их можно посмотреть, например, по следующим адресам:
;
;
.
html#video=/mail/sma2706/6749/7155;
/#!/search?text=onepaция монастырь&where=all&filmId=VYDxo1Q_ExI
here=all&filmId=VYDxolQ_ExI.
Постоянно появляются новые книги и статьи, повествующие об этой операции. При минимуме известных фактов, история, в том числе и биография Демьянова, обрастала фантастическими подробностями. О нем писали, что он воспитывался за границей, а один из авторов, мной уже упомянутый бывший сотрудник КГБ, превратил его мать во фрейлину последней русской императрицы. Другой написал в газете «Труд», что она «окончила Бестужевские курсы в Смольном институте благородных девиц» (). Для читателей, не очень интересующихся историей женского образования в России, сообщу, что демократические Бестужевские курсы, фактически первое женское высшее учебное заведение в России, созданные в эпоху реформ Александра II, были полным антиподом придворного и аристократического Смольного института, а газете «Труд» хочется поставить на вид — нужно подбирать более образованных сотрудников.
Как известно, в России кто что охраняет, тот тем и владеет. Вот почему все новое, что стало известно об операции «Монастырь» и ее участниках в XXI веке, опубликовано в статьях и книге «СМЕРШ. Гвардия Сталина», авторы которых трудятся в архиве ФСБ (4itaem.com>book/smersh _gvardiya _stalina -283179). В частности, они приводят цитаты из справки НКВД от 12 января 1942 года, составленной на агента «Гейне», он же Александр Демьянов. Из оной мы узнаём, что его мать, Бунакова Анна Михайловна, до революции преподавала в гимназии, а после неё была директором школы. То есть выпускницей Бестужевских курсов она вполне могла являться. О её отце, деде Александра, в справке почему-то вообще не упоминается, но зато говорится о дяде, Бунакове Александре Михайловиче, артиллеристе, офицере царской армии, до 1922 года служившем не где-нибудь, а в Кремлевской артиллерийской школе, а затем работавшем в ВСНХ, Высшем совете народного хозяйства, главном органе управления экономикой в 20-е годы. Судьба его типична для «военспецов» и «буржуазных специалистов». В справке говорится, что в 1926 году он был арестован ОГПУ как участник антисоветского заговора в военной промышленности и умер в тюрьме.
Так из какой же семьи на самом деле происходил Александр Николаевич Демьянов? Первым из всех, писавших об операции «Монастырь», задавшись этим вопросом, я поступил просто: вышел за круг источников, привычных для специалистов по истории советской разведки.
На хорошо информированном сайте «Центра генеалогических исследований» (/) действительно, есть сведения об Александре Бунакове — в 1909 году поручике артиллерийской бригады, а в 1912 году — выпускнике Михайловской артиллерийской академии. Но самое интересное, в справке НКВД утверждается, что Анна Михайловна происходила из княжеского рода. На сайте «Родовод» (ru.rodovid.org) можно узнать, что Бунаковы — старинный род князей Рюриковичей, но генеалогическое древо Бунаковых, приведённое на этом и других генеалогических сайтах в двух вариантах, не имеет ветвей далее середины XIX века. Причем указывается, что одной из двух ветвей Бунаковых Герольдия Правительствующего Сената отказала в признании древнего дворянства и, следовательно, княжеского достоинства. Представители второй, по-видимому, даже и не пытались его отстоять. Тем не менее, и сегодня многочисленные Бунаковы похваляются в социальных сетях своим княжеским происхождением (). Среди людей, носивших фамилию Бунаков в XIX веке, есть известный педагог и писатель Н.Ф. Бунаков, а также генерал-лейтенант Василий Александрович Бунаков, умерший в 1897 году. Интересно, что в последние годы жизни он был начальником Главного управления казачьих войск. Не он ли был дедом Анны Михайловны, и не сыграла ли его связь с казачеством какую-либо роль в судьбе его внучки? Мне об этом неизвестно. Так или иначе, если Александр Демьянов по матери и принадлежал к княжескому роду, то род этот захудал ещё до петровских времен и официально княжеским не именовался.
Сведения, приведенные в справке об отце Александра и других родственниках по отцу, совпадают с информацией Судоплатова. Правда, о происхождении Демьяновых от кубанского атамана Антона Головатого, реального и очень известного на Кубани исторического лица, одного из руководителей переселения бывших запорожских казаков в русские владения, которому поставлен памятник в городе Темрюк, в ней нет ни слова. Ясно только, что Демьяновы принадлежали к кубанской казацкой старшине, выслужившей дворянство. Таким образом, никаких оснований относить семью родителей Александра Демьянова к аристократии нет, и вряд ли Анна Бунакова когда либо «пользовалась широкой известностью в аристократических кругах». Она к ним просто не принадлежала.
Однако главный сюрприз, содержащийся в справке, состоит в другом. В ней приведена версия биографии Александра Демьянова, сильно отличающаяся от той, что запомнил Судоплатов. Согласно ей, Александр Николаевич Демьянов, 1910 года рождения, был уроженцем города Калуги. До 1914 года, то есть, по-видимому, до начала Первой мировой войны он проживал на границе с Ираном, в местечке Геоктепе. Возможно, его отец там служил. Отсюда что ли родилась версия, что он до 1914 года воспитывался за границей, тоже гуляющая по Интернету? После мытарств времён войн и революций, включающих пребывание в Анапе в доме деда по отцу, Демьянов, если верить справке, в 1921 году переехал в Москву, «где проживает по настоящее время». Именно с этого момента версия, изложенная в справке, и версия Судоплатова принципиально расходятся. Согласно справке, Демьянов имеет высшее образование по специальности «инженер-электрик, изобретатель», в 1932 году арестовывался ОГПУ «по подозрению в организации коллективной читки мемуаров Шаляпина, освобождается без последствий». Повод для ареста, конечно, куда более сюрреалистический, чем хранение пистолета, но почему Судоплатов-то об этом ничего не знает или не помнит? Завербован ОШУ Демьянов был только в 1934 году. С 1933 года работал в системе кинематографии.
Кстати: замечание Судоплатова о том, что мать Демьянова была знакома с генералом Улагаем, знаменитым командиром кубанской конницы белых, вполне правдоподобно. В 1915 году, когда есаул Николай Демьянов погиб на фронте, Сергей Георгиевич Улагай служил в том же чине и в тех же кубанских частях. Так что Демьянова-старшего он почти наверняка знал. А с его семьёй он мог познакомиться если не в довоенное время, то в годы Гражданской войны на Кубани, когда дядя Александра, тот самый контрразведчик, занимал достаточно видный пост в белой армии. Нужно только уточнить, что сегодня мы не располагаем сведениями о серьёзных связях между Улагаем и немцами в годы Второй мировой войны. Он был стар и болен, а потому и умер в 1944 г. Ему тогда было семьдесят лет. К тому же Улагай жил в Марселе, не входившем в начале 1942 г. в немецкую оккупационную зону. Но за справкой о семье Демьяновых к нему вполне могли обратиться через немецкую агентуру в среде русской эмиграции.
Конечно, с точки зрения истории операции «Монастырь» противоречия в версиях биографии Демьянова особого значения не имеют. Из «:бывших», завербован ОГПУ, работал «в системе кинематографии». В конце концов, сцену его вербовки можно усечь и изменить. Представим: на студии или в какой-нибудь компании Александр Демьянов познакомился с человеком, штатным сотрудником ОГПУ и тот, после долгих «ухаживаний» за ним, всё равно повёл с Александром примерно тот же диалог:
Александр, вы любите Родину, вы патриот?
— Я! Да у меня отец за Родину погиб!
— Ну, ваш отец за царскую Россию воевал, а вот как вы к Советской России относитесь?
— Россия — моя родина. И другой у меня нет. Как бы она не называлась.
— А вы понимаете, Саша, что неизбежна новая война? Что империалисты в любой момент могут на нас напасть? Вы на чьей стороне тогда будете, Саша? Советского Союза? Советской России? Или нет?
— Я буду на стороне Советского Союза.
— А вы думаете, Александр, что сейчас эта война не идёт? Рядовые граждане ее, как правило, не замечают, но она в разгаре. За секреты государственные, за души людей. Вот скажите мне честно, как на духу: если завтра война, то кто может ударить нам в спину, от кого, в первую очередь, можно ожидать сотрудничества с врагом?
— От тех, кто все потерял в революцию.
— Правильно! Нет, среди представителей бывших правящих классов много людей — искренних патриотов. Таких, как вы, например. Причем самые опасные те, кто на словах приняли советскую власть, пользуются её благами, а, на самом деле, только затаились. А есть и другие, кому нужно просто помочь. Это интеллигенция. Особенно творческая. Люди искусства живут чувствами, не всегда анализируют последствия своих слов и поступков. Их популярность притягивает, с ними дружат высокопоставленные люди, вокруг них кого только нет. Александр Николаевич, вы понимаете мою мысль?
— Честно говоря, нет.
— Не верю, вы же умный юноша. Мы зовём вас в союзники и помощники. Учитывая ваши личные качества и то, что вы и так, работая на киностудии, уже многих знаете, мы введем вас в круг творческой интеллигенции. Писатели, художники, актеры, деятели кино. Ваша задача будет состоять в том, чтобы чувствовать и точно передавать настроения этой среды, её надежды и чаянья. Это нужно, чтобы государство держало, так сказать, руку на пульсе и в своей политике учитывало ее настрой. Ведь это наша, советская интеллигенция.
— Доносчиком не буду.
— Какие доносы, что вы. Для того чтобы заниматься конкретными людьми, у нас есть профессионалы. А вы будете наблюдателем. Очень важным, но наблюдателем. Конечно, если вы вдруг схватите шпиона или террориста за руку, вы что, промолчите?
— Нет, не промолчу.
— Ну, вот и славно.
И далее всё в таком роде вплоть до подписания соответствующих документов. Но только мне кажется, что человека с таким происхождением и интересом к мемуарам Шаляпина трудно было завербовать на одной идейной почве. Был там какой-нибудь шантаж, наверняка был. Версия Судоплатова в этом смысле куда убедительнее. А может быть, я плохо думаю о Демьянове и сотрудниках ОГПУ? И он действительно стал агентом исключительно из патриотических побуждений? Если мы и узнаем когда-нибудь правду о его мотивах, то только после публикации его «личного дела». Да и то, вряд ли. Какая там может быть правда о них?
Что ни говори, но для понимания ценности мемуаров Судоплатова как источника информации хотелось бы понять, откуда он взял свою версию биографии Демьянова. По прошествии столь многих лет перепутал его с другим агентом? Как достаточно большой начальник не вникал в такие детали, а потом причудливая старческая память подсказала эпизоды другой биографии? Ясно одно: нужно согласится со специалистами, что к воспоминаниям Павла Анатольевича следует относиться весьма критически и осторожно.
Муж и жена
В этот вечер Александр твердо решил объясниться. Уже месяц, как они признались друг другу в любви, он чувствовал, что Татьяна теперь ждёт от него и других слов, точнее, предложения, а он всё никак не мог решиться. Александр пообещал себе никогда не лгать ей и после нескольких бессонных ночей понял, что не имеет право молчать. Несмотря на все подписки. Он верил, что Таня должна его понять, если любит. Они встретились в парке Горького.
Как это бывает иногда в Москве, в счастливые вёсны, в последние дни апреля наступило лето. Лето почти в полный лист. И хотя Саша и Таня каждый день виделись на «Мосфильме», он продолжал назначать ей настоящие свидания. Вот как сегодня.
— Еще раз огромное спасибо тебе, Сашенька, за то, что замолвил за меня словечко перед Михаилом Ильичом.
— Да что ты! Я же тебе говорил: он после «Ленина в Октябре» замечательно к тебе относится и выполнил бы твою просьбу и без моих слов, сам поговорил бы с Мачеретом. Миша еще и каялся, что не подумал о тебе без моей подсказки. Он ведь уже пригласил тебя на «Ленина в 1918 году», значит, ценит твою работу. А пока он готовится, почему бы тебе не поработать с другим режиссером. Ну а как твое мнение об Александре Вениаминовиче? Не изменилось?
— Ты знаешь, изменилось, и в лучшую сторону. Сценарий мне показался достаточно тривиальным, но вчера Мачарет при мне объяснял оператору свой замысел, очень страстно, и мне он показался очень убедительным. Александр Вениаминович говорил, что для него главное в будущем фильме — это атмосфера. Мол, мы постоянно говорим о бдительности, о том, что враг коварен и жесток, что он рядом, что им может оказаться твой друг, знакомый, родственник, но от повторения слова стираются. Мачерет хочет, чтобы посмотрев наш фильм, люди сильнее ощущали ценность окружающей жизни. Ценность наших достижений. Чтобы люди чувствовали — нам есть что терять. И почувствовали не через слова, а именно через атмосферу нашей жизни на экране. Ключевая фраза сценария для него, я уже её запомнила, так часто он её повторяет, звучит так: «В нашей стране при определённых обстоятельствах каждый человек героем может стать». Я не слишком красно говорю?
— Нет, нет, что ты. Здорово, если у вас все получится. Мачерет прав — не все понимают, что происходит. А ты Таня, ты сама это понимаешь?
Он произнес эти слова с такой нехарактерной для него страстью и серьёзностью, что Таня посмотрела на него с недоумением. Саша, такой лёгкий, веселый, любящий развлечения, иногда, как ей казалось, чуть-чуть поверхностный, никогда раньше не говорил с ней на такие темы. А он, смотрел ей в глаза каким-то новым для нее, твёрдым взглядом. Она ответила, немного растерявшись:
— Конечно, понимаю.
— Таня, я скажу тебе то, о чем давал обязательство никому не говорить. Но в нашей любви между нами не должно быть недомолвок, у меня не должно быть тайн от тебя. Таня, я сотрудничаю с НКВД.
Она отвела глаза, он посмотрел на другую сторону аллеи. И продолжил:
— Поверь, я не делаю ничего, что было бы недостойно интеллигентного человека. Впереди война, Таня. А врагов у нас достаточно. Больше я ничего не могу тебе сказать.
Она смотрела на его удлинённый профиль, прямой нос. Ей вдруг страшно захотелось прикоснуться к его щегольским тоненьким усикам, придававшим строгому лицу нежную черту легкомыслия, а для неё — беззащитности. Погладить по гладко выбритой щеке. И она сделала это, а когда он повернулся к ней, закрыла ему рот ладонью:
— Молчи. Я люблю тебя. Я знаю тебя. Я верю тебе.
— Таня, ты выйдешь за меня замуж?
— Конечно да, любимый!
Однажды, много лет спустя, в минуту воспоминаний, она вдруг спросила его:
— Тогда, в тридцать восьмом, когда ты попросил Ромма помочь мне с работой, ты специально устроил меня на «Ошибку инженера Кочина»? Чтобы я прониклась, да? Готовил к разговору?
В ответ он только улыбнулся. Она обняла его за седую голову и прошептала:
— Какой же ты хитрый у меня, Демьянов.
Татьяна Борисовна Березанцева была женой Александра Демьянова до конца его дней. Она родилась в 1912 году, в семье московского врача Бориса Александровича Березанцева, в советское время — профессора, известного в Москве психоневролога. Он пользовал всю московскую элиту и был нарасхват, имел право вести частную практику. Еще бы — кремлёвским начальникам и их родственникам требовались в 30-е годы крепкие нервы, и не у всех они выдерживали даже до ареста. Девочка училась в балетном техникуме при Большом театре, но, видимо, особых данных к балету у неё не было, а тяга к искусству — присутствовала. Поэтому в 30-е годы она учится в нескольких театральных институтах, бросает один, поступает в другой. Одним словом, как и положено интеллигентной девушке из семьи со средствами, ищет себя. Она мечтает о профессии кинорежиссёра, работает ассистентом у многих известных режиссёров «Мосфильма»: Юлия Райзмана и Дмитрия Васильева, на трёх фильмах у Михаила Ромма, в 1938 году у Александра Мачерета на фильме «Ошибка инженера Кочина». Фильм был продуктом шпиономании 30-х годов, но выгодно отличается от других, подобных ему фильмов художественным качеством и убедительной демонстрацией светлой атмосферы Москвы того времени, что сделало его значимой частью сталинского киномифа. По утверждению Судоплатова, Александр Демьянов дружил с Михаилом Роммом. Через него, возможно, он и познакомился со своей будущей женой. В операции «Монастырь» она принимала участие как агент под оперативным именем «Борисова».
Сцену объяснения Александра и Татьяны, а ведь она обязательно была, я представлял как фрагмент сценария какого-нибудь фильма конца 30-х годов. Той же «Ошибки инженера Кочина», например. Интересно, как оценили бы её Мачерет и его соавтор по сценарию Юрий Олеша? Признали бы неестественной и ходульной? А вдруг, наоборот, сочли бы вполне уместной и в своём фильме? Усмотрели в ней правду жизни, какой она должна быть? А может быть, Александр и Татьяна примерно так и объяснились тогда? И нашли этот разговор вполне нормальным для интеллигентных молодых людей того времени? Или, по крайней мере, для них самих? Я не возьму на себя смелость делать какие-либо выводы. Молодежь так быстро меняется. А времена и наши представления о них, еще быстрее.
Если верить одному из телевизионных фильмов, рассказывающих о любовных коллизиях в жизни советских разведчиков того времени, реальные обстоятельства встречи Александра и Татьяны были ещё куда проще и грубее, чем я выдумал. Оказывается, НКВД проводил секретную операцию под названием «Любовь под контролем». Татьяна, давно уже сотрудничавшая с «органами» и пользовавшаяся их полным доверием, должна была в Липовой аллее парка Горького встретиться с новым сотрудником НКВД, чтобы затем вести наблюдение за действиями бывшего ленинградца. Для этого им было приказано вступить в романтические отношения. Видимо для того, чтобы Демьянов постоянно был под этим самым контролем. Но, к счастью для Демьянова и Березанцевой, «служебный роман» превратился в настоящее чувство, оставшееся с ними на всю жизнь. Татьяна влюбилась: ведь «Александр унаследовал от матери красоту», так как она само собой «в свое время слыла первой красавицей Петербурга». Зная биографию Демьянова не по рассказам Судоплатова, а по документам НКВД, начинаешь сомневаться и в телевизионной версии знакомства Александра и Татьяны. Но чему только не поверишь, зная о судьбах участников операции «Монастырь» и до 1941 года, и во время войны, и после ее окончания.
Лучшие люди НКВД
Из имеющихся источников трудно понять, в чем состояла работа Демьянова на ОГПУ-НКВД до начала войны. А ведь это семь лет, а если верить Судоплатову, то и все двенадцать. На сайте Службы внешней разведки России, в статье, посвящённой операции «Монастырь» сказано, что к её началу Демьянов был разведчиком, проверенным «на многих делах». Об этих делах мы сегодня ничего не знаем. Судоплатов только намекает, что «речь шла о серьезных контрразведывательных операциях, когда ему приходилось контактировать с людьми, не думавшими скрывать свои антисоветские убеждения». Что скрывается за этой фразой, остаётся только догадываться. Что, контакты с антисоветчиками должны были укрепить советские убеждения Демьянова? И от кого они «не думали скрывать свои антисоветские убеждения»? От всех? Или доверились именно Демьянову? И какая здесь связь с контрразведкой? Пока на эти вопросы никаких ответов нет. И сама необходимость задавать их симпатий к Саше Демьянову довоенной поры не добавляет. И только строки из архивного документа, формулирующего для Демьянова задание на время пребывания у немцев во время войны, содержат информацию, приоткрывающую завесу над его деятельностью как агента НКВД, или сексота, секретного сотрудника в терминологии того времени: «Если немцы потребуют назвать некоторые фамилии из Ваших молодых друзей, которых Вы знаете как антисоветски настроенных, разрешается сообщить 2–3 фамилии из числа действительно антисоветски настроенных, которых Вы по нашему поручению разрабатывали и которые знают Вас как единомышленника». Какова была судьба этих «людей? И сколько же «антисоветски настроенных» он обрёк на гибель к тому времени? Или их для укрепления его легенды не трогали?
По словам Судоплатова, «приятная внешность и благородные манеры позволили Демьянову легко войти в компанию киноактеров, писателей, драматургов и поэтов». При этом «он не использовался как мелкий осведомитель, в его задачу входило расширять круг знакомств среди иностранных дипломатов и журналистов — завсегдатаев ипподрома и театральных премьер. Он никогда не скрывал своего происхождения, и это было легко проверить в эмигрантских кругах… В канун войны Александр сообщил, что сотрудник торгового представительства Германии в Москве как бы вскользь упомянул несколько фамилий, близких к семье Демьянова до революции. Демьянов не проявил к словам немца никакого интереса: речь шла о явной попытке начать его вербовку, а в этих случаях не следовало показывать излишнюю заинтересованность». В тоже время Судоплатов рассказывает о предвоенной жизни Демьянова удивительные вещи. От предков — казаков ему передалась любовь к лошадям. НКВД смог устроить так, что в Манеже у него была своя лошадь. Судоплатов пишет: «Естественно, что это обстоятельство расширило его контакты с дипломатами». По его утверждению, «НКВД позволял элитной группе художественной интеллигенции и представителям бывшей аристократии вести светский образ жизни, ни в чем их не ограничивая, но часть этих людей была завербована, а за остальными велось тщательное наблюдение, чтобы использовать в будущем в случае надобности».
Честно говоря, я не знаю никого из «бывшей аристократии», кроме Алексея Толстого, да и то потому, что он был «красный граф», хотя и не аристократ, да вот теперь Александра Демьянова, кому в предвоенные годы НКВД «позволял. вести светский образ жизни». Но если бы я был немецким шпионом, знающим реалии бытия в советской стране, и услышал, что у моего русского знакомого, простого инженера с «Мосфильма», в Манеже имеется своя лошадь, то я не только не пытался бы его вербовать, но напротив, обходил бы стороной и как можно дальше.
За интеллигенцию и деятелей культуры в НКВД отвечал секретно-политический отдел, разросшийся потом до управления. Согласно Судоплатову, руководителем, непосредственно направлявшим деятельность Демьянова, был Виктор Николаевич Ильин, фигура по-своему весьма примечательная. Родился он в Москве, в 1904 году, в семье приказчика. Как и Судоплатов, стал красноармейцем в Гражданскую войну совсем мальчишкой. Был политруком, после увольнения из армии по слабости зрения работал там, куда посылала партия. В 1933 году его по партийной мобилизации направили трудиться в ОГПУ. Как пишет один из его современных поклонников, «Виктор Николаевич Ильин. вел в НКВД непримиримую борьбу с «внутренним врагом» в стране, от самостоятельно мыслящих учёных и писателей до учащейся молодежи», (/ vyacheslav_menshikov/rjev_stalingrad_skryityiyi_gambit_ marshala_stalina/). Нельзя не обратить внимания на замечательно точную характеристика советского внутреннего врага: ученые, писатели, учащаяся молодежь.
В мемуарах Судоплатова об Ильине можно прочитать только хорошее. По его мнению, Ильин, с его «профессорской» внешностью и манерой говорить, идеально подходил для работы с интеллигенцией и творческими людьми. Правда, образованием, как и сам Судоплатов, ограничившийся начальной школой, Ильин не блистал. За плечами у него были два класса реального училища, да два года военно-политической школы. Только перед войной он заочно закончил Военно-политическую академию.
Сменив Ежова, Берия, рассказывает Судоплатов, послал Ильина в Ростов и Орёл с проверкой возбуждённых там местным управлением НКВД «дел» по поводу якобы готовившихся троцкистских диверсий на железнодорожном транспорте. Он вернулся «потрясённый примитивностью ложных обвинений» и заявил, что дела были сфабрикованы. Арестованные по этим «делам» были освобождены, а Ильин получил награду и повышение. Благостная картина. Но надо понимать, что Ильин стал таким смелым только потому, что получил на это санкцию Берии. Сам Ильин был, несомненно, мужественным человеком, о чем речь впереди, но получи он такое задание в другой момент, подобные выводы погубили бы его. Настораживает и то, что обвинения потрясли его не только ложностью, но и примитивностью. Видимо, у него с их подготовкой получалось лучше.
В одной из книг о руководящих сотрудниках НКВД, написанной квалифицированным специалистом по истории этой организации (niibaca.ru>.. teplyakovoprichnikistalina. html), о начале карьеры Ильина в «органах» можно прочитать следующее: «Новый чекист показал себя способным работником и недолго входил в тонкости политического сыска. Оказавшись в штатах секретно-политического отдела (СПО), боровшегося с антисоветскими элементами, он начал делать стремительную карьеру. Умение из нескольких нелояльных к власти высказываний сделать политическую программу, подверстать (с помощью агентуры) к ней побольше «заговорщиков», зачастую даже не знакомых друг с другом, проконтролировать с помощью внутрикамерных агентов-«наседок», чтобы никто не отказался от выбитых показаний, — вот был класс чекистской работы Ильина. Есть свидетельство очевидца, как ежедневно утром на так называемой «планерке» начальник чекистского подразделения Ильин доводил до следователей схемы будущих показаний арестованных. По этим «лекалам» сотрудники составляли протоколы, которые потом давали подписывать арестованным». Сохранились и воспоминания об Ильине бывшего чекиста М.П. Шрейдера, добровольно ушедшего из НКВД в начале «Большого террора». Что, впрочем, не уберегло его от ареста в 1938-м. В 1936 году, пока Шрейдер был в отпуске, в Наркомате внутренних дел наркома Ягоду сменил нарком Ежов. Выйдя на работу, Шрейдер первым из знакомых сотрудников наркомата встретил Виктора Ильина. «На мой вопрос, — вспоминает Шрейдер, — что из себя представляет новый нарком, Виктор начал расхваливать его демократичность и простоту, рассказывая, что он ходит по кабинетам всех следователей, лично знакомясь с тем, как идет работа.
— И у тебя был? — спросил я.
— Конечно, был. Зашел, а у меня сидит подследственный. Спросил, признаётся ли, а когда я сказал, что нет, Николай Иванович как развернётся и бац его по физиономии. И разъяснил: «Вот как надо допрашивать!» — Последние слова он произнес с восторженным энтузиазмом. Обескураженный, с тяжелым чувством расстался я с ним. Ведь в течение стольких лет при Феликсе Эдмундовиче от всех чекистов строго требовали даже голоса на арестованного не повышать, не то чтобы ударить, а теперь «сталинский нарком» сам учит, как бить арестованных». (. ru/books/o_s_smislov/general_abakumov_palach_ili_zhertva/read/). Оставим на совести бывшего чекиста его оценки «социалистической законности» во времена Дзержинского, но его воспоминания только подтверждают тезис, что Ильин по-чекистски творчески подходил к своей работе с творческими людьми.
Судя по всему, Ильин был тем человеком, кто предложил кандидатуру Александра Демьянова для использования в операции «Монастырь». В телевизионном фильме «Любовь под контролем» рассказывается никакими другими источниками не подтверждённая версия их знакомства. И ещё одна версия начала карьеры Демьянова в «органах». Якобы после убийства в Ленинграде руководителя местных коммунистов Кирова Демьянов был арестован в числе множества ленинградцев, которым сотрудники НКВД «шили» участие в заговоре с целью убийства ближайшего соратника Сталина. Ему грозил расстрел. Так как большинство арестованных в «кировском потоке», как прозвали эту волну арестов ленинградцы, составляли интеллигенты, в Ленинград для вербовки агентов из их числа прибыл Ильин. После долгих допросов или бесед в уже описанном мной стиле Ильин из огромного количества кандидатов выбрал именно Демьянова. А тот согласился купить себе жизнь и свободу ценой агентурной работы на НКВД. Его освободили, а вскоре устроили на работу в Москве, на «Мосфильме». Версия, исходя из того, что мы знаем о биографии Демьянова из официальных источников, весьма сомнительная, но методы работы Ильина она характеризует верно.
После того, как Демьянов перешел под контроль ведомства Судоплатова, его прямым руководителем стал Михаил Борисович Маклярский, начальник отделения Особой группы, созданной НКВД в начале июля 1941 года.
Когда читаешь материалы, связанные с операцией «Монастырь», то поражает, сколько людей с незаурядной судьбой оказались в нее вовлечены. Маклярский один из них. Родился он в Одессе в 1909 году в семье портного. В отличие от большинства своих коллег он мог похвастаться тем, что имел профильное образование — закончил юридический факультет Среднеазиатского университета в Ташкенте. В ОКНУ-НКВД пришел еще в 1927 году, после службы в пограничных войсках, и к началу войны имел уже большой опыт работы на разных должностях. В 1937 году его арестовали по обвинению в связи с троцкистами, но он вытащил счастливый билет — Маклярского освободили и восстановили на работе. В годы войны он — один из ближайших сотрудников Судоплатова, что, во многом, предопределило его судьбу в дальнейшем, о чем я еще расскажу. Именно Ильин и Маклярский стояли у истоков операции «Монастырь». Сын Михаила Маклярского Борис неоднократно встречался с Демьяновым. Уже в наши дни он в телевизионном интервью так охарактеризовал Александра Петровича: «Вот я с ним бывал много раз в одной комнате, но почти никогда не слышал его голоса. Он всегда улыбался. Саркастически так немножко. Всегда улыбался. Из него сделали заметную личность в полном смысле этого слова». «Заметную личность», которая почти всегда молчит. Так, по-видимому, и надо было жить в стране Советов.
Наконец, заслуживает упоминания и еще один сотрудник Судоплатова, непосредственно работавший с Демьяновым. Этого человека звали Игорь Александрович Щорс, он был троюродным братом канонизированного советской пропагандой в ранге героя гражданской войны Николая Щорса. Игорь Щорс родился в 1915 году в городе Ново-Архангельское Кировоградской области. В 1940 г. он окончил Ленинградский горный институт, но горным инженером не стал, а был направлен в школу особого назначения НКВД, где готовили разведчиков. Видимо, имя погибшего еще в 1918 году троюродного брата было для него и защитной грамотой, и рекомендацией. После окончания этой школы он был направлен в ведомство Судоплатова, где уже в 1942 г. стал начальником отделения. Судя по фильму «Любовь под контролем», типична, оказывается, и история женитьбы Щорса. В случае захвата немцами Москвы он должен был остаться в городе, где был назначен одним из руководителей системы водоснабжения. Ему было дано задание пойти на службу к немцам, а потом по команде взорвать насосные станции, обеспечивающие Москву водой. Радиоуправляемые мины были для этого заложены заранее. Чтобы Щорс не бросался в глаза как оставшийся в Москве молодой холостяк и имел рядом с собой проверенного помощника, ему подобрали девушку, которая согласилась не только помогать неизвестному ей на момент согласия диверсанту, но и стать его женой. Взрывать, к счастью, ничего не понадобилось. Зато Игорь Щорс обрёл верную спутницу жизни. Удивительные всё-таки были люди. Необыкновенные. Точно сказано: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей».
В любом справочнике, или на любом сайте, посвящённом истории советской разведки, где говорится об операции «Монастырь», можно прочитать, что её основным организатором наряду с Судоплатовым был уже упоминавшийся Леонид Александрович Эйтингон. Наум Исаакович, а так на самом деле звали этого человека, был намного старше своего начальника. Он родился в 1899 году в типичном еврейском местечке Шклов Гомельской губернии. Его отец работал конторщиком бумажной фабрики, но сама семья Эйтингонов принадлежала к еврейской интеллигенции. Мальчик учился в Могилеве, в коммерческом училище. Его дед был присяжным поверенным, то есть адвокатом, а двоюродный брат Макс Эйтингон, рано уехавший из России, стал знаменитым психоаналитиком, одним из первых и наиболее преданных учеников Зигмунда Фрейда. Начинал Наум Эйтингон как левый эсер, потом перешел к большевикам. Давил «контру» в Белоруссии и на Украине. Его таланты были оценены самим основателем ВЧК Дзержинским. В начале 20-х годов Эйтингона вызвали в Москву для работы в центральном аппарате этой организации. Одновременно он учился в военной академии, но в ней, как известно, успел получить уроки грамоты и Василий Иванович Чапаев, что не сделало его сильно образованным человеком. Насколько обогатила академия Леонида Александровича, неизвестно, но в своем кругу он слыл интеллектуалом.
На самом деле Наум Эйтингон был, конечно, типичным советским самоучкой, но со временем благодаря незаурядному уму и самообразованию стал одним из самых подготовленных для исполнения своих профессиональных обязанностей руководителей советской разведки. В ОГПУ он был зачислен в иностранный отдел и уже в 1925 году отправлен с ответственной миссией на Дальний Восток. Нельзя не заметить, что в иностранный отдел он пришел в разгар знаменитой чекистской операции «Трест». Вполне возможно, что когда возникла идея операции «Монастырь», Эйтингон рассказал Судоплатову какие-то подробности об этой провокации Дзержинского. Из Эйтингона получился высокопрофессиональный разведчик-нелегал, и не его вина, а его беда состоит в том, что практически все задания, выполняемые им за пределами СССР до начала Великой Отечественной войны, служили не интересам страны, а интересам Сталина и большевистской верхушки в целом. Так было в Китае, где советская агентура, раскалывая силы китайского сопротивления, только способствовала успеху японской экспансии, так было в Испании времен гражданской войны, где Эйтингон, будучи одним из самых влиятельных советских советников, сделал все, чтобы столкнуть испанских коммунистов с троцкистами и анархистами. Что во многом и предопределило поражение Испанской республики.
Судоплатов и Эйтингон сошлись еще в 1933 году, когда Павел Анатольевич только начинал работу в центральном аппарате ОГПУ, а Эйтингон был его старшим товарищем. Потом Наум Эйтингон помог Судоплатову выбраться из Испании, куда он попал после убийства Коновальца. Павел Анатольевич, сам едва избежав ареста, спас своего товарища от гибели после возвращения Эйтингона из Испании в 1939 году, предложив его в качестве главного организатора убийства Троцкого. После этого то ли подвига, то ли преступления и Судоплатов, и Эйтингон получили у Сталина почти неограниченный кредит доверия. По крайней мере, его хватило, чтобы им обоим пережить Великую Отечественную, а Судоплатову дожить большим начальником до самой смерти вождя. Ведь он, в отличие от Эйтингона, не был евреем.
Что касается операции «Монастырь», то, возможно, на первом этапе Эйтингон и принимал участие в её разработке и подготовке. Но осенью 1941 года Наум Эйтингон отправился в Турцию в качестве резидента советской разведки. Его главной задачей было не допустить вступления Турции в войну на стороне Германии. Но едва ли не главным способом решения этой задачи Сталин, с его уголовным мышлением, почему-то выбрал убийство посла Германии в Турецкой республике, бывшего вице-канцлера и министра иностранных дел Третьего Рейха фон Папена. Покушение на него, организованное в феврале 1942 года, провалилось, так как предназначенная фон Папену бомба взорвалась на улице в руках исполнителя, а германский посол отделался легким испугом. Это был провал. Советскому Союзу пришлось сдать турецким властям сотрудников посольства, готовивших, по сведению турок, это покушение. Их приговорили к большим срокам тюремного заключения, но, отпустили, как только чаша весов в войне склонилась на сторону СССР. Но это было потом. А в 1942 году оставшийся за кулисами Эйтингон вернулся домой и, несмотря на недовольство Сталина турецкой неудачей, 20 августа был снова назначен заместителем Судоплатова. К тому времени операция «Монастырь» уже шла по накатанным рельсам, проложенным без него. Всю вторую половину Великой Отечественной войны главной задачей Эйтингона была организация силами НКВД партизанской и диверсионной деятельности. Видимо, только в силу этих своих обязанностей он принимал активное участие в новой фазе операции «Монастырь», получившей наименование «Березино», когда действия подобного рода стали её важной составляющей.
Поэт, ученый, «старик»
Внимательное чтение мемуаров Судоплатова показывает, что память ему, действительно, часто изменяла. Так он пишет, что «для придания достоверности операции» в ней был задействован скульптор Сидоров, чья квартира в Москве использовалась для конспиративных связей». На самом деле речь идёт об Алексее Алексеевиче Сидорове, профессоре МГУ, искусствоведе, специалисте по истории книги и книжного рисунка. И использовался он не «втёмную», как убеждённый монархист, о чем можно подумать исходя из слов Судоплатова, а как опытный, с 1928 года, агент ОГПУ-НКВД.
Сначала Сидоров мало заинтересовал меня. Но теперь он кажется мне фигурой, весьма типичной для судеб людей, вовлечённых в операцию «Монастырь», да и, вообще, для той части интеллигенции, которая служила советской власти и за совесть, и за страх. Замысловатые и трагические сюжеты биографий этих интеллигентов созданы самой жизнью. Для того, чтобы написать о них книги, трогающие душу, не нужно ничего придумывать. Сам Сидоров смог сочетать в своей жизни высокую науку, утончённейший вкус и работу на НКВД в качестве секретного агента или, что, наверное, точнее и печальнее, тайного осведомителя.
Как и в случае с Демьяновым, чтобы отойти от колеи, накатанной историками разведки, которым, как правило, при рассказе о тех или иных участниках операции «Монастырь» хватает анкетных данных спецслужб, я решил поподробнее познакомиться с биографией Сидорова.
Его отец Алексей Михайлович был разночинец. Он всего в жизни добился сам, закончил юридический факультет Московского университета, служил судьёй. На свою беду за три года до революции он получил личное дворянство, генеральский чин действительно статского советника и назначение в Харьковский окружной суд. Его мать Анастасия Николаевна была из рода князей Кавкасидзе, выехавших в Россию из Грузии ещё при Анне Иоанновне. Вся жизнь Алексея Сидорова прошла в Москве. Поступив в Московский университет, на историко-филологический факультет, он посчитал себя поэтом, участвовал в поэтических сборниках, писал критические статьи, стал своим в литературном мире Москвы, знал всех, сколь-либо значимых литераторов того времени. При подготовке к занятию профессорской кафедры его руководителем был Иван Цветаев, отец поэтессы Марины Цветаевой и основатель московского Музея Изящных искусств, ныне Музея имени Пушкина. Цветаев пригласил его на работу, и в 1911 году Алексей Сидоров стал первым в истории этого музея экскурсоводом. После окончания университета Сидоров остался в нем работать преподавателем. По мнению его племянницы В.С. Сидоровой, Бобринской по мужу, «Алексей Алексеевич принял советскую власть, хотя и без энтузиазма, но с пониманием того, что бороться против неё бессмысленно. Кое в чем новая власть даже импонировала ему, так как дала возможность провести новые идеи в оценке искусства, выдвинуться среди старой профессуры университета». Активность Сидорова был замечена наркомом просвещения Анатолием Луначарским, он привлёк его к работе в наркомате. Одним словом, у большевиков он был на хорошем счету.
В 1919 году при отступлении красных из Харькова был взят в заложники отец Сидорова. Несмотря на все хлопоты Алексея, а за его отца вступился даже один из лидеров большевистской партии Каменев, он был расстрелян. Много десятилетий спустя В.С. Бобринская решилась спросить Алексея Алексеевича о том, с каким чувством он продолжал работать в советских учреждениях после этого расстрела? Тот ответил: «Я никогда не простил революции смерти отца». Даже в этом ответе он был осторожен, обвинив в гибели отца революцию, а не советскую власть.
А советская власть сжимала свои крепкие руки на горле интеллигенции постепенно, год за годом. В годы НЭПа еще иногда можно было глотнуть свежего воздуха. В 1925 году Сидоров с друзьями гостил у Максимилиана Волошина в Крыму, в Коктебеле. Знакомы они были еще с начала 1910-х годов. О том, как жилось Сидорову в Советской России в то время, что чувствовал он, вспоминая прошлое, свидетельствуют его сохранившиеся в архиве стихи, посвящённые Волошину:
«Поймешь ли ты, что значит нам былое,
Забывшим имя и предавшим отчество».
(utoronto.ca>tsq/18/neshumoval8.shtml). То ли снисхождения просил он у сохранившего внутреннюю и бытовую независимость Волошина, то ли понимания. А семейные беды продолжали преследовать Алексея Сидорова. После расстрела отца ушел в белую армию и исчез навсегда его младший брат, Игорь. Другой брат, Сергей, в 1921 году стал священником. Его арестовывали, ссылали. НКВД было что предъявить Алексею Алексеевичу. И в 28-м году, его принудили сделать выбор, за который пусть его осуждают те, кто прошел через подобное и устоял. Я не берусь. Его брат Сергей, испытав лагеря, и в 30-е продолжавший служить нелегальные службы, был в очередной раз арестован в 1937 году. Его расстреляли. Семья сохранила замечательные по духовной силе «Записки» Сергея Сидорова», в наши дни опубликованные. Пространное предисловие к ним, где много говорится и об Алексее Сидорове, написала уже упоминавшаяся мной дочь Сергея Сидорова, В.С. Бобринская (). Вера Сергеевна унаследовала стойкость духа своего отца. Ее мужем стал Николай Николаевич Бобринский, потомок внебрачного сына Екатерины Великой и Григория Орлова. Потомкам русской аристократии в Советской России жилось несладко. Н.Н. Бобринский работал геологом, много писал о своих предках, в 90-е годы активно публиковался. Сегодня граф и графиня Бобринские нашли упокоение на семейном кладбище в родовом имении Бобринских в Богородицке, что под Тулой. Что касается Алексея Алексеевича, то Вера Сергеевна писала о нем так: «Он смог полностью уйти в свою науку, оторвавшись от бушевавшей вокруг него советской жизни. Он понимал, что окружают его ложь и насилие и совершенно закрылся в кругу семьи и немногих друзей». Так, по крайней мере, считала его племянница. Как мало иногда о нас знают даже самые ближайшие родственники.
В 1941-м году Сидорову исполнилось пятьдесят лет, в своей области он был известным ученым, имел широкие связи в кругах московской интеллигенции, как бывшего дворянина, у которого от рук большевиков погибли отец и братья, его не чурались и те, кто жил воспоминаниями о дореволюционном прошлом. Доверия к нему прибавляло и то, что в начале 30-х годов, когда он уже давно числился в агентурных списках, ему не удалось избежать шельмования за «буржуазный» характер его научных трудов». (). Сидоров извлёк урок и стал в научной работе избегать тем, каким-либо образом связанных с современностью. В НКВД Сидорову присвоили оперативное имя «Старый». Чем он завоевал доверие «органов» к июлю 1941 года, я не знаю и даже, честно говоря, страшусь узнать. К операции «Монастырь» его привлекли, судя по всему, как человека с определённым именем, способного придать дополнительный вес планируемой комбинации. Нужен он был и как осведомитель, связанный с теми людьми в Москве, а их были, конечно, единицы, которых несмотря на монархические взгляды НКВД на всякий случай держал на свободе. Теперь этот случай настал. Была завербована, и привлечена к операции под оперативным псевдонимом «Мир» и жена Сидорова.
Итак, агенты НКВД Демьянов — «Гейне», Березанцева — «Борисова», Сидоров — «Старый» и Сидорова — «Мир», должны были составить ядро тайной, ждущей прихода немцев в Москву монархической организации, получившей от НКВД наименование «Престол». На роль номинального вождя этой организации-фантома чекисты выбрали хорошо известного Сидорову — «Старому» человека. Тем боле надо полагать, что от Сидорова в НКВД и поступала основная информация о взглядах и намерениях этого человека, так как они находились в дружеских отношениях или, по крайней мере, Сидоров поддерживал с ним более или менее постоянную связь. Звали его Борис Александрович Садовской.
«Уволенный в отпуск труп»
«И долго буду я для многих ненавистен
Тем, что растерзанных знамен не опускал,
Что в век бесчисленных и лживых полуистин
Единой истины искал».
Так Садовской написал о себе в его вариации на вечную тему памятника поэту. По отношению к знаменитому пушкинскому «Памятнику» она звучит как вызов, почти как пародия:
«Но всюду и всегда: на чердаке ль забытый
Или на городской бушующей тропе,
Не скроет идол мой улыбки ядовитой
И не поклонится толпе».
Жизненная стратегия Садовского принципиально отличалась от той, что исповедовал Сидоров. Садовской в силу трагических обстоятельств был вынужден жить в СССР, а Сидоров стал советским человеком. А это, смею уверить молодое поколение, большая разница. И тем не менее на протяжении десятилетий их связывали какие-то прочные нити, о природе которых можно только догадываться.
Они знали друг друга с дореволюционных времен. Так, в конце 1912 года Садовской приглашал Сидорова к сотрудничеству в «Русской молве», где он какое-то время редакторствовал. Но, как заметила одна из современных исследователей литературной деятельности Сидорова, Садовской был «чуть ли не единственным литератор, вызывавший как печатные, так и оставшиеся в рукописи нападки Сидорова». Чем он ему досадил? Особенностями поведения, отличиями стихов и прозы? Определённостью враждебных будущему «Старому» убеждений? Ученики Сидорова вспоминали, что говоря о временах своей молодости, маститый, как когда-то говаривали, ученый любил иронизировать: «В ту пору, когда я был поэтом…» В зрелом возрасте он к своим поэтическим опытам всерьез не относился. Вспоминая свое едва закончившееся поэтическое ученичество, Алексей Сидоров писал в одном из неопубликованных стихотворений, относящихся к тому же 1912 году:
«Мы сообщали старшим опыт свой,
Что равных нет Волошина спондеям,
Что скверно ямбом пишет Садовской».
Однако Садовской был снисходителен к юному коллеге, что в принципе, особенно в молодости, было для него совсем не характерно. Что-то привлекало его в задиристом тогда молодом человеке. Но что-то влекло и Сидорова к нему. Не те ли качества, которыми он потом потаённо восхищался в Волошине?
Надо полагать, что после того, как уже при советской власти Садовской снова поселился в Москве, Сидоров возобновил с ним знакомство, в том числе и в интересах НКВД. А Садовской не забыл о задиристости и самостоятельности суждений молодого Сидорова. О тех его качествах, которые к тому времени, увы, исчезли по мере общения последнего с жизнью вообще и с советской властью в особенности.
Нужно заметить, что с Садовским у Судоплатова тоже вышла путаница. Наряду со «скульптором Сидоровым» он называет «поэта Садовского» в числе лиц, привлечённых к операции «для придания достоверности». По мнению Судоплатова Садовской, как и Сидоров, учились в Германии и поэтому «были известны немецким спецслужбам». На самом деле Садовский, или, как он предпочитал называть себя, Садовской, в отличие от Сидорова, не только в Германии, но и вообще за пределами России никогда не был. А вот в организации «Престол», что запамятовал Судоплатов, ему была уготована роль не рядового члена, а «руководителя» или, точнее, малопочтенная функция подсадной утки.
Методика создания подобного рода организаций была отработана советскими спецслужбами еще с 20-х годов, со времен операции «Трест» и ей подобных. Если не рассуждать о благой цели защиты социалистических завоеваний, которая сегодня может вдохновить только неисправимого коммуниста, и характеризовать только средства, то в основе всех этих операций лежала провокация (. ec/read_book.php?id=20114&p=52). Старая добрая провокация, отработанная еще царской «охранкой». Неслучайно существует версия, подхваченная даже официальным сайтом Службы внешней разведки России (), согласно которой идею «Треста» Дзержинскому подсказал бывший шеф корпуса жандармов и товарищ министра внутренних дел
Российской империи, то есть его заместитель в терминологии того времени, Владимир Джунковский, которого руководитель ВЧК якобы сделал своим советником. Правда автор недавно вышедшей биографии Джунковского (), изучившая его дело в архиве ФСБ, не нашла никаких подтверждений тому, что он каким-либо образом сотрудничал с чекистами. Так или иначе, но схема провокации была такова: создавалась мифическая организация, в неё для прикрытия вовлекались люди антисоветских убеждений, искренне верившие в то, что они участвуют в реальном деле. Это придавало легенде особую жизненность, а за их спинами агенты ВЧК-ОГПУ завлекали в Россию эмигрантов и иностранных шпионов. Так попался в руке чекистов знаменитый террорист и писатель Борис Савинков, а в рамках операции «Трест» они заманили в СССР и уничтожили англичанина Сиднея Рейли, за которым охотились со времен гражданской войны. Для организации перехода финляндской границы чекисты использовали связи резидента руководителя РОВС Кутепова в Финляндии. Этим резидентом был Николай Бунаков, в прошлом морской офицер. Был ли он родственником Александра Демьянова, я не знаю. Но уж, воистину, бывают странные сближенья…
Некоторым «гостям» из Европы в целях продолжения игры позволяли вернуться обратно за границу, куда они уезжали, убеждённые в реальности существования подпольных большевистских фантомов. Примером может служить бывший депутат Государственной думы Шульгин, даже написавший книгу о своей нелегальной поездке в СССР. Операция «Монастырь» была операцией именно такого рода, а Борис Садовской, как очень многие до него, попался на провокацию НКВД. Однако я не стал бы однозначно причислять Бориса Александровича к жертвам этой провокации. Борис Садовской действительно ждал немцев. В материалах дела НКВД «Операция «Монастырь» сохранилось стихотворение, написанное им в первые дни войны, он мечтал распространить его в виде листовки. Стихотворение так и называлось, «Немцам»:
«Христос Воскресе! Спешите, братья!
Из мглы кровавой октября
Мы простираем к вам объятья,
Зовем свободу, ждем царя!
Он возвратит нам рай святыни,
Свободный труд и честный торг,
Забьют фонтанами пустыни,
В сердцах заискрится восторг!
Да сгинет шайка негодяев,
Кем опозорена Москва,
Кто нас учил, как попугаев,
Твердить дурацкие слова!
Христос Воскресе!
Отныне снова
Пребудет с нами, как и встарь,
Заветное, святое слово:
Самодержавный русский царь.»
И хотя из текста стихотворения ясно, что его автор, полный бесконечно далеких от реальной жизни иллюзий, ждал не столько немцев, сколько «самодержавного царя», думаю, понятно, что полагалось ему по законам военного времени за распространение данного «шедевра». Даже несмотря на сомнительную поэтическую ценность стихотворения. Вполне возможно, что «Немцев» на Лубянку передал как раз агент «Старый». Но для лубянских «конспираторов» эти вирши послужили дополнительным аргументом для того, чтобы поставить в центр планируемой комбинации именно Садовского. Видимо, по их мнению, он идеально подходил для этой роли. И не только из-за его убеждений, но и в силу особенностей личности. А текст стихотворения «Немцам» был даже распечатан в НКВД в нескольких десятках экземплярах в виде листовки. Эти листовки от имени «Престола» расклеили в Москве, а также разбросали у немецких позиций, чтобы создать видимость реальных действий московских монархистов.
Несколько поколений предков Садовского, а он родом из Нижегородской губернии, происходили из духовного звания, и первым дворянином в их роде был его отец, Александр Яковлевич, служивший инспектором Удельной конторы, то есть смотрителем лесов и угодий, принадлежавших императорской фамилии. Потомственное дворянство он получил в 1898 году вместе с Орденом Святого Владимира. После отставки возглавил Нижегородскую губернскую архивную комиссию, много занимался краеведением. Любовь к истории Борису Садовскому, видимо, привил именно отец. Но в дальнейшем духовной близости между отцом и сыном не было. Впоследствии о взглядах Алексея Яковлевича Борис писал очень жестко: «Отец принял на веру либеральный кодекс, понюхал нескольких книжек, наслушался умных разговоров и успокоился на всю жизнь». Сам Борис Садовской заявлял о себе как об убежденном монархисте и стороннике самодержавия.
Начало XX века было временем экзальтации, преувеличенных чувств, временем моды на игры и маски. Их особенно любили люди богемы, писатели, поэты и художники, среди которых оказался Борис Садовской после того, как в 1902 году поступил в Московский университет. Поэтому многие, в том числе и те, кто причислял себя к друзьям Бориса, как, например, поэт Владислав Ходасевич, считали, что Садовской специально преувеличивал, демонстрировал свой монархизм, чтобы как-то выделиться из либеральной, по преимуществу, литературно-художественной среды, где он вращался. Ходасевич считал монархизм Садовского его маской, художественным образом. Дальнейший жизненный путь Садовского свидетельствует, что это не так. Своим убеждениям он не изменил до конца жизни. Но играть и мистифицировать он действительно любил всегда. Например, Борис Александрович сочинил себе фантастическую родословную, возведя происхождение своего рода к какому-то шляхтичу, якобы приехавшему в Россию вместе с Мариной Мнишек в начале XVII в. Потому и именовать себя начал на польский манер — Садовской, с ударением на последний слог. Как вспоминал Ходасевич, играя свою роль, «правовернейшему эсеру, чуть-чуть лишь подмигивая, расписывал он обширность своих поместий (в действительности — ничтожных); с радикальнейшей дамой заводил речь о прелестях крепостного права». Садовской плохо поддавался внешней организации, поэтому и в университете учился девять лет, но так его и не окончил, но все его знакомые отмечали начитанность и незаурядный интеллект этого человека, изображавшего пресыщенного прожигателя жизни.
Игра, стилизация, мистификация были отличительными чертами и литературной деятельности Садовского. Оказавшись среди символистов, он искал себе образцы в русской литературе XVIII–XIX веков, блистательно подражая манере письма того времени. В литературе своей эпохи ему было суждено остаться фигурой второго плана, но глубину его критических суждений ценили многие. С Александром Блоком они переписывались до последних дней жизни поэта. В истории русской литературы Садовской остался как поэт, прозаик и литературный критик. Сегодня многие из его произведений кажутся не более чем изящными литературными памятниками, но, мне, например, новелла «Стрельчонок», кажется одним из лучших и уж точно самым страшным из произведений о Петре I.
Садовского отличала подчеркнутая дистанция, на которой он держал даже хорошо знакомых ему людей. Ходасевич писал: «В обращении был он сдержан, пожалуй — холоден, но это потому, что до щепетильности был целомудрен в проявлении всякого чувства. Запанибратства, столь свойственного русской дружбе, боялся он пуще всего». Причинами таких его свойств были не только особенности характера и убеждений, но и болезнь. В 1904 году Садовской заразился сифилисом. Тогда эту болезнь уже лечили, но Борис злоупотреблял лекарствами, а это были меркуриальные средства, содержащие ртуть, очень опасные сами по себе, и не отказывался от привычного богемного образа жизни, что от него требовали врачи. Сначала болезнь давала о себе знать приступами, а в 1916 году его настиг паралич, надвое разделивший жизнь Садовского. Физические мучения усугублялись тем, что он видел вокруг. Империя стояла на краю гибели. Ходасевич вспоминал об их последней дореволюционной встрече, когда Садовской уже с трудом передвигался, но ещё покидал свою петроградскую квартиру. При разговоре он заплакал, что было совершенно не в его характере, «утёр слезы, поглядел на меня и сказал с улыбкой:
— Это всё вы Россию сгубили, проклятые либералы. Ну, да уж Бог с вами». Николая II, еще одного губителя России, он возненавидел, назвав его в одном из стихотворений 1917 года «вампиром», а идеалом монарха был для него Николай I, портретами которого был увешан его дом в Нижнем Новгороде.
Паралич вынудил Садовского поселиться именно там, в родительском доме. Он пытался лечиться, наезжая в Москву и Петроград, но все было тщетно. Болезнь, как её тогда называли, «спинная сухотка», пощадила его мозг, оставив ему для работы с трудом действующую правую руку. В период НЭПа, его еще иногда печатали, последней прижизненной книгой Садовского стал роман «Карл Вебер», опубликованный в 1928-м году. Но, пережив в первые годы паралича тяжелый душевный кризис с попытками самоубийства, он в дальнейшем непрерывно писал, писал до последних дней жизни. Жизненную опору он нашел в гонимом большевиками православии. По мнению исследователей его творчества, именно произведения 20-х-40-х годов, еще менее известные читателям, чем дореволюционные, — лучшее из написанного Садовским.
Учитывая взгляды Садовского, а он и при советской власти их не скрывал, нет сомнений, что Борис Александрович постоянно находился под надзором сначала ВЧК, а потом ОГПУ. Так, в начале 1929 года на его квартире в Нижнем Новгороде ОГПУ провело обыск. Были обнаружены и изъяты рескрипты Екатерины II и Николая I, трехцветное знамя царской России, печать с двуглавым орлом. Самого Садовского не тронули. Да и зачем было арестовывать его, возиться с этим паралитиком, «уволенным в отпуск трупом», как он себя называл. Ведь его тело было для него самой надежной тюрьмой. Еще в начале 20-х он надеялся на излечение, добивался разрешения на выезд за границу. Надеялся, в частности, на помощь Александра Блока. Одно из последних писем Блока было адресовано именно ему: «… лечат ли сухотку за границей? Как вы проживете там? Русским там плохо». Постепенно надежды угасли. К концу 20-х жизнь в Нижнем стала невыносимой, родители умерли, он был одинок. Садовской начинает хлопоты о переезде в Москву.
В 1925 до эмиграции дошел ложный слух о смерти Садовского. Там, помня о его болезни, легко поверили, что он умер. Старый друг Ходасевич откликнулся воспоминаниями, которые я уже цитировал. Многие, кто писал о Садовском в постсоветское время, использовали эту историю со слухом о его смерти, чтобы порассуждать о забвении, постигшем Бориса Александровича. На самом деле это не совсем так. Он вёл активную переписку по литературным делам, поддерживал связь с дорогими ему людьми. Надеясь на память о себе, Садовской стал бомбардировать знакомых литераторов, имевших вес в советском обществе, чтобы они обратились в Наркомпрос с просьбами предоставить ему жилье в Москве. В справке НКВД «о Садовском и его группе» от декабря 1941 года приводятся его воспоминания о тех днях: «За меня некоторые писатели тогда хлопотали. Меня поддержали тогда А. Толстой, который теперь такой негодяй, и С. Городецкий, который дурак, и К. Чуковский, который трусливый, как заяц». Остёр, остёр на язык был Борис Александрович, а чувство благодарности явно не относилось к числу его добродетелей. Так или иначе, но в 1929 году Садовской перебирается в Москву.
Местом его жительства до конца дней становится бывший Новодевичий монастырь. Большевики закрыли его вскоре после революции, а здания передали в ведение Народного комиссариата народного просвещения. Многие из них использовались под жилье. И не только бывшие кельи, так как Садовскому отвели квартиру в подвале Успенской церкви. При наркоме Луначарском, пока в наркомате сохранялся дух относительного либерализма, в Новодевичьем нашли убежище многие «бывшие». Например, там жил граф Василий Шереметев с семьёй, архитектор и реставратор Петр Барановский. При этом в качестве самого «престижного» для новой власти продолжало функционировать Новодевичье кладбище. В летние дни Садовской писал, расположившись возле могил — то Валерия Брюсова, то Владимира Соловьева. Видел он, как хоронили таких его старых знакомцев, как Андрей Белый. Жил Садовской за счет того, что получал небольшую пенсию от Литературного фонда, да редкими переводами. Он сам писал об этом так:
«Литфонд же мне даёт три сотенки рублей.
Три сотни на меня и на жену больную».
По тем временам это было не так уж и мало: средняя зарплата в СССР в 1934 году составляла 136 рублей, а в 36-м — 207.
В литературе и в Интернете ходит версия о том, что Садовского не тронули потому, что после самоубийства жены Сталина Надежды Аллилуевой поэт познакомился с вождём возле её могилы. Телохранитель Сталина А. Рыбин вспоминал, что Иосиф Виссарионович «потом по ночам ещё долго ездил к могиле. Бывало, заходил в беседку и задумчиво курил трубку за трубкой…» Правда дочь Сталина, Светлана Аллилуева, утверждала, что он ни разу не ездил на могилу её матери. Версия же знакомства вождя и поэта выглядит так: встретились, поговорили, Садовской посочувствовал генеральному секретарю, а Сталин, неплохо знавший русскую литературу, вспомнил, что в молодости читал стихи Бориса Александровича и пожалел инвалида. А на вопрос вождя, в чем нуждается Садовской, тот якобы ответил: хотел бы иметь радиоточку. Так тогда называли стационарный проводной радиоприемник. Скорее всего, это еще один миф, связанный с Садовским, или еще одна мистификация, пущенная им в мир. Но, так или иначе, в середине 30-х годов в его «келью», как он называл свое жильё в Новодевичьем, действительно провели радио и он его подолгу слушал. А радио в личном пользовании было в то время ещё большой редкостью…
Фантасмагорические условия существования, невозможность публиковать свои произведения, усилили страсть Садовского к литературным мистификациям. Они превращались едва ли не в единственный способ быть опубликованным, пусть даже под чужим именем. Он точно имитировал манеру Некрасова, Есенина, Блока, и некоторые из его мистификаций, созданных в 20-е-30-е годы, тогда же попали в печать. Их преподносили как счастливые находки ранее неизвестных стихотворений классиков. Некоторые из подделок были разоблачены только в конце 80-х годов XX века, а до этого они печатались как подлинные произведения этих авторов. Но Садовскому всё было мало. Он сочинял свою собственную биографию, присовокупив воспоминания некоего Попова об Илье Николаевиче Ульянове, отце Ленина. Он писал о том, что его отец дружил с отцом Ленина, хотя тот умер, когда старший Садовский был еще совсем молод, а сам Борис Александрович, оказывается, печатался у Ленина, о котором он, скорее всего, до 1917 года и знать не знал:
«Еще в «Товарище» меня печатал Ленин,
Отец которого дружил с моим отцом».
В нем, несомненно, жила не реализованная до 1941 года склонность к авантюрам, способность к лицедейству и обману. А, как показала операция «Монастырь», и готовность обманываться самому.
Надежда Ивановна
Из письма Н.И. Воскобойниковой Б.А. Садовскому
И еще Борис Александрович. Давайте условимся забыть о прошлом, о моем и Вашем, и более не возвращаться к нему. Я не о литературе, здесь Вы вольны, а о наших отношениях. Пользы не будет никакой, а мучений можем друг другу доставить много. Вам и так обо мне, не сомневаюсь, наговорили всякого. Вы и сами знаете, что многое из этого — правда, хотя и лжи достаточно. Вы мне сказали, что после случившегося с Вами Ваша жизнь разломилась надвое, что Вы много страдали. Мне стыдно сравнивать, но и здесь мы схожи. Даже во времени, когда жизнь разломилась. Правда, тогда это случилось и со всей Россией. Да, моя жизнь не всегда были чиста, даже напротив, порой грязна, я согласна, хотя Вы этого и не утверждали. Я много в этом каялась. Вы сказали как-то, что постигшее Вас несчастье кардинально изменило Вас, сделало лучше, сделало другим. Поверьте, что и я изменилась. И не потому, что теперь немолода и не могу жить как прежде. Просто, наверное, нам досталось для жизни время, когда нельзя не меняться, иначе пропадешь. Надеюсь, и я стала лучше. Оборачиваясь назад и вспоминая молодость, я очень часто удивляюсь себе и не люблю себя ту, прошлую. Мы с этой молодой женщиной совершенно разные люди. То, за чем я гналось когда — то, сегодня не стоит для меня и гроша. Я иду на брак с Вами с ясным умом и открытым сердцем. Я хорошо понимаю, кто Вы, и кто я. И, можете не сомневаться, буду Вам верной и заботливой женой.
20 января 1942 года Судоплатов утвердил разработанный Ильиным и Маклярским «План мероприятий по агентурному делу «Монастырь». В его преамбуле говорится: «В течение ряда лет в Москве разрабатывается видный монархист, известный русский поэт Борис Александрович Садовский и его жена, Наталья Ивановна Воскобойникова, в прошлом фрейлина царского двора». Нужно заметить, что систематическое знакомство с документами по операции «Монастырь» создает впечатление, что её организаторы испытывали какую-то болезненную слабость к дореволюционным титулам и званиям. Тут тебе и князья, и фрейлины, и особы, вхожие в аристократические дома, и первые петербургские красавицы, и видные монархисты. Видимо, в их глазах, и в глазах их начальства, а операцию «Монастырь» под контролем держал сам Сталин, это придавало ей особую значительность. Тем не менее в связи с тем, что о существовании других монархистов в Москве в то время мне ничего неизвестно, я соглашусь с тем, что Садовского можно назвать «видным монархистом». Но его жена, Наталья Ивановна Воскобойникова, кто она такая? Во-первых, нужно отметить, что «Наталья» — это ошибка или опечатка. В других документах дела «Операция «Монастырь» она фигурирует как «Надежда». А, главное, из документов и воспоминаний известно, что эту женщину звали именно так — Надежда Ивановна Воскобойникова.
Именно случай с Надеждой Ивановной Воскобойниковой лучше всего демонстрирует уровень научной добросовестности историков спецслужб, писавших об операции «Монастырь». Они её биографией, как и, собственно говоря, биографией Садовского, вообще не интересовались. Между тем, например, нижегородский краевед А.В. Богинский, занимавшийся родословным древом Садовских и биографиями членов этой фамилии, заметил, что в списке фрейлин императрицы Александры Федоровны такая фамилия не упоминается, (). Не там искал краевед. Ему бы следовало познакомиться с материалами «Чрезвычайной следственной комиссии для рассмотрения противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так военного и военно-морского ведомств» (), сокращенно ЧСК, созданной Временным правительством вскоре после Февральской революции. Эти материалы позволяют восстановить основные вехи дореволюционной петербуржско-петроградской биографии Надежды Ивановны. Со страниц этого несостоявшегося уголовного дела перед нами предстает образ характерной для того времени удачливой авантюристки.
Воскобойникова, вдова казачьего офицера, появилась в Петербурге в 1911 году. Правда, в документах НКВД, датированных 1941 годом, она почему-то названа «уроженкой города Ленинграда». Родилась она в 1889 году. Больше ничего о раннем периоде ее жизни мне узнать не удалось.
В январе 1941 года, в письме к презираемому им К. Чуковскому, который тем не менее едва ли не единственный поздравил его с сорокалетием литературной деятельности, Садовский упоминает о том, что «жена знала латынь и Канта, но теперь, слава Богу, все забыла». Как то плохо вяжется «ленинградское» происхождение и знание латыни и Канта с образом вдовы казачьего подъесаула, приехавшей в Петербург с Дона «искать счастье». Кстати, в списках офицеров русской армии за 1909 год упоминается только один Воскобойников — казачий офицер-пятидесятник Павел Герасимович. Это звание младших казачьих офицеров сохранялось до 1917 года только в некоторых казачьих полках в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Но никак не на Дону. Загадочная дама. От бессилия проникнуть в её тайны я и сочинил письмо Надежды Ивановны Садовскому времен их знакомства перед женитьбой. То, что такая переписка велась и даже частично сохранилась, упоминается в комментариях к публикациям переписки Садовского с другими людьми.
Через какое-то время после приезда в Петербург Воскобойникова оказалась в доме сенатора Валерия Николаевича Мамонтова, в качестве его «друга». Самому Мамонтову было уже далеко за шестьдесят. Как показала она следователю ЧСК, «жена Мамонтова не понимала этой дружбы и… даже развелась с ним». А жена эта, между прочим, была сестрой Владимира Николаевича Коковцова, председателя Совета министров Российской империи в 1911–1914 годах. В документах полиции Воскобойникова характеризовалась как «любовница Мамонтова». Сенатору было далеко за шестьдесят, он искал утешение и опору не только у Надежды Ивановны, но и в религии, в общении с духовными лицами, и не только с ними. Мамонтов и свёл Надежду Ивановну с Григорием Распутиным, в квартире которого по адресу улица Гороховая, дом 64 он неоднократно бывал. Вскоре Воскобойникова стала бывать здесь и одна, без Мамонтова. Появляется её имя и в полицейских донесениях. Так, 3 декабря 1915 года охрана Распутина зафиксировала, что «возлюбленной сенатора Мамонтова Воскобойниковой» Распутин велел, «чтобы она пришла к нему в час ночи». Сама Надежда Ивановна на допросе в ЧСК рассказывала, что в 1915 году у нее «расшатались нервы». Видимо, в целях их лечения, она и попросила Мамонтова познакомить ее с Распутиным. Мамонтов пытался возразить — ведь «посещение Распутина будет неудобным ввиду слухов о нем». Однако Надя была не из тех женщин, которых способны остановить подобные аргументы и Мамонтов сдался. По её словам, «Распутин ободрил меня… Сказал, что Бог поможет».
В начале 1916 года покровитель Надежды Ивановны Мамонтов умер. В отчаянии она даже собиралась в монастырь, но вместо монастыря отправилась к Григорию Ефимовичу за советом и помощью. Тот не отказал. Распутин послал Воскобойникову к Вырубовой, сопроводив ее следующей рекомендацией: «Она тебе не оберет».
Анна Александровна Вырубова, в девичестве Танеева, ближайшая подруга последней российской императрицы, на свои средства содержала в Царском Селе госпиталь, или, как тогда говорили, лазарет, получивший в честь Серафима Саровского, которого особенно почитала императрица, название Серафимовского лазарета. В нем в качестве сестёр милосердия оказывали помощь раненым Александра Федоровна и ее дочери. В этот госпиталь сестрой милосердия была зачислена и Воскобойникова. Там она и познакомилась с императрицей. Очевидно, что у Надежды Ивановны был дар нравиться не только мужчинам, но и женщинам. Очень быстро она становится доверенным лицом Вырубовой, а в последние месяцы перед февралем 1917 года Воскобойникова входила и в круг самых близких императрице людей. По крайней мере, так свидетельствует камер-фурьерский журнал, где фиксировались посетители Александры Федоровны. Она — одна из немногих, кого постоянно принимала жена Николая II. Конечно, можно сослаться на то, что Воскобойникова делала ей массаж, а потому систематически бывала в Александровском дворце Царского Села, где жила царская семья. Но Надежде Ивановне были адресованы и очень личные телеграммы царицы. Например, такая, от 14 ноября 1916 года: «Страшно трудно. Тяжело. Александра». В другой раз она, видимо, не слишком удовлетворённая тем, как идут дела в госпитале Вырубовой, советует Воскобойниковой «решительней взять лазарет в свои руки».
Осенью 1916 года Вырубова познакомила Надежду Ивановну с Александром Дмитриевичем Протопоповым, бывшим депутатом Государственной Думы, сложившим депутатские полномочия после того, как в сентябре 1916-го Николай назначил его управляющим Министерством внутренних дел, а в декабре 1916 года утвердил в должности министра. Ему суждено было стать последним министром внутренних дел в истории Российской империи. Сторонники монархии считали, что его трусость и нераспорядительность во многом способствовали победе Февральской революции.
По общему мнению, за назначением Протопопова стояли Вырубова, Распутин и царица. Воскобойникова без долгих раздумий становится любовницей министра. На допросе в ЧСК комиссии Анна Вырубова, рассказывая о своих отношениях с Александром Дмитриевичем, подтвердила, что он бывал у нее в госпитале, «но еще чаще, чем ко мне, Протопопов заходил к сестре моего лазарета Воскобойниковой, у которой он иногда и обедал. Я говорила ему, что это неудобно, но он возражал, что он отдыхает в простой обстановке». Еще откровеннее, говоря о связи Воскобойниковой и Протопопова, высказалась на допросе сестра вырубовского лазарета Феодосия Вейно: «С Протопоповым она обращалась фамильярно, как и он. В моем присутствии он не стеснялся. обнимать её за талию». По мнению Эдварда Радзинского, написавшего книгу о Распутине, в последние месяцы 1916 года Воскобойникова играла весьма значительную роль в закулисной придворной политике. Через неё императрица, Вырубова и Распутин манипулировали слабым министром, у которого к тому же многие подозревали нервное расстройство. После февраля 1917 года оно настолько усилилось, что он был помещён в больницу и давал показания письменно. В своих письменных показаниях ЧСК Протопопов признался, что, дважды был на квартире Распутина и один раз — «по вызову Вырубовой, переданному через Воскобойникову». Вот такой был министр, «министр по вызову». Поэтому, может быть, Радзинский и не преувеличивал, когда писал, что Воскобойникова связывала «в одну цепь «тёмные силы»: Распутина, Вырубову, царицу и Протопопова».
В середине 20-х годов советская власть опубликовала несколько томов протоколов заседаний ЧСК. К ним прилагался именной указатель лиц, упоминавшихся в протоколах следственной комиссии. Воскобойникова, что вполне объяснимо, чаще всего упоминалась в показаниях Протопопова. Но он старательно избегал каких-либо оценок роли Надежды Ивановны в придворных интригах последних месяцев существования империи Романовых. Другие, весьма информированные подследственные были куда более откровенны. Так, Степан Белецкий, бывший директор департамента полиции и товарищ министра внутренних дел, говоря о Воскобойниковой, сообщил ЧСК, что Протопопов «ввиду оказываемого ей императрицей особого доверия и расположения, видел в ней возможную заместительницу Вырубовой, укрепляя её в этой уверенности». По его словам, Воскобойникова докладывала министру обо всем, происходившем при дворе либо при регулярных личных встречах, либо по телефону. Белецкий утверждал: «Воскобойникова за последнее время начала занимать довольно видное положение в среде лиц, близких к императрице, сохраняя в то же самое время наружно хорошие отношения с Вырубовой». Так что не так был прост Александр Дмитриевич, как может показаться на первый взгляд. И, судя по всему, надежды со своей любовницей связывал немалые. Да и честолюбие Надежды Ивановны, видимо, простиралось куда дальше роли одной из близких слуг императрицы.
Кстати говоря, показаний самой Воскобойниковой в опубликованных в 20-е годы протоколах заседаний ЧСК нет. Как и показаний многих других людей, вызывавшихся комиссией на допрос. Критерий отбора советскими публикаторами протоколов был прост: исключить из публикации материалы, в сколь либо выгодном свете представлявшие царскую семью. В их число попали и показания Воскобойниковой. Мало того, эти материалы каким-то образом были изъяты из архивов. Их вывезли за границу, а уже в конце XX века вдруг выставлены на продажу на одном из западных аукционов. Там их купил выдающийся русский музыкант М. Ростропович, чтобы подарить это следственное дело Э. Радзинскому, который к тому времени уже много лет занимался изучением биографии Распутина и его влияния на Николая II и царскую семью. Так, по крайней мере, рассказывает сам Радзинский. Только в его книге о Распутине и содержатся отрывки из показаний Воскобойниковой. Обнаружить их полный текст в Интернете мне не удалось. Ничего не слышал я и о том, чтобы Радзинский опубликовал подаренные ему материалы. Согласитесь, странно. Ну, да это вопросы к Радзинскому.
Знакомство
Последние месяцы он ходил, как по натянутой парусине. Старался делать шаг, как печать ставил — ему казалось, что резко и сильно, а выходило еле-еле. Эти усилия отдавались беспощадной болью в спине. Но давно зная о своей болезни всё, он теперь боялся потерять эту боль. Её потеря означала бы необратимый конец. Парусина выталкивала его, но с каждым днём, казалось, слабела. Приходилось сильнее печатать шаг, но все труднее было удержать равновесие. Он стал часто падать. Однако боялся лечь и уже не встать. Потому, превозмогая нарастающую слабость мышц, пытался жить привычной жизнью: редакции, театры, встречи с друзьями. Пользуясь тем, что в Петрограде задержалась зима, стал ходить в обрезанных валенках. В туфли распухшие ноги уже не влезали. Ему было всего тридцать пять лет. А жизнь стремительно кончалась.
Не было больше любителя шокировать публику эксцентричными нарядами, чьи странные остроты и скандальные мистификации были так к месту и времени, хотя во всем бросали им вызов. По городу бродила его тень, пугавшая своим появлением знакомых, в большинстве — людей того же поколения. Он был внезапной старостью, а они от неё были ещё так далеко! Их будущим — уже сегодня. О будущем они охотно и мрачно писали, это хорошо продавалось, но они чувствовали, каким ужасом тянуло от этого будущего. Он был неприятным вестником судьбы. И для друзей, и для врагов. Да полно, враги, конечно, были, а вот друзья? Ему как можно скорее хотелось бежать из этого пустого для него города, оставшегося чужим, несмотря на несомненный литературный успех. Пустого во всех смыслах. Надо было ехать на юг, там он надеялся найти если не надежду, то отсрочку. А пока зима не отступала, он, устав от светил столичной медицины, испытывал любые средства. И народные заговоры, и восточные премудрости. В один из этих отчаянных дней, забредя от тоски на репетицию в «Летучую мышь», он встретил Родэ.
Адолия Сергеевича мучила переполнявшая его энергия. Он всегда жаждал действия. Ему некогда было тратиться на сочувствия и рефлексию.
— Борис Александрович, Вам надо поехать к Григорию Ефимовичу. И я это мгновенно организую.
— Помилуйте, Адолий Сергеевич! Я? К Распутину? Как преданный монархии человек, я…
Родэ бесцеремонно прервал его:
— Вас ведь сейчас не только политика интересует, но и Ваше здоровье, не правда ли? А старец Григорий чудеса делает, вспомните хотя бы наследника. Вдруг и Вам поможет. Да, и что касается политики. Вы ведь его ни разу в жизни не видели? Ну вот. А как говорят? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Соглашайтесь, голубчик.
Так Борис попал на Гороховую улицу, дом 64.
Распутина он запомнил плохо. Почти совсем не запомнил. Еще на лестнице, по которой его под руку волочил стремительный Родэ, его настиг острый приступ боли в позвоночнике. Она то пульсировала, то врезалась в позвоночник толстыми иглами.
Родэ здесь явно пользовался влиянием, а потому в отличие от других посетителей, а они ему, проколотому болью, показались сплошным и довольно большим тёмным пятном, Борис был быстро принят и удостоился разговора один на один. И вот надо же так! Боль как раз достигла такой силы, что Борис истратил остатки гордости на то, чтобы не закричать или не упасть в обморок у ног человека, который все последние годы служил для него воплощением зла, угрозы самому существованию империи. Тот что-то говорил, делал какие-то жесты, но опомнился Борис Александрович только в другой комнате, сидя за большим столом с самоваром. К нему пробился женский голос:
— Простите, не знаю как вас по имени-отчеству, хотите чаю?
Он поднял глаза и увидел перед собой женщину с чашкой чая в руке. Ей едва ли было тридцать, сквозь все еще тающий туман боли он не мог разглядеть, хороша ли она собой, или нет, заметил только, что на ней платье сестры милосердия, с большим красным крестом на груди. «Как хорошо, когда шумит самовар», — было его первой оформившейся мыслью.
— Да, спасибо, не откажусь. А зовут меня Борисом Александровичем.
Она поставила чашку перед ним и как-то запросто, без церемоний коснулась рукой его плеча, задержав её там на мгновение.
— Вам плохо, Борис Александрович? Может быть, я могу вам помочь?
И чудо свершилось. Боль вдруг отступила, спряталась внутри него. Наверное, приступ истощил все свои силы. Но он с благодарностью взглянул на эту волшебницу-сестру. А она действительно была хороша. Округлое, с высокими скулами русское лицо чёткой формы, глаза с зелёными искрами, которые она умело прятала от его прямого взгляда, достоинства тела не могло скрыть и форменное платье. Непокорная рыжая прядь волос отливала красным на фоне белого платка. «Боже, я ещё могу думать о женщинах», — почти восхитился собой Борис. Тут за его спиной раздался жизнерадостный вопль Родэ:
— Ну что Борис Александрович, я же говорил! Григорий Ефимыч сейчас мне сказал, что вы нас всех переживете. Обидно конечно, но для вас-то — славно! И да, дорогой друг, давайте поторапливаться, я отвезу вас домой, а сам помчусь дальше. Дела, Дела!
Сестра милосердия помогла Борису надеть пальто, её взгляд задержался на его валенках. Только теперь она посмотрела ему прямо в лицо. Он отвёл взгляд. Слишком многое слышал он о женщинах Распутина. А она вымолвила, словно что-то обещая:
— До свидания, Борис Александрович. Меня зовут Надежда Ивановна.
Неунывающая Надежда
Судя по всему, роль любовницы Протопопова и посредницы между Распутиным и царицей оказалась весьма доходной. Уже упомянутая Феодосия Вейно рассказала следствию: «Воскобойникова поступила к нам совершенно нищей… но очень скоро превратилась в шикарную барышню с массой золотых драгоценных вещей». Протопопов снял для нее квартиру на Невском, но и она запросто бывала у него. Так было и в день, последовавший за убийством Распутина. В подробных письменных показаниях, данных Протопоповым ЧСК в сентябре 1917 года, он упоминает, что первое известие о смерти Распутина получил, когда был дома, и при этом присутствовала Воскобойникова, отказавшаяся верить такой вести. Позднее, сначала от Вырубовой, а потом и от неё Протопопов узнал о желании императрицы похоронить Распутина в Царском Селе.
Революция похоронила карьеру Надежды Ивановны. Однако её поведение в февральские дни заставляет усомниться в искренней преданности царской семье. Или у неё просто было хорошо развито чувство самосохранения? По крайней мере, Воскобойниковой не было рядом с императрицей и её детьми после того, как эта семья юридически перестала быть царской и превратилась в семью гражданина Романова. При этом по современной литературе и Интернету, со ссылками на документы НКВД, гуляет другая версия, согласно которой Воскобойникова оставалась рядом с Романовыми до их ареста, а прощаясь, Александра Федоровна «благословила её идти в народ». Надо понимать, для проповеди монархической идеи. Потом некое «Общество спасение царя» собиралось послать Надежду Ивановну с большой суммой денег для спасения царской семьи, но экспедиция не состоялась, так как пришло известие о гибели семьи Романовых. При этом авторы указанного якобы существующего документа ссылаются на слова самой Воскобойниковой, донесённые до Лубянки каким-то агентом, может быть, тем же самым «Старым» — Сидоровым. Учитывая характер и убеждения Воскобойниковой, очевидно сыгравшие немалую роль в истории ее брака с Садовским, она вполне могла вести такие разговоры с гостями их крипты под Успенской церковью. Ведь, судя по всему, она была такой же выдумщицей, как и её муж.
В своих воспоминаниях, написанных и опубликованных в эмиграции, Анна Вырубова прямо называет имена женщин, оставшихся с Александрой Федоровной. И с горечью замечает, что многие, считавшиеся близкими, сразу же покинули её. В связи с этим о многом говорит и то, что фамилия «Воскобойникова» в этих мемуарах вообще не упоминается. Зато Юлия Александровна Ден, фрейлина императрицы, одна из близких к ней людей, не пожалела красок для описания поведения Надежды Ивановны. Она причислила ее к тайным агентам оппозиции, якобы окружавшим царицу накануне революции. По ее словам, Воскобойникова испарилась из Царского Села на второй день революции и в тот же день устроила у себя обед, «во время которого лилось рекой вино, и произносились разного рода подстрекательские речи. Солдатам заявили, что свободу следует ждать из Петрограда, и что револьверы и патроны — вещь хорошая» (/ podlinnaya_carica/read/).
Правда, не очень понятно, откуда на квартире Воскобойниковой взялись солдаты. Или она и её гости выступали перед ними прямо с балкона, ведь квартира была на Невском? Надежда Ивановна была, конечно, женщина широкая и авантюрная, но, думаю, всё-таки даже для нее подобная эскапада — это чересчур. Ведь с революцией она теряла всё с такой ловкостью добытое за 1916-й год: место рядом с царицей, любовника — министра, связи в самых высоких сферах и, в конце концов, деньги и эту самую квартиру. Похоже, Юлия Ден пересказала в своих воспоминаниях какой-то слух, а сколько их гуляло тогда по столице. Но что этот отрывок из мемуаров бывшей фрейлины отразил точно, так это отношение к выскочке — Воскобойниковой в аристократическом окружении Александры Федоровны. Однако брак с Садовским и её поведение после того, как он попался на удочку НКВД и стал невольным участником операции «Монастырь», убеждает в неизменности её монархических взглядов до конца жизни.
Об её истинном отношении к императрице можно достаточно определённо судить по материалам допроса Воскобойниковой в ЧСК. Следствие интересовало, что связывало её с Распутиным, а самое главное, что она могла рассказать о встречах царицы с этим «Другом» семьи Николая II. Она утверждала, что «по отношению ко мне Распутин не допускал никаких вольностей». На вопрос, не оставалась ли она в квартире Распутина на ночь, Надежда Ивановна отвечала в стиле оскорблённой невинности: «Ночью не только у Распутина, ни у кого из знакомых не бываю…». Но мы-то с вами знаем, что в этом она лгала. Из её слов на допросе создаётся впечатление, что её тоже волновала степень близости Александры Федоровны и Распутина. Не случайно, рассказывая об их встречах, она ссылается на свои «точные наблюдения». Значит, наблюдала, и наблюдала внимательно. Со слов Воскобойниковой, они всегда проходили в присутствии третьих лиц, хотя бы лакея императрицы. Она отвергает слухи о любовной связи царицы и Распутина. На момент допроса для неё как будто всё еще продолжается время до смерти Григория Ефимовича, и, защищая царицу, она говорит о её поступках в настоящем времени: «Государыня не допускает ничего, что могло бы дать основание для этих слухов…»
Один из современных почитателей Распутина обвинил Воскобойникову в гадком любопытстве. Хотела, мол, поймать прелюбодеев, да ничего не вышло. Но позвольте, кто мешал ей оговорить царицу на допросе в ЧСК? Кто бы доказал обратное? Какая бы была заслуга перед революционной Россией! Она на это не пошла, и за это ей многое прощается. А если вы считаете, что Надежда Ивановна просто в очередной раз солгала, то и в этом случае я всё равно на её стороне.
Кстати, бурная многотомная деятельность Чрезвычайной следственной комиссии закончилась ничем. Найти доказательства «противозаконных» действий деятелей «старого режима», а искали, в первую очередь, доказательства государственной измены, так и не удалось. Хотя в нравственном смысле картина открылась печальная. Незадолго до падения Временного правительства дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Как пережила Надежда Ивановна Воскобойникова бедствия гражданской войны, мне неизвестно. Похоже, она оставалась в Петрограде, потому что именно там, в начале 20-х годов, обнаруживаются ее следы. И оказалось, что эта представительница «темных сил» была вполне благополучна!
— Николай Степанович, вы слышали, Блок умер. Какой ужас! Такой молодой!
— Да, коллеги в столовой говорили. Прискорбно. Я знавал его деда, Андрея Ивановича. По университету.
Застыла неловкая пауза. Надежда поняла, что упоминание о молодости Блока было, конечно, неуместным. Ведь сын Николая Степановича его ровесник. И заторопилась говорить:
— Давайте ваше письмо, Николай Степанович. Я с вокзала прямо пойду в Наркомпрос, это ведь недалеко, на Чистых прудах.
— Он протянул ей конверт. Рука слегка дрожала. Наверное, от старости. Конечно, ему почти восемьдесят.
— Все будет хорошо, Николай Степанович! Ведь помните, в прошлый раз Гринберг уверял, что Луначарский обязательно переговорит с Лениным. Будем надеяться.
— Надежда — это единственное, что у меня осталось. Две недели прошло, а из Москвы ничего. Еще раз извините меня, что опять обременяю вас.
— Да что вы, Николай Степанович! Вы же знаете, как я уважаю вас, вашего сына. Так жаль, что мало чем могу помочь. И все-таки, Николай Степанович, может быть, вы поедете на несколько недель в Царское, в санаторию? Мы вас там подкормим, подлечим?
— Спасибо, но давайте не будем возвращаться к этому разговору, Надежда Ивановна, в прошлый раз я же объяснял мой резоны. Там лестница шестьдесят ступенек, куда там, с моими ногами. Но не это главное, это пустяки. Отсюда я кое-как, но всегда смогу добрести до Гороховой. Тут и версты нет. А оттуда? Спасибо Адолию Сергеевичу, что на Митрофаньевское к жене помог съездить. А из санатории кто меня возить будет? Так что еще раз благодарю вас и разрешите откланяться.
Опираясь на подлокотники обеими руками, он встал и, шаркая ногами, с явным трудом вышел из её маленького кабинетика. Она догнала его у двери.
— До свидания, Николай Степанович.
— До свидания, Надежда Ивановна.
«Бедный старик», подумала она, закрывая за ним дверь. — Как же я их ненавижу».
А он брёл по коридору к своей комнате с окном в двор-колодец, куда даже сейчас, летом, почти не попадали солнечные лучи. Таких дворов, казалось бы, не должно было быть на улице с названием «Миллионная». И суетные мысли мешали ему держаться на единственно важном: «Какое безумное время. Скорее бы оно кончилось, по крайней мере, для меня. Вот эта Надя и сейчас, надо признать, красивая женщина. Откуда она здесь? Говорят, подруга Распутина, чуть ли не приятельница императрицы. Теперь, при большевиках заведующая этой богадельней, вполне преуспевает. Чудеса! И я, который пять лет назад на Государственном совете призывал сбросить ярмо Змея Горыныча, этого самого Гришки Распутина. Имел у публики шумный успех. А ныне на содержании в этой же самой богадельне. Боже, о чем я думаю, когда мой сын, мой Володя…». Главная мысль вернулась к нему. Хотя он зря казнил себя. Она от него некуда и не уходила.
Летом 1921 года интеллигенция Петрограда стыла в страхе и ожидании, как в худшие месяцы 1918-19-го годов. ВЧК раскручивала так называемое «дело Таганцева», по городу шли аресты. Отец главного «заговорщика» Владимира Таганцева в прошлом крупнейший юрист и теоретик юриспруденции, профессор Санкт-Петербургского университета, член Государственного совета Николай Степанович Таганцев вёл в эти дни дневник. Привычка писать спасала его от безумия и отчаяния. Судьба этого дневника удивительна. Его обнаружили только в 90-е годы при разборке домашнего архива Таганцевых. Содержание дневника в основном состоит из описания хлопот Николая Степановича, пытавшегося спасти сына и свою семью. И вот среди людей, пытавшихся ему помочь, он упоминает Надежду Ивановну Воскобойникову (-center.ru/asfcd/ auth/?t=page&num=9598).
После ареста сына и невестки Таганцев — старший остался в одиночестве. Чтобы выжить и продолжить борьбу за своих родных, он переселился в общежитие Дома учёных на Миллионной улице. Дом учёных, существующий и сегодня, задумывался для объединения и поддержки тех петроградских ученых, кто пережил гражданскую войну. Он был создан по инициативе Горького в 1920-м году. Горький добился передачи для его нужд бывшего дворца великого князя Владимира Александровича, там действовала столовая, где учёные находили спасение от голода, а во флигеле с выходом на Миллионную разместилось небольшое общежитие для одиноких или дошедших до дистрофии деятелей науки. В этом общежитии летом 1921 года получил комнату и Николай Степанович Таганцев. Кроме того, в структуру Дома входил санаторий, расположенный в Царском Селе. Так вот, Надежда Ивановна Воскобойникова была заведующей общежитием и санаторием.
Чтобы понять, как это ей удалось, достаточно поинтересоваться тем, кто руководил хозяйственной частью всего комплекса Дома учёных. А это был бывший полковник Адолий Сергеевич Родэ, до 1914 года звавшийся Адольфом, а потом переименовавшийся из патриотических побуждений. В предреволюционном Петрограде ему принес известность располагавшийся за городом, в Новой Деревне, у Черной речки, и ставший очень популярным кафешантан, названный им просто и без затей — «Вилла Родэ». О Родэ говорили, что он масон, но кто тогда не был масоном? В первую очередь Родэ был делец, деловой человек, а потому свел знакомство с Распутиным, чье покровительство дорого стоило. Распутин бывал у него дома, Родэ знакомил его с дамами разного свойства, развлекался Григорий Ефимович и на «Вилле Родэ». Я уже упоминал об удивительном сорте литераторов, в наши дни пытающихся не только обелить Распутина, но и сделать из него едва ли не святого. Упоминать их фамилии, значит делать им незаслуженную рекламу. В частности, они пытаются отрицать близость к Распутину такой одиозной личности, как Родэ, каковой был известен самыми разнообразными, в том числе и довольно тёмными, связями. Один из них, например, утверждает, что «старец Григорий» вообще не бывал на «Вилле Роде» (/ zhizn_za_tcarya_pravda_o_grigorii_rasputine), тогда как на это есть прямые указания в воспоминаниях об отце дочери Распутина Матрёны, которая была, что вполне естественно, склонна обелять его, но не пыталась отрицать очевидное и многим в Петербурге известное. Матрёна писала: «Отец не делал секрета из того, что любил бывать на «Вилле Родэ», в ресторане с цыганами» (/ MEMUARY/ZHZL/rasputin.txt). Что касается Воскобойниковой, то Родэ познакомился с ней либо у Распутина, либо в Серафимовском лазарете, где, согласно показаниям Протопопова, «кухню содержал Родэ».
Судя по всему, Адолий Сергеевич был весьма умным и ловким субъектом, знакомства он имел в самых разных кругах. «Вилла Родэ» в этом ему сильно способствовала. Видимо и Горького он знал ещё с дореволюционных времен. По крайней мере, Алексей Максимович привлёк его к сотрудничеству еще до создания Дома учёных, когда Горькому удалось добиться специальных пайков для учёных. Как вспоминал известный ученый-демограф Владимир Семенов-Тян-Шанский, сын знаменитого путешественника, «пайковым снабжением заведовал… ресторатор Родэ, знакомый Горького». Родэ отличался деловой хваткой, а при организации такого сложного хозяйства, каким стал Дом учёных в условиях голодного Петрограда, такой руководитель был просто находкой. На его прошлое пришлось до поры до времени закрыть глаза. Эта позиция, кстати говоря, характеризует и самого «буревестника революции» Максима Горького. В целом Родэ справился со своей задачей. Недаром ведь в тогдашнем учёном мире города Дом учёных прозвали «родовспомогательным домом». Хотя тот же Таганцев в своем дневнике пишет о том, что руководители Дома воровали продукты, выделяемые для его столовой.
Получается, что Надежда Ивановна была ближайшей сотрудницей Родэ. Об их отношениях после февраля 1917 года можно только догадываться, но мы уже знаем, как умела Воскобойникова находить себе покровителей. Можно предположить, что Александра Федоровна не случайно призывала её брать в свои руки вырубовский лазарет, так как рассмотрела в ней организаторский талант. Но не думаю, что для Родэ это её качество было главным аргументом, когда он брал Воскобойникову на работу в Дом учёных. А то, что это было именно его решение, я почти не сомневаюсь. Кто другой мог это сделать? Горький? Но тогда я сильно недооцениваю госпожу Воскобойникову. Нет, это конечно, Родэ. Ведь в 1920 году Надежде Ивановне был всего лишь тридцать один год, а Адолию Сергеевичу — только пятьдесят.
Как следует из дневника Таганцева, Воскобойникова, видимо, часто ездившая в Москву по делам Дома учёных, дважды по его просьбе отвозила письма члену коллегии Наркомпроса Захару Григорьевичу Гринбергу, человеку, близкому к Луначарскому и даже одно время бывшему его заместителем. На помощь Луначарского и рассчитывал Таганцев. Не помогло. Как и его письмо Ленину. В конце августа Владимир Таганцев, его жена и еще несколько десятков человек, в том числе поэт Николай Гумилёв, были расстреляны по обвинению в контрреволюционном заговоре. Николай Степанович Таганцев пережил сына всего на два года.
Адолий Сергеевич Родэ был мудрым человеком. Когда в конце 1921 года Максим Горький уезжает за границу, то же самое делает и Родэ, получивший литовское гражданство. Воскобойникова остаётся в России.
После того, как я уже раскопал эту историю с Домом учёных, мне довелось наткнуться на сайт «Социальная сеть города Пушкина». Там есть раздел «Персоналии», где содержится информация о выдающихся людях, связанных с бывшим Царским Селом. Так вот на букву «В» там упоминается Надежда Ивановна Воскобойникова, «вдова подъесаула, в 1916–1917 гг. старшая сестра госпиталя фрейлины А.А. Вырубовой в Царском Селе. Позднее заведующая общежитием и домом отдыха Дома учёных» (/ content/O/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/personalii- v.html).
Дался им этот подъесаул.
Счастливый брак
После 1921 года следы Воскобойниковой теряются на долгие семь лет. Все мои попытки узнать что-либо о жизни Надежды Ивановны в эти годы ни к чему не привели. Как жилось ей в это время? Еще недавно, пусть несколько месяцев, но она была среди людей, думавших, что вершат судьбами России, а на деле толкавших ее к гибели. К 1928 г. прошло лишь чуть больше десяти лет с тех дней, как с ней делилась самым сокровенным императрица, её ласкал Распутин, её капризы выполнял самый могущественный в стране министр. Потом она вполне благополучно пережила пещерное время гражданской войны, и пусть даже лишилась влиятельных при новой власти покровителей после отъезда за границу Горького и Родэ, но ей было только тридцать три, и она, конечно, успела завести обширные знакомства, в том числе и в Москве, в Народном комиссариате просвещения. Глядя на таких людей, как она, кажется, что они хорошо устроятся в жизни при любой ситуации. Только вот нам известно, что уже, по крайней мере, в начале 30-х, она была тяжело, неизлечимо больна. Годы борьбы за успех, а потом за существование не прошли для нее даром. Но что искала она рядом с парализованным, нищим, отброшенным на дно, отвергнутым властью писателем? Что случилось с ней за эти годы, чтобы она так настойчиво добивалась брака с Садовским? Повлияла болезнь? Наставила вера? Не будем фантазировать. Примем как данность. В тридцать девять лет Надежда Ивановна Воскобойникова стала женой сорокавосьмилетнего Бориса Александровича Садовского.
Что касается Бориса Александровича, то несмотря на своё положение он действительно все двадцатые годы вынашивал матримониальные планы. Первый раз Садовской женился еще до революции, в 1908 году, в 1909-м родился сын Александр. Брак не сложился, и уже в 1910 году супруги расстались. Своего сына он в последний раз видел в 1916-м в Ялте, откуда была родом его жена, Лидия Михайловна Саранчева. Эта встреча оказалась прощанием, потому что Садовской находился уже на грани паралича. Из того, что писал Борис Александрович об этих днях в своих биографических записках, очевидно, что его мучили воспоминания об утраченном сыне. И хотя он написал, что сын «исчез в пламени гражданской войны», какие-то известия об Александре и бывшей жене доходили до Садовского до конца 20-х годов. После этого времени Борис Александрович уже ничего не знал об их судьбе.
Сохранились письма, которые в 1921–1923 годах писал Садовскому Георгий Блок, известный филолог и двоюродный брат Александра Блока. Между ними возникла своеобразная дружба по переписке, в 1922 году Блок смог издать в Петрограде книгу Садовского «Морозные узоры». Из контекста писем Г. Блока ясно, что Борис Александрович писал ему о своих планах снова жениться. Мало того, по поручению Садовского Блок даже выступал, как он выразился, в роли «свахи», когда Борис Александрович нашел себе потенциальную невесту в Петрограде. Правда, брак Садовского с этой женщиной так и не состоялся. Очевидно, что женитьба была ему нужна во многом по прозаическим бытовым причинам. За ним кто-то должен был ухаживать. Но история брака Садовского и Воскобойниковой свидетельствует о том, что он искал еще и друга. Видимо, поэтому оказался недолговечным его брачный союз с княжной Татьяной Звенигородской, на которой он женился в 1925 году. В детстве с её братьями Андреем и Владимиром Садовской учился в нижегородском дворянском институте. Злой Борис Александрович вспоминал об этом так: «со мной учились два захудалых князька». На самом деле предком Звенигородских был святой князь Михаил Черниговский, а их отец считался весьма состоятельным помещиком. В дореволюционные годы Андрей Владимирович Звенигородский трудился в земстве и Нижегородской губернской управе, а также приобрел некоторую известность как поэт. После революции Звенигородские остались в России, хотя и сильно бедствовали. Брак Садовского и Татьяны Звенигородской оказался недолговечным, в 1926 году они расстались. Больная туберкулезом Татьяна плохо подходила на роль сиделки парализованного поэта.
В 1928 году в жизни Садовского появляется Надежда Ивановна Воскобойникова.
На вокзале она взяла извозчика. Денег было мало, но она везла заказанные им книги, а для поездки на трамвае это была неподъёмная ноша. Да еще свой чемоданчик, пусть и небольшой. В Нижнем она была впервые, и как всякий, с кем это случалось, была поражена размахом стрелки Оки и Волги, громадой речного берега с Кремлём. Сам Нижний, как и всякий русский город, оказался подобием Москвы с обилием церквей, на которые она истово крестилась, каменные, вполне городские дома, особняки и громады бывших доходных домов соседствовали с почти деревенскими усадьбами. Но после Москвы город казался пустынным: так мало было людей на улицах, так неторопливо и свободно уличное движение.
Они поздоровались. Сразу беря роль хозяйки, она захлопотала над самоваром. Поняла, что чашкой он пользоваться не мог, налила ему чай в стоявшую на столе кружку. Только теперь они могли рассмотреть друг друга. Он делал это открыто, не переставая расспрашивать о московских знакомых, а она бросала на него короткие взгляды, как будто проверяя, устраивают ли его ответы.
— А ведь мы с вами, Надежда Ивановна, знакомы еще по Петербургу, я не ошибаюсь? Не решался спросить вас об этом в письмах, ведь это было мимолетное знакомство. А вот увидел, и понял: да, это были вы.
Она нисколько не смутилась его вопросом. И в продолжение разговора уже неотрывно смотрела ему в глаза, словно их выражение было для неё важнее слов.
— Не ошибаетесь.
И закончила вроде бы по-женски предсказуемо, но он понял, что это был для неё действительно важный вопрос:
— И как вам кажется, я сильно изменилась?
— Что вы, я же сразу вас узнал. Хотя и изменились, конечно. Только я, думаю, сильней. Конечно, с физической точки зрения после шестнадцатого года в моем положении мало что поменялось. Зато мир вокруг и внутри меня переменился очень сильно. Ну а вы, вы по-прежнему очень хороши собой.
— И тут же, едва закончив комплимент, заговорил о том, что, как понимали оба, волновало их больше всего:
— Я о многом теперь жалею. О вражде с отцом, например. Здесь она ушла, но близость так и не вернулась. До самой его смерти. О многих своих увлечениях, в том числе и литературных. Но в главном я не изменился. Меня уже не переделаешь. И, слава Богу.
Он замолчал, а она тянула паузу, будто ожидая от него прямого вопроса о себе. Словно от того, задаст он его, или нет, что-то на самом деле зависело. И не дождавшись, ответила:
— Жалей/не жалей, все едино. Прошлое — только прошлое, и все. Я хочу, чтобы меня принимали такой, какая я сегодня. По-другому скажу. Уверена, что сегодня я другая, чем была когда-то. А лучше или хуже — не мне судить. Надеюсь, вы меня понимаете.
— Мне кажется, что да. На самом деле, мы об одном говорим, только с разных сторон смотрим. Главное, обрести веру друг в друга, а для этого надо знать…
Она вдруг положила свою ладонь на его живую, правую руку:
— Если вы о вере, то я согласна. И мы здесь едины. Если о прошлом и будущем России — то и в этом тоже. Если о нас, если мы хотим быть именно «мы», то ничего знать не нужно. Важно — какие мы сегодня и что ждём друг от друга. Вот вы, Борис Александрович, что вы ждете от меня?
Он не убрал руки.
— Хотите еще чаю?
Огромный, медный, опоясанный медалями мировых и всероссийских выставок самовар все еще приветливо посвистывал со стола.
За руку и сердце Бориса Александровича Надежде Ивановне пришлось выдержать настоящую борьбу. Ему активно сватали другую женщину, Нину Петровну Комарову-Оболенскую, известную в 20-е годы поэтессу-футуристеку, писавшую под псевдонимом Хабиас и в период НЭПа прославившуюся маловразумительными эротическими стихами. Знакомые называли ее «Ноки». Роман Нины Петровны с Садовским клонился к тому, чтобы «честным пирком да за свадебку», как увещевала дядю его племянница Софья Богодурова. Надежда Ивановна писала Борису Александровичу: «Вас постараются убедить бросить меня и полюбить Ноки». Но взбалмошной и поэтической натуре Ноки он предпочел спокойную и надежную Надю. Судя по её письмам, их отношения становились всё более дружескими. Садовского периодически посещали мысли о самоубийстве, и она писала ему: «Умоляю Вас, никогда не думайте о самоубийстве, выбросьте из головы это, Вы же верующий человек». Вполне возможно, что её старые связи в Наркомпросе не в меньшей степени, чем обращения туда известных писателей, помогли Садовскому получить жильё в Новодевичьем монастыре. Об этом свидетельствует и тот факт, что вскоре в Новодевичий из Нижнего Тагила перебралась и её сестра Анна. Перед войной Анна Ивановна, по мужу Аббасова, работала редактором в «Государственном издательстве местной промышленности». Тоже, между прочим, занятие, не слишком традиционное для донской казачки. Надежда Ивановна так описывала ему прелести будущей монастырской жизни: «Днем Вы будете сидеть на кладбище, а утром и вечером у себя… Вы будете работать, и к Вам будут заходить друзья для Ваших дел и развлечений». Так оно, собственно говоря, и получилось.
В 1929 году Борис Александрович написал стихотворение, которое посвятил жене. Оно так и называется: «Н.И. Садовской».
«Умчалась муза самоварная
С её холодным кипятком,
На сердце молодость угарная
Дымит последним угольком.
Как блудный сын на зов отеческий,
И я в одиннадцатый час
Вернулся к жизни человеческой,
А мёртвый самовар угас.
И потускнел уюта бедного
Обманчиво-блестящий круг,
Когда на место друга медного,
Явился настоящий друг».
По воспоминаниям свидетелей их совместной жизни, отношения Бориса и Надежды были именно дружбой, дружбой нежной и преданной. Той самой, что больше чем любовь. Что касается самовара, то для поэзии Садовского этот образ, как символ дома, был очень важен, и он часто к нему прибегал. С Надеждой Ивановной Борис Александрович обрел не только прочный, пусть и не слишком богатый быт, но и, самое главное, покой и счастье. В 1931 г. он написал стихотворение «В день рождения Нади», где среди прочих были и такие строки:
«Создать стишок сентиментальный
Для многих дам немудрено.
Но быть хозяйкой гениальной
Не всякой женщине дано.
Пусть наше радостное счастье
Весенний ангел сторожит».
В «деле» «Операция «Монастырь» сохранилось составленное чекистами описание жилища семьи Садовских. Оно относится к 1941 году, но вряд ли в нём что-либо сильно изменилось с 30-х годов, лучшего времени в совместной жизни Бориса Александровича и Надежды Ивановны: «.Проживает Садовский в подвале церкви Новодевичьего монастыря. В подвал имеется отдельный вход, его квартира составляет 60–70 кв. метров. До 1929 г. в этом подвале помещался «красный уголок» данного домоуправления, впоследствии отошёл под квартиру Садовского, который в ней и проживает с 1929 г… При входе в квартиру Садовского с правой стороны двери висит голова — чучело волка, с левой стороны — чучело тетерева, далее квартира перегорожена 7–9 фанерными ширмами, из-за которых виднеются шкафы с книгами, на некоторых шкафах стоят человеческие черепа. Одна стена комнаты завешена куском материи, из которой шьют поповские рясы, на правой стене комнаты висит большой портрет женщины наподобие иконы».
В монастыре Садовского постоянно навещали старые знакомые, бывала и молодёжь. Так, например, вдова его старинного друга, поэта и художника Владимира Юнгера Зоя Юнгер, к которой Борис Александрович был когда-то неравнодушен, привезла к нему свою дочь, в будущем знаменитую ленинградскую актрису, Елену Юнгер, оставившую воспоминания об этой встрече. Судя по всему, молодёжь, не подпавшую под власть большевистской пропаганды, влекли к Садовскому и его неординарные взгляды. 23 января 1942 года начальники 3-го и 4-го управлений НКВД СССР Николай Горлинский и Павел Судоплатов совместно докладывали заместителю наркома внутренних дел СССР Богдану Кобулову: «В 1933 году органами НКВД была вскрыта и ликвидирована монархическая группа молодежи, группировавшаяся вокруг Садовского, сам Садовский арестован не был. Ликвидированная группа уже тогда ориентировалась на германский фашизм. Вторая группировка, созданная Садовским, была ликвидирована в 1935 г., и, наконец, третья группа (Раздольского) была вскрыта СПУ НКВД СССР в начале 1941 г…… Неизвестно, какова доля правды в этой информации, но если она хотя бы частично справедлива, то возникает вопрос: как мог Садовский привечать очередную группу молодёжи, зная о судьбе предыдущей или хотя бы догадываясь о ней? Или эгоистическая тяга быть услышанным оказывалась сильнее угрызений совести? Да и были ли они?
Сотрудники НКВД рецензировали и литературное творчество Садовского: «.. Под столом у него старинный кожаный чемодан с его рукописями, приготовленными для печати. Литературные произведения Садовского — нечто единственное в своем роде. В художественной форме, порой высокого качества, в них прославляются русские цари, проповедуется православная церковность самого узкого и реакционного типа, выявляется ярчайший антисемитизм, связанный с такой ненавистью к революции, которую никогда не высказывал никто из писавших на русском языке. У Садовского есть программа, которая сводится чуть не к восстановлению крепостного права, во всяком случае, к восстановлению в полном объёме прав помещиков. Садовский ненавидит всю интеллигенцию, всю передовую мысль, все «либеральное». Он полностью приветствует «сильную руку», немецкое начало в русской истории, поэтому и Гитлера». Кстати о чемоданах под столом. Именно Садовскому, уезжая в 1941 году в эвакуацию, принесла чемодан с частью своего архива Марина Цветаева. Значит, доверяла. И он его сохранил. В 1944 году этот чемодан забрала дочь поэтессы, Ариадна Эфрон.
Из донесений агентов НКВД можно узнать и как выглядел Борис Александрович: «Сам Садовский производит странное впечатление. Он паралитик, но лицо его и голова не затронуты. У него особая мысль, четкий голос. Одет Садовский в чёрный без воротника халат, в чёрную, с высоким воротником рубаху, вместо пуговиц пришиты какие-то медные бляхи, сам Садовский лысый, лицо продолговатое — худое, очень бледное, носит бороду, аккуратно подстриженную клином, на руках кольцо. От жильцов дома известно, что Садовского выносит жена из квартиры только летом на солнце, всё свое время он проводит за книгами и чего-то пишет, человек он добродушный, случаев, чтобы он не пускал в свою комнату кого-либо из людей, не наблюдалось». Таким, как он описан в этом донесении, предстаёт Садовский и на фотографии 1940 года — сидящим перед входом в своё монастырское жилище. Склонность Бориса Александровича к мистификациям проявлялась и в том, что иногда для встречи гостей он цеплял на свой «халат» царский орден Святого Владимира. Думаю, это был орден, принадлежавший его отцу.
Ну а что же Надежда Ивановна? Из писем Бориса Александровича ясно, что уже в 1933 году она тяжело болела, лечилась не только в Москве, но и в Ленинграде. В одной из современных чекистских книжек об операции «Монастырь» утверждается, что «жена Садовского гадала на картах и давала сеансы спиритуализма. Её посещали жены высокопоставленных деятелей, например супруга члена Политбюро А.И. Микояна». Источник этой информации мне неизвестен, но в материалах архивного дела, посвящённого операции «Монастырь», говорится о том, что Надежда Ивановна действительно увлекалась гаданием на картах. Судя по всему, к началу войны она, которой было только пятьдесят два, все более теряла жизненные силы. Из сохранившейся домовой книги известно, что к тому времени она была инвалидом II группы. Как докладывал один из агентов НКВД в первые месяцы войны, «по внешнем виду Садовская Н.И. неопрятная, очень грязная, волосы рыжие — длинные, как будто месяц непричёсанные; одета в грязную рваную белую кофточку и черную, также рваную юбку». Время безнадежно уходило. От той женщины, что когда-то пленяла сенаторов и министров, оставалась только её память. Но и ей было жить недолго.
Часть вторая. Герои
«Монастырь» начинается
Начало операции «Монастырь» Судоплатов описывает как-то сумбурно. Это можно, конечно, списать на изъяны старческой памяти, но создаётся впечатление, что воцарившийся после начала войны хаос затронул и центральные службы органов безопасности. Как иначе понять, почему агент Александр Демьянов, которого берегли, чтобы после нападения немцев использовать в серьёзной оперативной игре с ними, пошёл и записался добровольцем в кавалерийскую часть вместо того, чтобы ждать указаний от своих руководителей с Лубянки. Тем более, что, по словам Судоплатова, после его контактов с немцами на деле Демьянова была поставлена отметка об особой важности агента. По одной из версий, даже в декабре 1941 года, незадолго до начала операции, он официально не имел работы, так как был уволен с «Мосфильма» по сокращению штатов. Если бы немцы взялись всерьёз его проверять, то у них не могло не возникнуть вопроса: что в течение нескольких месяцев делает в прифронтовой Москве молодой здоровый мужчина без определённых занятий? По другой версии, согласно воспоминаниям Татьяны Березанцевой, он, после перехода линии фронта, представился немцам работником Клав кино проката, куда был оформлен в ходе подготовки операции.
Нужно отметить, и об этом уже писали исследователи операции «Монастырь», её участников Судоплатов отчаянно путает. Главным действующим лицом легендированной организации «Престол» он называет некоего Глебова, «бывшего предводителя дворянского собрания Нижнего Новгорода», который «пользовался известностью в кругах бывшей аристократии: именно он приветствовал в Костроме в 1915 году царскую семью по случаю торжественного празднования 300-летия Дома Романовых». Как мы уже знаем, в НКВД пылали какой-то ущербной страстью к наделению собственных агентов и фигурантов разрабатываемых дел аристократическим прошлым. Поэтому и жена Глебова, естественно, «была своим человеком при дворе последней российской императрицы Александры Фёдоровны». Все это, конечно, чекистская мифология. Не говоря уж о том, что в 1915 году празднование 300-летия романовской династии давно миновало, а самим Романовым в разгар войны было не до визитов в Кострому, где они, действительно, были, но только в год юбилея, в 1913-м. История о Глебове не выдерживает и проверки опубликованными по делу «Монастырь» документами НКВД. Там перечислены все его участники, и никакого Глебова в них нет. Зато упоминание о том, что мифический Глебов жил в Новодевичьем монастыре, заставляет подозревать — Судоплатов путает его с вполне реальным Садовским, зачисленным им вместе со «скульптором» Сидоровым во второстепенные члены организации «Престол». Один из современных чекистов-писателей, создал труд об операции «Монастырь», по смеси правды и вымысла напоминающий плохо разработанную шпионскую легенду. Считая, по-видимому, что старший по званию Судоплатов ошибаться не мог, он упорно пытался выискать Глебова среди агентуры НКВД того времени (libok.net>.6328...eduard/sudoplatovprotivkanarisa). В книге о деятельности СМЕРША компетентные товарищи из архива ФСБ справедливо заметили в его адрес, что эти поиски напрасны, когда в деле фигурирует Борис Садовский — «бывший придворный поэт, знатный дворянин и богатый помещик, все потерявший с приходом большевиков. Человек, которого не публиковали в СССР, но его «поэмы», в том числе и та, где он приветствует немцев, широко печатались в Германии, а его жена была фрейлиной императрицы». В кавычки я забрал только некоторую часть небылиц о Садовском и его жене, и сегодня гуляющих по сайтам различных организаций, в том числе и претендующих на государственную значимость и достоверность распространяемой информации (например: %3D10318 071@ fsbPublication.html).
Так что же случилось с памятью Судоплатова на этот раз? Откуда взялся совершенно, судя по всему, фантастический Глебов? Размышляя об этом, я вдруг подумал: а что если дело не только в памяти? Ведь в первые месяцы войны Судоплатов нес огромный груз обязанностей по развертыванию партизанской борьбы и диверсионной работы, организовывал части специального назначения, готовил подполье в Москве на случай ее захвата немцами, руководил минированием важнейших объектов столицы. Вполне возможно, что у него просто не было возможности, да и необходимости вникать в детали операции, которыми непосредственно занимались Маклярский и Ильин. Ну, а полвека спустя они тем более могли стереться из памяти, смешаться с деталями каких-то других оперативных комбинаций тех дней. А вполне простительное и понятное желание мемуариста показать свою компетентность помогало памяти заменять вымыслом ускользнувшие от нее, или даже никогда не знакомые ей частности.
А, может быть, на каком-то этапе подготовки «Монастыря» в НКВД, говоря о Садовском, для секретности использовали оперативное имя «Глебов»?
«Престол»
Шли через кладбище. Они подумали, что так от трамвая будет короче. Знали, что кладбище в чести: на нем хоронят партийных деятелей второго ранга, не удостоившихся места в Кремлевской стене, знаменитых московских писателей, артистов и разбившихся аэронавтов. Но надежда на ухоженные дорожки и короткий путь оказалась напрасной. Порядок на кладбище держался только местами, у особо важных могил, а так, чтобы выйти к церкви, пришлось долго пробираться среди заброшенных дореволюционных надгробий и склепов. Зрелая августовская зелень огромных деревьев, помнивших, наверное, томившуюся в монастыре царевну Софью, укрывала их от жары, доцветали верхушки иван-чая, крапива стояла в человеческий рост. «Действительно, покойное место», — попытался пошутить Александр. Татьяна его тона не поддержала: она читала имена на замшелых могилах и покосившихся памятниках. Ей казалось, что многие из них не заслуживали такого забвения. Так, шаг в шаг, он впереди, она сзади, они и вышли к церкви.
Борис Александрович в своем неизменном балахоне с серебряными пуговицами и, несмотря на жару, в сапогах сидел в кресле у церковной стены. Он явно ждал их, ведь встреча была условлена в прошлый раз, при знакомстве.
— Надя, Надя! Александр Петрович и Татьяна Борисовна пришли!
Несмотря на то, что при первой встрече они просили называть их по именам, Садовской категорически возражал:
— Молодые люди вашего воспитания и происхождения, как и мы, старшее поколение, обломки, так сказать, проклятого окружающими прошлого, должны подавать пример уважения друг к другу. Нести миссию. Спасаться, в том числе, и этим. Кругом и так одно хамство. Никаких Манек и Ванек! Только Александр Петрович и Татьяна Борисовна!
Из низкой двери жилища Садовских вышла, вытирая руки о фартук, Надежда Ивановна. Алексей сумел довольно изящно поцеловать её протянутую для пожатия руку. Она ее не отдернула, не застеснялась трудовой огрубелости своей руки. Как, очевидно, не стеснялась и своей неопрятной, местами нечиненой одежды. В лицо она гостям не смотрела, но еще в прошлый раз Демьянов заметил, что её взгляд оживает только когда к ней обращается муж, да и то на мгновение. Он знал, что жена Садовского давно и тяжело больна.
У Садовских всё уже было явно договорено, потому что после приветствий Надежда Ивановна подхватила Татьяну под руку:
— Татьяна Борисовна! Не успеваю с обедом, а одной на кухне скучно. Не составите мне компанию? А мужчины пусть пока здесь воздухом подышат, побеседуют. Не возражаете?
А сама уже увлекала Татьяну внутрь подвала их квартиры, мало чем отличавшейся, по Таниному мнению, от склепа. Только с мебелью, вещами и книгами.
— Присаживайтесь, Александр Петрович!
Медленным, трудным кивком головы Садовский указал на заранее приготовленный стул, стоящий рядом с его креслом. Говорил он хоть и негромко, но особенно и не таясь:
— Ну что, судя по их же сводкам, дела у большевиков все хуже и хуже.
— Напротив, мне кажется, в последние дни фронт начал стабилизироваться. После полутора месяцев непрерывного наступления немцы выдыхаются. Что в районе Смоленска, что под Ленинградом. Да и на Украине тоже.
— Вы что, Александр Петрович, несмотря на мою откровенность при первой встрече, всё ещё мне не доверяете, что решили заговорить словами Совинформбюро? А что касается немцев, то эта задержка — просто тактическая передышка перед решающим броском на Москву, Петербург и Киев.
Демьянов решил немного обидеться.
— Борис Александрович, я слишком много говорил о себе в прошлый раз, да еще при свидетелях, чтобы продолжать изображать советского патриота. Но у меня есть сомнения, и они не дают мне покоя. Почему вы так уверены, что приход немцев принесет нам освобождение, а не рабство, как об этом голосят большевики? Ведь мой отец погиб в войне с ними, а ту войну, помнится, тоже сначала называли отечественной, а не империалистической.
Садовской внимательно посмотрел на Демьянова, тот взгляда не отвёл. Потом улыбнулся своей скошенной улыбкой и заговорил с заметным воодушевлением:
— Уверен, что прежде чем впервые прийти сюда, вы Александр Петрович, внимательно изучали меня и моё окружение. Вы умный и осторожный человек. У меня по вашему поводу было сначала два мнения. Первым побуждением было посчитать вас чекистским агентом. Ведь как вы с вашим происхождением могли прожить на свободе все эти годы? А когда навёл справки, то понял. Вы умный человек, Александр Петрович. Ничего о себе не скрываете, на виду, среди той части богемы, которую почти не трогают, среди актёров и режиссёров синематографа, несколько легкомысленны, слегка, по средствам, кутите, играете на скачках, женились на дочери нужного кремлевскому населению доктора. Вы только не обижайтесь, такой откровенный разговор между нами был обязательно нужен, чтобы избежать недоразумений в дальнейшем. Я вас не обидел? Я прав?
— Продолжайте, Борис Александрович, я понимаю и принимаю все ваши сомнения. И своими тоже поделюсь.
— Ну и прекрасно. Отвечу вам со всей возможной искренностью и уж точно не солгу. Когда мне предложили встретиться с вами, и я стал доступными мне способами изучать вас, то большинство знакомых наших общих знакомых, а таковые нашлись: мир культурной или мнящей себя таковой Москвы очень узок, так вот, эти люди отзывались о вас как о пустейшем субъекте. Но человека, рекомендовавшего вас, я знаю тридцать лет, и я ему доверяю. Поэтому и согласился на встречу. Вы оказались именно таким, каким рекомендовал вас мой старый друг: умным, самостоятельно мыслящим человеком. Что в Совдепии, да вы и сами это знаете, большая редкость. И мне кажется, что я понял вашу игру: быть на виду, демонстрируя полную ничтожность. Для вас это оказалось успешной стратегией выживания. Но это не значит, что она будет успешной всегда. Особенно во время войны. Вы же молоды. Вас должны мобилизовать. Вы становитесь слишком заметны. Чем вы вообще сейчас заняты, извините за назойливость?
— Ну что вы, Борис Александрович, резонный вопрос. Статус у меня для советского государства странный. Я уволен по сокращению штатов. То есть безработный. Студия готовится к эвакуации. Ну а я собираюсь пойти добровольцем. Я ведь потомственный казак! И у меня есть протекция — устроюсь в кавалерию.
— Похвальное рвение.
Произнесено это было с характерной для Садовского, как уже понял Демьянов, несколько подчёркнутой иронией.
— А что касается моего способа выживания, то, наверное, вы правы. Только скажу честно — это было, скорее, бессознательное приспособление, мимикрия, чем продуманная стратегия. Просто, как говорят мои друзья актеры, я шел от себя, от своей органики, от чутья, может быть. Ну, и, наконец, мне просто везло. А вы, Борис Александрович? Не слишком ли много вокруг вас людей? Среди них, без сомнения, есть агенты НКВД. И вы ни в ком не можете быть уверены. Я ведь, например, несмотря на ваши тонкие умозаключения, тоже вполне могу им оказаться. Как отделить сохранивших веру и убеждения от тех, для кого Родина — пустой звук?
— Бог поможет Александр Петрович. Вера. Даже если вокруг меня все — агенты НКВД, значит это нужно Господу и России. Для чего — не мне судить. Тешу себя надеждой, что для урока, а не только для наказания.
Садовской с трудом трижды перекрестился, и Демьянов вслед за ним. Борис Александрович понял, что собеседник озадачен таким ответом. И это доставило ему удовольствие. Александр, снова нащупывая нужную ему нить разговора, спросил:
— А немцы — они для урока? Для наказания? Или то и другое вместе?
— Ну что ж, вот мы и вернулись к вашим сомнениям. Главное, что немцы в помощь. Своей железной метлой они выметут из России коммунизм, эту смертельную болезнь, ведущую страну к гибели. Конечно, спасая свою власть, спасая себя, большевики увлекут к гибели огромное число наших соотечественников, ибо германская военная машина страшна. Но если Сталин и его присные смогут устоять и выйдут победителями из этой войны, будет еще хуже. Тогда России точно конец. Спросите почему? Потому что остановиться они не смогут. Им тогда опять, как при Ленине и Троцком, понадобится весь мир. И заплатит за эту авантюру остатками своих сил и последними запасами веры русский народ. А авантюра неизбежно и трагично для нашей страны закончится поражением. Потому что не по Сеньке шапка — мир завоевать.
— А немцы? — на мгновение, только на мгновение Демьянову показалось, что в словах Садовского есть какая-то правда, но он не мог, не имел права сохранить в своём сердце даже воспоминание об этой лживой правде, когда немцы уже в ста километрах от Ленинграда и в трехстах — от Москвы, когда они атакуют Киев. Это было бы предательством по отношению к поколениям предков — воинов, отдававших свои жизни за то, чтобы Россия была великой и непобедимой, предательством тех, кто в эти минуты умирал на поле боя или шел на бой.
— И немцы не смогут. Ещё после той мировой войны соотношение сил в мире неумолимо изменилось. Америка — вот сила. И если немцы с японцами раздразнят её всерьез, то ни Германии, ни Японии не устоять. Рано или поздно, но немцы эту войну проиграют. Для нас главное — воспользоваться ими и избавиться от коммунизма. Пусть дойдут до Урала, до Енисея, пусть дойдут до той точки, когда остатки коммунистов сбегут или запросят нового Брестского мира.
— Но что будет с теми, кто окажется под властью немцев?
— За все на свете, дорогой Александр Петрович, нужно платить. И рано или поздно, но русский народ сполна расплатится и за 1917-й год, и за то, что покорился большевикам, что поддался их соблазну. Он уже платит четверть века, да, видно, больно грех велик, невиданной в истории платы требует. Поймите, с поражением СССР война не закончится, откроются новые фронты, а немцам как-то огромную территорию оккупированной России в руках держать будет надо. Без опоры на самих русских у них ничего не получится, какими иллюзиями они себя не тешили. А когда немцы начнут проигрывать войну американцам, вот тогда и прорастёт из этих зерен новая русская власть, но уже никогда потерпевший поражение коммунизм не станет нашим искушением. И сопротивление появится, и явятся новые Минины и Пожарские. Демьяновы, например. И новая русская армия будет, и новый царь-самодержец. Потому как, вот он главный урок, что следует выучить: Россия без самодержавия обречена. Альтернатива — кровавая диктатура и хаос. А наша задача сейчас состоит в том, чтобы первые зёрнышки посеять. И даст Бог, они прорастут. А немцы, сами того не желая, помогут нам возделать для этого почву.
Садовский замолчал и, задрав голову, высоко, как только мог, смотрел на Демьянова. Все что он сказал, было явно хорошо и давно им продумано. И Демьянов вдруг ясно понял, что этот парализованный человек действительно убеждён в реальности его плана спасения России. И как всякого фанатика, цена его не пугала.
В дверях жилища Садовских появилась Надежда Ивановна, бросила взгляд на мужа, поняла, что можно, и пригласила их к столу. Через час Александр и Татьяна откланялись. Закончив мыть посуду, Надежда Ивановна присела рядом с мужем, все время её хлопот по дому сидевшим в задумчивости, и спросила:
— Ну что ты теперь о нём скажешь?
— Не глуп и может очень нам пригодиться. А с Лубянки он, или нет — дело второе. Пусть даже оттуда. Так даже лучше. Они думают, что используют нас как пешек. Ну а мы, придет время, используем их.
«Отмыкается рукой врага»
Итак, мы знаем, что Борис Садовский и Надежда Воскобойникова ждали прихода немцев как освободителей от большевистской тирании и наивно мечтали о том, что это приведёт к возрождению самодержавия в России. Несомненно, что таких мечтателей-монархистов в стране в 1941 году было ничтожно мало. Может быть, вообще только эти двое. Но возникает вопрос: почему немцы, известные своим основательным подходом, в том числе и в делах разведки, достаточно легко поверили легенде о существовании организации «Престол»? Абвер пал жертвой собственной веры в заклинания нацистских вождей о том, что Советский Союз — «колосс на глиняных ногах»? В то, что значительная часть населения готова поддержать немецкое вторжение, лишь бы избавиться от власти «жидов и коммунистов»? Или же у немцев были определённые основания надеяться на существование в СССР, как тогда говорили по испанскому опыту, «пятой колонны»? И не только в недавно присоединённых Прибалтике, на Западной Украине и в Западной Белоруссии, где немцев, особенно в самом начале оккупации, значительная часть населения действительно встретила вполне благожелательно, а кое-где и с восторгом? Конечно, это одна из самых болезненных тем в истории Великой Отечественной войны. Но и просто отмахнуться от вопроса, почему сотни тысяч военнопленных, как русских, так и граждан СССР других национальностей, а также миллионы гражданских лиц пошли на службу к немцам, невозможно хотя бы потому, что этих людей было так много. По данным современных историков, военных коллаборационистов было, по разным оценкам, от 1 до 1,5 млн. человек, а в гражданской сфере с оккупантами сотрудничали около 22 миллионов граждан СССР. Из них 20,8 миллиона — крестьяне, составлявшие 2/3 населения страны ().
И простых ответов на этот вопрос нет. Спасали свою жизнь? Несомненно, но только ли это? В подавляющем своем большинстве они выросли и воспитывались при советской власти. Почему же они предали её? Советская семья и школа так плохо воспитывали, что взрастили такое количество трусов, подлецов и предателей? Что было в головах у тех тысяч и тысяч, что попали в плен в первые недели и месяцы войны? Они растерялись? Их охватила паника и страх? Ими плохо командовали или не командовали вовсе? Все это было. Нет сомнений. Но было и другое: в сознании значительной части населения страны понятия «Родина» и «Советская власть» отнюдь не были синонимами. Мало того, коммунисты за четверть века своего правления здорово потрудились для того, чтобы значительное число людей продолжало верить — крушение коммунистического режима пойдет только на благо Родины. Но Германия и ее армия, ведомые своими нацистскими вождями, с самого начала повели войну не только и не столько с коммунистическим режимом, сколько с народом, на который они напали. Понадобилось время, пусть короткое, но время, чтобы люди узнали страшную правду и поняли, что враг ведёт невиданную в истории войну — войну на уничтожение их Родины, их тысячелетнего государства, культуры, их самих, наконец. И война стала воистину народной, Отечественной. Но даже тогда нашлось немало бывших граждан СССР, русских и не русских, чья ненависть к коммунизму оказалась столь сильной, что они навеки покрыли себя позором, не только закрыв глаза на все преступления фашизма, но и соучаствуя в них до самого конца. Грустно, но факт: штаты немецкой пехотной дивизии в 1943 г. предусматривали наличие 2050 русских на 10708 немцев, т. е. почти 20 % от ее общений численности (^po6a3Ko/PyccKaa_ocBo6oflm^bHaa_apMHa/0/).
По мнению одного из историков, специалиста по истории коллаборационизма в нашей стране в годы войны, советские коллаборационисты ввиду их количества, определяемого в 1–1,5 млн. чел., составили 6–8 % от мобилизационного ресурса Германии. Правомерно утверждать, что вооружённое выступление такого количества граждан СССР на стороне противника отсрочило разгром гитлеровской Германии на несколько месяцев (-ermolov-tri-goda-bez-stalina-okkupatsiya-sovetskie-grajdane-mejdu-natsista mi-i-bolshevikami-1941-1944/).
А в начале войны, когда еще не открылась эта бездна правды о германском фашизме, очень многие видели в немцах цивилизованную нацию, надеялись на знаменитый немецкий порядок. Напрасные иллюзии по поводу немцев стали уделом не только Садовского и Воскобойниковой. Какую боль за Россию и ее людей, какое чувство безысходности должен был испытывать философ и поэт Даниил Андреев, сын писателя Леонида Андреева, чтобы написать в стихотворении «Беженцы», созданном в первые месяцы войны:
«В уцелевших храмах, за вечернями
Плачут ниц на стёршемся полу:
О погибших в битвах за Восток,
Об ушедших в дальние снега,
И о том, что родина — острог
Отмыкается рукой врага».
Но когда его призвали в ряды Красной армии, Андреев не уронил ни своей человеческой, ни воинской чести. Он узнал блокаду Ленинграда, дивизия, где Андреев служил простым солдатом, участвовала в ее прорыве, а потом, после войны, в тюремной ночи Владимирского централа, он сочинит начальные строчки своего «Ленинградского Апокалипсиса»:
«Ночные ветры! Выси черные
Над снежным гробом Ленинграда!
Вы — испытанье; в вас — награда;
И зорче ордена храню
Ту ночь, когда шаги упорные
Я слил во тьме Ледовой трассы
С угрюмым шагом русской расы,
До глаз закованной в броню».
Тем не менее симптоматично, что один из авторов, писавших об операции «Монастырь» и о роли Садовского в ней ещё до публикации архивных материалов об этой комбинации советской разведки, даже предположил, что Судоплатов перепутал или сознательно скрыл истину, а настоящим главой вымышленного «Престола» мог быть как раз Даниил Андреев (mirknig.com>2008/08/ll/okhota… Stalina... gitlera.html).
Объясню, почему я позволил себе заговорить на тему патриотизма и предательства в годы войны, о которой много, хорошо, убедительно написано и сказано и без меня. Я сделал это только для того, чтобы лучше понять мотивы Садовского, так легко попавшегося на удочку НКВД. Но что происходило дальше с его душой? Когда немцы были остановлены и отброшены от Москвы, а в ходе зимнего наступления 1941–1942 годов освобождены многие города и деревни. Когда в газетах стали рассказывать о тех зверствах и преступлениях, что творились оккупантами в этих городах и селах. Считал всё это большевистской пропагандой? Убеждал себя в этом? Не читал газет, не говорил о страшных новостях с теми, кто посещал его? Но ведь радио-то у него было, его-то он слушал! Теперь мы знаем, что, по крайней мере, до середины февраля 1942 года он несмотря ни на что с упоением продолжал играть роль руководителя мифической монархической организации. Но почему-то даже сейчас я не считаю себя вправе вынести ему окончательный приговор. Тем более что не сделал этого и НКВД.
Согласно мемуарам Судоплатова, знакомство Александра Демьянова с главой будущего «Престола», которого он упорно называет Глебовым, состоялось, когда они с женой Татьяной, к тому времени уже тоже агентом, пришли в Новодевичий монастырь якобы для того, чтобы получить в церкви монастыря благословение Александру перед его отправкой на фронт, в кавалерию. Здесь явно очередная неувязка — церковь в монастыре давно была закрыта. А вот описанный Судоплатовым способ войти в доверие к Садовскому, использованный Демьяновым, выглядит правдоподобно. Александр проявил «жаркий интерес к истории России», который, по-видимому, с удовольствием стал утолять Борис Александрович, нашедший благодарного слушателя. Человеком, их познакомившим, был, скорее всего, агент «Старый» — Алексей Сидоров. Садовской явно доверял ему, а кто, кроме вхожего в разные интеллигентские круги Сидорова, мог отыскать в военной Москве лета 1941 года еще одного убеждённого монархиста, да ещё молодого? В дальнейшем Демьянов начал бывать у Садовских регулярно, убеждая их в том, что вполне разделяет их надежды и на приход немцев, и на монархическое будущее России. Залогом честности Александра, без сомнения, служили рассказы о судьбе членов его семьи, о его происхождении и ненависти к большевикам, загубившим Демьянову жизнь. Думаю, в этих рассказах ему легко было предстать искренним и правдоподобным.
Задачей НКВД в целом и Демьянова в частности было заставить Садовского поверить в то, что в Москве много людей, разделяющих его взгляды, и они действительно могут составить организацию, с которой будут считаться немцы в случае оккупации столицы. Маклярский, непосредственно руководивший операцией, подбирал «доверенных людей», или просто сотрудников НКВД, способных укрепить эту веру, а Демьянов, по словам Судоплатова, приводил этих людей для знакомства и разговоров в Новодевичий. Игра велась до начала декабря, когда ситуация на фронте изменилась и Красная Армия перешла в наступление. К новому, 1942 году непосредственная угроза Москве миновала, и тогда руководителям операции «Монастырь», столько усилий потратившим на её подготовку, пришла в голову идея все-таки продолжить её, но уже с несколько иными целями.
В литературе об операции «Монастырь» высказывалась мысль о том, что Садовской тоже был завербован НКВД. «Борис Садовской никак не мог бы активно помогать фашистам… он был уже на прочной привязи у НКВД. Участвовать же в мистификации, обманывать гитлеровцев для него. как раз явилось делом увлекательным и полезным для существования. Возможно, что это было последним неординарным поступком в его жизни. И он без особых колебаний согласился с требованиями и указаниями советских контрразведчиков». Возможно, так оно и было, однако эта версия противоречит отчету Демьянова о встречи с Садовским накануне перехода линии фронта и его более поздними воспоминаниями об этом событии: «До отъезда я побывал у одного видного члена организации, который меня благословил. Получил явку от руководителей на Берлин (если мне удастся добраться)». О каких руководителях идет речь, из этих слов Демьянова неясно. Судоплатов и его люди? Или Садовский, имевший какие-то контакты с Германией, не подконтрольные НКВД? Пока это остается загадкой.
В дальнейшем мы ещё поговорим о вкладе разведки в ход Великой Отечественной и, шире, Второй мировой войны в целом. Сейчас же отмечу, что популярной формой борьбы разведок в это время, благодаря новым техническим возможностям, стали так называемые «радиоигры». Союзники по антигитлеровской коалиции и их противники провели за время войны десятки, если не сотни таких операций. Их главной целью была дезинформация противника. Обычно началом игры служила перевербовка вражеского радиста, чей «почерк» работы на передатчике был хорошо известен пославшей его стороне.
Да что я об этом рассказываю: вы всё это не раз видели в кино или по телевизору. Мало какой фильм о поединке разведок того времени обходится без подобного рода историй. Но в случае с операцией «Монастырь» комбинация была задумана куда сложнее обычной. Было решено внедрить в немецкую разведку своего агента. Задача перед этим агентом стояла сложнейшая. Он должен был благополучно перейти линию фронта, заинтересовать немецкую разведку, заставить её поверить как в подготовленную для него легенду и желание всеми силами помогать Германии в борьбе с большевиками, так и в реальность существования способной к эффективной деятельности организации «Престол», а потом вернуться в Москву уже немецким агентом. Или, что ещё лучше, остаться у немцев, внедриться в Абвер и только потом искать связи с московским руководством. В дальнейшем радиоигра этого разведчика должна была быть подкреплена отловом, уничтожением и перевербовкой тех агентов, которых немцы будут направлять для активизации разведывательной и диверсионной деятельности «Престола». Выполнить это задание было поручено Александру Демьянову. По данным оперативного «дела» «Монастырь», Демьянов пошел на его выполнение сознательно и в процессе подготовки ни на минуту не терял присутствия духа.
Для закрепления легенды, под прикрытием которой ему предстояло перейти линию фронта, Демьянов отправился к Садовскому, чтобы изложить ему «свой» план: раз немцы временно отступили от Москвы, то нужно не ждать их нового наступления, а самим попытаться установить с ними связь. Это придаст их организации только дополнительный вес в глазах столь желанного союзника. И он, Александр Демьянов, готов рискнуть и пробраться в расположение германской армии, чтобы там знали — в столице России есть люди, готовые с её помощью вступить в борьбу с большевиками. Судя по всему, эта идею Садовской поддержал с энтузиазмом, о чём, например, свидетельствует донесение одного из агентов, посетившего под видом преданного соратника чету Садовских 31 января 1942 года. Главной темой их разговора был предстоящий Демьянову переход линии фронта. Агент докладывал: «Надежда Ивановна возвращается с картами, начинает гадать Александру Петровичу, по её словам выходит «трудный путь, но блестящий успех». Незадолго до начала операции побывал в Новодевичьем монастыре и сам герой. Отчёт агента, присутствовавшего при этом визите, полон злой иронии: «Самое «важное» произошло в конце вечера. После «гадания» Садовский маленькой иконкой благословил Александра Петровича и трижды его облобызал. Сделано это было определённо Садовским как «главой движения». Как «вождь» Садовский себя всё время и держал». Кто был этот неизвестный агент? Все тот же Сидоров? Тогда, похоже, неприязнь к Садовскому он пронёс через всю жизнь, и описана эта сцена так едко явно не только из чувства долга. За что не любил? За то, что Родине изменил и готов был на сотрудничество с немцами, — это понятно. А может, ещё и потому, о чем когда-то писал Волошину — за то, что, в отличие от него, Сидорова, никогда не изменял себе?
Задание Садовского
Пока Надежда Ивановна раскладывала карты, Борис Александрович снова заговорил.
— Ну что ж, мы почти все обсудили.
А потом вдруг сказал Сидорову:
— Алексей, не в службу, а в дружбу — сходите, пожалуйста, к Шереметевым. Они говорили, у них настоящий чай есть и грозились поделиться. А тут такой случай, Александр Петрович уезжает, так настоящим чаепитием и отметим.
Сидоров, ни слова ни говоря, оделся и вышел. Он старался подыгрывать Садовскому в исполнении взятой им роли руководителя организации. Садовской дождался его ухода и обратился к Демьянову:
— А теперь самое главное. Задайтесь вопросом: какой смысл в существовании нашей организации и в том подвиге, что вы собираетесь совершить, Александр Петрович, если об этом не будет знать наследник престола?
Демьянов не сразу нашёлся, что ответить, но удивления не выказал и после короткого молчания спросил:
— Вы имеете в виду Владимира Кирилловича?
— А у вас есть другая кандидатура? Уверяю вас, Александр Петрович, для меня и сегодня абсолютно неприемлемы многие поступки его отца. И обстоятельства его женитьбы, и поведение в февральские дни семнадцатого года. Но в эмиграции он вёл себя достойно. И при всех сомнениях в праве на российский престол его сына более легитимной фигуры для того, чтобы стать русским царём, просто не существует. Кроме того, задание, которое я хочу вам дать, подтвердит ваши полномочия.
— Что я должен буду сделать?
— После того, как немцы поверят вам, вы должны потребовать от них, чтобы они вступили в контакт с Владимиром Кирилловичем. Он, по моим сведениям, находится в оккупированной ими части Франции. Они должны добиться от великого князя, чтобы он направил сюда для встречи со мной своего представителя после вашего благополучного возвращения в Москву. Чтобы великий князь поверил и вам, и мне, вы должны будете передать для него от моего имени следующие слова: «вторая половина шифра у меня». Запомнили? «Вторая половина шифра у меня». Не сомневаюсь, услышав эти слова, он попытается прислать сюда своего человека. У этого посланца с собой должен быть конверт от письма, полученного великим князем накануне Рождества.
— А вы, оказывается, Борис Александрович, горазды на сюрпризы. Прямо детектив какой-то. Это что, пароль?
— Мы ввязываемся с вами в серьёзное дело, Александр Петрович. И я хочу, чтобы монархисты, пришедшие к нам, знали, что наша организация — дело практическое и прямо связана с тем человеком, которому предстоит взойти на русский престол. А на ваш вопрос я не отвечу. И не потому, что не доверяю вам. Мне кажется, мы пока не слишком большие конспираторы, а должны этому учиться. Каждый член организации должен знать только то, что ему посчитал возможным доверить руководитель. В том числе и для блага самого члена организации. Надеюсь, вы меня правильно поняли и не обиделись. Ну, что там показывают твои карты, Надя?
— Демьянов понял, что больше он ничего не узнает. Пока Надежда Ивановна рассказывала, вернулся Сидоров, и они стали пить чай. Потом была церемония благословения и прощания.
До трамвайной остановки они с Сидоровым дошли, перебрасываясь ничего не значащими фразами о жестоких морозах, упрямо стоявших в Москве. При расставании Сидоров долго тряс ему руку и, кажется, действительно был растроган. Обо понимали, сколь велика возможность более никогда не увидеться. И отправились по домам. Сидорову предстояло написать отчет о сегодняшней встрече с Садовским, в обязанности Демьянова это не входило. Он думал о поручении «руководителя организации»: «Да, такого хода с его стороны я не ожидал. Вот мои начальнички-то будут удивлены! Не так прост господин Садовской, как они думали. Хочет какую-то свою игру вести. И как это он умудрился сохранить веру во всю эту белиберду, в монархию, в этого Владимира Кирилловича, который преспокойно живет себе под немцами, и в ус не дует. А тут на тебе: «организация «Престол» приглашает вас царствовать!», да еще шифровки передает. Бред какой-то! Или нет?»
Вилла «Кер Аргонид»
Кириллу Владимировичу Романову всю жизнь сопутствовала удача. В 1904 году во время Русско-японской войны он в числе немногих уцелел при гибели флагманского броненосца «Петропавловск», выжив в холодной воде Жёлтого моря. В 1905 году, презрев как законы Российской империи, так и мнение Николая II и его жены, он вступил в брак с двоюродной сестрой — Викторией-Мелитой, дочерью герцога Эдинбургского, состоявшей в разводе с герцогом Эрнстом Гессен-Дармштатдским, братом императрицы Александром Федоровны. Для императрицы это было еще и личное оскорбление. Его, несомненно, оправдывает, что случилось это с ним по любви. Отец Кирилла, великий князь Владимир Александрович, печально известен тем, что, будучи главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа, дал санкцию на применение оружия против мирной демонстрации 9 января 1905 года, в день «Кровавого воскресенья». Из-за сына он поссорился с племянником, императором Николаем, и оставил все свои посты. История с сыном быстро свела Владимира Александровича в могилу. А Кириллу, в конце концов, она сошла с рук без последствий, и после смерти отца в 1909 году он был полностью восстановлен в династических правах, тем более что жена этого семейного бунтаря приняла православие и стала Викторией Федоровной. К началу революции 1917 года Кирилл был третьим в очереди наследования императорского престола, после больного гемофилией цесаревича Алексея и брата царя Михаила Александровича.
Мы уже не никогда не узнаем, помнил ли о своих правах на трон контр-адмирал Кирилл Романов, когда 27 февраля 1917 года, водрузив на грудь красный бант, привёл к Таврическому дворцу, где заседала Государственная дума, вверенный ему гвардейский экипаж. А ведь этот поступок был воспринят большинством участников событий как переход на сторону революции и самого князя, и подчинённой ему серьезной военной силы. Александр Солженицын в своём «Красном колесе» так описал эту сцену: «Этого великого князя до сегодняшнего дня мало кто и знал… Зато сегодня узналось его имя по всей столице и ещё бежало впереди него: Кирилл Владимирович! Ещё колонна его шагала, не дойдя до Шпалерной, а уже в Таврическом знали и ждали: великий князь Кирилл Владимирович ведёт в Думу свой гвардейский экипаж! (До сих не знали, чем он и командует).
Радостно и грозно показалась чёрная матросская колонна, в чёрном цвете особенно чётко видно ещё сохранённое равнение, только ленты бескозырок отвеваются самочинно, да на всех неуставно, неровно раскраплено красным — бантами, уголками, по грудям, по оплечьям.
Великий же князь опередил колонну и в шикарном синем автомобиле с красным флажком прибыл в Таврический на десяток минут раньше — высокий, черноусый, со строгим, очень напряжённым лицом, с подсобным адмиралом, с малым эскортом матросов. На груди его морского пальто выдавался большой красный бант».
Тем не менее были и такие свидетели, которые утверждали, что никаких красных революционных бантов ни на великом князе, ни на его подчинённых не было, а своих матросов к Государственной думе Кирилл, наоборот, привёл ради спасения монархии. Так или иначе, но дружба Кирилла Владимировича с революцией продолжалась недолго. После ареста Николая II и его семьи 8 марта 1917 года он, как и многие другие члены семьи Романовых, в знак протеста подал в отставку. Беременность жены стала хорошим поводом, чтобы перебраться в тогда еще сравнительно спокойную Финляндию, доживавшую последние месяцы как часть Российского государства, где 30 августа у великого князя родился сын Владимир. Из передряг гражданской войны в едва появившейся на свет Финляндской республике Кириллу Владимировичу и его семье также удалось выбраться вполне благополучно. Легенда о том, что он, с младенцем на руках, перешел по льду из Финляндии в Швецию, не более чем легенда. Потом были сначала Германия, затем Швейцария. В конце концов, они поселились на западе Франции, в Бретани, на берегу Ла-Манша, в городке Сен-Бриак. Купив большой, но недостроенный крестьянский дом с садом, Кирилл Владимирович за несколько лет превратил его в уютную виллу, названную им «Кер Аргонид», что в переводе с бретонского означает «Дом Виктории». По одним источникам, деньги на покупку и ремонт виллы Кириллу дал один из русско-шведских богачей Нобилей, с которым он дружил с дореволюционных времен, по другим — помогло наследство матери Виктории Федоровны, великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской. Жила семья, впрочем, как и все уцелевшие Романовы, достаточно скромно. Ни счетов за границей, ни значительной недвижимости у свергнутой династии не оказалось. По крайней мере, мы и сегодня о них ничего не знаем.
В 1922 году Кирилл Владимирович провозгласил себя местоблюстителем российского императорского престола, а в 1924 — императором Кириллом I. Среди Романовых этот поступок поддержали отнюдь не все. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, например, до самой смерти в 1928 году продолжала надеяться, что живы её сыновья и внук, Николай, Михаил и Алексей. Сын императора без империи Владимир Кириллович был объявлен его отцом Наследником-Цесаревичем и Великим Князем.
В 1938 году Кирилл Владимирович умер. Владимиру был двадцать один год. Чтобы прекратить распри среди Романовых, сплотить монархическую часть эмиграции, Владимир Кириллович, судя по всему, по совету родственников, не стал провозглашать себя императором, а ограничился титулами «Главы Российского императорского Дома» и Великого Князя. Сохранилась фотография, где это многолюдное мероприятие освящается высшими иерархами Русской Православной Церкви за рубежом. Однако его сторонники, так называемые «Кирилловичи», всегда считали его «Императором де-юре Владимиром III». Отсчёт Владимиров, по-видимому, ведётся от равноапостольного князя Владимира Святого и Владимира Мономаха.
И Кирилл, и Владимир подчеркнуто дистанцировались от политических распрей, которыми жила большая часть эмиграции. Но это не значит, что они могли себя чувствовать во Франции совершенно спокойно. В 1937 году в Париже агентами НКВД был похищен глава Русского общевоинского союза генерал Миллер, бывший руководитель белого движения на севере России. Ни для кого в эмиграции не было секретом, что советские спецслужбы широко используют похищения и индивидуальный террор как оружие против своих врагов. Поэтому виллу «Кер Аргонид» добровольно охраняли несколько бывших русских офицеров, да и французская полиция «Сюрте Женераль» не оставляла своим вниманием претендента на русский престол, на него там завели специальное «дело». Кто же во Франции мог знать, что НКВД особого интереса к особе Владимира Кирилловича не имел и никаких планов относительно него не вынашивал. По крайней мере, мне об этом ничего неизвестно. Советские агенты в 30-е годы охотились за деятелями того же РОВСа, лидерами украинских националистов, наконец, за Троцким и некоторыми из его сподвижников, но только не за Романовыми. Видимо, на Лубянке их окончательно списали в политический утиль.
Когда началась Вторая мировая война, французы стали намекать Владимиру Кирилловичу, что ему неплохо было бы вспомнить традиции предыдущей войны и вступить в одну из союзнических армий. Он намёка не понял и предпочел позицию благожелательного наблюдателя. И оказался не внакладе. Не прошло и года, как Франция потерпела военную и политическую катастрофу.
22 июня 1940 года, ровно за год до нападения на СССР, в Сен-Бриак пришли немцы. На великого князя у них были свои планы. На следующий день после нападения на СССР Гестапо арестовало его начальника канцелярии Георгия (Гарольда) Карловича Графа, ветерана Цусимы и морских сражений Первой мировой войны, во время которой он был офицером, а потом и старшим офицером на знаменитом эскадренном миноносце «Новик». В эмиграции Граф семнадцать лет прослужил Кириллу Владимировичу и его сыну. Георгий Карлович, финляндский дворянин шведского происхождения, был незаурядной личностью. Его воспоминания, отличающиеся несомненным литературным талантом, стали летописью истории российского флота начала XX века. Они были переведены на многие европейские языки и пользовались большой популярностью. Сегодня они опубликованы и в России. В 1939 году Владимир Кириллович присвоил своему начальнику канцелярии звание контр-адмирала.
Граф относился к тем эмигрантам, которые считали, что в случае нападения Германии на Россию нужно занять патриотическую позицию и не оказывать немцам никакой поддержки. За эти воззрения, а он их, конечно, не скрывал от Владимира Кирилловича, находившегося под его несомненным влиянием, Граф, судя по всему, и поплатился четырнадцатью месяцами заключения в концлагере. Гестапо сильно напугало великого князя. Он не только не оказал Георгию Карловичу никакой поддержки, но и более того, демонстративно порвал с ним и потребовал, чтобы семья Графа покинула «Кер Аргонид». С молодым человеком остался только полковник Дмитрий Львович Сенявин, всю войну исполнявший обязанности его секретаря и помощника. Очевидно, что немцы оказывали на Владимира Кирилловича давление с тем, чтобы он определил свою позицию по отношению к начавшейся войне. 26 июня 1941 года от его имени было распространено следующее заявление: «В этот грозный час, когда Германией и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма-большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение двадцати четырех лет, я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом способствовать по мере сил и возможностей свержению большевистской власти и освобождению нашего Отечества от страшного ига коммунизма». Несмотря на очевидную поддержку действий Германии в этих словах, нужно отметить, что молодой великий князь был намного сдержанней в оценках «грозного часа», чем многие и многие из эмигрантов. Достаточно, например, почитать заявления иерархов РПЦЗ того времени. Она и в наши дни гордится своей «несгибаемостью в борьбе с коммунизмом». А вот как встретил начало войны замечательный писатель Иван Шмелев, к которому с большим уважением сегодня относятся многие граждане нашей страны, в том числе и Владимир Путин: «Я так озарён событием 22.VI, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Верю крепко, что крепкие узы братства отныне свяжут оба великих народа… Господи, как бьётся сердце мое радостью несказанной». Всех их, как и Владимира Кирилловича, частично оправдывает только одно — они ещё очень мало знали о том, каким «Дьяволом» был на самом деле этот «Рыцарь».
Заявление изолированного в оккупированной Франции Владимира Кирилловича не имело широкого резонанса. Но так или иначе, а претендент на российский престол напомнил о себе в тот момент, когда казалось, что в России скоро образуется вакуум власти и тогда будет возможно всякое. В том числе и возрождение монархии.
На пути в «Сатурн» и обратно
17 февраля 1942 года Александр Демьянов перешёл линию фронта в районе занятого немцами Гжатска. Вернулся он ровно через месяц, и через два дня после возвращения представил Судоплатову доклад на восьмидесяти пяти страницах. На этом источнике основываются все описания его приключений в немецком тылу, появившиеся в последние годы в литературе об операции «Монастырь». Так как об этом много писали другие, ограничусь пересказом основной канвы доклада. Переход Демьянова готовили достаточно долгое для тех дней время. Игорь Щорс в одном из документальных фильмов, посвященных операции, вспоминал: «Мы его снарядили. Дали перстни с камнями две или три штуки. Тяжелое обручальное кольцо. Часы «Павел Буре» с 4-мя крышками золотыми. Поставщик двора его Величества, царя, с тяжелой цепью. Мощные карманные часы. Крест с бриллиантами, тоже увесистый, чтоб он мог жить, меняя эти вещи на что-нибудь». «Среди драгоценностей оказался и нательный крест атамана Головатого, деда Демьянова». Эта случайность, якобы, особенно вдохновила Демьянова. Я уже писал, что Головатый если и был его родственником, то уж никак не дедом, так как умер в 1797 году, но подобное снаряжение должно было, по-видимому, дополнительно подкрепить легенду разведчика. Только человек из «бывших» мог в советской стране владеть такими сокровищами. По крайней мере, такой точки зрения придерживались в «органах». Несмотря на значительное время для подготовки сотрудники НКВД организовали переход Александра через линию фронта на редкость «удачно». Он оказался на минном поле и чудом остался жив. Но нет худа без добра. Зато у немцев не было оснований заподозрить, что его переход был инсценирован. Александр был в гражданской одежде, хорошо говорил по-немецки и настаивал на встрече с представителями немецкого командования, упирая на то, что обладает важными сведениями. Поэтому после короткого допроса офицерами штаба дивизии, на чьи позиции он вышел, Демьянова доставили в Гжатск и передали разведке. Его долго допрашивали, даже имитировали расстрел, но он настаивал на разработанной для него легенде. Допрос вели офицеры военной разведки — Абвера, старший из которых имел чин полковника. Если верить некоторым источникам, во многом другом доверия не вызывающим, это был начальник контрразведки группы армии «Центр» Кауфман. Уже после окончания выполнения задания Александр Демьянов, готовя отчёт о проделанной работе, подробно описал встречу с этим предполагаемым Кауфманом. «:…Он требовал, чтобы… я сознался в том, что послан НКВД, — писал Демьянов в своем отчете. — На все это я отвечал, что если бы знал, что со мной так будут разговаривать, да еще обвинять в связях с НКВД, то ни за что бы сюда не пришёл. На это Кауфман заявил мне: «Вы будете поставлены к стенке, если не сознаетесь, даю полчаса на раз мышление.». После этого обер-лейтенант отвёл меня в комнату и оставил одного. Прошло полчаса, а за мной никто не шёл, поэтому я решил лечь на кровать. Через некоторое время за мной пришел обер-лейтенант с двумя солдатами, вооружёнными винтовками, предложил следовать за ним. Солдаты вывели меня во двор, поставили у стенки, а сами отошли к стоявшему неподалёку обер-лейтенанту и Кауфману. Так мы постояли минут десять, после чего меня привели в комнату, где раньше проводился допрос, предложили снять пальто, угостили сигаретами, а Кауфман достал бутылку французского коньяку и стал со мной выпивать.». Проверка Демьянова продолжалась и после «расстрела». Так, однажды его использовали в качестве переводчика при допросе пленных советских летчиков. Но они отвечать не стали, а только плюнули ему в лицо. Одновременно, как полагал Демьянов, немцы проверяли его показания, связанные с происхождением и довоенными связями. Проверку он прошёл успешно и был переправлен в Смоленск, где располагался «Сатурн» — разведорган группы армий «Центр».
Советские люди узнали о «Сатурне» из романа В. Ардаматского «Сатурн» почти не виден» и популярных фильмов, снятых по его мотивам в 1960-е годы (эти фильмы можно скачать, например, здесь:
-ussr.ru/main/1629-put-v-saturn-1967.html;
.
html#page=#video=/mail/romance20/39/814;
.
html#page=#video=/mail/ serg58ksn/8186/18251).
Правда, основанием для написания романа и постановки фильмов была эпопея не Демьянова, а другого разведчика — Александра Козлова, которая в советские годы в её истинном виде мало подходила для создания подобного рода произведений. Хотя была куда интереснее и драматичнее выдуманных историй о советских разведчиках. Козлов, попав в плен, согласился работать на Германию и только будучи заброшенным за линию фронта явился с повинной, был перевербован и отправлен обратно к немцам, где в качестве уже агента военной контрразведки «СМЕРШ» действовал достаточно эффективно. Пользу нашей разведке он принес немалую. «Сатурн» оказался единственной организацией Абвера, где на таком высоком уровне действовал советский разведчик, к концу войны дослужившийся до чина капитана и заместителя начальника «Сатурна». В отличие от киногероя упомянутой кинотрилогии, Козлов, пленённый в конце войны американцами, был выдан советской стороне. В фильме его главному герою, советскому разведчику Крамеру, удаётся успешно внедриться уже в разведку Западной Германии. В СССР Козлова, несмотря на все заслуги, как и полагается, осудили на три года. После смерти Сталина он был реабилитирован. Кстати, по версии Судоплатова, агента в «Сатурне» удалось завербовать благодаря как раз операции «Монастырь». Но учитывая противоречия между его службой и «СМЕРШем», она не заслуживает абсолютного доверия.
Что же представлял из себя этот пресловутый «Сатурн»? На самом деле в Смоленске и его окрестностях в это время действовала «Абверкоманда-103», а её радиопозывным было как раз название планеты — «Сатурн». Важной составной частью «Сатурна» и в кино, и в жизни была разведшкола. Возглавлял её подполковник Феликс Герлиц, на чье попечение теперь и перешел Демьянов. Она была организована Абвером с целью массовой подготовки агентов, шпионов и диверсантов, которые должны были наводнить советский тыл. Основным источником пополнения для школы служили советские военнопленные, наряду с обучением шпионскому и диверсионному делу проходившие и идеологическую обработку. Им внушалось, что их деятельность в советском тылу будет служить освобождению России от большевистской тирании, и они не должны считать себя изменниками родины. Абвер явно хотел одолеть своих советских противников числом агентов, а не тщательностью их подготовки. Срок подготовки шпиона или, если это слово вам нравится больше, разведчика, составлял 1–2 месяца, радиста 3–4.
Таких «идейных», не нуждающихся в политинформациях слушателей, как Демьянов, в школе было немного. И все равно поражает краткосрочность его обучения, которое не могло, учитывая все обстоятельства, составлять более двадцати дней. Ведь Александра одновременно учили радиоделу, навыкам подрывника и началам конспирации. Так как все эти науки он освоил еще в НКВД, а работе радиста, если верить Судоплатову, его учил сам Вильям Фишер, будущий знаменитый советский разведчик Рудольф Абель, главной проблемой для него была именно роль ученика, все схватывающего на лету. Наверное, его инструкторы не могли на него нарадоваться. Он был явно штучный товар. Но уже 17 марта 1942 года Демьянова в сопровождении еще одного агента забрасывают обратно. Ветер отнёс их друг от друга, и Александр приземлился один на территории Ярославской области в районе Рыбинска. Колхозники хотели устроить над ним самосуд, но он убедил их доставить его в райотдел НКВД, откуда Демьянова отправили в Москву.
В советской разведке Александр Петрович получил псевдоним «Гейне». Есть версия, что этот псевдоним он получил после того, как Садовской попросил перевести на немецкий несколько его стихотворений для передачи их немцам. В большинстве материалов об операции «Монастырь» утверждается, что в Абвере Демьянов получил позывной «Макс», но документальных подтверждений этой версии нет. Зато хорошо известно, в том числе и по результатам расследования советских спецслужб сразу после войны, что на территории Болгарии, в Софии, находился немецкий информационно-разведывательный центр, собиравший из всех возможных источников информацию о Советском Союзе в годы войны. Именно этот источник, как установили тогда советские контрразведчики, и назывался «Максом» в немецких разведывательных сводках. Судя по всему, именно об этом «Максе», как о надежном источнике, а не о Демьянове, пишет в своих мемуарах один из руководителей Абвера Гелен, ставший после войны основателем разведки Западной Германии. Конечно, какой-то позывной у Демьянова в Абвере был. Высказывалось предположение, что немцы звали его «Александр». Агент или двойной агент с таким позывным у них точно был. Но скрывался ли за ним Демьянов или кто-то другой — неизвестно.
У нас нет оснований сомневаться в правдивости доклада Демьянова, написанного им после возвращения в Москву. Ведь в этом не усомнились ни Судоплатов, ни его подчиненные, непосредственно работавшие с Демьяновым. Тем более что вскоре был арестован и его напарник, а операция «Монастырь» стала успешно развиваться. Но почему бы не предположить, что в этом докладе по каким-то не ведомым нам причинам содержится не вся информация о визите Александра Демьянова в «Сатурн»?
Кауфман
От первого же глотка коньяка Демьянов захмелел, мягкое тепло ослабляло мышцы, еще недавно, как он теперь чувствовал, почти окаменевшие в ожидании последней судороги. Полковник Кауфман щедро потчевал его, непрерывно что-то рассказывал о русских, знакомых ему по Берлину и Парижу. Спрашивал, знакомы ли ему их имена. Александр заставлял себя отвечать, но есть почти не мог. Полковник, опрокинув пару рюмок, чуть ослабил напор и даже стал путано рассказывать какой-то анекдот о Распутине, услышанный им, как он уверял, от самого Феликса Юсупова. Демьянов, ощутив, наконец, в себе достаточно сил для продолжения игры, вдруг встал с рюмкой в руке.
— Если вы не возражаете, господин полковник, то я хотел бы произнести тост. Я предлагаю выпить за фюрера Германии Адольфа Гитлера и человека, в котором наша организация видит нашего будущего вождя и верного союзника фюрера — великого князя Владимира Кирилловича!
И не дожидаясь реакции немца, осушил рюмку до дна. Кауфман, вставший на его словах, застыл на несколько секунд, будто наблюдая, как Александр закусывает коньяк долькой лимона, а потом тоже выпил. Прожевав лимон, Демьянов продолжил:
— Борис Александрович Садовской дал мне еще одно поручение, о котором я считал необходимым молчать, пока между нами не установятся доверительные отношения. Согласитесь, господин полковник, что члены нашей организации будут бороться с большевизмом с удвоенной силой, если будут знать, что наследник российского престола поддерживает и одобряет их борьбу. Мы хотим, чтобы он прислал в Москву своего полномочного представителя.
Кауфман крутил в руке хрустальный бокал и внимательно смотрел на Демьянова. Он явно был несколько сбит с толку.
— Вы, конечно, правы, Александр Петрович. Только это вопрос уже, скорее, политический, он вне моей компетенции. Могу обещать только, что доложу о вашей просьбе своему руководству. Как технически вы предполагаете осуществить контакт с великим князем?
— Я знаю пароль, который, по мнению Садовского, убедит его пойти на контакт с нами. Я готов его вам сообщить.
— Говорите. У меня прекрасная память.
Письмо императора
За несколько дней до нового 1942 года на вилле «Кер Аргонид» появился нотариус из Сен-Бриака. Накануне он позвонил Сенявину и попросил аудиенции. Так и выразился: «аудиенции». Для себя и для своего швейцарского коллеги. Приехавшего, чтобы вручить «его высочеству» какой-то документ. Нет-нет, он ничего более не знает. Его задача — засвидетельствовать передачу этого документа, не более того.
Владимиру уже приходилось иметь дело с этим пожилым тщедушным господином после смерти отца. Нужно было оформлять небогатое наследство наследника русского престола. Как и многие французы, мэтр не скрывал удовольствия быть с ним на равных, одновременного испытывая не меньшее удовольствие от общения с такой знатной особой. В общем, как и большинство французов, славный малый и настоящий республиканец. Но сегодня он был особенно торжественен и как будто немного напуган. Ну да, его понять можно: война, немецкая оккупация, а он вынужден присутствовать при встрече швейцарского нотариуса и наследника русского престола. Наследник хоть и безвластный, но внимание как оккупационных, так и французских властей всем участникам этой встречи гарантировано. А в такое время лучше всего быть незаметным.
Швейцарец тоже был сухопар, но высок и, в отличие от француза, совсем молод. «Служащий или, скорее, младший партнер фирмы», — подумал Владимир. «Старшие не решились рисковать своими драгоценными жизнями. Ну, конечно, этим швейцарцам бретонское побережье представляется настоящей линией фронта». Он встретил гостей в кабинете, куда их привел Сенявин. Встал из-за стола, поздоровался с посетителями за руку, предложил располагаться. После вчерашнего звонка он тщетно пытался понять, что за документ привез ему швейцарский нотариус. Учитывая обстоятельства, речь должна пойти о чем-то серьезном. Но о чем?
Швейцарец достал из портфеля конверт, логотип и печати на этом конверте показал сначала французу, а потом Владимиру. Это был знак и печати представляемой им фирмы. Явно упиваясь значимостью момента, молодой человек проделывал все манипуляции чётко и не торопясь. Попросив у Сенявина ножницы, нотариус вскрыл конверт и извлёк из него другой, гораздо меньшего размера. Это был обычный русский почтовый конверт времен империи, таких было много в архиве отца Владимира. С ним швейцарец начал проделывать те же действия, что и с предыдущим, но взглянув на француза, досадливо поморщился. Тот явно не понял, что ему показывают. Зато Владимир, увидев оттиск, которым был запечатан конверт, почувствовал, что этот день действительно принёс нечто важное. На конверте стояла личная печать Николая II. Молодой нотариус объяснил это старому, и тот, нацепив очки, несколько мгновений рассматривал её, демонстрируя благоговение перед исторической реликвией. А потом протянул конверт великому князю, чтобы он мог прочитать надпись на нём. Твердым почерком его двоюродного дяди на конверте было написано: «В случае, если это письмо не будет востребовано ранее, вручить Наследнику моему 16 декабря 1941 года». И подписано: «Николай. 17 декабря 1916 года». Швейцарец, выдержав эффектную паузу, счёл необходимым пояснить:
— Сегодня 29 декабря 1941 года, что по русскому исчислению соответствует 16 декабря. Так как до этой даты письмо, переданное нам на хранение, не было востребовано, то мы передаем его вам, ваше высочество. По мнению привлеченных нами авторитетных экспертов, вы и только вы являетесь тем самым наследником, о котором пишет император Николай. Великий князь, и вы, коллега, прошу еще раз убедиться, что печать на конверте не тронута и что его не вскрывали.
Француз с жадным интересом принял конверт из рук Владимира и ещё раз внимательно осмотрел его.
— Подтверждаю.
И держа конверт обеими руками, как будто что-то невероятно хрупкое, вернул его Владимиру Кирилловичу. Тот, как эхо, повторил:
— Подтверждаю.
Возникла пауза, раздался бой часов. Швейцарец, как будто страшась, что его могут заподозрить в желании увидеть, как русский принц будет вскрывать конверт, заторопился:
— Ну что ж, господа, моя миссия окончена, разрешите откланяться.
Нотариусы, сопровождаемые Сенявиным, вышли из кабинета. Владимир, положив конверт перед собой, несколько минут смотрел на него, не решаясь вскрыть. Конверт был надписан двадцать пять лет назад. На следующий день после события, окончательно расколовшего императорскую семью. На следующий день после убийства Распутина. Наконец, он взял нож для вскрытия писем. В конверте лежал обыкновенный и совсем не потерявший белизны лист хорошей почтовой бумаги. На нем, рукой все того же Николая II было написано: «Швейцарский национальный банк. Первая половина шифра — 2В122433».
Письмо было совершенно бесполезным. О второй половине шифра Владимиру Кирилловичу ничего известно не было.
Юрий Сергеевич Жеребков
В первой половине 20-х годов XX века Берлин был столицей русской эмиграции, здесь существовали десятки русских издательств, русские гимназии, театры, действовали различные эмигрантские организации. Но постепенно большинство русских покинуло Берлин. Тому виной была и «великая депрессия», особенно сильно ударившая по Германии, и политическая нестабильность. К моменту прихода к власти Гитлера в 1933 году «русского Берлина» уже не существовало. Но часть белой эмиграции в Германии все-таки осталось. В том числе и потому, что сочувствовала фашистам. Одного из таких русских фашистов звали Юрий Сергеевич Жеребков.
Жеребков был потомственным донским казаком, уже его прадед дослужился до звания войскового старшины. Его дед получил известность как один из героев последней русско-турецкой войны. Он сделал головокружительную для казачьего офицера карьеру. В начале Первой мировой войны генерал Жеребков вернулся на службу и в 1914 году стал императорским генерал-адъютантом и старшим в русской армии полным генералом от кавалерии. В начале марта 1917 года, в первые дни после Февральской революции, на митинге в Новочеркасске, столице Войска Донского, генерал Александр Герасимович Жеребков, которому тогда было 70 лет, сорвал с себя аксельбанты и погоны генерал-адъютанта, заявив о переходе на сторону революции. Отрезвление к генералу пришло довольно быстро. После прихода к власти большевиков он примкнул к белым, покинув Россию при эвакуации армии Деникина из Новороссийска в 1920-м. Два года спустя Жеребков умер в Нови Саде, что на территории современной Сербии. Нет никаких сомнений, что о судьбе своего сына Сергея он знал ещё с весны 1918 года, когда Сергей Жеребков, к тому времени войсковой старшина, то есть тоже генерал, находился в Ростове-на-Дону, где собирались офицеры, составившие потом костяк белой Добровольческой армии. Воспоминания о его страшной смерти сохранил один из лидеров ростовских меньшевиков Александр Самойлович Локерман, ставший её случайным свидетелем: «…Переодетый в штатское платье Жеребков шел по улице, когда кто-то узнал его. Подоспевший солдат ударом сабли перебил ему руку и вторым ударом ранил в лицо. Неистовствовавшая толпа сперва отдавала Жеребкову честь и иронически величала его «вашим превосходительством», а затем плевала ему в лицо, производила бесстыдные телодвижения и всяческие издевательства. Подоспевший увечный воин злобно и упорно начал бить несчастного костылем по свежераненному лицу. Пытаясь защититься от ударов, Жеребков взмахивал перебитой рукой, из которой фонтаном била кровь и отрубленная часть которой повисла и болталась на кожных покровах. Постепенно Жеребкова забили до смерти. Это если не единственный, то, во всяком случае, крайне редкий случай участия толпы в истязаниях. Обычно роль толпы сводилась к тому, что она кричала «ура» после расстрела, ликовала и даже танцевала вокруг трупов, глумилась над ними, не давала их убирать и т. д…Выступать на защиту убиваемых нельзя было. Толпа ревниво следила за теми, кто не выражал сочувствия избиению. Бабы чуть не подвергли самосуду интеллигентную девушку, с плачем убежавшую от картины издевательства над Жеребковым. Вслед ей кричали: «Эту тоже убить надо. Ишь плачет. Жалко ей буржуя»…»
Я прощу прощения у читателя за столь пространную цитату с описанием этого ужасного убийства. Но, может быть, это хоть в какой-то степени поможет понять мотивы поступков сына Сергея Жеребкова Юрия, которому в год убийства отца исполнилось десять лет, и меру его ненависти не только к большевистскому режиму, ноик народу, его принявшему.
В эмиграции жизнь Юрия Жеребкова складывалась несладко, он танцевал, выступал в варьете, гастролировал. С приходом Гитлера к власти стал активно сотрудничать с фашистами. Он входил в окружение генерала Бискупского, которого немцы поставили во главе организованной русской эмиграции в Германии. Василий Викторович Бискупский был оригинальной фигурой. Воевал в русско-японскую войну и в Первую мировую, был женат на знаменитой в начале XX века певице Анастасии Вяльцовой. Этот брак был тайным, а когда тайна раскрылась, Бискупский был вынужден оставить гвардию, где этот союз посчитали мезальянсом. В 1918 году он пошёл на службу к гетману Украины Скоропадскому, даже командовал войсками Центральной Рады в районе Одессы, где был быстро разбит отрядами Петлюры, а после того, как немцы покинули Украину, эмигрировал в Германию. Здесь Бискупский примкнул к крайне правым силам, стал членом нацистской партии. Существует версия, что после провала «пивного путча» в 1923 году на его мюнхенской квартире несколько дней прятался Гитлер. Вот такого влиятельного покровителя нашел себе Юрий Сергеевич. Кстати говоря, Кирилл Владимирович Романов с начала 20-х годов и до конца жизни поддерживал отношения с Бискупским, через него искал контакты с немецкими правыми. В середине 30-х, когда Бискупский был ненадолго арестован Гестапо по ложному обвинению в участии в заговоре против Гитлера, Кирилл даже написал письмо фюреру, в котором защищал генерала. Быстро освобождённый Бискупский навсегда остался ему за это благодарен. В последние месяцы войны Бискупский тяжело болел и умер вскоре после её окончания, что, скорее всего, избавило генерала от участи других генералов-коллаборационистов, выданных союзниками СССР.
В оккупированном немцами Париже Юрий Жеребков, член нацистской партии, возглавлял сначала Комитет взаимопомощи русских беженцев во Франции, а позднее — Управление по делам русских эмигрантов. Эти организации были созданы немцами для контроля за русскими эмигрантами силами выходцев из их среды. Под эгидой Комитета, а потом Управления действовало фашистское Объединение русской молодёжи и созданный по инициативе Жеребкова Театр русской драмы. Кроме того, Жеребков был редактором газеты «Парижский вестник», русскоязычного рупора оккупантов в столице Франции. Жеребков действовал по прямым указаниям немецких спецслужб, в частности Гестапо. 22 ноября 1941 года на собрании в Париже, куда были приглашены наиболее видные представители эмиграции, Жеребков произнес программную речь о её целях и задачах.
Нет оснований утверждать, что все его аргументы были приемлемы для белоэмигрантов, но настроения определённой части диаспоры, он, безусловно, выражал. Большую часть выступления Жеребков посвятил обоснованию своей политической и этической позиции: «…Вольные или невольные английские и советские агенты… стараются разжечь в эмиграции ложнопатриотические чувства и постоянно твердят некоторым простакам: «Как, неужели вы, русские люди, радуетесь победе немецкого оружия? Подумайте, немцы убивают миллионы русских солдат, разрушают города, течёт русская кровь!» Есть даже такие, к счастью, очень малочисленные, которые уверяют, что долг русских всеми силами поддерживать советскую армию, которая является русской армией, а Сталин — защитником национальных интересов. Тех же, кто с этим не соглашается, они обвиняют в измене Родине. Да, течёт русская кровь, гибнут русские жизни — но о них как-то меньше волновались, когда жидовское правительство в Москве уничтожало ежегодно еще большее количество людей. Неужели же жизнь в европейских странах заставила вас забыть все ужасы большевизма и то, чем является сам по себе большевизм? Вспомните миллионы жертв советского террора, сотни тысяч офицеров и солдат, десятки тысяч священнослужителей, десятки миллионов русских рабочих и крестьян, уничтоженных той властью, которую некоторые уже готовы были бы принять за национальную! Наконец, вспомните ту страшную июльскую ночь, когда в подвале Екатеринбургского дома, пролилась кровь Императора-Мученика и Царской семьи!! Ни один истинно русский человек не может признать убийц Царя, убийц миллионов русских людей — национальным русским правительством и советскую армию — русской».
Жеребков призывал эмигрантов отправиться в Россию, то есть пойти на службу немцам: «Патриот тот, кто, не ставя условий, идет переводчиком, врачом, инженером и рабочим, со стремлением помочь русскому народу забыть большевистское иго и изжить страшный марксистский яд, проникший ему в душу». Тех эмигрантов, которые предупреждали об истинных намерениях нацистов в отношении России, Жеребков охарактеризовал как агентов влияния Москвы и Лондона: «.Покамест Германское Правительство не объявит официально своего плана и решения, касающегося России, пока не скажет свое последнее слово Фюрер Адольф Хитлер, — всё является только предположением.». Жеребков признавал, что расчёт белой эмиграции на внутреннее разложение Красной Армии не оправдался: «Хорошо когда-то писал «Часовой»: «Поскольку советская армия будет биться за своих владык, русским людям с нею не по пути; поскольку эта армия пойдёт против этих владык, она немедленно станет русской армией». К сожалению, она бьётся за своих владык!» Видимо, исходя из этого, Жеребков так обосновал свое видение перспектив России после ожидаемого падения большевизма: «В интересах России, в интересах русского народа нужно, чтобы немцы сами или же при посредстве ими же руководимого русского правительства в течение ряда лет вели русский народ. Ибо после тех экспериментов, какие жидовский Коминтерн производил в течение четверти века над русскими, только немцы могут вывести их из полузвериного состояния». Высказав эту мысль, Жеребков нарушил белоэмигрантскую традицию связывать с ожидаемым поражением СССР надежду на восстановление независимой России.
Как человек, хорошо знакомый с идеологией и практикой нацизма, он готовил эмигрантов к тому, что после победы Германии в войне Россия надолго останется под немецкой оккупацией. В конце выступления Жеребков произнес панегирик в отношении нацистского лидера: «Адольф Хитлер — спаситель Европы и её культуры от жидовско-марксистских завоевателей, спаситель русского народа, войдёт в историю России как один из величайших ее героев».
По воспоминаниям Графа, первый раз на вилле «Кер Аргонид» Жеребков появился еще 2 декабря 1940 года. Он помог Владимиру Кирилловичу наладить отношения с местными немецкими властями, решал материальные проблемы Владимира и его маленького «двора». Например, организовал снабжение бензином и углём. Держался он подчеркнуто предупредительно, передавал приветы от своего покровителя Бискупского. По мнению Г.К. Графа, высказанному в воспоминаниях о его жизни в годы Второй мировой войны, опубликованных в России только сравнительно недавно (spbgasu.ru>upload…news…nrki…Ruskaya_migraciya.pdf), именно Жеребкову немцы поручили опекать Владимира, и именно он выступил инициатором ареста самого Георгия Карловича. Когда Граф вернулся в оккупированный Париж после 14 месяцев заключения, с ним произошла удивительная история. Его вызвали во французскую полицию, и беседовавший с ним полицейский рассказал ему о недостойном поведении русского великого князя Владимира Кирилловича, регулярно наезжающего в Париж и кутящего в самых лучших ресторанах в компании немцев и самых одиозных русских эмигрантов. Полицейский доверительно сказал Графу, что, конечно, Владимир Кириллович — гость Франции, а Франция оккупирована Германией. Но оккупация не будет длиться вечно. И просил как-то повлиять на великого князя. Видимо, даже французов — коллаборационистов коробило его поведение. Граф обещал поговорить с его дядей Андреем Владимировичем. Рассказ Георгия Карловича о парижских развлечениях Владимира Кирилловича в одном из послевоенных писем подтвердил и светлейший князь Владимир Андреевич Романовский-Красинский, сын великого князя Андрея Владимировича и балерины Матильды Кшесинской, двоюродный брат «императора Владимира III». Он писал, что Владимир Кириллович «приезжал в Париж, выезжал, веселился, как будто время мирное и нормальное. Якшался он, увы, чёрт знает с кем».
Искушение
От выпитого накануне «Клико» потрескивала голова. А всё этот Жеребков, никогда не может остановиться. Владимира Кирилловича раздражало, что он так и не разобрался в своём отношении к этому человеку. Немецкий прихвостень, приставленный контролировать каждый его шаг? Несомненно. Но и людей, умеющих так страстно ненавидеть, ему тоже не приходилось встречать. А эмиграция ведь замечательная школа ненависти. Любит ли он Россию? Кажется, что он большее упивается своей ненавистью к сегодняшней «Совдепии». Надо быть честным перед собой — а я сам, многое ли знаю о России, о русских, бьющихся сейчас с немцами в подмосковных снегах? Если Жеребков и любит Россию, то придуманную, может быть, прошлую, которой он и сам не застал, но уж точно не существующую. Однако в нем чувствуется сила настоящего фанатизма, опасного, но и влекущего безоглядностью. Только куда, куда он может меня завести?
Эти мысли лениво проползали в голове великого князя, пока он принимал прохладную ванну и одевался к завтраку, к которому должен был прийти неизбежный Жеребков. Приезжая в Париж, Владимир Кириллович останавливался в квартире старинного друга его отца Эмиля Нобеля, племянника небезызвестного учредителя Нобелевской премии Альфреда. Потеряв значительную часть состояния после революции в России, шведский подданный Эмиль Нобель смог устоять, снова преуспеть и остался богатым человеком. Все годы эмиграции он помогал Кириллу Владимировичу и его семье. Поэтому и квартира миллионера, пережидавшего войну в нейтральной Швеции, и его автомобиль были в полном распоряжении Владимира Кирилловича.
Жеребков позвонил ему несколько дней назад и настоятельно приглашал в Париж. Его появления на вилле «Кер Аргонид» раздражали великого князя. Когда Юрий Сергеевич появлялся там, то расхаживал по комнатам и саду со скрещенными сзади руками и как будто оценивал рыночную стоимость всего увиденного — так цепок и пристален был его взгляд.
Владимиру Кирилловичу казалось, что под этим взглядом он теряет последние остатки душевной независимости и покоя. Поэтому, охраняя свой дом, он предпочитал ездить в Париж на встречи с теми, от кого теперь зависела его судьба. Но и здесь покоя не было. Кипучий Жеребков таскал его по ресторанам, всячески демонстрируя то ли свою близость к великому князю, то ли его, Владимира Кирилловича, близость к нему, Жеребкову. Почему он не отказывался от приглашений? Боялся? Чего? Интернирования, лагеря? Вряд ли немцы на это пойдут, он для них безобиден. Хотел внимания, уважения? Наверное, и это было. Он ещё так молод, и он наследник трона Романовых. И сидела где-то в глубине сознания мысль: а чем чёрт не шутит, вдруг с помощью этого Жеребкова не сейчас, а когда-нибудь, может быть, даже очень скоро, когда немцы поймут, что не справляются с освобождённой от большевиков Россией, придёт и его час?
Вчера вечером, пока кутили в «Максиме» с какими-то немцами, демонстративно хорошо говорившими по-русски, Жеребков не словом ни обмолвился, зачем просил Владимира Кирилловича срочно приехать в Париж. Только при расставании не столько попросил о встрече, сколько назначил её: «Ваше высочество, разрешите завтра утром навестить вас. Прошу о разговоре тет-а-тет». Пришлось ответить: «Жду вас к завтраку, Юрий Сергеевич».
Несмотря на вчерашнее за завтраком Жеребков демонстрировал весёлость, рассказывал о том, что наступление большевиков под Москвой окончательно остановлено и в ближайшие недели, как только просохнут дороги, следует ожидать последнего сокрушительного удара германской армии. Владимир Кириллович страдал еще и от того, что Жеребков смог навязать ему манеру общения, которой он, Владимир Кириллович Романов, покорно подчинился. В зависимости от собственного настроения и желаний он именовал его то «великим князем», «вашим высочеством», то «Владимиром Кирилловичем», а иногда Владимиру Кирилловичу поутру смутно вспоминалось, что этот казачий сын накануне вечером запросто называл его «Володей». А он, Владимир Третий, не только не препятствовал этому, а, напротив, сам называл Жеребкова «Юрой», только способствуя амикошонству.
Завтракали вдвоем. Сенявин, отправленный домой в «Кер Аргонид» под первым пришедшим в голову Владимиру Кирилловичу предлогом, уехал домой в Бретань ещё рано утром. С первым поездом. Уже за кофе Жеребков вдруг спросил:
— Ваше высочество, вам что-нибудь говорит имя Бориса Александровича Садовского?
Владимир Кириллович был несколько озадачен таким далёким от сегодняшнего дня вопросом. Но по нарочитой значительности, с какой он был задан, почувствовал, что наконец-то начинается серьёзный разговор. Ради него, может быть, ему и приходилось всё это время терпеть эти публичные унижения, изображая беспечного гуляку в обществе немецких агентов и Жеребкова, чья беспощадная ненависть к большевистской России пугала его даже больше холодной немецкой уверенности в справедливости неизбежного мирового господства их зловеще-опереточного Третьего рейха.
— Конечно, если мы говорим об одном и том же, человеке, то Борис Садовской — литератор, поэт, довольно известный перед 1917 годом. О дальнейшей судьбе Садовского мне ничего неизвестно. Видимо, он остался в России. А почему Вы спрашиваете?
— Прежде чем я отвечу, позвольте еще одно замечание, Владимир Кириллович. Точнее, утверждение. Перед Новым годом вы получили письмо из Швейцарии, из одной очень уважаемой юридической фирмы, известной способностью долгие годы хранить самые щепетильные и важные секреты самых влиятельных европейских семейств.
На этих словах Жеребкова Владимир поднял руку, желая прервать его, но тот продолжил.
— Позвольте я договорю. Мы не посягаем на тайну вашей корреспонденции. Хотя нам известно от кого вы получили это письмо. Здесь дело в другом. То, что я сейчас вам скажу,
Владимир Кириллович, является государственной тайной Германской империи. Причем тайной, в сохранении которой более всего заинтересованы такие люди как мы с вами, русские патриоты. Я не прошу у вас никаких гарантий и клятв. Я просто спрашиваю вас: вы готовы продолжать этот разговор?
Владимир Кириллович, за последние недели перерывший каждую бумагу в архиве отца в поисках документов, способных разъяснить смысл послания, полученного с расстояния в четверть века, и каждый день коривший себя за согласие на арест верного и так много знавшего Графа, понял, что именно сейчас у него есть шанс приблизиться к пониманию того, что хотел ему сообщить убитый большевиками император. И он ответил таким тоном, какой по его представлениям, должен был использовать наследник российского престола в разговоре с подданным, сообщавшим своему государю о государственном секрете. О котором ему, подданному, в принципе, не следовало бы и знать.
— Говорите, господин Жеребков.
Юрий Сергеевич понимающе ухмыльнулся и заговорил, приподняв тон:
— Дело в том, что в России существует и действует тайная монархическая организация, желающая с помощью Германии восстановить в России монархию. Она вступила в контакт с германским командованием. Законным претендентом на русский трон они считают только вас, Владимир Кириллович. Для того чтобы убедиться, что германское руководство рассматривает их как серьёзных партнеров, они потребовали совершенно конкретное доказательство вашей осведомленности об их деятельности.
— А почему вы спрашивали меня о Садовском? Он что, жив и имеет отношение к этой организации?
— Да. Именно он является главой этой организации и через своего связного просил передать вам следующие слова: «Вторая половина шифра у меня». И ещё. Он просил вас прислать в Москву вашего представителя, который должен предъявить ему конверт от того письма, что вы получили перед Рождеством. Я, в свою очередь, уполномочен заверить вас, что Германия ни в коей мере не претендует на знание тайн семьи Романовых. Но в сотрудничестве с организацией, представляемой Садовским, она, напротив, заинтересована и весьма.
Владимир Кириллович в задумчивости водил пальцем по краю чашки с недопитым кофе. Он, конечно, надеялся, что после того декабрьского письма последуют ещё какие-нибудь знаки, но вот так… А все-таки хорошо, что он сохранил конверт, когда сжигал письмо, содержание которого запомнил наизусть. Сохранил для архива, чтобы и после него осталась память об этом странном послании. И вот теперь такая новость. Но если он согласится на предложение немцев, не будет ли это означать сотрудничества с ними? Хотя, положа руку на сердце, разве публичное общение с Жеребковым и ему подобными не является уже некоей формой сотрудничества? Ну, моей-то части шифра они точно не получат. Даже если пытать будут, а до этого, думаю, не дойдет. Что касается конверта, то его можно и передать, сам по себе он ценности не представляет и ни в коей мере не связывает его с планами немцев подорвать власть большевиков с помощью какой-то таинственной монархической организации в России. Неужели это возможно: активно действующие монархисты в современной Москве?
Невероятно. Но с другой стороны, это Россия. А в этой стране возможно все. И прервав затянувшуюся паузу, он решился:
— Думаю, я найду человека, который согласится отправиться в Москву с этим конвертом. Одновременно я надеюсь получить от германской стороны гарантии его безопасности.
— Я передам ваши слова и не сомневаюсь, ваше высочество, что они будут услышаны.
При этих словах Жеребков, явно удовлетворённый результатом разговора, поднялся и откланялся, Они оба понимали — нельзя дать никаких гарантий, когда имеешь дело с большевиками, а представителю великого князя предстояло отправиться прямо в их логово, в Москву. Понимали они и то, что дав согласие на контакт с Садовским, Владимир Кириллович ещё одной ниточкой связал себя с Германским рейхом. Но иллюзия, что его слова и поступки влияют на ход истории, уже завладела умом Владимира Романова. А эта иллюзия гораздо сильнее любой страсти и управляет поступками людей куда эффективнее разума.
Вечером великий князь был уже в своей резиденции, на вилле «Кер Аргонид». А утром его секретарь Дмитрий Сенявин ответил согласием на предложение Владимира Кирилловича отправиться в Москву на встречу с Садовским.
P.S. В годы немецкой оккупации легендарный и очень дорогой парижский ресторан «Максим» был «режимным» объектом. Туда допускали только немецких офицеров, чиновников оккупационной администрации и высокопоставленных коллаборационистов. Увы, но Владимир Кириллович действительно в эти годы неоднократно бывал здесь. Впрочем, как и в других ресторанах Парижа.
Посланник
О Дмитрии Львовиче Сенявине мне удалось узнать не много. Потомку знаменитого русского адмирала в начале войны Германии с Советской Россией было пятьдесят пять. Его отец дослужился до звания генерал-лейтенанта, сам он воевал в Первую мировую и Гражданскую войну, после поражения белых эмигрировал. Имел чин полковника. В 20-е-30-е годы жил в Эфиопии, где служил императору этой страны военным советником. В христианской Эфиопии нашлось тогда место не одному русскому эмигранту. В 1935 году на Эфиопию напала фашистская Италия. Можно предположить, что не без содействия Сенявина вооружённое в основном кремневыми ружьями и копьями эфиопское ополчение оказало ожесточённое сопротивление итальянской армии. Судя по всему, именно после поражения Эфиопии в войне в 1936 году и оккупации страны итальянцами Сенявин перебрался в Европу и поступил на службу в канцелярию великого князя Кирилла Владимировича, а потом остался служить и его сыну. В начале Великой Отечественной войны вслед за арестом Графа и роспуском канцелярии великого князя Сенявин занял должность его секретаря и все годы войны был самым близким к нему человеком. Поэтому именно его Владимир Кириллович и решил послать в Россию. Правда, сколь-либо широкого выбора кандидатур у него и не было.
Тем временем операция «Монастырь» успешно развивалась. Немцы забрасывали в советский тыл своих агентов, снабжённых оружием, взрывчаткой и деньгами для организации «Престол». В соответствии с традициями, заложенными еще во времена «Треста», часть агентов арестовывалась и уничтожалась, радисты, какправило, перевербовывались для расширения радиоигры с немцами, а некоторых, познакомив с бурной деятельностью «Престола», успешно отправляли обратно, чтобы убедить противника в эффективности его поддержки монархического подполья в Москве. По-видимому, в число этих последних попал и Сенявин, благополучно вернувшийся из своей московской командировки. Для Судоплатова и его подчинённых это был великолепный шанс окончательно убедить немцев, если у них еще были сомнения, в реальности существования организации «Престол». В операции «Монастырь» Дмитрию Сенявину было суждено сыграть ту роль, которую исполнил Владимир Шульгин в операции «Трест». Учитывая, что требовалось время на его подготовку к парашютированию и обратному переходу линии фронта, на подбор для него сопровождающих агентов — ведь советских реалий полковник не знал совершенно — он не мог появиться в Москве раньше начала лета 1942 года. Тогда-то Демьянов и привел его в Новодевичий, к Садовскому.
Сопроводив гостя, Демьянов тут же ушел, деликатно ссылаясь на занятость по службе, а они, Садовской и Сенявин, проговорили весь день, ночь и раннее утро до возвращения Демьянова, задачей которого было доставить посланника великого князя к линии фронта в районе Ржева, где люди Судоплатова подготовили «окно» для его возвращения к немцам. Садовскому и Сенявину он сказал, что переход будет организован завербованными им фронтовыми офицерами, а немецкая сторона о месте перехода предупреждена.
О чем был их долгий разговор? Наверное, сначала искали общих знакомых, потом Борис Александрович расспрашивал Дмитрия Львовича о великом князе, о положении дел среди русских эмигрантов под властью немцев, о его знакомых, уехавших на Запад, о недавно умершем Ходасевиче, похоронившем Садовского еще в 1926 году. И наконец, о том, ради чего Сенявин прыгал с парашютом где-то под Малоярославцем и висел на стропах, зацепившись за верхушку березы, пока его не сняли двое сопровождавших полковника агентов. Он достал из портмоне аккуратно сложенный конверт, развернул его и поднес к глазам Садовского.
— Вот тот самый конверт, который вы хотели видеть. Вы удовлетворены, Борис Александрович?
Садовской внимательно рассмотрел конверт, попросил развернуть его тыльной стороной, также тщательно осмотрел и ее, а потом, когда Сенявин снова спрятал конверт в портмоне и замер в ожидании, ответил:
— Вполне. Почерк Николая. Правда, в подлиннике вижу впервые. Вторая половина шифра — ЗА652718. Запишите, запомните и при мне запись уничтожьте.
Они продолжили разговор после того, как Сенявин убедился, что запомнил шифр и, выйдя на улицу, сжёг его запись за ближайшей могилой.
— Могу я полюбопытствовать, Борис Александрович, откуда вам известен этот шифр?
— Резонный вопрос, Дмитрий Львович. Дело в том, что моя жена, Надежда Ивановна, в последние месяцы монархии была очень близка к Александре Федоровне. При всей колоссальной дистанции в их положении императрица видела в Наде не только слугу, но и друга. Иначе бы она не поручила ей запомнить эту комбинацию цифр и не велела бы дожидаться посланника с конвертом в случае, если империя падет. Она говорила, что само письмо получит тот, кто будет главой Императорского Дома. А крайний срок появления посланника — время накануне Рождества 1941 года. Императрица позвала её для разговора в первые часы после отречения Николая. Она велела Надежде Ивановне немедленно покинуть Царское Село, чтобы в дальнейшем ее имя не связывали с царской фамилией и она могла сохранить тайну. Только в случае, если ей будет угрожать смерть, она должна была передать тайну шифра тому человеку, которому могла без сомнения доверять. Надежда Ивановна очень больна, если вы заметили, когда я вас знакомил с ней и её сестрой, которая теперь за нами ухаживает. Вот год назад, перед самой войной, она и решилась поделиться со мной этой тайной. Я воспринял ее рассказ как знак Божий. Кстати, по-моему, тайна шифра проста и придуман он наспех. Похож на номер кредитного билета, например, «катеньки» — помните, сторублевая банкнота.
— Речь, несомненно, идет о чем-то важном. Важном как минимум для судеб династии. А ваша жена запомнила какие-нибудь подробности того разговора?
— Александра Федоровна показала ей этот конверт, надписанный хорошо знакомым Наде почерком Николая II, и сказала, что если империя падет, посланца нужно будет ждать в течение четверти века. Кроме того, она дала понять, что эту часть шифра знают еще несколько человек.
— К нам никто, кроме вас, не обращался. По крайней мере, Кирилл Владимирович ничего об этом не говорил.
— Думаю, поэтому они и страховались. Мало ли что могло произойти за двадцать пять лет с этими людьми. Тем более что на них на всех было клеймо близости к императорской семье. Позвольте и мне, Дмитрий Львович, задать один вопрос: Владимир Кириллович знает, какую дверь открывает этот ключ, этот шифр?
— Мне об этом ничего неизвестно. И это абсолютно честный ответ.
— Дай Бог, чтобы раскрытие этой тайны принесло пользу нашей несчастной Родине и святому делу восстановления монархии. Мы здесь, в России, сделаем для этого всё, что в наших силах. Передайте это великому князю.
Садовской замолчал, глядя куда-то мимо головы собеседника, ему за спину, где уже светлел прямоугольник двери, оставшейся открытой из-за жаркой июньской ночи до самого утра. Сенявину стало не по себе. Он чувствовал почти физически силу духа этого парализованного человека, который, казалось, видел не занимавшееся над Москвой утро, а само будущее. И когда он снова посмотрел на Дмитрия Львовича, в его глазах таяли слезы. Видимо, ничего хорошего в этом будущем он не усмотрел.
Два ордена одного героя
Благополучно перейдя линию фронта со своими спутниками, Сенявин нескольких дней провел в Смоленске, где сотрудники Абвера по минутам реконструировали те дни, что он провел на советской территории. Он с восхищением говорил о Садовском, с воодушевлением — о Демьянове, который казался ему настоящим героем. На неоднократно повторенный вопрос о том, зачем Садовскому понадобилась встреча с представителем Владимира Кирилловича, он вновь и вновь говорил о верности Бориса Александровича монархической идее и союзу с Германией. А контакт с представителем Великого князя был, по его мнению, необходим Садовскому для уверенности в том, что немецкое руководство серьезно относится к сотрудничеству с русскими монархистами. Немцам не оставалось ничего другого, как сделать вид, что они поверили ему. В середине лета 1942 года Сенявин благополучно вернулся в «Кер Аргонид». Теперь Кирилл Владимирович знал весь шифр. Но толка от этого не было никакого. Его осторожная попытка добиться через Жеребкова разрешения на поездку в Швейцарию закончилась тем, что ему вежливо посоветовали дожидаться окончания войны и победы Великой Германии.
Как пишет Судоплатов, к участию в операции «Монастырь» помимо жены Демьянова был привлечен и его тесть. По утверждению Павла Анатольевича, это было исключением из принятых в НКВД правил, где такая семейственность не приветствовалась. Наверное, руководство «органов» видело в ней опасность потерять полный контроль над поступками агентов. Но дело в том, что Борис Александрович Березанцев имел большую квартиру в центре Москвы, в Брюсовом переулке, и её было очень удобно использовать как конспиративную. На квартире он принимал больных, ведя частную практику, которая была ему как большому светилу разрешена в качестве исключения, появление здесь незнакомых людей не вызывало вопросов у соседей. Сюда приходили немецкие агенты, отсюда они отправлялись на квартиру Демьянова на Садово-Самотечной. Тут, уже предупрежденная отцом по телефону о прибывших «гостях», Татьяна Березанцева подносила им чай и водку, разбавленные снотворным, а после того, как они засыпали, их обыскивали, заменяли боевые патроны холостыми, а взрывчатку — её муляжом. Если принималось решение об аресте агентов, то делалось это только после того, как они покидали конспиративную квартиру и еще какое-то время имели возможность перемещаться по Москве. Всего в рамках операции «Монастырь» было, по разным данным, арестовано, уничтожено или перевербовано от двенадцати до нескольких десятков немецких агентов. Осенью 1943 года за участие в этой операции Татьяна и Борис Березанцевы были награждены медалью «За боевые заслуги». Александр Демьянов получил орден «Красной Звезды». Сохранилась его фотография того периода. На ней он запечатлён в военной форме, с погонами капитана и в ходе очередного сеанса радиосвязи с немцами. И если советский орден он получил только в сентябре 1943-го, то еще в декабре 1942-го Демьянов принял радиограмму, направленную ему от имени адмирала Канариса. В ней глава Абвера поздравлял Демьянова с награждением бронзовым Крестом военных заслуг 2-го класса с мечами. Эта награда вручалась за отличие при боевом соприкосновении с противником. За нечто подобное в СССР давали как раз Красную Звезду. Ей же обычно награждали особо отличившихся сотрудников «органов». Ну а что же Садовской?
В конце октября 1942 года Маклярский докладывал заместителю наркома внутренних дел Кобулову о промежуточных итогах операции «Монастырь». В отчете говорилось о том, что в её ходе были получены от немцев большие, исчисляемые сотнями тысяч суммы советских денег. Большая часть из них сдавалась в казну, а часть рекомендовалось использовать на продолжение операции. Наряду с прочими тратами Маклярский предлагал через агента «Гейне», то есть Демьянова, передать тысячу рублей Садовскому. Кобулов не возражал. Следовательно, даже осенью 1942 года Борис Александрович оставался участником игры. Как он при этом использовался НКВД, мне неизвестно.
Кажется удивительным, но руководители операции «Монастырь» поддерживали автора стихотворного манифеста в поддержку «немцев — освободителей» и другим способом — поощряя его поэтические труды. Не где-нибудь, а в главном печатном органе ВКП(б) газете «Правда» 2 февраля 1942 года был напечатан его перевод патриотического стихотворения армянского поэта Аветика Исаакяна! Нельзя не поражаться цинизму Бориса Александровича, но в его собственных стихах, написанных в 1942 году, заметно нарастающее отчаяние.
«Ты вязнешь в трясине, и страшно сознаться
Что скоро тебя засосёт глубина.
На что опереться и как приподняться,
Когда под ногой ни опоры, ни дна?
Мелькают вдали чьи-то белые крылья:
Быть может, твой друг тебе руку подаст?
Напрасны мечты, безнадежныусилья:
Друг первый изменит и первый предаст.
Крепись! Тебя враг благородный спасает.
С далёкого берега сильной рукой
Он верную петлю в болото бросает
И криками будит предсмертный покой».
На мой взгляд, это одно из лучших стихотворений Садовского. По-видимому, он догадывался, в какую ловушку попал, какие «друзья» его окружают. Но и на помощь «врага благородного» более не рассчитывал. В 1942 году умерла Надежда Ивановна. Ей было всего пятьдесят три. Пять лет спустя, в 1947 году, Борис Александрович написал об этом в стихотворном послании к её сестре Анне Ивановне, на попечении которой поэт остался после смерти жены:
«Закрылись взоры бедной Нади,
Лазурных глазок больше нет».
Железный каток войны катился по стране, операция «Монастырь» продолжалась, но, похоже, в Садовском её руководители больше не нуждались. О нём предпочли просто забыть, оставив доживать в Новодевичьем. Да и сам он, видя, что ход войны медленно, но верно меняется, не мог не понимать, что лучшее в его положении — это молчание. После осени 1942 года его имя в опубликованных материалах по операции «Монастырь» не упоминается.
Со временем отлов вражеских агентов был выделен НКВД в отдельную операцию под названием «Курьеры», а главной задачей операции «Монастырь» стала дезинформация противника. По словам Судоплатова, Демьянов сообщил своим немецким «хозяевам», что ему удалось устроиться офицером связи в Генштаб. Такая легенда, по его утверждению, придавала большую достоверность исходящей от него информации. По воспоминаниям же Татьяны Березанцевой, Демьянов радировал немцам, что он поступил на работу в Народный комиссариат путей сообщения. Это давало возможность, не вызывая у Абвера подозрений, сообщать ему перемешанную с правдой дезинформацию о передвижении воинских эшелонов и поездов с техникой. Версия Березанцевой выглядит более реалистичной, так немцы вряд ли поверили бы в то, что инженер-электрик с «Мосфильма» да ещё с его анкетой мог вдруг стать офицером связи Генерального штаба. Информация для Демьянова готовилась в оперативном управлении Генштаба при участии его начальника генерала Сергея Штеменко. Чтобы продемонстрировать эффективность действий организации «Престол», в некоторых газетах были опубликованы статьи с призывом усилить бдительность в связи с попытками диверсий на железных дорогах. Перед этим Демьянов сообщил немцам об успешном подрыве поезда под Горьким.
Судоплатов пишет, что дезинформация, которой немцы поверили благодаря операции «Монастырь», имела стратегический характер. Так, 4 ноября 1942 года Демьянов сообщил им, что главный контрудар в ходе начинавшейся зимней компании Красная Армия нанесёт в районе Ржева, а не Сталинграда, как это произошло на самом деле, и это наступление начнется 15 ноября. Немцы поверили в это и сосредоточили под Ржевом основные резервы. Наступление началось спустя неделю после указанного Демьяновым срока и через два дня после удара под Сталинградом. Войсками Западного фронта командовал Жуков. В своих мемуарах Судоплатов пожалел будущего маршала, а в ноябре 1942 года еще генерала армии: он де ничего не знал об операции «Монастырь» и о том, что НКВД с санкции Сталина фактически подставил его, раскрыв наши планы немцам. Наступление под Ржевом провалилось, но зато немцы не могли перебросить войска группы армий «Центр» на помощь 6-й армии Паулюса, гибнущей под Сталинградом. Не подозревавший о радиоигре Жуков «заплатил дорогую цену — в наступлении под Ржевом полегли тысячи и тысячи наших солдат».
Ржев
Помните строчки из стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом»:
«Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит, и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?»
Немцы заняли Ржев, небольшой город в верхнем течении Волги, в начале октября 1941 года. Это был важный транспортный узел на пути к Москве. В ходе зимнего наступления советских войск немцы именно в районе Ржева смогли остановить его на наиболее близком к Москве расстоянии. В результате образовался так называемый ржевский выступ. Бои здесь начались в январе 1942 года и продолжались более года, до марта 1943-го. К осени 1942 года Красная Армия предприняла несколько попыток окружить и разгромить немецкие войска на этом выступе, но все они закончились безрезультатно. Солдаты прозвали эти бои «ржевской мясорубкой». Так велики были потери. Один из участников тех боев, счастливо уцелевший, вспоминал, описывая одну из многочисленных «долин смерти» в районе битвы за Ржев:
«Ползёшь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьёт фонтан тлетворной вони». Задача немцев по обороне ржевского выступа облегчалась условиями местности, обилием лесов, болот и озёр, почти полным отсутствием дорог. А упорство русских объяснялось тем, что на этом участке расстояние от фронта до Москвы было всего 150 километров. После очередной неудачи в конце лета 1942 года советские войска на ржевском направлении начали готовиться к наступлению в условиях зимы.
Наступление советских войск в районе Ржева началось 25 ноября 1942 года, шесть дней спустя после удара под Сталинградом. Оно продолжалось до 21 декабря, принеся незначительные тактические успехи и огромные потери. Война шла почти полтора года, но очередная ржевская операция в который уже раз показала неспособность командования Красной Армии эффективно организовывать действия своих войск. Только один пример, демонстрирующий качество управления войсками только одной армии — 31 армии Западного фронта во главе с генералом армии Жуковым. Свидетель — не какой-нибудь современный писака, клевещущий на великого полководца, а военный прокурор, сообщавший об уровне организации дел в армии своему непосредственному начальнику, прокурору Западного фронта: «..Незначительная по размерам площадь была наводнена войсками, обозами, транспортом, боеприпасами, артиллерией, кавалерией и другими родами войск. Причем местность открытая, лесов нет. Вследствие чего части, обозы, транспорт, артиллерия, кавалерия смешались между собой, столпились в лощину. Противник простреливает наши боевые соединения в глубину справа и слева. артиллерийским, миномётным огнём, кроме того, бомбит с воздуха. Наши части укрытия не имеют и, скопившись сплошными толпами в лощинах и на полях, несут колоссальные потери в людях, лошадях и технике. Балки в отдельных местах покрыты тысячами трупов, лошадей, ряд полков. являются почти не боеспособными в силу колоссальных потерь в людском и конском составе. На мой взгляд, единого централизованного командования частями и соединениями, расположенными на указанном участке, нет.».
Но я отвлёкся. Пишу ведь не о полководческих талантах советских генералов, а о том, какое воздействие на ход войны оказала операция «Монастырь». Читая современную литературу по этой проблеме, поневоле начнёшь философствовать. Известно, что литераторам свойственно увлекаться теми историческими персонажами, о которых они пишут. Иногда это превращается в род влюблённости. Примером такой безответной в связи с давней смертью главного персонажа любви может служить книжка, автор которой сравнивает наступление под Ржевом в ноябре — декабре 1942 года с шахматным гамбитом — сознательной жертвой фигурой или фигурами ради общей победы в партии (/). Он искренне влюблён в товарища Сталина. Его любовь не слепа. Он видит у кумира отдельные недостатки, например, чрезмерную жестокость и самоуверенность, но их описание нужно ему не для объективности — какая объективность при таком сильном чувстве — а для придания образу вождя глубины и сложности. По его словам, оказывается, в 1942 году Иосиф Виссарионович выдумал грандиозную комбинацию. Автор этой замечательной книги описывает ее следующим образом: «всю задумку Ставки на ведение боевых действий в 1942 году можно обозначить так: «Операция «Монастырь» — операция «Уран» — операция «Марс». «Как покажет будущее, это триединство и приведет в конце концов к финальному сражению сторон под Сталинградом, которое явится, по признанию всего мира, коренным в Великой Отечественной войне, а кое-кто из историков и политиков считает, что и во всей Второй мировой». В дальнейшем автор убедительно показывает, что когда мы говорим «Ставка», то подразумеваем «Сталин» и наоборот. Как и всякий любитель Сталина, он специализируется на мелких и больших подтасовках. Человек, мало знакомый с историей войны, может с его слов подумать, что ещё в начале 1942 года Сталин задумал этот самый магический треугольник стратегических операций. Ведь автор постоянно говорит о планах «Ставки» на 1942 год. Как будто не было страшных катастроф весны — начала лета 1942 года под Ленинградом, в Крыму и под Харьковом, бесплодных и чудовищных по потерям наступлений в районе Ржева. Не было сравнимого с трагедией лета 1941 года поражения на юге, не ставшего роковым для всего хода войны только потому, что Гитлер в головокружении от успехов погнался за двумя зайцами сразу и пожелал одновременно овладеть Сталинградом и Кавказом. Если пресловутый треугольник и возник в мозгу «великого стратега», то никак не раньше начала сентября 1942 года, когда ход военных действий позволил задуматься о возможности крупных контрнаступлений в конце осени 42-го. По мнению автора «Гамбита», Сталин, засекретив все материалы, связанные с операцией «Монастырь», сам виноват в том, что не был понят и по достоинству оценён ближайшим потомством: «Секретность и не позволяла историкам войны увидеть картину боёв 1942 года в полном объёме — не хватало её третьей части, операции «Монастырь». Теперь завеса приоткрыта. «В свете новых данных сражения под Ржевом должны рассматриваться уже не как «мясорубка», «бездарные» действия советского командования, но как оптимистическая трагедия советских воинов, защищавших свою Отчизну». И лучший перл — очаровательный, обезоруживающий своим цинизмом пассаж: «Самый главный момент наступил для советских воинов тогда, когда они, не задумываясь, до конца бились за Великую Победу. В том числе и на Ржевско-Вяземском плацдарме». Как только перестали задумываться, так и наступил для наших солдат главный момент. А то, пока задумывались, могли и в гениальности товарища Сталина усомниться. Что касается самого «Монастыря», то «это была исключительная операция советских чекистов под непосредственным руководством Верховного главнокомандующего». Говоря о придуманном им триединстве операций, автор сокрушается, что «мы, наверное, так никогда и не узнаем полной правды об этом адском замысле советского Верховного главнокомандующего». Нуда, в аду, где Сталин, несомненно, и пребывает, интервью автор сможет взять у него только когда отправится туда вслед за своим кумиром, а судя по его системе моральных ценностей, их встреча там неминуема.
Специалисты, профессионально занимающиеся военной историей, действительно, давно усомнились в том, что операция «Марс» была всего лишь манёвром, отвлекающим немцев от главного удара под Сталинградом. Это сомнение, например, позволила себе автор единственного на сегодняшний день научного исторического исследования, посвященного сражениям в районе Ржева (. ru/book/rzew42.htm). Даже автор «Гамбита» вынужден признать: «Советских войск, правда, там (под Сталинградом — С.С.) было меньше, чем на других фронтах, например на западе — Калининском, Западном и др.». Но зато он справедливо указывает, что войска, призванные окружить армию Паулюса под Сталинградом, были лучше снабжены боеприпасами, чем те, что должны были разгромить немцев в районе Ржева. Но это ничего не доказывает. Когда за полгода до этого будущий генералиссимус задумывал весеннее наступление из серии распыляющих силы ударов, этот фактор тоже не был для него решающим. Порыв, воля, принуждение, страх — эти стимулы он всегда считал важнейшими для успеха. Или за лето 1942 года он так поумнел, «набрался опыта»? Даже поверхностное знакомство с его принципами ведения войны показывает, что с весны 1942 года и до весны 45-го они существенно не изменились. Как в 42 году от генералов и солдат требовалось выполнять поставленные «Верховным» задачи, не считаясь с возможностями и потерями, так и три года спустя от них требовалось то же самое. Только возможностей стало неизмеримо больше благодаря налаженной, наконец, работе тыла. Признаю, что в том числе и его неустанными усилиями. А метода все та же. Берлинская операция с её огромными потерями была венцом этого «полководческого искусства». Серийность ударов можно назвать творческим почерком Сталина — что в 42-м, что в 43-м, что в 44-м («десять сталинских ударов»), что в 45-м. О её эффективности написано и сказано так много, что я не хочу повторяться. Лучше еще раз дам слово ветерану ржевской битвы, воспоминания которого об одной из «долин смерти» я уже приводил: «Если бы не поспешность и не нетерпение Сталина, да если бы вместо шести необеспеченных наступательных операций, в каждой из которых для победы не хватало всего-то чуть-чуть, были бы проведены одна-две сокрушительные операции, не было бы ржевской трагедии». Ладно, это слова рядового участника боев. Но вот что писал уже непосредственно о Ржевско-Сычёвской операции ноября-декабря 1942 года генерал Михаил Катуков, один из лучших командующих танковыми войсками времён войны: «Действовали мы разрозненно и по задачам, и по времени. Не скрою, были тогда среди танкистов разговоры: а почему бы не нанести врагу одновременный удар силами трех корпусов?» Танкисты понимали, как надо действовать, а вот лучший полководец все времен и народов и его первый заместитель Жуков — нет.
Но вот что значит настоящая любовь! Для автора пресловутого «Гамбита» это постоянное распыление сил не ошибка, а достижение Сталина. Ведь у магического треугольника была вершина — операция «Монастырь» и ради её успеха стоило пожертвовать парой сотен тысяч человеческих жизней: «Множественность ударов, из которых более половины были сковывающими, приводила к естественному распылению огневых сил и средств. Но Ставка ВТК преднамеренно распыляла их, так как, по-видимому, рассчитывала в том числе и на то, что о части этих ударов будет сообщено через «их» агента «Макса», чтобы показать якобы массовость атак дивизий Красной армии на разных участках двух советских фронтов западного направления». Кажется, такое глубокое понимание стратегии не требует комментариев. Наш автор, видимо, и сам в нём сомневается, а потому находит себе союзника в лице какого-то кандидата технических наук, которого обильно цитирует. Не удержусь от этого и я. Ведь, как говорится, умри, Денис, лучше не скажешь: оказывается, шесть бесплодных наступлений в районе Ржева, стоивших нашей армии потери как минимум миллиона бойцов, воплощали «глубокий стратегический замысел Генштаба Красной армии. Нет видимых громких успехов? Но в этом-то самый главный успех! Поставить какую-то крупную группировку противника в катастрофическое положение — нет проблем. Но тогда он в целом отойдёт на более выгодные рубежи и высвободит себе руки». Это глубокомысленное рассуждение анализировать просто тошно. И всё-таки заставлю себя, поставив пару риторических вопросов. Это где до Сталинграда и ещё год после него у Красной армии без проблем получалось поставить противника в катастрофическое положение, что она решила под Ржевом не утруждать себя подобной безделицей? Это не под Ржевом ли противник в марте 1943 года без наших «видимых крупных успехов» отошёл на более выгодные рубежи и «высвободил себе руки»? Воистину — захочет Бог наказать, так отнимет прежде разум. Но зато вознаградит вечной любовью к товарищу Сталину.
Но хватит бесплодной полемики о стратегии. Зададимся простым вопросом: что сообщил немцам Демьянов-«Гейне» в той судьбоносной радиограмме, заставившей немцев плясать под дудку Сталина? Вот та её часть, которая касается стратегических планов советского командования: «Главные удары: от Грозного в направлении Моздока, в районе Нижнего и Верхнего Мамона в Донской области, под Воронежем, Ржевом, южнее озера Ильмень и под Ленинградом» (-html). Никаких указаний на то, что главный удар будет нанесен под Ржевом, как видите, здесь и в помине нет. Даётся лишь перечисление возможных направлений советского наступления в последовательности с юга на север, где Ржев упомянут среди прочих, не более того. Цель этой «дезы» понятна: заставить противника держать в напряжении его войска на ключевых участках советско-германского фронта, при этом характеристика советских планов носит настолько общий характер, что при любом развитии событий двойного агента будет трудно заподозрить в дезинформации. И, хотя, по мнению автора «Гамбита», видимо, лично и хорошо знакомого с Гитлером, фюрер так привык к его сообщениям, «что принимал окончательные решения как верховный главнокомандующий, только ознакомившись с данными «своего» агента «Макса», эта радиограмма вряд ли могла подтолкнуть Гитлера к принятию хоть каких-либо решений. Фронтовые же немецкие генералы, как, например, командовавший осенью 1942 года пехотной дивизией, действовавшей на ржевском выступе, генерал Хорст Гроссман, оставивший воспоминания о боях под Ржевом, и так всё видели. Этот генерал написал в своей книге, что данные армейской разведки, в частности аэрофотосъёмки, свидетельствовали о том, что в октябре — ноябре русские готовили здесь крупное наступление.
Судоплатов писал о том, что для поддержки дезинформации Демьянова к Западному фронту направлялись поезда с макетами и дровами, которые должны были изображать эшелоны с военной техникой. Но даже автор «Гамбита» признает, что в районе ржевского выступа было сосредоточено гораздо больше войск и техники, чем под Сталинградом. Если она и так туда валом валила, зачем были ещё какие-то муляжи? Немцам и без этого было понятно, что здесь затевается что-то значительное.
В общем контексте интересна история с ещё одной судоплатовской дезинформацией, которую в простоте душевной приводит в своей книге автор «Гамбита», не понимая, что этот факт разрушает всю его конструкцию. Советской контрразведкой была перехвачена немецкая радиограмма, в которой говорилось: «Надежный агент разведки передаёт 17.XI: «прибывающие с востока эшелоны с войсками немедленно переводятся в Москву на окружную дорогу и идут дальше, главным образом в южном направлении». Судоплатову пришлось объясняться со своим начальством и доложить Берии, что агент — это «Гейне», а информация — «наша деза». Зачем она была нужна накануне удара под Сталинградом и Ржевом? Трактовать её можно только так: на самом деле войска шли на запад, к Ржеву, а южное, читай — сталинградское направление не считалось главным, поэтому Демьянов и получил приказ раскрыть планы советского командования именно на юге. В терминологии защитников товарища Сталина «помочь устроить для советских солдат «оптимистическую трагедию» уже там».
Один из разумных учёных, занимавшийся исследованием борьбы советской и немецкой разведок в годы войны () справедливо, на мой взгляд, написал о радиограмме Демьянова, которая якобы развернула её ход, следующее: «Как дезинформационный такой документ не имел смысла, поскольку давал возможность немцам избежать сталинградской катастрофы», так как мог «побудить германское командование… оставить Сталинград». Ведь ни Сталин, ни Ставка, ни Генштаб ничего не знали о том, что Гитлер на волне побед утратил способность к рациональному мышлению и решил держаться за Сталинград вопреки здравому смыслу. Если бы не это обстоятельство, то дезинформация «Гейне», будь она действительно убедительной, могла подтолкнуть немцев «высвободить себе руки» для отражения удара русских на западном направлении. Разумным выглядит и другой аргумент, разрушающий миф о великом треугольнике: «Немцы о Сталинградской операции ничего заранее не узнали и узнать не могли, независимо от того, засветили бы перед ними Ржевско-Сычёвскую операцию, или нет — просто не было у немцев агентуры соответствующего масштаба… И привлекать их внимание к Ржеву было просто бессмысленно». Замечу ещё, что радиограммы Демьянова опубликованы очень выборочно, после 4 ноября 1942 года они за длительный период не опубликованы вовсе. Это заставляет еще более настороженно относиться к версии Судоплатова о роли операции «Монастырь» в ходе событий осени — начала зимы 1942 года, на которой громоздятся и построения остальных воспевателей подвигов наших «чекистов» и их «Верховного главнокомандующего». Как заметил один из исследователей, писавших о «ржевской дезинформации» Судоплатова и компании, возникает ощущение, что здесь они «настолько увлеклись средствами, что напрочь забыли про цель».
Кстати. В 1944 году Судоплатов и его заместитель Эйтингон были награждены орденом Суворова. В соответствии со статусом этой награды её удостаивались только добившиеся значительных побед боевые командиры. Судоплатов и Эйтингон были единственными сотрудниками НКВД, получившими такие ордена в годы войны. Автор «Гамбита» использует этот факт, чтобы подкрепить свое утверждение о стратегическом значении операции «Монастырь», заявляя, что именно за неё их и наградили полководческим орденом. Об этом можно прочитать и в других книжках по истории этой операции, на различных сайтах, в том числе и официальных. Но сам-то Судоплатов пишет, что их «наградили орденами Суворова за боевые операции в немецком тылу»! И описывая эти операции, он замечает: «В истории НКВД это, пожалуй, единственная страница, которой продолжают гордиться его преемники». Напомню, что эти строки были написаны в 1990-е годы, когда наследники ЧК — ОПТУ — НКВД — МГБ — КГБ из ФСБ ещё стыдились или делали вид, что стыдятся, большинства страниц как своего прошлого, так и прошлого их организации.
Один американский военный историк, посвятивший операции «Марс» целую книгу (), писал: «На тот неправдоподобный случай, что. «Марс» действительно был отвлечением, придётся признать, что ещёёё никогда в мире не было такой огромной, честолюбивой и ужасно проведенной операции, и к тому же с такими огромными потерями». Он же констатировал: «Жуков осуществлял операцию «Марс» в характерной для него манере. Советские атаки были массированными, он не жалел людских и материальных ресурсов, не учитывал неблагоприятные условия местности и погодные условия. Стремясь к победе, он полагался на нажим по всему фронту и простой манёвр мощными танковыми и механизированными корпусами. Умело организованная немецкая тактическая оборона относительно небольшими «боевыми группами», максимально использующими преимущества местности, сдерживала атакующие мобильные советские части». В наши дни опять опасно соглашаться с американцами, но в данном случае я всё-таки наберусь смелости и соглашусь. Кстати и Жуков, в своих «Воспоминаниях и размышлениях» уделивший своему провалу под Ржевом один абзац, признал, что одной из причин неудачи было то, что «командование», то есть он сам, не учло особенностей местности.
После сталинградской катастрофы немецкие генералы уговорили Гитлера оставить ржевский выступ. Войска отходили организованно, на заранее подготовленные позиции, значительно сокращая фронт и высвобождая большие резервы. Советские же генералы проморгали этот маневр врага и позволили осуществить его практически беспрепятственно. Для Гитлера, так дорожившего Ржевом, по его настоянию была организована из Ржева даже радиотрансляция взрыва моста через Волгу. 3 марта 1943 года советские войска вошли в полностью разрушенный и оставленный немцами город. 4 марта Сталин получил телеграмму от Черчилля: «Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего разговора в августе мне известно, какое большое значение Вы предаете освобождению этого пункта». 6 марта Сталину было присвоено звание маршала. Может это совпадение, но вряд ли. Не после капитуляции армии Паулюса и победы под Сталинградом, а именно после освобождения Ржева. О том, какое значение придавал битве за Ржев сам Сталин, свидетельствует и история его единственного за всю войну выезда в сторону фронта. Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов вспоминал: «3 августа 1943 года ни с того ни с сего нас вызвали в Юхнов. От фронта было уже далековато». 5 августа в селе Хорошево под Ржевом состоялась встреча Сталина не только с Вороновым, но и с командующим Калининским фронтом Еременко. Полководцы так и не поняли, зачем Сталину понадобилась эта поездка. Даже до самого Ржева, находившегося далеко в тылу Красной армии, он так и не добрался. Но вернувшись в Москву, сообщил Черчиллю 9 августа 42 г.: «Я только что вернулся с фронта». У меня нет никакого желания разбираться в мотивах поездки Сталина под Ржев. Ясно одно битва за этот город значила для него многое. Была ли эта поездка покаянием за принесённые здесь жертвы ради победы под Сталинградом, как, например, считает столь обильно процитированный мной автор «Гамбита», пусть решит сам читатель. Я-то считаю, что Иосиф Виссарионович и покаяние — «вещи несовместные».
В 1980 году на «Мосфильме» режиссером Дамиром Вятичем-Бережных был поставлен фильм «Корпус генерала Шубникова» (этот фильм можно посмотреть, например, здесь: . vandex. ru/#! / search?text=&where=all&filmId=g0RlUIy 8 s3 M). Действие фильма происходит на западном направлении накануне и во время Сталинградской битвы. Чтобы отвлечь немцев от Сталинграда, мудрый и интеллигентный командующий фронтом поручает интеллигентному, талантливому и умеющему беречь солдат командиру механизированного корпуса генералу Шубникову прорвать фронт и совершить рейд по тылам немецкой армии, имитируя крупномасштабную операцию. Шубников блестяще справляется с этой задачей, нанеся врагу огромные потери, и, потеряв матчасть, выводит остатки корпуса к своим. Немцы, благодаря действиям корпуса, вынуждены отказаться от планов переброски войск под Сталинград. Известно, что в то время сценарии фильмов на военную тематику не могли выйти на экран, не пройдя череду согласований и консультаций в военном ведомстве. Порой Министерство обороны и само выступало заказчиком кинопродукции. Когда смотришь фильм «Корпус генерала Шубникова», весьма, кстати, посредственный по художественным достоинствам, не покидает ощущение, что заказчики и авторы фильма будто пытались заново переиграть операцию «Марс». Они словно хотели преподнести её зрителю спустя тридцать пять лет после окончания войны такой, какой желали бы её видеть: с умелым руководством, малыми потерями и результатом, адекватным затраченным усилиям. Фильм был поставлен по повестям одного из печально знаменитых киноначальников 60-х-70-х годов XX века Владимира Баскакова, аонв годы войны бывал под Ржевом как военный корреспондент. Сценарий по этим повестям написал известный сценарист того времени Кирилл Рапопорт. Интересно, что Рапопорт очень хорошо знал Михаила Маклярского. Вот такие вот пересечения.
Выбор
Весной 1944 года под давлением немцев Владимир Кириллович был вынужден покинуть «Кер Аргонид» и перебраться в Париж. Шли последние месяцы перед высадкой союзников в Нормандии. По воспоминаниям самого великого князя он, чем мог, едой, одеждой, медикаментами, помогал русским пленным, занятым на строительстве «атлантического вала», призванного отразить англо-американский десант. Вызывая тем самым недовольство немцев. Правда, его критики утверждают, что немцы не использовали пленных на этой стройке. Там трудились военно-строительные отряды, состоявшие из бывших русских пленных, согласившихся работать на немцев. И в этом смысле ставшие их пособниками. В Париже он поселился во всё той же квартире Людвига Нобеля.
Сразу после возвращения из России Дмитрий Львович не только рассказал великому князю все подробности поездки и передал ему полученную от Садовского часть шифра, но и покаялся в том, что по дороге в Париж он был доставлен сопровождавшими его немцами в Берлин, в здание Гестапо, где его несколько часов допрашивали. Под угрозой пыток он рассказал все, что знал о шифре. Гестаповцы даже не взяли с него обещания не сообщать Владимиру Кирилловичу об этом допросе. Это был способ давления на него. В первые же дни после возвращения Сенявина Жеребков, сопровождавший его до «Кер Аргонид» из Парижа, поинтересовался у великого князя:
— Ну как, вы довольны результатами поездки вашего секретаря? Должен сказать, он блестяще справился с заданием и немецкое командование теперь окончательно убеждено, что в России действует эффективное монархическое подполье. Причем под вашим знаменем. Меня это вдохновляет. А вас?
— Несомненно. Несомненно, доволен. Единственное, что меня огорчает, так это попытки вмешиваться в вопросы, касающиеся только меня в частности и династии Романовых в целом. Я их решительно отвергаю и хочу, чтобы вы рассказали об этом своим немецким коллегам.
— Ну что вы, Владимир Кириллович. Не надо ссориться с властями Рейха. Поймите, для них не существует неприкасаемых персон. И тайн, для них запретных. Тем более если их носители находятся под германским покровительством. Подумайте, ваше высочество. И сообщите мне, если измените точку зрения. Честь имею!
Жеребков уехал и с тех пор при их частых встречах в Париже никогда более не возвращался к этой теме.
6 июня 1944 года союзники высадились в Нормандии. Через несколько дней после высадки, когда стало ясно, что немцам не удалось сбросить союзные десанты в море, на квартире Владимира Кирилловича в последний раз появился Юрий Сергеевич Жеребков. От имени немецкого командования он «попросил» его покинуть Францию и перебраться в Германию к сестре Марии.
При прощании Жеребков попросил проводить его. А когда они вышли из дома, предложил немного пройтись. Стояла томительная жара, от которой когда-то, до войны, богатые парижане спасались в своих загородных поместьях или у моря, а простые горожане — хотя бы в деревне. Теперь Париж замер в ожидании того, чем разрешится сражение, происходившее в паре сотен километров к северу от него. На улице было пустынно, полуденный зной топил асфальт. Они медленно шли, а машина Жеребкова следовала за ними в отдалении.
— Сами понимаете, Владимир Кириллович, у здешних домов есть уши. А настало время откровенно поговорить.
Так вот: мы с вами понимаем, что немцы войну проиграли. Их окончательное крушение — вопрос нескольких месяцев. Но наша борьба с большевиками на этом не заканчивается. На сторону немцев перешли сотни тысяч, а может быть, и миллионы советских, хлебнувших прелестей Совдепии. Наша задача спасти их от сталинской расправы, сохранить людей, которые в будущем смогут стать знаменем антибольшевистского сопротивления. Спасти таких, как вы, Владимир Кириллович. Тех, кто и в будущем может быть знаменем антибольшевистского сопротивления. Особенно, если у них есть ресурсы. И не только политические. А они у вас есть, как вы думаете?
Он вдруг неожиданно развернулся, и Владимир Кириллович совсем близко увидел его глаза, расширившиеся и остекленевшие. Великий князь успел подумать, что такие глаза, наверное, бывают у людей только перед казнью. Что у жертв, что у палачей. Жеребков всплеснул руками, будто хотел схватить его за лацканы пиджака, но тут же передумал, опустил глаза, секунду будто рассматривал тротуар, и произнес:
— Что спрятано в Швейцарии, ваше высочество?
— Не знаю, Юрий Сергеевич. Действительно, не знаю, клянусь. Чтобы узнать, туда надо попасть.
Страсть и напор Жеребкова как всегда пугали его.
— Ну что ж, Владимир Кириллович, до свидания. Я убеждён, мы ещё с вами увидимся. И я вам понадоблюсь. Да и вы мне.
Жеребков коснулся пальцами края шляпы, сел в остановившуюся машину и исчез из жизни Владимира Кирилловича. И, как оказалось, действительно только на время.
Операция «Березино»
С началом деятельности в системе Народного комиссариата обороны Главного управления контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам!»), образованного в 1943 году, радиоигры с противником стали одной из главных задач данного ведомства. Но операцию «Монастырь» продолжало вести НКВД, управление Судоплатова. Между «СМЕРШем», возглавляемым Виктором Абакумовым, и НКВД началось острое межведомственное соперничество, жертвой которого стал и один из руководителей операции «Монастырь». Об этом я еще расскажу. Накануне летнего наступления Красной Армии в Белоруссии в 1944 году Сталин приказал наркому госбезопасности Всеволоду Меркулову и Павлу Судоплатову превратить операцию «Монастырь» в операцию «Березино». При разговоре присутствовал и Абакумов. Мы знаем об этом разговоре только со слов Судоплатова, и он пишет о том, что они с Меркуловым были уязвлены пренебрежительной оценкой хода операции «Монастырь» со стороны Сталина. Можно предположить, что Абакумов, оттесняя руководство НКВД от важнейших направлений контрразведывательной деятельности, «открыл глаза» Сталину на реальную результативность руководимых НКВД операций. Вполне возможно, что вопреки мнению сторонников теории магического треугольника «Уран — Марс — Монастырь» Сталин предоставил организаторам «Монастыря» достаточно много оперативной свободы, и им после победы под Сталинградом удалось преподнести дело так, что их «радиоигра» оказала существенное влияние на ход событий, а теперь, благодаря Абакумову, Сталин понял, что его ввели в заблуждение.
По словам Судоплатова, идея новой операции принадлежала лично товарищу Сталину. Так это, или нет, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Но её план отражал явное разочарование в возможностях НКВД управлять через Демьянова («Гейне») действиями немцев посредством дезинформации стратегического уровня. Новая операция носила очевидно локальный характер.
По воспоминаниям Т. Березанцевой, в июне 1944 года Демьянов сообщил немцам, что его забирают в армию. По новой легенде он попал на службу в штаб Рокоссовского, командовавшего 1-м Белорусским фронтом. После того, как наступление советских войск в Белоруссии успешно началось, «Гейне» сообщил им, что в районе реки Березины советскими войсками блокировано соединение под командованием подполковника Шернхорста численностью в 2500 человек. Демьянову его немецкие «начальники» приказали установить связь с Шернхорстом. Этот приказ он быстро и успешно выполнил. На самом деле реальный подполковник Шернхорст к тому времени попал в плен при обороне одной из переправ через Березину. При участии Демьянова Шернхорст и его радисты были завербованы, и началась новая радиоигра. Цель операции «Березино» состояла в том, чтобы вынудить немцев сбросить в советский тыл как можно больше грузов и агентов для поддержки «группы Шернхорста», героически пробивавшейся на соединение с германской армией. Для легендирования операции в Белоруссии силами НКВД и «СМЕРШа» был создан специальный отряд. Он изображал людей Шернхорста, отлавливал сброшенных им на помощь агентов и собирал отправленные для Шернхорста грузы. В свою очередь, Демьянов регулярно сообщал немцам об успешных действиях отряда Шернхорста в советских тылах. Кроме грузов на Шернхорста и его офицеров сыпались награды и повышения. Сам Шернхорст, находясь в советском плену, стал полковником и кавалером Рыцарского креста, удостоившись при этом личного поздравления фельдмаршала Гудериана. Эта радиоигра продолжалась до самого конца войны. В 1945 году был момент, когда к Шернхорсту собирался отправиться сам главный диверсант Третьего Рейха Отто Скорцени, но немецкий фронт стремительно разваливался, и германскому командованию стало не до Шернхорста. Последний сеанс связи «Шернхорста» с немецким радиоцентром состоялся 5 мая 1945 года. Шернхорсту советовали действовать по обстоятельствам. Демьянову же было приказано, как пишет Судоплатов, «законсервировать источники информации и порвать контакты с немецкими офицерами и солдатами — уроженцами, которым грозило пленение, вернуться в Москву, затаиться и постараться сохранить свои связи». По утверждению ветерана ФСБ генерал-лейтенанта А. Здановича, 5 мая 1945 г.
«Гейне» получил от немцев следующее послание: «С тяжелым сердцем мы вынуждены прекратить оказание вам помощи. На основании создавшегося положения мы не можем также поддерживать с вами радиосвязь. Что бы не принесло нам будущее, наши мысли всегда будут с вами, кому в такой тяжелый момент приходится разочаровываться в своих надеждах».
Так, только с окончанием войны, закончилась история операции «Монастырь», переросшей в операцию «Березино». Правда, нашлись историки, которые подвергли сомнению эффективность не только «Монастыря», но и «Березино». Они считают, что десятки, если не сотни людей, профессиональных разведчиков и контрразведчиков, задействованных в этой, в общем-то, частной операции, можно было использовать куда эффективней. Косвенно это признаёт и сам Судоплатов, написавший, что ни во время войны, ни после неё, несмотря на активные представления, никто из участников «Березино» не был награждён.
Аморбах
На следующий день после последнего парижского разговора с Жеребковым Владимир Кириллович в сопровождении Сенявина выехал на собственном автомобиле в Германию. Здесь, в местечке Аморбах, в поместье её мужа, принца Карла Фридриха Лейтингенского, жила его сестра Мария Кирилловна. Принц служил в военном флоте, и Мария Кирилловна, будто предчувствуя его трагическую судьбу, жила погружённая то ли в ожидание писем мужа, то ли известий о гибели. В звании капитана первого ранга принц был комендантом немецкого гарнизона на острове Большой Тютерс при входе в Финский залив. Сегодня этот остров принадлежит России. Пушки острова Тютерс держали под прицелом заминированный фарватер залива. Принц Карл Фридрих удерживал остров до сентября 1944 года, когда после выхода Финляндии из войны немцы сами покинули его. В начале 1945 года принц Лейтингенский действительно попал в советский плен, где через год, в лагере под Саранском, умер от голода.
Мария встретила брата довольно равнодушно, тем более что его появление привело к усиленному вниманию со стороны нацистов, а их, как и большинство немецкой аристократии, она недолюбливала за буржуазность. Последние месяцы войны Владимир Кириллович прожил затворником, с тревогой ожидая развязки. Особенно его пугало стремительное наступление Красной армии. И вот неожиданно для него в конце марта 1945 года в Аморбахе появился Жеребков.
Брат и сестра в то утро завтракали в привычном молчании. Но его осмелился прервать дворецкий, сообщивший, что пожаловали гости. К воротам дома подкатил внушительный «хорьх», с правого переднего сидения пружинно выскочил молодой офицер, открыл заднюю дверцу, а из салона неторопливо выбрался сам Юрий Сергеевич — в синем в лёгкую полоску костюме и со шляпой в руках. Кирилл и Мария вышли ему навстречу. Великий князь подумал, что впервые за четыре года знакомства, он почти рад этому человеку. Вдруг он принёс хоть какие-то хорошие новости, какую-то определённость. Он представил его Марии Кирилловне, назвав по фамилии, имени и отчеству, но далее смешался. Уловив это, Жеребков представился сам:
— Ныне руковожу внешними сношениями Комитета освобождения народов России.
И представил сопровождавшего его молодцеватого обер-лейтенанта:
— А это мой адъютант и помощник, его зовут Михаил.
На рукаве молодого офицера была нашита эмблема с надписью на кириллице: «РОА», каковая аббревиатура означала «Русская освободительная армия».
Завтрак накрыли ещё на два прибора, за едой обер-лейтенант скромно молчал, а Жеребков рассказывал Марии Кирилловне, как дружны они были с её братом в Париже. Но Мария как всегда была равнодушна, и даже не спросив гостя о цели визита, первой встала из-за стола, извинилась и ушла к себе, предоставив брату и его посетителю возможность поговорить один на один. Лейтенант тоже откланялся и ушел к машине, в двигателе которой копался шофер — тоже одетый в военную форму и с такой же эмблемой на рукаве.
С чашками кофе в руке великий князь и Жеребков вышли на балкон. Здесь, на юге Германии, уже зацветала весна, перед поместьем вздымались подёрнутые дымкой зелени холмы с разбросанными по ним фермами. Жеребков, ненадолго уперев взгляд куда-то за горизонт, на восток, вздохнул и указал чашкой на стоявшего внизу обер-лейтенанта:
— В 1942-м он тоже был лейтенантом. Только у красных. Был ранен, попал в плен на Дону. Из семьи раскулаченных. Добровольно пошел служить к Власову. Жаль его. А он ведь по красным еще ни разу и не стрелял. Полгода назад свои услуги Власову предложил и я. Сначала мы тешили себя иллюзией, что удастся расколоть союзников, помогали в этих попытках немцам. Теперь я понимаю, что американцы и англичане уже приняли для себя решение: добить Германию и только потом взяться за Сталина. Поэтому сейчас я хочу только одного: спасти нашу армию, убедить западных союзников принять её и сохранить для дальнейшей борьбы с большевиками. Для этого я надеюсь в ближайшее время выехать в Швейцарию для переговоров с их представителями. Немцы для себя хотят примерно того же, поэтому обещали мне самолет. Полетите со мной? Да что я спрашиваю. Полетите, конечно. Выбора у вас все равно нет.
P.S. Мария Кирилловна умерла в 1951 году. Ей было всего 44 года. Её внук Карл Эмих Николаус Лейтингенский, рождённый в лютеранстве, шестидесяти лет от роду 1 июня 2013 года перешёл в православие под именем Николая Кирилловича Романова. Сегодня единственная официально зарегистрированная в нашей стране монархическая партия (Монархическая партия России) именно его считает единственным законным наследником российского престола, так как, в соответствии с Основными Законами Российской империи он, по мнению этой партии, является старшим неморганатическим потомком Александра II. О степени влиятельности и о количестве членов этой партии мне ничего не известно.
Суета сует и всяческая суета.
P.P.S. Юрий Жеребков был кем угодно, но только не трусом. Присоединиться к Власову, когда неизбежное и скорое поражение Германии было очевидным фактом, для этого надо было обладать немалым мужеством. И готовностью бороться до конца. Это невозможно не уважать.
Последняя встреча
В те первые майские дни 1945 года, когда заканчивалась история операции «Березино», Александра Демьянова не было в Москве. Он получил от Судоплатова новое задание и накануне отъезда в последний раз побывал у Садовского в Новодевичьем монастыре.
Они не виделись почти год, с весны 1944-го, когда Демьянов последний раз принес Борису Александровичу деньги, выделенные НКВД из сумм, сброшенных для Шерхорна. Судоплатов был предусмотрителен, и Садовского периодически навещали. Не потому, что верили в возможность новых проверок деятельности «Престола». Немцам давно уже было не до этого. Чутьё Судоплатова подсказывало, что Садовской не все рассказал представителю Владимира Романова. Что-то ещё знал он о тайне, хранимой швейцарским сейфом. И Судоплатов ждал, когда наступит момент спросить его об этом. Поэтому и продолжали приходить к поэту то «старый друг» Сидоров, то другие агенты — «подпольщики». Говорили о надеждах на перелом в войне, о том, что организации «Престол» надо затаиться до лучших времен. Садовской по большей части молчал, разговоров почти не поддерживал. И вообще, после смерти жены он сильно сдал. За ним ухаживала сестра жены. Сдал не физически, куда уж больше, а эмоционально. Судя по всему, его уже мало что волновало. Сидоров как бы между делом упомянул, что Александр Петрович всё время на фронте, так как теперь служит в штабе Рокоссовского. Садовской попросил при случае передать от него привет. Но сам ни о чем не спрашивал.
В середине апреля 1945 года Сталин вызвал Судоплатова. Тот приготовился докладывать о том, какие новые данные добыты нашей разведкой по атомному проекту американцев. Ведь именно «атомный шпионаж» был теперь его главным делом. И действительно, речь шла именно об этом. Но в конце разговора Сталин неожиданно спросил:
— А как, товарищ Судоплатов, дела у вашего сотрудника, так хорошо поработавшего во время операции «Монастырь»? Его фамилия Демьянов?
— Так точно, товарищ Сталин. Мы все ещё продолжаем вести операцию «Березино» и он участвует в радиоигре с немцами.
— Предлагаю использовать его по-другому. Назовём эту новую операцию «Наследник». Демьянов и ваши люди должны отправиться в Австрию и арестовать Владимира Романова, выдающего себя за наследника русского престола. Он сейчас находится где-то в южной Германии и наверняка попытается уйти в Швейцарию. Нельзя упустить шанс окончательно обезглавить монархистов. А заодно узнать, что же там упрятали Романовы в швейцарских банках. И использовать на благо нашей страны.
Увидев Демьянова — первый раз в военной форме, с погонами капитана и орденом Красной Звезды на мундире — Садовской улыбнулся своей кривой улыбкой парализованного.
— Слава Богу, живы, Александр Петрович. Больших чинов и наград достигли. Примирились с победоносной советской властью?
— Рад вас видеть, Борис Александрович. Как вы поживаете? Пишете?
— Куда ж я денусь. Пока смогу, буду писать. Глядишь, когда-нибудь и найдётся на мои писания читатель.
И показывая, что визит человека, с которым он когда-то связывал столько надежд, обременителен для него, спросил:
— С чем пожаловали?
Демьянов помолчал. Он был почти уверен, что Садовской давно понял, какую роль ему пришлось исполнить во всей этой комедии. Но придётся доиграть её до конца.
— Да, Борис Александрович, времени у меня совсем немного. Сегодня же возвращаюсь на фронт. Я служу офицером связи в штабе Рокоссовского. Постоянно в разъездах. Сейчас вот из Вены и туда же возвращаюсь. Меня включили в группу, назначенную для установления контактов с французами. Часть западной Австрии будет оккупирована ими. В нашу группу включили несколько человек из НКВД (может, уже из МТБ, ведь в 1944 г. наркоматы преобразовали в министерства — ред). Люди серьёзные, из Москвы. За время работы в Генштабе я сдружился с весьма информированными, так сказать, товарищами. Один из них сообщил мне, что энкэвэдэшникам поручено арестовать Владимира Кирилловича Романова. Он сейчас находится где-то в Тироле, который будет центром французской зоны оккупации. Видимо, ищет способы перейти швейцарскую границу. Я хочу попытаться ему помочь. У меня есть один канал.
— И зачем вы всё это мне рассказываете?
— Что бы я мог ему помочь, необходимо, чтобы он мне поверил. Я, если позволите, буду ссылаться на вас. А если вы посвятите меня в подробности ваших переговоров с посланцем великого князя в 1942 году, это сильно облегчит мою задачу. Если вы, Борис Александрович, конечно, сочтете это возможным.
Кривая улыбка как будто застыла на лице Садовского. Демьянов старался смотреть ему прямо в глаза, но это было трудно. Глаза поэта смотрели сквозь него, куда-то в другой мир. А, может быть, видели насквозь?
— Извольте, если это вам поможет. Теперь делать из этого секрет нет никакого смысла. Владимир знает шифр, который должен открыть ему сейф в одном из швейцарских банков. Каком — знает только он. Ну, а что в этом сейфе — не знает никто. Хотя у меня есть предположение. Вам интересно?
— Конечно-конечно.
— Ну, кому бы было не интересно. Я уверен, что никаких материальных сокровищ там нет. Романовы настолько прониклись ролью хозяев русской земли, что им и в голову не приходило что-либо прятать за границей. Вы, конечно, помните, что моя жена в последние месяцы империи была очень близка к императрице Александре Федоровне. И к Распутину тоже. Среди тех, кто тогда окружал трон, ходили разговоры, что императрица с согласия императора записывала все пророчества Распутина, требовала от придворных рассказывать ей о них. Мне он, кстати, тоже напророчил долгую жизнь. Была у нас одна встреча. Сбылось. Знаю, например, что блокаду Петербурга предсказал. Терпеть не могу этой собачей клички — Ленинград. Об этом мало кто знает, но он и о более отдалённом будущем пророчествовал. Такой вот русский Нострадамус. Александра из этих пророчеств составила целую книгу. И, как говорила покойная Надежда Ивановна, очень этой книгой дорожила. А когда попросила Надежду Ивановну запомнить часть шифра, дала понять, что это завет убитого к тому времени Григория Ефимовича. Отсюда и моя догадка. Сенявину я об этом ничего не сказал. Пользы от этого знания Владимиру Кирилловичу было бы никакой, а я хотел его энтузиазм разогреть, стремление бороться. Вряд ли бы я этого достиг, рассуждая о какой-то «Книге пророчеств» Распутина. Ну а сейчас, повторяю, для меня это уже не имеет никакого значения.
Демьянову вся эта история показалась совершеннейшей ерундой. Но выработанная годами привычка додумывать всё до конца заставила спросить:
— Совсем никакого? Ну, а если представить, что Распутин действительно был пророком, то ведь из этой книги можно узнать будущее России? Ведь Николай II в это верил?
— Несомненно. Иначе бы не назначил крайним сроком вскрытия письма двадцатипятилетие убийства Распутина. Тот же в своих пророчествах точных дат не называл. Вот сказал незадолго до смерти, что через двадцать пять лет будет новая война с немцами, а Николай и запомнил, хотел предупредить. А то, что к декабрю 41-го война уже полгода будет идти, так это уже детали. Ведь про двадцать пять лет было сказано точно. Кстати, для нынешних правителей России эта книжка тоже может быть полезна. Или опасна. Кто знает, какую судьбу Григорий Ефимович напророчил советской власти? А, в общем, это все фантазии. Вы лучше Сенявину или самому великому князю мои стихи передайте. Если вам удастся встретиться. Я Дмитрию Львовичу при оказии обещал. Они для вас и будут паролем.
Взяв несколько листков, переписанных рукой сестры Надежды Ивановны, Демьянов попрощался. И он, и Садовской понимали — это их последняя встреча. Поэтому и расстались с удовольствием.
На Лубянке эксперты и шифровальщики тщательно проверили листочки Садовского. Никаких следов шифров или тайнописи не обнаружили. Демьянову было приказано взять их с собой.
Граница
В последние дни войны Владимир Кириллович в сопровождении Сенявина действительно оказался в Тироле. Здесь они снова встретились с Жеребковым, которому немцы в последний момент отказали в разрешении на вылет в Швейцарию, сославшись на то, что швейцарцы против контактов представителя Власова с западными союзниками на их территории. Война неумолимо накатывалась на западную Австрию, и деятельный Жеребков метался в поисках выхода из той ловушки, в которую превратился погибающий Третий Рейх. Теперь он спасал уже не власовцев, а самого себя. И великий князь представлялся ему хорошим козырем в этой борьбе за свободу и жизнь. В первые дни мая они примкнули к колонне отступающей на запад 1-й Русской национальной армии под командованием генерал-майора Бориса Алексеевича Хольмстон-Смысловского.
Граф Смысловский воевал с большевиками в гражданскую, годы эмиграции провёл в Германии и связал свою судьбу и надежды на освобождение России с Гитлером и его «походом против большевизма». На территории Советского Союза дивизия Смысловского, состоявшая из эмигрантов и бывших военнопленных, боролась с партизанами и терроризировала поддерживающее их местное население. Это были каратели. Несмотря на несколько встреч генерала с Власовым дивизия Смысловского так и не примкнула к нему. Для графа Смысловского Власов был слишком советским. А в апреле 1945 года немцы признали Смысловского союзником, и его войско, никогда не превышавшее десяти тысяч, стало громко именоваться 1-й Русской национальной армией. Генерал-майор Смысловский принял решение искать убежище в Лихтенштейне, путь куда лежал через Тироль. К нему и примкнули Владимир Кириллович и Жеребков. В ночь со 2 на 3 мая 1945 года отряд Смысловского, а к этому времени от его «армии» осталось менее пятисот человек, подошёл к границе с Лихтенштейном. Колонну возглавляли несколько легковых автомобилей. В одном из них, над которым развевался большой бело-сине-красный флаг, находились Владимир Кириллович, Жеребков и Сенявин. После нескольких часов переговоров правительство княжества приняло решение пропустить людей Смысловского на свою территорию. Повод для этого был найден в том, что его армия формально не являлась частью вермахта, а именовалась союзником Германии. Но ни Владимира Кирилловича, ни Жеребкова в Лихтенштейн не пустили. Они ведь не были солдатами Смысловского, а князь Лихтенштейна Франц Йозеф II не хотел осложнений в отношениях с союзниками. Пришлось снова искать временное убежище в Тироле. Владимира Кирилловича спасло то, что сюда вошли части 1-й французской армии. Русский «Гранд дюк», «великий князь», для которого Франция стала второй родиной, был для французов почти своим. Встретил он их в небольшом тирольском городке Лиенц, недалеко от швейцарской границы.
Побег
5 мая советские офицеры связи прибыли в расположение французских войск. Немецкая группировка в этом районе уже капитулировала. Но и французы, и русские были настороже. Здесь, в Альпах, прятались уцелевшие главари нацистской Германии, готовились к партизанской войне отряды «Вервольфа». Среди них, как докладывала разведка, находился и главный немецкий диверсант Отто Скорцени. В Инсбруке, где разместился штаб французской армии, Демьянов встретился с агентом, имя которого и сегодня остается неизвестным. От него он узнал, что Владимир Кириллович и его немногочисленная «свита» находится в Лиенце. Для встречи с ним туда уже выезжали высокопоставленные офицеры французской контрразведки. Агент предположил, что ведутся переговоры о переходе Владимиром Романовым австро-швейцарской границы. На территории западной Австрии находилось большое количество только что освобожденных советских военнопленных и перемещённых лиц, и по договоренности между советским и французским командованием группа связи, в которую входил Демьянов, получила право беспрепятственно перемещаться в зоне ответственности французов в целях, как утверждалось, «помощи» этим людям. Демьянов и его команда побывали по дороге в нескольких тирольских городках, имитируя поиск советских граждан, и только в поздних майских сумерках они оказались подле Лиенца. Демьянов ехал впереди на «виллисе» с шофером, трое переодетых в общевойсковую форму офицеров НКВД на трофейном «опеле» сзади. Оставив своих спутников в придорожной гостинице, где они должны были дожидаться его команды, Демьянов поехал в город.
В центре городка он быстро нашел французскую комендатуру, расположившуюся в городской ратуше. Комендант, пьяный, судя по всему, не первые сутки капитан, предложил и ему выпить за победу над бошами, ничуть не удивившись появлению перед ним советского офицера. Демьянов, слегка пригубив поднесённый ему бокал, попросил француза назвать адрес дома, где находится Владимир Романов. Для размягчённого рейнскими винами капитана все русские, что советские, что нет, были русскими и не более того, а потому он назвал адрес без тени сомнения. Тем более что капитан находился в состоянии, когда они обычно человека и не посещают.
Лиенц оказался совсем крохотным городком. Уже через пару минут «виллис» Демьянова остановился возле указанного комендантом двухэтажного дома в тирольском стиле. Это была небольшая гостиница. Неприятным сюрпризом оказалось то, что перед входом дежурили двое французских солдат. Дежурили, правда, своеобразно. Приставив карабины к стене, они обеими руками держали огромные кружки с пивом и энергично прихлёбывали из них. Напротив, у входа в соседний отель, за столиками кафе расположился с десяток местных жителей. Они явно испытывали стойкость французов к пенному и каждый глоток поддерживали приветственными кликами. Увидев перед собой офицера да ещё в какой-то диковинной форме, солдаты попытались изобразить кружками нечто вроде исполнения команды «на караул!», но Демьянов милостиво махнул им рукой, разрешая продолжать. Австрийцы в кафе напротив, разглядев в сгущающейся темноте «виллис» с красной звездой на борту и спрыгнувшего с него советского офицера, стали поспешно расходиться. Ни в одном из окон гостиницы, перед которой стоял Демьянов, не было света. Он толкнул дверь и вошёл.
Наступила ночь, а в холле, где оказался Демьянов, почему-то была полная темнота. Он негромко позвал портье, но тот не откликнулся. Зато в лицо Демьянову ударил луч света от ручного фонарика. Голос из темноты спросил его по-французски:
— Кто вы? Что вам здесь надо?
Французский Демьянова сильно хромал, и он решил играть в открытую, произнеся по-русски:
— Я ищу Владимира Кирилловича Романова.
— Вы русский?
И тут же в холле вспыхнула люстра. В двух метрах от Демьянова спиной к стойке портье и с пистолетом в руках стоял Дмитрий Львович Сенявин. У него вырвалось:
— Это вы, Александр?
Рука с пистолетом опустилась.
— Да, я. Здравствуйте, Дмитрий Львович. У меня срочное дело к великому князю. Я хочу помочь ему перейти границу.
— Его здесь нет. Будет только утром. Если что-то срочное, я передам.
Демьянов не поверил Сенявину. Но что было делать? Он прибег к последнему средству:
— Борис Александрович Садовской просил вам передать несколько своих стихотворений.
И достав из нагрудного кармана стихи Садовского, протянул их Сенявину. Тот, не выпуская пистолета из правой руки, взял их левой. Разложив бумаги на стойке портье, он бегло просмотрел листочки, бросая на Демьянова короткие взгляды.
— Хорошо, приходите завтра в восемь утра.
— Дмитрий Львович, у нас очень мало времени. Владимиру Кирилловичу угрожает страшная опасность. Я, рискуя всем, добрался сюда, чтобы помочь. Могу организовать переход границы.
— Я понимаю, но до утра все равно придется ждать. А сейчас вам лучше уйти.
Демьянову не оставалось ничего другого, как удалиться. Он приказал шофёру ехать в гостиницу на въезде в город и передать остальным, чтобы как можно быстрее явились в центр, но из машины не выходили и не демаскировали себя, а в восемь утра подъехали к перекрестку в пятидесяти шагах от того места, где ему предстояло провести ночь, и ждать команды. Демьянов пересёк улицу и зашел в отель, расположенный напротив того, где его встретили так негостеприимно. Он сказал портье, что до утра расположится за столиком у окна в холле. С опаской посмотрев на русского офицера, так хорошо говорившего по-немецки, он только пожал плечами в знак согласия.
Владимир Кириллович и Жеребков покинули гостиницу еще днём, через никем не охраняемый черный вход, ведущий на соседнюю улицу, сели в стоявший здесь автомобиль великого князя, и, проехав пару километров по дороге в сторону швейцарской границы, остановились на ночь в придорожном отеле. На этом манёвре настоял Жеребков.
— Большевики отсюда не более чем в ста километрах. Береженого Бог бережет.
Сенявина они предупредили, что позвонят в семь утра. В изнуряющем ожидании звонка Дмитрий Львович так и просидел на месте портье до назначенного времени. Опять таки по настоянию Жеребкова, пришедшего в отель первым, французы ещё накануне приказали всему персоналу гостиницы разойтись по домам вплоть до особого распоряжения. Только потом к нему подъехал Владимир Кириллович, чтобы вскоре тайно его покинуть. В пустом и старом здании изредка что-то шелестело и поскрипывало. Сенявин обмирал и хватался за пистолет, но света до самого восхода солнца больше не включал. Телефон зазвонил ровно в семь.
Не дослушав приветствия Жеребкова, Сенявин, забыв, что он здесь один, зачем-то зашептал в трубку, прикрывая её рукой:
— Юрий Сергеевич, поздно вечером у меня был гость в форме красного офицера. Это тот человек, что встречал меня в Москве и водил к Садовскому. Он называл себя Александром. Так вот, он передал мне несколько стихотворений Садовского. Мы с Садовским договорились, что если от него придёт связной, а он не будет ему доверять, то среди стихов будет одно, оговоренное нами стихотворение. Как пароль, означающий, что связник — человек НКВД.
— Французы вас ещё охраняют?
— Да, если это можно так назвать.
— Немедленно уходите оттуда через чёрный вход. Внимательно смотрите, нет ли за вами слежки.
И назвал гостиницу, где они будут ждать его ровно полчаса.
При свете луны Демьянов хорошо видел вход в гостиницу напротив. Примерно через час произошла смена караула у её дверей. Новые часовые казались более трезвыми, чем предыдущие, но вскоре и они задремали, присев на землю и зажав карабины между ног. Ночь шла, не принося разнообразия. Улица оставалась пустынной. Нервы Демьянова были на пределе, это был совершенно новый для него опыт. Надо было бы проверить, есть ли у гостиницы другой вход, на других улицах, но сделать это в ночной тьме, не привлекая к себе внимания светом фонарика, он не мог. Не мог и уйти за помощью, оставив свой пост хоть на несколько десятков минут. Наконец, наступил рассвет, а с ним и утро. Демьянов так и не решился до восьми утра выйти на улицу. Боялся, что из дома напротив за ним наблюдают. А, по словам портье, другого входа в гостинице, где ему пришлось провести ночь как назло не было.
Без минуты восемь он вышел на улицу, козырнул заспанным часовым, и позвонил в звонок отеля напротив. Боковым зрением он увидел, что на перекрёсток слева от него выехал знакомый «опель». Часовые стали требовать у него пропуск, но Демьянов, не слушая их, распахнул дверь и вбежал в холл. Часовые последовали за ним. За стойкой никого не было.
Как выяснилось в течение ближайших десяти минут, никого не было и во всей гостинице. Дверь, ведущую на соседнюю улицу, он нашел распахнутой настежь.
Так, едва начавшись, операция «Наследник» провалилась. Вечером того же дня Владимир Кириллович и Сенявин пересекли швейцарскую границу. Генералу де Голлю русский принц в расположении французской армии был ненужной проблемой. Он не хотел злить Сталина, согласившегося считать Францию четвертой державой-победительницей. Но и выдавать его русским он не собирался. Догадывался, какая судьба ждала бы этого человека в России. В те минуты, когда Демьянов тщетно обыскивал пустую гостиницу, группа французских офицеров, которые должны были сопроводить Владимира Кирилловича к границе, подъехала к отелю, где он и Жеребков провели бессонную ночь, ожидая каждую секунду, что за ними придут агенты НКВД. Но радость Жеребкова при появлении французов была недолгой. Юрия Сергеевича было приказано доставить в Париж. О его роли в годы оккупации новые французские власти хорошо знали.
Перед тем, как Владимир Кириллович отправился к границе, Жеребков попросил разрешения проститься. Они стояли на улице перед автомобилем великого князя, за рулем которого сидел Сенявин. Жеребков говорил так, будто это он, а не великий князь через пару часов должен был оказаться в спасительной Швейцарии.
— Да, сегодня мы проиграли. Но Россия все равно переживёт большевизм. И вы ей еще понадобитесь. С этой мыслью и живите дальше. Аянив одном своем поступке не раскаиваюсь. С тем и умру, если меня к стенке поставят. И ещё один совет. Плюньте на этот шифр. Не ходите в банк. Только разочаруетесь. Не верю я, что ваш дражайший родственник, Николай Александрович, спрятал там что-то существенное. Не того калибра был человек, чтобы серьёзные решения принимать, да и без фантазии, вы уж меня извините. И прощайте!
Это был их последний разговор.
Стихотворение, ставшее паролем, Садовской написал в 1942 году за несколько дней до встречи с Сенявиным:
«Жизни твоей восхитительный сон
Детская память навек сохранила.
Что же так тянет к тебе, Робинзон,
В чём твоя тайная прелесть и сила?
В белый наш зал ухожу я с тобой.
К пальмам и кактусам взор устремляя,
Слышу вдали океана прибой,
Бег антилопы и крик попугая.
Мало отрады от пёстрых картин:
Небо изменчиво, море тревожно.
Да, но на острове был ты один,
В этом тебе позавидовать можно».
P.S. С австрийским городком Лиенц связана одна из трагических страниц в истории российского казачества в XX веке. В мае 1945 года здесь оказались тысячи и тысячи казаков, воевавших на стороне Германии, а также их семьи, которые, опасаясь мести со стороны советской власти, отступали с немцами с Северного Кавказа, Кубани и Дона. Лагерь находился под юрисдикцией английских оккупационных войск. 1 июня 1945 года казаки были выданы англичанами Советскому Союзу. Казаки пытались сопротивляться, англичане избивали безоружных людей. По ряду свидетельств, были жертвы. Многие кончали жизнь самоубийством. Большинство в результате оказалось в советских лагерях, а их семьи, в лучшем случае — в ссылке. Руководителей ждала смертная казнь. В эмигрантской литературе эти события были названы «лиенцевской трагедией». Вот такую память в нашей истории оставил маленький Лиенц.
Часть третья. Судьбы
Агенты
Как пишет Судоплатов, он и после войны пытался использовать Демьянова в качестве разведчика. Видимо, какие-то надежды на продолжение операции «Наследник» у него еще оставались. Демьянова и его жену послали в Париж, где они работали в культурном центре при советском посольстве. Она как режиссер занималась дублированием советских фильмов на французский язык, он работал инженером в созданной для этого студии. Тот год в Париже был для них настоящим подарком судьбы, наградой за всё пережитое прежде. Послевоенный Париж жил в бедности, почти нищете, но зато воздух свободы на его улицах и площадях можно было вдыхать даже советским гражданам. Однако разведывательная миссия Александра и Татьяны закончилась безрезультатно. По словам Судоплатова, они пытались сблизиться с русскими эмигрантами, но эмиграция ими не заинтересовалась. Играть ту же роль, что удавалась ему в Москве, Демьянов здесь не мог.
Любому было понятно, что как минимум без санкции НКВД (МТБ — ред) на работу в Париж советских людей отправить не могли. И рассказы о дворянском происхождении или намёки на его антисоветские настроения нисколько не помогали Демьянову войти в доверие к тем эмигрантам, которые интересовали его московских руководителей. Он тщетно пытался нащупать пути, способные привести его к Владимиру Кирилловичу. Под предлогом поиска тех, кто знал его отца и мать, ему даже удалось встретиться с бывшим начальником канцелярии великого князя Графом. Но разговора не получилось. Родителей Демьянова Граф не знал, а попытку заговорить о Владимире Кирилловиче сразу пресёк, заявив, что никаких отношений с «этим господином», как он выразился, более не имеет и иметь не хочет.
В 1946 году Демьянова и Березанцеву отозвали в Москву. На этом их шпионская карьера закончилась. Все операции, в которых они участвовали, были строго засекречены. До конца жизни Демьянов проработал скромным инженером в одном из московских НИИ. Из воспоминаний его жены ясно — жил он с внутренним разладом. Несмотря на подписку о неразглашении в конце жизни сел за мемуары. По словам Татьяны, «о себе он писал скупо, но за каждым из его воспоминаний неуловимая человеческая скорбь, невысказанная, скрытая завесой оптимизма, горькая правда человеческой жизни…». О чем он скорбел, какую горькую правду понимал, мы можем только гадать. Умер Александр Петрович Демьянов внезапно, катаясь на лодке. Это случилось в 1975 году. Инфаркт.
Послевоенная жизнь его жены Татьяны Березанцевой оказалась куда более насыщенной. Хочется верить, что в её успехах Александр Демьянов находил утешение и для себя. Она стала довольно успешным кинорежиссёром, некоторые из ее фильмов, как, например, «Дуэль» по Чехову, имели в своё время успех. Ее «Старомодную комедию» с Фрейндлих и Владимировым, снятую в конце 1970-х годов, и сейчас показывают по телевизору, как и последний, 1983 года, музыкальный фильм «Любовью за любовь» по мотивам пьесы Шекспира «Много шума из ничего». Татьяна Борисовна пережила мужа на двадцать лет. С наступлением времени, когда об операции «Монастырь» стало можно говорить, она поделилась с журналистами некоторыми воспоминаниями. Но до конца дней во всём, что касалось разведывательной работы мужа и её собственной, была очень скупа на рассказы. Один из свидетелей её последних лет вспоминал, что даже тогда, в начале 90-х годов, она производила впечатление человека «мажорного склада. разговаривала громко, с каким-то повышенным задором». В ней, дожившей до восьмидесяти с лишним лет, до конца дней проступали черты советского человека тридцатых годов. Наверное, этот оптимизм и позволил ей прожить так долго.
Жизнь Алексея Сидорова после окончания операции «Монастырь» также сложилась вполне благополучно. По крайней мере, в сравнении с биографиями многих его современников. За участие в ней, а может быть, и по совокупности заслуг перед «органами» его ещё во время войны наградили орденом «Знак Почета». Использовался ли он в качестве секретного сотрудника в дальнейшем, мне неизвестно. В 1947 году Сидоров стал членом-корреспондентом Академии наук. Успехи на службе госбезопасности, хранившиеся в глубоком секрете, не уберегли Сидорова в конце 40-х годов от очередной волны критики и чреватого печальными последствиями обвинения в формализме. Причём в науке он занимался темами, далекими от злободневности. То ли потому, что вовремя покаялся в ошибках, в свою очередь кляня формалистов, то ли потому, что невидимые, но могущественные покровители продолжали хранить его, эта история никаких серьезных последствий не имела.
В послевоенные годы Сидоров был известен не только как крупный ученый — искусствовед, специалист по истории книги и книжной иллюстрации, но и как коллекционер и библиофил. В конце жизни он подарил свою богатую коллекцию графики русских и иностранных художников Третьяковской галерее и ГМИИ имени Пушкина. В последние годы он писал воспоминания о литературной и художественной жизни 1910-х-30-х годов. Надо ли говорить, что о своей «особой миссии» он не упомянул ни словом. Умер Алексей Алексеевич Сидоров в 1978 году, будучи весьма почтенным старцем 87 лет.
P.S. Не в оправдание, но в защиту историков разведки хочу заметить, что в тех немногочисленных статьях и заметках об Алексее Сидорове как поэте, ученом и коллекционере, которые мне удалось обнаружить, ничего не говорится о его деятельности в качестве агента НКВД, о его роли в операции «Монастырь». Их авторы создают образ кабинетного учёного, далекого от житейской суеты, закрывшегося в башне из слоновой кости. Вот уж воистину «специалист подобен флюсу».
Садовский
О послевоенной жизни Бориса Александровича сказать почти нечего. Ну разве что вспомнить о том, как сестра покойной жены перевезла его из сырой крипты в одну из бывших келий там же, в Новодевичьем. Там же, на Новодевичьем кладбище, где он провёл среди могил двадцать три года жизни, его и похоронили в апреле 1952 года рядом с женой. Через год ушла из жизни и Анна Аббасова. И пришло забвение, казалось бы, вечное. Но на излете советской власти в череде забытых имен, возвращаемых читателю, появилось и имя Садовского. Были переизданы его книги, опубликовано то, что не печаталось, но, слава Богу, сохранилось в архивах. Появились научные труды, посвящённые изучению творчества Садовского, его места в литературной жизни Серебряного века. Есть даже посвящённый ему сайт в Интернете (sadovskoi.ru). И сейчас ясно, что это была совершенно оригинальная фигура, пусть не первого, но уж точно второго литературного ряда. А для меня самое интересное в жизни Садовского то, что из своей жизни он создал ни на что не похожее произведение, где смешалась высокая трагедия и комедия масок, плутовской роман с романом шпионским. При этом Борис Александрович никогда и ни в чем не изменял раз и навсегда усвоенным убеждениям. А хорошо это, или плохо, пусть каждый решает сам.
Чекисты бывшими не бывают
Владимир Войнович, автор знаменитого «Чонкина», в своих описаниях литературных нравов 60-Х-70-Х годов неоднократно упоминал имя Владимира Ильина, ответственного секретаря московского отделения Союза писателей (/). Тогда, конечно, никто из опекаемых им писателей не знал, какая биография за спиной у этого генерал-лейтенанта КГБ в отставке.
В 1943 году Ильин совершил роковую ошибку. Он попытался бросить вызов быстро набиравшему политический вес начальнику СМЕРШа Виктору Абакумову. Видимо, он надеялся на поддержку наркома внутренних дел Меркулова, чье влияние сокращалось по мере усиления Абакумова, а может быть, и самого Берии. Ильину стало известно, что Абакумов состоит в связи с женщиной, «на которую есть компрометирующие материалы», позволяющие заподозрить её в работе на немцев. Были у этих подозрений Ильина основания или нет, неизвестно. Главное, что он попытался дать делу ход и жестоко за это поплатился. В мае 1943 годе его арестовали, а защитников у него не нашлось. По приказу Абакумова против Ильина было сфабриковано «дело», по которому на Виктора Николаевича, естественно, под пыткой, дал показания его друг, генерал-майор авиации Теплинский. Обвинения были смехотворными и сводились к тому, что он разделял симпатии Теплинского к ряду высших офицеров, расстрелянных в 1937-38 годах, и пытался вмешаться в кадровую политику Наркомата обороны. Вмешательство заключалось в том, что он посоветовал Теплинскому, которому предстояло назначение на новую должность, как лучше себя вести, чтобы не дать оснований для обвинения в симпатиях к «врагам народа». Для Сталина и этого было достаточно. Он дал Абакумову санкцию на арест Ильина. Ильин проявил незаурядное мужество и не признал выдвинутых обвинений, хотя его допрашивали, избивали и пытали сном с 1943-го по 1947 год. А потом о нём как будто забыли. Дело в том, что в силу секретного характера и специфики работы Ильина у него, кроме Теплинского, не было знакомых среди генералитета Наркомата обороны, и Абакумов не смог притянуть к делу кого-нибудь еще, а сам Ильин все обвинения отвергал.
В 1951 году у него пытались получить показания уже против арестованного к тому времени Абакумова, которого ему показали сидящим в камере, но Ильин благоразумно решил, что в его интересах настаивать на шапочном знакомстве с бывшим врагом.
Он отсидел девять лет. В феврале 1952 года его повели к коменданту внутренней лубянской тюрьмы. Ильин решил, что его ждет расстрел, так как расстрелами руководил именно комендант. Но ему просто объявили приговор — девять лет, которые он уже отсидел, «за служебные упущения». И отпустили. Ильин уехал в Рязань, и, как утверждал Судоплатов, работал там грузчиком на железной дороге. На самом деле он устроился в Рязани вполне сносно — работал помощником начальника управления работ в строительном тресте. В 1954 году, после расстрела Абакумова, Ильин добился реабилитации и вернулся в Москву. А в 1955 году о нем вспомнили в высших партийных кругах. Его бывший куратор в ЦК партии, Дмитрий Поликарпов, через несколько лет «прославившийся» как главный организатор травли Пастернака, в это время возглавил отдел культуры ЦК КПСС. Он то и вспомнил о «ценном кадре». Так Ильин оказался на той самой должности в Союзе писателей. Как утверждал Судоплатов, «партийному руководству нужен был в Союзе писателей человек, который бы знал всех, включая осведомителей». То есть сотрудничество отставного генерал-лейтенанта с «органами» возобновилось. На этой должности он проработал более двадцати лет, уйдя на покой только в 1977 году.
Уже упоминавшийся мной Владимир Войнович в своих воспоминаниях написал, о том, как Ильин напророчил ему, что на родине «Чонкин» никогда не будет напечатан: «Виктор Николаевич Ильин, секретарь Московского отделения Союза писателей и генерал-лейтенант КГБ, зажав меня в углу своего кабинета, спрашивал шёпотом:
— Ну, скажите, как говорится, не для протокола, неужели вы думаете, что ваш «Чонкин» когда-нибудь будет опубликован?
— Виктор Николаевич, — отвечал я ему громко, — я не только думаю, я знаю точно, что когда-нибудь Чонкин будет опубликован.
— Ну, вы и самонадеянный, — качал он головой. Я рад, что Виктор Николаевич дожил до времени, когда ему наглядно пришлось убедиться в моей правоте…». Правда, что-то такое рассказывают и о том, как высказался брежневский идеолог Суслов о будущем романа Гроссмана «Жизнь и судьба». И уж не знаю, придумал это Войнович или нет, но он утверждал: в конце 80-х, зайдя в редакцию журнала «Юность», Ильин увидел гранки номера, в котором должна была начаться публикация «Чонкина». Свидетели утверждали, что Ильин не смог скрыть испытанного им глубокого потрясения. Не сломавшийся в тюрьме, он не сделал из своего личного опыта каких-либо меняющих мировоззрение выводов и на всю жизнь остался верным усвоенным в молодости догмам. В силу занимаемой должности и собственных убеждений он был активным участником травли многих писателей и поэтов, составляющих сегодня гордость нашей страны — от Пастернака и Солженицына до Галича и Войновича.
В то же время для тех, кого он, вслед за начальством, считал «своим», он стремился сделать все, что было в его силах. А связи у него были немалые. Вот он и устраивал писателей и их родственников в больницы и санатории, выбивал квартиры. Тот же Войнович, пока числился «своим», получил квартиру благодаря усилиям Ильина. Причем он добился положительного решения весьма артистически. Когда на совещании у московского начальства обсуждался этот вопрос, и было высказано сомнение, достоин ли молодой писатель Войнович трехкомнатной квартиры, Ильин встал и запел сочиненную Войновичем песню о космонавтах («14 минут» можно послушать здесь: -4etirnadcat_-minut-do-starta/), которую тогда, в 60-е, знал каждый гражданин Советского Союза. Решение в пользу Войновича тут же было принято. По словам Судоплатова, они никогда не были особенно близки с Ильиным, но тот навестил Павла Анатольевича уже на третий день после его выхода из тюрьмы и как мог помогал, снабжая разного рода литературной работой.
Жизнь Ильина закончилась трагически. В 1990 году, он, уже глубокий старик, выходя из дома, попал под грузовую машину. У той якобы отказали тормоза. Смерть Ильина вызвала пересуды. Писали, что он обладал информацией, способной серьёзно скомпрометировать влиятельных тогда лиц. Судоплатов называл эту версию абсолютным вымыслом и настаивал, что гибель Ильина была обычным несчастным случаем. Но кто знает, кто знает. Тем более что по свидетельству другого писателя, Анатолия Рыбакова, в последние годы жизни и в сознании этого твердокаменного человека происходили какие-то изменения. К тому времени Рыбаков уже написал позднее ставший знаменитым анти-сталинистский роман «Дети Арбата», который в СССР был опубликован только в разгар перестройки. Рыбаков вспоминал: «Ильин позвонил мне, уже будучи на пенсии.
— Зашел бы, посидим, поговорим.
Знает много. Я поехал к нему на Ломоносовский проспект. Ильин провёл меня в кабинет, открыл дверцы книжного шкафа:
— Видишь?
Это были книги московских писателей с дарственными надписями: «Дорогому Виктору Николаевичу…»
— Только ни одной твоей нет.
Мы сели.
— Не думай, я не обижаюсь, цену этим подаркам знаю. За глаза-то как меня называли? «Генерал», «кагэбист», так ведь?
— Разве ты им не был?
— Был. Не отрицаю. Всю жизнь прослужил. Честно служил. Как коммунист. Много чего видел, но веры не терял. За это и поплатился. Знаешь мою историю?
— Слыхал.
— И сейчас веры не теряю. Потому так высоко ставлю твой роман, он всё во мне перевернул. В «органах» всякое приходилось читать, сам понимаешь, всё было доступно. Но ты
ткнул в то самое место, откуда росла эта опухоль. Удастся её удалить, как думаешь?
— Надеюсь.
— Говорят, продолжение пишешь. Какие годы?
— Те же. Тридцатые…
— Знакомое время. Наше ведомство присутствует?
— Конечно. Процессы Зиновьева, Бухарина. Дело Тухачевского.
— Какими материалами пользуешься?
— Тем, что было опубликовано. Стенограммы судов.
— Мало!
Он поднял на меня глаза, по его взгляду я понял: решение принял.
— Я работал в центральном аппарате, в секретно-политическом отделе, всё это проходило через нас. Отвечу на любые твои вопросы. При двух условиях: никаких магнитофонов, и на меня как источник информации сможешь сослаться только после моей смерти, если, конечно, при этом не пострадает моя семья, это на твоей совести.
Мы встречались с Ильиным несколько раз, говорили по многу часов. Он очень мне помог. Знал работников НКВД того времени, их биографии, слабости, сильные стороны, знал механику работы этого учреждения, вспоминал отдельные ситуации, подробности, детали, которые были необходимы для моей работы» (). Продолжение романа «Дети Арбата» вышло в свет в 1990 году, в год смерти Ильина.
Не менее фантастической, чем судьба Ильина, выглядит послевоенная биография непосредственного начальника Демьянова по операциям «Монастырь» и «Березино» Михаила Маклярского. В 1947 году он был уволен из Министерства государственной безопасности в звании полковника. Завершение его карьеры в этом ведомстве было, видимо, связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, Абакумов тем или иными способами избавлялся от неугодных ему людей. Во-вторых, в стране постепенно набирала силу антисемитская компания, и раньше всего это почувствовалось именно в «органах». А, может быть, и сам Маклярский уже был готов сменить профессию. Тем более, что чувствовал в себе литературный дар. Писать он, конечно, начал еще до увольнения. Ведь иначе бы в августе того же 1947 года в клубе МТБ не состоялся закрытый просмотр нового фильма «Подвиг разведчика», поставленного режиссером Борисом Барнетом по сценарию Маклярского и Льва Шейнина, который также совмещал работу писателя, драматурга и сценариста с деятельностью следователя Генеральной прокуратуры СССР. Именно Маклярский настоял, чтобы фильм снимал Барнет, автор знаменитой «Окраины», режиссер очень талантливый, но до этого не снимавший шпионских фильмов. Была, видимо, надежда на нестандартный взгляд несомненного мастера, каким являлся Барнет. Профессионалы фильм раскритиковали. Их общая оценка была такова: «Подобного в жизни, в действительности не бывает». Коллега Маклярского по операции «Монастырь», Игорь Щорс, сказал так: «Это ерунда, хотя смотрится интересно». Самым опасным был приговор Абакумова, заявившего, что по вине Маклярского «в фильме разглашаются методы агентурной разведки». Фильм спас Михаил Ромм, согласившийся, что, наверное, сюжет фильма далек от реалий работы разведчиков. Зато он точно соответствует законам жанра и будет способствовать популяризации деятельности советской разведки.
«Подвиг разведчика» имел оглушительный успех. Только за первый год проката фильм посмотрели 22 миллиона человек. В 1948 году Маклярский наряду с другими авторами получил за него Сталинскую премию. Сегодня, конечно, можно сколько угодно смеяться над ходульностью образов и наивным пафосом этой киноленты, но следует помнить, что из всех снятых в СССР шпионских фильмов по своему влиянию на зрителя советской эпохи с «Подвигом разведчика» (этот фильм можно посмотреть, например, здесь: /#!/search?text=noflBHrpa3Befl4HK^HnbM&where=all&filmId=JfVdjH3TUXI) может сравниться только незабвенный сериал «Семнадцать мгновений весны». Кстати говоря, литературный талант Маклярского проявился еще в ходе операции «Березино». От имени Шернхорста он сочинял настолько душещипательные и одновременно убедительные радиограммы, что даже такой зубр диверсионно-разведывательной деятельности, как О. Скорцени, спустя годы приводил их в своих мемуарах едва ли не со слезой как пример мужества и беззаветной преданности рейху.
После ухода из МТБ Михаил Борисович сначала был назначен председателем объединения «Экспортфильм», потом трудился директором Госфильмофонда СССР. Он активно работал как драматург, и его пьесы, посвященные всё той же работе разведки и борьбе со шпионажем, были в то помешанное на шпиономании время востребованы и театрами, и публикой. Продолжал он писать и киносценарии. В 1951 году Маклярский как сценарист поставленного Михаилом Роммом фильма «Секретная миссия» получил вторую Сталинскую премию. Но в том же году он снова оказался на Лубянке в качестве арестованного.
Показания на Маклярского дал уже сидевший там же его постоянный соавтор Шейнин. На гребне антисемитской компании в числе прочих было состряпано и дело о «заговоре драматургов-сионистов», активным участником которого следователи пытались представить и Маклярского. Смерть Сталина спасла его если не от гибели, то уж точно от многолетнего лагерного срока. «Драматургов-сионистов», в том числе и Маклярского, освободили.
Больших чиновничьих постов Маклярский больше не занимал, а будучи членом Союза писателей, стал человеком свободной профессии. Вся его дальнейшая жизнь была связана с театром и кино. Практически до конца дней он оставался успешным сценаристом, только с началом 60-х годов, когда в моду вошли детективы, он переключился на них. Большим успехом, например, пользовались фильмы «Инспектор уголовного розыска» и «Будни уголовного розыска», сценарии для которых он написал в соавторстве с уже упоминавшимся мной в связи с фильмом «Корпус генерала Шубникова» К. Рапопортом. Но значимое место в истории отечественного кино Михаил Борисович занимает не благодаря своим сценариям, и поставленным по ним фильмам, а потому, что наряду с режиссёром Иваном Пырьевым был организатором, а с 1960-го по 1972-ой год руководителем Высших курсов сценаристов и режиссёров, сыгравших важную роль в развитии нашего кинематографа. Там помогали овладеть профессией сценариста или режиссёра уже состоявшимся людям, которым не было смысла поступать в Институт кинематографии и постигать азы вместе со вчерашними школьниками. Достаточно вспомнить, что среди первых выпускников этих курсов были такие выдающиеся в дальнейшем режиссеры, как Леонид Гайдай, Василий Шукшин, Ролан Быков. В воспоминаниях выпускников курсов Маклярский остался таким: «Подтянутый седовласый джентльмен с ироничной всезнающей улыбкой на губах».
Последней работой Михаила Борисовича Маклярского был сценарий фильма «Агент секретной службы», где он снова возвращался к годам своей молодости и где видны следы его личного опыта работы в разведке. Фильм вышел на экраны в 1978 году. В этом же году Маклярского не стало.
Игорь Щорс, самый молодой из организаторов операции «Монастырь», вскоре после выхода на экраны «Подвига разведчика» признал, что недооценил его авторов. В то время он работал в Болгарии, где фильм тоже прошёл с большим успехом. И привез в подарок Маклярскому болгарскую афишу. А в Болгарии Щорс оказался одновременно и как сотрудник МТБ, и как горный инженер. С 1944 года он был привлечён Судоплатовым к работе в рамках советского атомного проекта. Дело в том, что в Болгарии были небольшие залежи урана. И когда она вышла из войны и оказалась под контролем Советского Союза, было решено, учитывая их доступность, использовать болгарский уран для работы над атомной бомбой до тех пор, пока не будет освоена его добыча на территории СССР. Щорсу поручили руководить разрабатываемым там урановым рудником. Потом он, судя по всему, попал под атаку Абакумова на всех людей Судоплатова. С 1948 года Игорь Щорс работал в Комитете информации при Совете министров СССР, в котором тогда ненадолго было сосредоточено руководство военной и политической разведкой, а потом в экономических управлениях МТБ, а с1953 года — МВД СССР. К оперативной разведывательной работе его больше не допускали. Начавшаяся после смерти Сталина борьба за власть, которая принесла свободу Маклярскому и Ильину, а для Судоплатова обернулась длительным тюремным заключением, больно ударила и по Щорсу. С его карьерой было покончено. В 1955 году, видимо, за близость к Судоплатову, его отправили на Чукотку начальником угольной шахты, находившейся в ведении ГУЛАГа. Со службы он ушел в звании подполковника.
Как и многие другие герои этой истории, Игорь Щорс прожил долгую жизнь. Щорс не оставил мемуаров, но успел дать интервью авторам фильмов, посвящённых операции «Монастырь» и ее участникам. Он ушел из жизни последним из них — в 2006 году.
Судопаатов
Несмотря на напряженные отношения с Абакумовым, возглавившим в 1946 году Министерство государственной безопасности, Судоплатов благополучно пережил все политические перипетии последнего периода сталинского правления. В том числе и самого Абакумова, арестованного в 1951 году. Еще до ликвидации в том же 1946 году возглавляемого им 4-го управления, Судоплатов возглавил отдел «ДР» — службу проведения диверсий и актов индивидуального террора. Под разными вывесками он занимался этой деятельностью до конца карьеры в МТБ. Как я уже писал в самом начале книги, он признавал и во время следствия, и в мемуарах, что во второй половине 40-х годов был организатором четырех политических убийств внутри страны. Обставлялись эти убийства как несчастные случаи или внезапные заболевания. Тогда в дело шёл яд. Уже упоминавшемуся мной греко-католическому епископу Ромже, например, сначала организовали автомобильную аварию, а когда он в ней выжил, добили в больнице ядом. Кстати говоря, в 2001 году во время визита Папы Римского Иоанна Павла II на Украину Теодор Ромжа был причислен к лику блаженных. То есть, согласно традициям католической церкви, стал кандидатом в святые.
Это убийство, по-видимому, роковым образом отразилось на судьбе Судоплатова. После прихода к власти Хрущёва и его антисталинских выступлений, бывший «главный диверсант» страны стал для нового советского вождя, якобы не причастного к преступлениям сталинского времени, опасным свидетелем того, какие преступные приказы он отдавал. 21 августа 1953 года Судоплатов был арестован как «приспешник Берии». Он вспоминал, что в тюрьме его не били, но не давали спать. На Лубянке он теперь числился как заключенный № 8. Под первым номером проходил Берия. Единственный шанс выжить Судоплатов видел в том, чтобы максимально затягивать следствие, надеясь, что очередные политические перемены сделают его расстрел необязательным. Вспомнив как его, тогда еще молодого сотрудника ОПТУ, готовили к нелегальной работе за границей, возможному аресту и пыткам, Судоплатов постепенно отказался от пищи, а потом перешёл к полной голодовке. В результате он смог погрузить себя в состояние психологического ступора. Его перевели в тюремную больницу и даже на несколько месяцев отправили в Ленинград, в психиатрическую больницу при «Крестах». Пройдет совсем немного лет, и после Судоплатова этот скорбный путь пройдут первые советские диссиденты. Образцом для него служил известный дореволюционный большевистский боевик Камо, сумевший, симулируя такой ступор, провести даже немецких психиатров. Особенно тяжело было выдержать спинномозговую пункцию, проводившуюся без наркоза. Ведь пациент должен был показать, что не чувствует боли. Судоплатов прошел через это испытание дважды. Кормили его принудительно, выбив при этом несколько передних зубов. И хотя врачи так до конца ему и не поверили, он добился главного — шло время. На воле прошёл XX съезд КПСС, осудили «антипартийную группу» Молотова и компании. В результате Судоплатов получил «всего» пятнадцать лет.
Свой срок Судоплатов отбывал в небезызвестном Владимирском централе, до конца 1980-х годов служившем главной политической тюрьмой Советского Союза. Здесь сидели и враги советской власти, такие, например, как украинские или литовские националисты, и те, кто когда-то их ловил — генералы и офицеры госбезопасности. Во владимирской тюрьме Судоплатов снова встретил своего лучшего друга Эйтингона, во второй раз арестованного в те же дни, что и сам Павел Анатольевич. Судоплатов писал, что Эйтингон всегда глубже, чем он, понимал ситуацию в стране и ещё с конца 30-х годов критически относился к ее руководителям. Как-то раз, ещё до ареста в 1951 году, когда его записали в члены «сионистского заговора в МТБ», он, будучи уже генерал-майором, горько пошутил: «При нашей системе есть лишь одна, впрочем, не гарантированная, возможность не закончить свои дни в тюрьме. Надо не быть евреем или генералом госбезопасности». При этом, как и все люди этой генерации и жизненного пути, Эйтингон до конца дней оставался верен коммунистической идее. Из тюрьмы Судоплатов и Эйтингон бомбардировали руководство страны письмами с просьбой пересмотреть их дела, даже оказывали консультационную помощь высокопоставленным сотрудникам КГБ по некоторым внешнеполитическим проблемам и по вопросам, связанным с организацией спецподразделений. В частности, во многом благодаря их советам был создан отряд, позднее ставший известным как группа «Альфа». Но выпускать досрочно их никто не собирался. Понимая, что к прежней службе на свободе им уже не вернуться, они, получая от родственников необходимые книги, занимались переводами с французского, немецкого, польского и украинского, надеясь, что знание иностранных языков поможет им прокормиться в будущем. Эйтингона освободили в 1964 году. Его адвокат — а пришли времена, когда у осужденного за измену родине уже мог быть свой адвокат — добился, что ему зачли полтора года, проведённых в тюрьме ещё при Сталине за участие в «сионистском заговоре». После освобождения он работал главным редактором издательства «Международные отношения», потом в Центральном статистическом управлении. Все его попытки добиться реабилитации ни к чему не приводили. Когда умер убийца Троцкого Рамон Меркадер, получивший за этот акт звание Героя Советского Союза, его, главного организатора одного из самых громких политических убийств в истории, даже не пригласили на похороны. Правда, нашлись друзья, бывшие коллеги, сообщившие Эйтингону о похоронах. И он приехал на кладбище. Можно представить его чувства. Хоронили героя, а рядом с могилой стоял тот, кто направлял его руку, изменник родины. Умер Эйтингон в 1981-м, так и не добившись реабилитации.
Судоплатов вышел из тюрьмы 21 августа 1968 года. Как он сам написал, в день вторжения советских войск в Чехословакию. Павел Анатольевич отсидел пятнадцать лет. Как говориться, «от звонка до звонка». Опираясь на помощь друзей, он занялся литературным трудом. Переводил, редактировал, писал сам. Среди тех, кто пришёл ему на помощь, была его бывшая сотрудница Раиса Соболь, писавшая под псевдонимом Ирина Гуро. Вообще, знакомясь с биографиями этих людей, поражаешься, сколь многие из них стали литераторами после службы в «органах». И не только мужчины, но и женщины. Кроме Р. Соболь здесь можно вспомнить выдающуюся разведчицу Зою Рыбкину, писавшую под псевдонимом Зоя Воскресенская.
Произношу это имя, а на губах чувствую приторную сладость её многочисленных писаний о Ленине для детей и юношества, обязательных в те времена для изучения в школе и внеклассного чтения. Слава Богу, современной молодежи они неизвестны. Больших литературных талантов у всех этих «чекистов» не было. Иначе бы они, наверное, и не оказались в НКВД. Но если говорить о тех людях, кто посвятил себя разведке, то очевидно, что без развитого воображения и некоторого образования или хотя бы знания языков на этой службе было делать нечего. А для тех, кто этими качествами обладал, оставался всего один шаг до ручки и бумаги или пишущей машинки после того, как они по тем или иным причинам расставались с Лубянкой.
В соавторстве с Ириной Гуро и под псевдонимом Анатолий Андреев, Судоплатов написал пару издававшихся огромными тиражами историко-революционных книжек, посвящённых таким «пламенным революционерам», как, например, погибший в годы «большого террора» С. Косиор, и это принесло ему хорошие деньги. Его жена Эмма, сама в прошлом сотрудница ОГПУ-НКВД, все годы тюремного заключения мужа боролась за его освобождение. Квартиру в самом центре Москвы у неё, в конце концов, все-таки отобрали, но взамен дали по тем временам очень даже неплохую. Так что, Судоплатовы не бедствовали. Главной целью Павла Анатольевича после освобождения стала реабилитация. Но, ирония судьбы, добиться её он смог только после того, как перестало существовать государство, которому он служил и которое объявило его государственным преступником. Это произошло в апреле 1992 года, когда страсти сталинских времен, казалось, что навсегда, уходили в прошлое. Одновременно с ним посмертно был реабилитирован и Наум Эйтингон, чьей реабилитации он добивался столь же настойчиво, как и собственной. Вот тогда, после распада СССР, Судоплатов, уже опытный к тому времени литератор, и решил написать о тех событиях, участником или непосредственным свидетелем которых он был. В том числе и об операции «Монастырь».
Когда Судоплатов и Эйтингон был реабилитированы, отнюдь не все встретили этот акт с одобрением. И для этого, несомненно, были и есть серьёзные основания. Но они, скорее, морального свойства. Увы, но политический терроризм был и остаётся орудием государственной политики и сегодня. В том числе и в руках руководителей государств, считающихся «образцами демократии». Достаточно вспомнить США и Израиль. А так как никаким общепризнанным международным или хотя бы российским юридическим актом сталинский режим не был признан преступным, то получается, что и Судоплатова в этом смысле преступником считать нельзя. Он просто выполнял приказы своих руководителей. Правильно и справедливо ли это — другой вопрос. И история здесь ещё не сказала последнего слова. Сам Павел Анатольевич был намного честнее многих, оправдывающих его сегодня. Потому что написал: «Сознательно или бессознательно, но мы позволили втянуть себя в работу колоссального механизма репрессий, масштабы которых ужасают меня. Каждый из нас обязан покаяться за страдания невинных».
Глава дома Романовых
Вечером того же дня, когда Владимир Кириллович и Сенявин пересекли границу, они были в Берне. Остановились в неприметной гостинице. Сенявин на всякий случай погулял по соседним улицам, посидел в кафе на углу, но слежки не заметил. Владимир позвонил тётке в Мадрид, ему даже не пришлось ни о чем её просить. Счастливая обретением племянника инфанта Беатриса задала всего несколько вопросов о событиях последних недель, когда между ними не было никакой связи, а потом попросила перезвонить ей через час, так как, сказала она, «ей надо поговорить с каудильо». А через час радостно сообщила, что завтра вечером в аэропорту Берна его будет ждать самолет, посланный самим Франко. Этой ночью впервые за многие месяцы Владимир Романов спал спокойно.
Утром он поехали в Национальный банк. Сенявин остался ждать великого князя в машине. Тот вышел через час с портфелем желтой кожи. Они пообедали в одном из ближайших ресторанчиков, портфель Владимир положил рядом с собой на пустующий стул. Дмитрий Львович как дисциплинированный офицер вопросов не задавал, говорили о покойной и безмятежной швейцарской жизни. Здесь было уже по-летнему жарко, разноцветными тюльпанами цвели магнолии. После обеда, забрав из гостиницы вещи, поехали в аэропорт. Когда они отъезжали от отеля, Сенявин заметил, что вслед за ними двинулись ещё два автомобиля, стоявших через две машины от их «ситроена». Сказал об этом Владимиру Кирилловичу. Тот, державший перед этим желтый портфель в руках, положил его на заднее сиденье. Их преследовали, практически не таясь. А на шоссе, ведущем в аэропорт, когда Сенявин попытался дать газа, два «мерседеса» без труда настигли их. Первый обогнал, а потом подрезал. Дмитрий Львович вдавил педаль тормоза и бросил машину влево, пытаясь уйти от столкновения. «Ситроен» замер, зажатый между двумя «мерседесами». На шоссе не было ни одной встречной машины. Да и сзади, как успел увидеть Сенявин в зеркало заднего вида, тоже никого не было. Из передней машины выскочили двое с пистолетами в руках. Один рывком открыв водительскую дверь, наставил свой «люггер» на него, а второй, вооружённый «парабеллумом», распахнул дверь справа и, ткнув оружием в сторону Владимира Кирилловича, отрывисто бросил на русском языке:
— Портфель, быстро.
Под дулом пистолета великий князь протянул руку назад, взял портфель и протянул его налётчику.
— Пожалуйста.
Тот, взяв его под мышку, попятился к своей машине, не опуская оружия. Только когда он скрылся в ней, такой же манёвр проделал и второй из нападавших. «Мерседесы» взревели и скрылись за поворотом петлявшего по горным склонам шоссе. Пассажиры «ситроена» с минуту сидели молча. Наконец, Владимир Кириллович коснулся рукой плеча Сенявина и, мучительно выдохнув, сказал:
— Поехали, Дмитрий Львович.
— А ведь даже не таятся, сволочи!
— Это они специально демонстрируют, за кем сила. Поехали, поехали господин полковник.
Через пару минут они увидели причину того, почему ими не попадалось встречных машин. Еще два черных «мерседеса» столкнулись, перегородив дорогу. Серьезных повреждений, правда, на них не было. За «мерседесами» виднелась вереница стоявших встречных автомобилей. Увидев «ситроен», водитель одной из аварийных машин сел за руль и сдал влево, пропуская Сенявина и Владимира Романова. Владимир Кириллович нервно хохотнул:
— Вот видите, какое нам внимание и почет. Сзади, я думаю, то же самое.
— Живы остались, и слава Богу, ваше высочество.
Владимир Кириллович промолчал и до самого аэропорта не проронил более ни слова. Там их встретили как важных гостей, пограничные формальности заняли всего несколько минут. И только когда они уже шли к самолёту по летному полю, великий князь вдруг сказал, обращаясь то ли к Сенявину, то ли к кому то еще, гораздо для него более важному:
— Ну что ж, Жеребков был прав, это не стоило таких нервов. С другой стороны, я вдруг из-за этакой глупости яснее увидел своё будущее. Посидел, почитал, подумал. Трезвый взгляд на вещи — вот что мне нужно для жизни. А эти бумаги — они им важнее. В том смысле, что они для них опаснее. Если, конечно, у них есть воображение. Пусть читают. Очень хорошо, что так получилось.
Сенявин не решился расспрашивать, а Владимир Кириллович, видимо, посчитал, что и так сказал достаточно. Через несколько часов они приземлились в Мадриде.
Об этой операции, проведённой в Швейцарии в мае 1945 года, ни Судоплатов, ни его сотрудники так никогда и не узнали. Судьба желтого портфеля и его содержимого тоже осталась неизвестной.
Первое послевоенное десятилетие Владимир Кириллович Романов прожил в Испании. Первый раз появиться во Франции он решился только в 1954 году. Его сомнительные связи времен оккупации сильно навредили ему, и он, по-видимому, опасался, что при возвращении во Францию может быть обвинен в коллаборационизме. Жеребков во Франции был в 1946 году предан суду и получил пять лет «национального бесчестия» — почти ничего в его положении активного пособника нацистов. Когда вскрылась его роль в принудительной депортации русских евреев-эмигрантов, живших в Париже, что было первым этапом к их уничтожению в лагерях смерти, Жеребкова во Франции уже не было. Он также укрылся в Испании, где правил диктатор Франко, без тени сомнения принимавший на испанской земле подобных ему «борцов с коммунизмом». Французы заочно приговорили Жеребкова к пожизненным принудительным работам, то есть к пожизненной каторге. В Испании он и умер в 1978 году. Встречался ли он там с Владимиром Кирилловичем, неизвестно. Думаю, вряд ли. Период оккупации навсегда остался тёмным пятном на репутации великого князя, и к воспоминаниям о нём он возвращался неохотно. А в рассказах об этом времени всячески старался обелить себя. Правда, сделать это без искажения фактов у него не получалось. По-видимому, тяготился он и обществом Сенявина, бывшего свидетелем тех времен. Так или иначе, но в конце 40-х годов, Дмитрий Львович Сенявин «по семейным обстоятельствам» уехал в Аргентину, где и окончил свои дни. Умер он в Буэнос-Айресе в 1952 году. Также уехавший в Латинскую Америку Георгий Граф с Владимиром Кирилловичем так и не примирился, но вот дружеские отношения с его сыном, другом детства великого князя, в конце концов восстановились. Наверное, так Владимир Романов пытался отдать дань человеку, посвятившему жизнь его семье.
После окончания войны и событий в Швейцарии Владимир Кириллович окончательно потерял веру в то, что он когда-нибудь взойдёт на трон Российской империи. В 1948 году он женился на Леониде Георгиевне Кёрби, дочери князя Георгия Ираклиевича Багратиона. Для Леониды это был уже второй брак. Женившись на ней, Владимир вслед за отцом нарушил закон Российской империи о престолонаследии, вступив в брак с разведённой женщиной. В соответствии с ним дети, родившиеся от этого союза, теряли свои династические права. Кроме того, многие монархисты и сегодня не признают за родом Багратионов-Мухранских, к которому принадлежала Леонида, царственного достоинства, а следовательно, в соответствии с всё тем же законом о престолонаследии Владимир не имел права вступать в брак с Леонидой Георгиевной. В 1953 году у Владимира и Леониды родилась дочь Мария. Больше детей у них не было, и когда Владимир Кириллович в 1989 году признал её наследницей престола, то и это решение вызвало разногласия среди редеющих русских монархистов, особенно среди потомков уцелевших Романовых. Результатом недолгого брака Марии Владимировны с принявшим для этого православие под именем Михаила Павловича претендентом на германский престол принцем Францем Вильгельмом Гогенцоллерном стало появление на свет в 1981 году внука Владимира Кирилловича, названного Георгием. Сегодня он живет в Испании. Сторонники партии «Кирилловичей» считают его русским императором, он со своей матерью Марией Владимировной часто бывает в России. Республиканские российские власти всегда принимают их с почётом. Правда, с куда большим основанием Георгий Михайлович мог бы считаться императором Германии.
Через десять лет после войны Романовы вернулись во Францию, в родную для Владимира Кирилловича виллу «Кер Аргонид». Активной общественной жизни он сторонился, да и жила семья небогато, надо было думать о хлебе насущном. Великий князь неоднократно говорил, что власть коммунистов неизбежно падёт по воле самого русского народа, отрицая возможность ее свержения внешними силами. И дожил до того времени, когда его мечта осуществилась.
5 ноября 1991 года Владимир Кириллович и Леонида Георгиевна первый раз в жизни вступили на русскую землю. Их принимал Анатолий Собчак, мэр только что вернувшего себе имперское имя Санкт-Петербурга. Но городу было не до былого величия и сиятельных гостей. Советский Союз распадался, грозя похоронить под обломками его бывших граждан. Опять, как в годы войны, над городом Петра угрожающе нависала тень голода. И Владимир Кириллович, к тому времени уже тяжело больной, бросился помогать обретённой родине. Он ездил по миру, уговаривая власть имущих и богачей помочь России. Владимир Кириллович Романов умер в мае 1992 года в США, в штате Флорида, прямо во время выступления перед американскими бизнесменами, в котором призывал их вкладывать деньги в Россию.
После смерти он вернулся домой навсегда, чтобы найти вечное упокоение в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора Петербурга. Рядом со своими предками.
Отто Скорцени
Отто Скорцени — несостоявшийся персонаж этой книги. В руки НКВД или СМЕРШа он так и не попал. Но я все-таки решил вспомнить о нем ещё раз. Потому что его судьба кажется мне странным и в некотором смысле символическим откликом, кривым зеркалом судеб тех людей, что пытались заманить его в «отряд Шернхорста». Тюрьмы, причудливые повороты жизни, таинственность. Непреклонная уверенность в том, что она была прожита правильно. Оправдание себя тем, что просто выполнял приказы. Склонность к литературным занятиям. Отличие его судьбы от судьбы большинства наших разведчиков состоит, не только в том, что он служил безусловному злу. А наше зло, неисповедимыми путями Господними, стало в тот исторический момент орудием добра. Оно ещё и в том, что о Скорцени при его жизни знал весь мир. Как человек тщеславный, он наслаждался своей мерзкой славой, созданной им же самим. Но при этом очень боялся тех, кто хотел, чтобы он ответил за совершённые им преступления и многие годы шёл по его следам. На Земле воздаяния в полной мере не случилось. Но тот страх, в котором он прожил все отведённые ему после окончания войны годы, тоже был расплатой. Хотя и несопоставимой с виной. А она состояла не только в уничтожении ничем не повинных мирных жителей в Чехословакии, в расправах над немцами, не желавшими погибать вместе с Третьим Рейхом в последние месяцы войны. Едва ли не главным его грехом был грех нераскаяния.
Американцы, которым сдался Скорцени, очень скоро поняли, что он с его опытом подготовки диверсантов и проведения тайных операций может оказаться весьма полезным. Познакомившись с ним, начальник американской разведки Уильям Донован воскликнул: «Славный парень!». Поэтому в 1947 году заседавший в Дахау трибунал признал его невиновным в военных преступлениях. Однако по решению комиссии ООН, занимавшейся составлением списков нацистских преступников, Скорцени в апреле 1948 года снова был арестован. Но в июле того же года из лагеря, где он содержался, его вывезли американцы. Общественности сообщили, что Скорцени бежал. Он оказался в США, передавал свой опыт организации десантов и диверсионной работы. В Чехословакии, где к власти пришли коммунисты, был выдан ордер на арест Скорцени как военного преступника. Причем факты совершения им военных преступлений на территории Чехословакии были неоспоримы. Но Европу уже разделили «железным занавесом», а потому в 1952 году он был признан в ФРГ прошедшим денацификацию. После денацификации Скорцени мог бы вернуться в Германию или Австрию, если бы покаялся, признал ошибочными свои убеждения, равно как и убеждения своих бывших вождей. Но он этого никогда так и не сделал, а в 1960 году заявил: «Будь Гитлер жив, я был бы рядом с ним!»
Послевоенная деятельность Скорцени окутана тайной. По некоторым сведениям, он был одной из ключевых фигур в созданной уцелевшими нацистами организации «ODESSA» («Организация бывших членов СС»), главной целью которой было содействие бывшим наци. На это шли, в частности, фальшивые английские фунты, в больших количествах и с великолепным качеством изготовленные заключенными концлагерей в нацистской Германии. Многие историки утверждали, что сохранить и использовать эти деньги, еще несколько лет после войны принимавшиеся к обмену многими банками мира, «ODESSA» смогла благодаря именно Скорцени. Он помогал военным преступникам укрыться от правосудия в Латинской Америке, где целый ряд стран принял этих беглецов с фальшивыми фунтами с распростертыми объятиями. Сам Скорцени жил в Ирландии, а потом осел в Испании, под покровительством Франко. Там он и умер в 1975 году, считаясь к тому времени разыскиваемым нацистским преступником № 2. Номером один был шеф гестапо Мюллер, который благополучно провёл остаток дней в Латинской Америке. И, что тоже вполне возможно, не без помощи Скорцени.
Распутин
При жизни Распутина от его имени было издано две книги. Так как сохранилось довольно много написанных им записок и рассказов свидетелей хорошо известно и о его манере говорить, и о том, насколько «грамотно» он писал, то совершенно ясно, что эти книги были литературной переработкой высказываний малограмотного «старца», говорившего часто сколь образно, столь и далеко от правильной речи. О том, что Распутин пророчествует, заговорили сразу после его появления в Петербурге. Многие его адепты эти пророчества записывали.
Несколько лет назад в Петербурге была издана книга под броским названием «100 пророчеств Распутина» (http://lib. ms.ec/b/352829/read). Её автор утверждает, что незадолго до смерти и в её предчувствии Распутин передал Николаю II сделанную им запись своих пророчеств. Он, видимо, полагал, что следование этим пророчествам поможет самодержцу. Сомневаюсь, что он делал записи собственноручно, но то, что эти пророчества записывались, известно хотя бы по тем же самым распутинским книжкам. Некоторые пророчества Распутина привела в своих мемуарах Анна Вырубова. Вот одно из них, которое Вырубова датировала мартом 1913 года: «Как-то учитель озлобился на немцев. Кричал в лицо одному просящему, видимо, из немцев, что нутро у них-де гнилое, требуховое. А затем повернулся ко мне: «Знаю, знаю, — кричал он, — окружат Петербург, голодом морить будут! Господи, сколько людей умрёт, и все из-за этой немчуры. А хлеба-то, хлеба на ладошке не разглядишь! Вот и смерть в городе. Но не видать вам Петербурга! Накось, смертью голодной ляжем, а вас не пустим!» После чего затих и попросил чаю, а на вопрос, когда же всё это случится, сказал: «От моей смерти — год 25-й». Согласитесь, впечатляет. И год назван точно. Правда, скептики говорят, что Вырубова писала свои воспоминания уже после войны, зная и год её начала, и о трагедии, пережитой Петербургом-Ленингра-дом. Вспомнила бывшая подруга Александры Федоровны и о том, как Григорий Ефимович предсказал, что первым в космос полетит русский человек, и его будут звать Юрой. Над этим рассказом Вырубовой можно, конечно, посмеяться, зная, что она заканчивала писать свои мемуары вскоре после полета Юрия Гагарина в космос. Но как быть с тем, что дальше она передаёт слова Распутина, согласно которым на Луну первыми высадятся американцы, а также приводит достаточно точное описание того, как это произойдет? Ведь это случится через несколько лет после смерти Вырубовой. С другой стороны, мы знаем и о безусловно сбывшихся пророчествах Распутина. Самое известное из них — это предсказание того, что если умрёт он, то погибнет и царская семья. Пророчество, безусловно, сбывшееся. Хотя очевидно и другое. Неоднократно повторяя его, Распутин заботился о собственной безопасности. Вот текст этого пророчества: «Я чувствую, что уйду из жизни до 1 января. Я хочу сказать русскому народу, папе (царю), маме (царице) и детям, что они должны предпринять. Если я буду убит обыкновенными убийцами и моими собратьями крестьянами, ты царь России, тебе не надо будет бояться за своих детей. Они будут царствовать ещё много веков. Но если меня уничтожат дворяне, аристократы, если они прольют мою кровь, то руки их будут запачканы моей кровью 25 лет и они покинут Россию. Брат поднимется на брата. Они будут ненавидеть и убивать друг друга, и 25 лет в России не будет покоя. Царь земли русской, если ты услышишь звон колокола, который скажет тебе, что Григорий убит, знай, что один из твоих подстроил мою смерть и никто из твоих детей не проживёт больше двух лет… А если и проживёт, то будет о смерти молить Бога, ибо увидит позор и срам земли Русской, пришествие антихриста, мор, нищету, порушенные Храмы Божьи, святыни оплёванные, где каждый станет мертвецом. Русский Царь, ты убит будешь русским народом, а сам народ проклят будет и станет орудием дьявола, убивая друг друга и множа смерть по миру. Три раза по 25 лет будут разбойники чёрные, слуги антихристовы, истреблять народ русский и веру православную. И погибнет земля Русская. И я гибну, погиб уже, и нет меня более среди живых. Молись, молись, будь сильным, думай о своей Благословенной семье».
Автор упомянутой книги «100 пророчеств Распутина» утверждает, что имевшаяся у Николая II рукопись самого Распутина была изъята чекистами, хотя сам же оговаривается, что некоторые ее фрагменты хранятся в библиотеке знаменитого немецкого университета в Иене. Так как наряду с прочим Распутин напророчил гибель будущей безбожной и кровавой власти, то советские руководители сочли за благо упрятать эту рукопись подальше. Да так, что и до сих пор обнаружить её следы не удалось. Концом XX столетия пророчества «старца» не ограничивались. Можно только догадываться, что Распутин предрёк современной России. Может быть, поэтому книга и числится ненайденной? С другой стороны, никаких доказательств в пользу своей версии автор не приводит. Поэтому моё предположение, что эта рукопись попала к большевикам только после войны, имеет не меньшее право на существование. И, скорее всего, имела куда более сильный эффект, если бы оказалась в их руках еще эдак в году восемнадцатом. Ведь Распутин предсказал и гражданскую войну, и диктатуру, и террор, а, вполне возможно, начало Великой Отечественной войны и блокаду Ленинграда, и еще массу сбывшихся к 1945 году событий. И тех, которым еще предстояло сбыться. Отдав эту рукопись большевикам, Владимир Кириллович, узнавший из неё, что Романовым более никогда не править Россией, думал, что нанес Сталину сильнейший психологический удар. Но Иосиф Виссарионович справлялся и не с таким. Поэтому он постарался максимально засекретить все связанное с операцией «Монастырь» и операциями, ставшими её продолжением. Распутинские пророчества должны были навсегда остаться тайной. Этот гриф секретности не был снят до последних дней существования Советской власти. Но и сегодня, в XXI веке, документы, связанные со всеми этими событиями, опубликованы очень выборочно и частично. Так что нам или, может быть, нашим потомкам ещё предстоят интересные открытия.
Эпилог
Большинство героев этой истории были людьми творческого склада и богатого воображения. Так случилось, что главным творением их жизни оказалась операция «Монастырь». А самая страшная трагедия в жизни любого творца — это невозможность отдать творение людям, быть оцененным по достоинству. Как нарочно, едва ли не все, вовлечённые в операцию, имели, кроме того, еще и страсть к литературе. Для человека, чьё орудие слово, нет ничего противоестественнее молчания. И они не молчали. Несмотря на все клятвы, грифы секретности и опасности разглашения. Александр Демьянов писал воспоминания. Судоплатов сочинял их тюремными ночами, чтобы выплеснуть на бумагу уже в 90-е. А Ильин и Маклярский просто, извините за выражение, болтали. Вот только один пример. Автор одной из сравнительно недавних публикаций об операции «Монастырь» пишет: «Эту историю много лет назад в самых общих чертах, не называя имен и деталей, мне поведал Виктор Николаевич Ильин, секретарь Московского отделения Союза писателей, а в прошлом ответственный сотрудник НКВД, один из тех, кто стоял у истоков операции «Монастырь». Загоревшись идеей написать о ней, я обратился в пресс-бюро КГБ. Но там на меня замахали руками: «Что ты, что ты! Это совершенно секретная операция!»» (. narod.m/4/monastbrg.htm).
Удивительно, но эти, казалось бы, пуганые — перепуганные профессионалы, прошедшие тюрьмы и пытки, дававшие самые строгие подписки о неразглашении, рассказывали об операции «Монастырь» даже не близким родственникам и друзьям. В роли слушателя этих рассказов мог оказаться, как в данном случае, случайный сосед по номеру в санатории Союза писателей, да еще балующийся журналистикой на шпионские темы! Уж где бы, казалось, надо было таиться. А они говорили, подчёркивая собственную значимость. И в этой своей неспособности сохранить тайну, они мне симпатичны. Потому что, будучи профессионалами, они если не понимали, то чувствовали цену этой тайне и своей роли в её создании и сохранении. Завеса над тайной поднималась очень медленно. Только в 1995 году в «Военно-историческом журнале» была опубликована статья бывшего сотрудника спецслужб В. Коровина «Поединок с Абвером», где впервые в открытой печати было рассказано об операции «Монастырь». Но и в этой статье участники операции «Монастырь» все еще фигурировали под псевдонимами. Так, Демьянов был зашифрован под оперативным именем «Гейне», а Садовского Коровин называл Седовым. Пожалуй, только после публикации книги Судоплатова «Спецоперации. Лубянка и Кремль» сначала за границей, а потом и на родине эта тема, и, конечно, с благословения «соответствующих органов», перестала быть запретной. Но и сейчас «белых пятен» в истории «Монастыря» более чем достаточно.
История разведки и контрразведки, история шпионажа — это едва ли не самая субъективная отрасль исторической науки. Те, кто занимаются этим предметом профессионально, как правило, склонны преувеличивать роль разведки в истории государств, войн и революций. Тем более что многие из них сами в прошлом шпионы или ловцы шпионов, а эта профессия в силу связанных с ней сильнейших стрессов искажает психику посильнее прочих.
На мой взгляд, большинство рассказов о ключевой роли разведки и конкретного разведчика в тех или иных исторических событиях не более чем череда попыток выдать желаемое за действительное. Эти рассказы отражают сознательное или бессознательное стремление упростить историю, представить дело так, что ей можно управлять силой воли людей, не наделённых властью, но обладающих тайным знанием и особого рода профессионализмом. Это не более чем иллюзия. Давайте вспомним самое очевидное. Несмотря на огромный поток прямой и косвенной информации о близком нападении Германии на СССР Сталин так и не сделал на её основании выводов, доступных даже ему. В результате война случилась «внезапно». Получив информацию о готовящейся высадке союзников в Нормандии прямо из сейфа английского посла в Турции, Гитлер решил, что это дезинформация. Просто потому, что как и Сталин в 1941 году, больше доверял собственной интуиции, чем фактам. А вот когда до того же Сталина, пусть и с огромным опозданием, дошла важность создания атомной бомбы, то и работа советской разведки стала куда результативнее. Примеров, когда государственные деятели и полководцы принимали решения исходя из каких угодно соображений, но только не на основе данных разведки, наверное, столько же, сколько в мировой истории случалось военных конфликтов и политических кризисов. Ну а те, кто рассказывают о том, как супершпионы и их начальники повернули её ход, должны писать не исторические книги, а шпионские романы. Что они, в общем-то, и делают, как бы данные опусы не назывались.
Нужно всегда помнить и ещё об одном. Непосредственные участники разведывательных операций более всего заинтересованы в том, чтобы придать своей работе как можно большую значимость. Разведка любой страны любит долго хранить свои секреты. При этом спецслужбы не только заботятся об интересах национальной безопасности, как они об этом обычно заявляют, но и пытаются таким способом затруднить оценку реальных результатов их деятельности. И всегда стремятся их преувеличить. Что же касается непосредственно истории радиоигр с немцами, то мою точку зрения разделяют и некоторые специалисты. Вот мнение одного из них: «В целом создаётся стойкое впечатление, что в своих воспоминаниях чекисты сильно преувеличивают масштабы своих успехов в деле дезинформации противника с помощью радиоигр и двойных агентов, равно как и число таких шпионов». Этот исследователь пытался выяснить, а насколько немцы, в свою очередь, были информированы из разведывательных источников о планах советского руководства и военного командования, и пришел к выводу: «Несомненно, Абверу и другим разведслужбам Германии, по крайней мере, несколько раз во время войны удавалось получить достоверную информацию от своих источников в высших советских штабах. Но вот кто именно были эти агенты — нам и сегодня остается только гадать… Столь же мало, как о настоящих немецких агентах в СССР, мы знаем и об агентах мнимых, двойных агентах, водивших за нос немецкое командование. Пожалуй, единственное счастливое исключение здесь — А.П. Демьянов» (http://www. ngebooks.com/book_23650_chapter_4_NEME%D0%A1KIE_SHTIRLI%D0%A1Y_V_SOVETSKIK H_SHTABAKH.html). Этому же автору принадлежит догадка, что на самом деле немцы довольно быстро, а может быть, с самого начала, поняли, что Демьянов ведет двойную игру и лишь делали вид, что полностью верят его сообщениям. А на самом деле пытались, сличая его информацию со сведениями, полученными из других источников, извлечь ту долю правды, которую советская контрразведка была вынуждена вкладывать в его сообщения, и использовали её с пользой для Германии. А наспех подготовленными агентами и советскими деньгами, попадавшими в руки НКВД и СМЕРШа, они дорожили мало. Но зато в НКВД были уверены, что немцы верят Демьянову. На мой взгляд, Абвер примерно в той же мере, как и советские «органы» не блистал особыми успехами на разведывательном фронте. Поэтому и в данном случае нет никаких оснований подозревать его сотрудников в такой сверхпроницательности.
В связи со всеми названными мной обстоятельствами я не склонен преувеличивать и значение операции «Монастырь» для хода Великой Отечественной войны, как это делают многие писавшие о ней любители шпионских историй, поклонники советских спецслужб и лично товарища Сталина. На мой взгляд, её реальные результаты были весьма скромными. Как и деятельность центральных органов разведки страны в целом. А некоторые последствия «Монастыря», если они, как в случае с операцией «Марс», действительно имели место, вообще ставят под сомнение её смысл. Другое дело — люди. Я убеждён, что среди тех, кто был втянут в эту операцию, нет ни однозначных героев, ни беспринципных негодяев. Они все — жертвы страшной российской истории XX века. Ни у кого из нас нет права ни осуждать их, ни превозносить без меры. И не дай Бог кому-нибудь из нас оказаться в ситуации выбора, при которой выбора просто нет. А для них такой выбор очень часто был почти повседневным обстоятельством.
Кстати, едва не забыл. Всю историю про шифр, поездку Сенявина в Москву и операцию «Наследник» я выдумал. Хотя, мог бы и не признаваться.
Все, о чем я написал, и так выглядит совершеннейшим вымыслом. Ну, сами подумайте: Какое могло быть дело советской разведке и лично товарищу Сталину до Владимира Романова, эмигрантов-монархистов и каких-то там старых бумаг? Но, с другой стороны, вот вам исторический факт: 12 октября 1941 года, когда казалось, что немцев под Москвой уже не остановить, Сталин принял Василия Зарубина, которому на следующий день предстояло отправиться за океан и стать резидентом советской разведки в США. В дальнейшем Зарубин сыграл выдающуюся роль в организации атомного шпионажа. По его воспоминаниям, Сталин был «озабочен поступившими из США данными, что американские правительственные круги рассматривают вопрос о возможности признания правительства Керенского как законной власти в России в случае поражения Советского Союза в войне с Германией». Зарубин должен был всячески противодействовать реализации этой идеи. Тени прошлого пугали Сталина. Мало того, руководство МТБ, как писал Судоплатов, вынашивало планы убийства бедного Александра Федоровича Керенского даже в 1952 году! А Владимир Кириллович Романов как претендент на власть в России был куда более легитимен, чем эфемерный Керенский.
В свою очередь у большевиков с легитимностью дело всегда обстояло неважно. Тут, правда, нужно сделать еще одно замечание. В среде монархистов, противников «Кирилловичей», существует оригинальная версия обстоятельств женитьбы Владимира на Леониде Кёрби-Багратион. Как они утверждают, в конце сороковых годов, когда начиналась «холодная война», у американцев нашла поддержку идея объединения всех русских эмигрантов под единым флагом, чтобы обзавестись законным русским правительством на случай Третьей мировой войны и победы над Советским Союзом. И якобы большинство эмигрантских организаций уже было готово пойти на это объединение под руководством Владимира Кирилловича. Но тут вдруг вспыхивает бурно развивавшийся роман Владимира и Леониды, против брака которых было большинство монархистов. Влюблённые тайно улетели в Лозанну, где и венчались, причем, вопреки всем канонам, во время поста и к тому же в Греческой православной церкви. Ни одна русская церковь не желала благословить этот брак. По мнению упомянутых мной недоброжелателей Владимира Кирилловича и его потомков, этот роман, поездку в Швейцарию и бракосочетание великого князя организовали агенты советских спецслужб, чтобы лишить его авторитета и легитимности. Некоторые, самые последовательные сторонники этой версии убеждены, что и сама Леонида Георгиевна, скончавшаяся в 2010 году и похороненная рядом с мужем в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в Петербурге, была большевистским агентом. Так или иначе, попытка объединить эмиграцию вокруг Владимира Кирилловича провалилась, а когда эту же идею предложили воплотить в жизнь Керенскому, у него ничего не получилось, и необходимость его устранять у МТБ отпала.
Воистину — история России полна невымышленных сюжетов и удивительных персонажей, которых не сочинить беллетристам даже с самой буйной фантазией. Нужно только уметь эту историю читать.

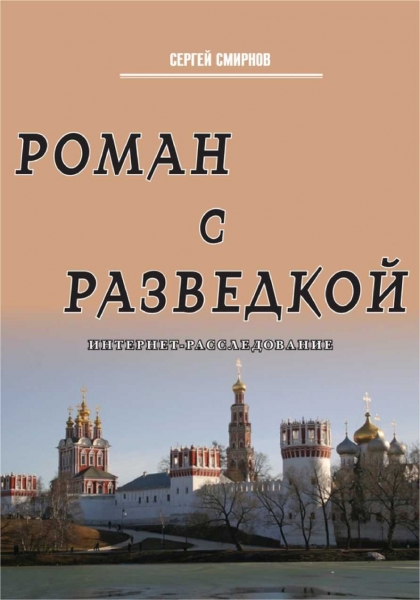

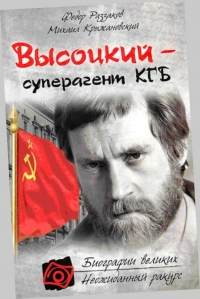
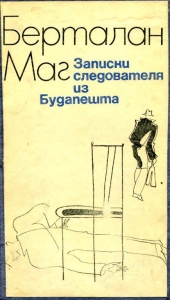

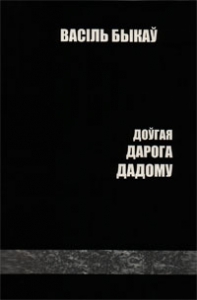

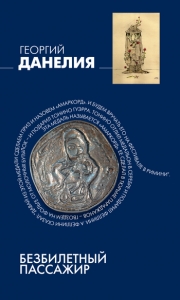

Комментарии к книге «Роман с разведкой. Интернет-расследование», Сергей Борисович Смирнов
Всего 0 комментариев