– Первое, что сблизило нас, – стремление к музыке, – застенчиво говорила мне много лет спустя моя мама, словно извиняясь за огромное чувство к отцу, которое она пронесла через всю свою жизнь.
Но родилась я не на юге Франции, а в суровой Сибири. Вот как это произошло. Мама оставалась за границей, еженедельно путешествуя на уроки пения из Монпелье в Италию, когда отец решил срочно закончить консерваторию и вернуться в Москву. Увы, полиция его не забыла. Были известны и его встречи за границей с Г. В. Плехановым, В. Д. Бонч-Бруевичем, многими революционерами. У отца произвели обыск. Пополз слух, что его собираются сослать в Сибирь. Ах так?! Человек внезапных решений, Илья Сац «предупреждает события» – бере т виолончель, учебники, дневники [1] и сам себя отправляет в Иркутск – Сибирь. Родные не скрывают своего раздражения. Навязчивая фантазия! Пусть на их помощь больше не рассчитывает. Илья Сац поселился на окраине Иркутска у чахоточной старухи в полуразвалившейся избе с выбитыми стеклами. В жилище то вползал едкий дым пожара далекой тайги, то врывался ледяной ветер мутно-зеленой, никогда не замерзающей Ангары. Ни гроша денег. Еще так недавно страна лазури, бездумные барашки в горной траве, вершина первой любви, и вдруг… обвал. Бездна. Он – нищий, да еще и «неблагонадежный нищий». О браке с красивой девушкой из хорошей семьи – забыть. «Не искушай» будет во мне звучать, пока жив, и это все». Порвать. Уничтожить. Обрывки мыслей, обломки слов долетели до Монпелье. По закону вероятности Анна должна была вскинуть хорошенькую головку и гордо ответить: «Все кончено». Но ей было дано, минуя слова, воспринять существо скачущих строк того, кого она полюбила. Он тяжело болен. Это ясно. Значит, ариведерчи, Италия, Франция! Ее место сейчас рядом с ним, в Иркутске. Представляю себе приступ кашля иркутской старушки, уже потерявшей надежду получить деньги с больного жильца, когда она увидела на пороге своей хижины нарядную девушку в сопровождении носильщика с заграничными чемоданами и большой корзиной, так вкусно пахнущей превосходным швейцарским шоколадом. Ну а папа, вероятно, подумал, что его бред продолжается, но принял удивительно приятные формы. Оказывается, он понятия не имел, что мама приехала к нему не одна, и, чтобы окончательно закрепить любовь родителей, однажды громким криком я возвестила о своем рождении. К тому времени мама уже перевезла еще больного папу в хорошую двухкомнатную квартиру, и, говорят, отец мой был очень удивлен, услышав рядом со своей комнатой незнакомое ему очень решительное контральто. Затем родители, держа меня на руках, пошли «жениться». Так, «не как у людей», началась моя жизнь. Имя мне дали тоже с опозданием, когда у меня развились «хватательные движения». Сделали три записки: «Тамара», «Ирина», «Наташа» и подсунули их мне. Я вытащила записочку, на которой было написано «Наташа», и очень этому рада. Ну какая была бы из меня Тамара? Даже смешно! Ирина мне тоже не подходит. А родители усмотрели в моем поступке нечто необыкновенно важное – если бы Лев Николаевич Толстой не собирал пожертвований в пользу голодающих, – папа, может статься, не поехал бы на Волгу, не вызвал бы гнева полиции, не попал бы в Монпелье, не встретился бы с мамой, а, значит, я бы не родилась… А кто был любимой героиней романа Льва Толстого? Для моих родителей – Наташа Ростова. А как было ее имя и отчество? Наталия Ильинична. Родители не могли нарадоваться недюжиной «проницательности» своей новорожденной. Заразительный смех теперь несся из квартиры родителей очень часто, но и трудности продолжались. Мама моя была человеком правды, талантливым и самобытным. Она верила, что отец поймет и простит ее «самовольный» брак с Ильей Сацем. Михаил Иванович Щастный вместо благословения прислал ей проклятие. «Я не для того прожил таку долгу жизнь, чтобы отдать любиму дочку еврею, да еще, как говорят, по матери с цыганскими кровями». Анну Щастную лишили приданого, всякой родительской помощи [2] . Илья Сац узнал о переписке с генералом – так он называл моего деда – случайно.– Все правильно, – весело сказал он, выбрасывая дедово письмо. Настроение моего отца стало неожиданно бодрым, предельно жизнедеятельным. – Сегодня меня в Иркутске никто не знает, но завтра…
Он умел верить в свое «завтра», увлекаясь, увлекать многих. Да, Илья Сац крепко решил «завоевать Иркутск музыкой». Проходит несколько месяцев, и среди жителей этого города одним из самых популярных становится Илья АнНИН [3] . Илья Аннин – музыкальный критик и фельетонист газеты «Иркутские ведомости». Илья Аннин – талантливый виолончелист, без участия которого не обходится ни один „большой» концерт. Илья Аннин – педагог иркутского отделения Императорского музыкального училища. Илья Аннин – неугасимое пламя вечно новых задумок, организатор огромного хора «Иркутск поет». Очевидцы говорят, что каждый участник этого хора был его пламенным энтузиастом, что отец написал для этого хора интереснейшие произведения, что хор имел огромный, потрясающий успех. Но в этой «огромности» таилась и опасность. Однажды подмостки, на которых стоял хор, выступая перед публикой, не выдержали его тяжести и в самом патетическом месте, когда хор грянул «Вырыта заступом яма глубокая», рухнули вместе со всеми певцами и молодым дирижером… Это сенсационное событие еще больше подняло популярность отца в городе Иркутске. Кульминация. Точка. «Нам» уже больше нечего завоевывать в Иркутске. Все втроем отправляемся в Москву. «Иван Сергеевич» Москва. Год 1904-й. Двухэтажный деревянный дом в Калашном переулке. Отцу были нужны и люди, и полная тишина. Вперемежку. Пусть квартира похожа на сарай, но туда можно и позвать многих и уйти от всех. Не знаю – мое это воображение или помню, но перед глазами входная дверь с жестяным навесом в глубине двора, темная передняя, направо комната с деревянным столом и деревянным диваном, потом совсем пустая комната, за ней – папина, где стоят пианино и виолончель. На втором этаже мы с мамой – туда ведет деревянная лестница. Полиция, видимо, забыла о существовании моего отца. И очень кстати: в этом году у него скрывался Бауман. Сейчас один из самых больших районов Москвы называется Бауманским. Имя Баумана с гордостью носят многие заводы и высшие учебные заведения, а тогда… Мама рассказывала: «Было около 12 ночи. Отец лихорадочно заканчивал свое музыкальное образование. Ушел с утра, вернется голодный. Ждала. Шорох около входной двери.– Кто там?
Тихое: «Я». Открыла, хотела спросить: «Почему не позвонил?», но он не один. Пропустил первым в дверь худого юношу с русой бородкой, в поношенной студенческой тужурке. Юношу? На продолговатом лице тени и морщины… Отец приучил меня не удивляться появлению в любое время дня и ночи его новых знакомых. Я провела мужчину в серой тужурке в комнату, пригласила сесть, протянула ему руку. Он, как в лучших домах, изящно поклонился, поцеловал руку. Какие холодные были у него губы! Долго потом не могла согреть свою правую руку: вползло ощущение осеннего дождя, промозглой сырости… Когда я вернулась в комнату с дымящейся картошкой, незнакомец поднял голову с нескрываемым интересом. «Рад, что теплая», – подумала я, глядя, с каким удовольствием он ест нехитрое кушанье. У него были красивые платиново-русые волосы, тонкие длинные пальцы. Но вдруг его рука с вилкой как-то повисла: узкие серые глаза слипались от усталости. Отец быстро принес подушку, одеяло. Новый знакомый сложился вдвое: диван-то был «сидячий». Забыл о нас и моментально уснул не раздеваясь. Отец поправил штору на окне, проверил запоры входной двери, взял меня за плечи и повел в другую комнату.– Как зовут твоего нового знакомого?
Он ответил не сразу: – Иван Сергеевич, – и перевел разговор на другую тему. Недели через три отец повел меня в «богатый дом». Столы ломились от изысканных кушаний и дорогих вин, накрытых «запросто» – а lа fourchette. Мужчины толпились поблизости, «из вежливости» не рискуя ко всем этим яствам прикоснуться. На золоченых, обитых атласом креслах сидели разряженные дамы и… позевывали, прикрывая рот веерами из страусовых перьев. Мы вроде бы совсем не вязались с этой роскошью, но отца встретили радостными восклицаниями, кто-то даже зааплодировал. Уже знали: если будет смеяться он, будут смеяться все. Вина он не любил – сам обладал свойствами шампанского. Брызги его остроумия быстро уничтожили отчужденность и скуку, заискрилось веселье. Как-то «сам собой» возник импровизированный спектакль. Дамы с веерами превратились в пальмы и другие тропические растения, более молодые – в поезд негоциантов, отец был автором тут же созданного им сценария, пародировавшего модную тогда пьесу; он же был режиссером и импровизировал «музыкальное сопровождение», то и дело выскакивал из-за рояля, так как исполнял и главную роль – краснокожего индейца. Стоит ли говорить, что страусовые перья и дамские шляпы нашли себе неожиданное применение для его «индейского» костюма. Отец был признан «душой общества». Поздно вечером пришли еще двое гостей: артист Худо– жественного театра Василий Иванович Качалов и статный, гладко выбритый мужчина в дорогом черном костюме и золотом пенсне. Качалова встретили приветственными восклицаниями, его спутника – недоуменной паузой.– Друг моего детства… ненадолго приехал погостить в Москву… не мог оставить одного…
Конечно, хозяйка дома заулыбалась, повела к столу. В одиннадцать часов гостей ждал еще один сюрприз: появился небольшой оркестр, были объявлены танцы, забавные призы для лучшей дамы и лучшего кавалера. Изящно поклонившись, спутник Качалова пригласил на первый вальс хозяйку дома и… произвел сенсацию. Его тонкие с полуулыбкой губы были крепко сжаты – видимо, не любил разговаривать, но осанка, умение вести даму, мужественность, грация… все взоры были теперь устремлены на него. Вот он – лучший кавалер! Дамы, не скрывая, мечтали получить его приглашение на очередной танец, выспрашивали у Качалова, какой титул у его друга, и Качалов со смехом отвечал: «Иван-царевич». Один тур вальса выпал и на мою долю. Вот это так кавалер! С ним не танцуешь – летишь! Но… где я его видела прежде? Отцу уже давно надоела эта шумиха, и, забравшись в комнату подальше, где тоже стоял рояль, он импровизировал один, уже всерьез. Я подошла к портьере в тот момент, когда из другой двери к нему подошел… красавец в черном. Значит, он его знает?! Осталась стоять за портьерой. Услышала музыку и затем… голос Ивана Сергеевича:– Ты очень талантлив, Илья [4] .
Да, теперь я узнала, кого он мне напоминает, по голосу, точно. Но… тот был старше, бедно одетый, с бородой, а этот… и почему он со мной даже не поздоровался?! Все же ясно – тот самый. Иван Сергеевич осторожно подошел к окну и вдруг в совсем другом ритме метнулся к отцу – оба исчезли. Я вошла в опустевшую комнату, подошла к окну. На тротуаре против парадного стоял неприметный человек в тесном пальто и обвислой шляпе. Он непрерывно глядел на этот дом. «Глаза, как буравчики», – подумала я. Ничего не поняла, пошла искать отца. Он вместе с Качаловым, отозвав хозяйку дома в сторону, горячо убеждал ее «оставить ночевать Ивана Сергеевича лучше всего в библиотеке ее мужа, так как у него бывают внезапные приступы мигрени, когда его необходимо изолировать от шума, запереть комнату с обратной стороны». Отец рассказал мне, как на следующее утро, когда «неприметный в фетровой шляпе» продолжал стоять против входной двери, туда подкатила роскошная коляска, запряженная рысаками. Из нее величественно вышла знаменитая артистка М.Ф.Андреева в сопровождении хорошенькой служанки с картонкой в руках. Андреева позвонила в парадное и прошла в дом. Через полчаса снова села в коляску. Ее сопровождала служанка чуть выше первой. Золотистые кудри, выбиваясь из-под крахмального чепца, полузакрывали ее тонкое лицо. Рысаки быстро умчали знаменитую артистку и ее «спутницу».– Его отвезли к Савве Морозову, миллионеру, гениальному сумасброду, понимаешь?
Я ничего не понимала. Тогда отец доверил мне строжайшую тайну. Никакого Ивана Сергеевича не существует. Это – знаменитый революционер Николай Эрнестович Бауман. Вся полиция поднята на ноги, чтобы его выследить, но он борется за будущее народа и в этих условиях. Недавно с орехово-зуевскими рабочими он готовил забастовку. А Савва Морозов – глыба! На его же фабрике Бауман поднял рабочих, а он все это знает – русский самородок, но масштабы у него дьявольские. Разрешил Баумана на несколько дней в своем доме укрыть! Меня восхищал и Бауман и… мой муж, твой отец, – продолжала мама. – Совсем еще молодой, а сколько незаслуженного пережил уже от той же полиции. Сейчас только что осел в Москве, начал строить жизнь по-настоящему и снова готов рисковать всем… влюблен в легендарного героя, в его большую правду! Бауман появлялся у нас в любое время, даже ночью, оставался, сколько ему было нужно. Однажды он попросил разрешения пройти на второй этаж, «туда, где спит Наташа». Печка там была теплая, отца дома не было. Николай Эрнестович рассказывал мне о казематах Петропавловской крепости, потом я пошла вниз, на кухню, напоить его чаем. Поднимаюсь снова по лестнице – слышу твой затихающий плач и вижу, как Николай Эрнестович бережно носит тебя на руках, прижимает к себе, мурлычет какую-то ласковую песню. Я рассмеялась:– Во многих видах, Николай Эрнестович, я вас уже видела, а вот таким… домашним представить себе, пожалуй, не смогла бы.
Он бережно положил тебя, сладко уснувшую, в кровать, сел на детскую табуретку и сказал тихо:– Если бы вы знали, как остро тоскую я иногда по детям, семье…»
В 1905 году Баумана убили. Похороны его превратились в огромную демонстрацию рабочих, революционного студенчества, многих тысяч честных людей. Полиция запретила хоронить его с музыкой, но музыка и революционные песни то и дело «вспыхивали». Илья Сац с товарищами по консерватории организовал невидимый оркестр. Один скрипач стоял у подъезда, другой в воротах, кто-то сидел у открытого окна за роялем, дома. Никакого «сборища» музыкантов не было, но когда тело Николая Эрнестовича проносили по переулку, вдруг зазвучал траурный марш Шопена в исполнении невидимого оркестра. Илья Сац дирижировал им, стоя на крыше, за трубой двухэтажного дома. Полицейские метались по переулку, но ничего не могли понять… Отдельные выходившие из домов люди с футлярами для музыкальных инструментов не давали основания для ареста. Первая гастроль Меня иногда спрашивают, когда я в первый раз выступала в театре. Смеяться не будете? – Когда мне было всего около года. Как это произошло? Отец закончил свое музыкальное образование, получил диплом «свободный художник» и, не знаю уж как, оказался в имении Антона Павловича Чехова. Наслаждался уединением, да и с деньгами, верно, было совсем туго. Слишком свободны были многие свободные художники тогда от возможности применить свои силы. Но времени отец не терял. Вот строчки из письма к моей маме: «…Я стал писать, писать много и легко. Прорвалась какая-то плотина, какой-то нарыв, более десяти лет мучивший меня… За четыре дня я написал три части сонаты, два романса, штук семь начал без конца, четыре конца и одну середину… Но не в этом дело… до сих пор написанное я посвящал то Шопену, то Мендельсону и чаще всего Григу. Но… среди томных септим Шопена, секст Мендельсона, грустно-игривых уменьшенных квинт Грига мне чудятся и прорываются иные, мои звуки. Хочется сблизить гармонии, не надо секст, и квинтами и терциями уж много сказано, нет, мне хочется говорить секундами, большими, увеличенными и, наконец, малыми. Ах, малая секунда! Ведь это сближение, почти унисон! И какой мучительный диссонанс в этом «почти!»» Но уединенная работа на «глубокой волне» прервана: письмо из студии. Письмо за письмом, наконец, телеграмма: К. С. Станиславский предлагает Илье Сацу написать музыку к драме М. Метерлинка «Смерть Тентажиля», которую ставит в Студии на Поварской режиссер Всеволод Мейерхольд. Кто подсмотрел композиторское дарование Ильи Саца, кто рассказал о нем Станиславскому? Педагоги консерватории? Вряд ли. Может быть, участники его импровизаций на вечеринках, кто-то из писателей или артистов… Отец польщен. Едет для личных переговоров в Москву. Вот отрывок из его письма к матери. «Пришелся ко двору. Предлагают заведовать музыкальной частью (оркестр, хор). Посылаю тебе рапорт Мейерхольда Станиславскому. Вот он: «Пьеса: «Смерть Тентажиля» Беседа вторая. Начало в 7 ч. Окончание в 10 1 /2 часов. Замечания: выправляется текст ролей. Потом снова беседа, которая сильно подожглась присутствием молодого композитора «из новых» Ильи Саца, который экспромтом принимает самое горячее участие в беседе. И странно, не имея никакого предварительного разговора со мной, он высказывает те же взгляды на душу метерлинковского творчества. Устанавливается: Уметь отделяться от старых авторитетов: Бетховен хорошо, не-Бетховен тоже хорошо, потому что «я». Надо уметь дерзать, не идти по проторенной дороге. Глубоко верить в силу того, что «я» каждого из нас может сказать. Пускай пока будет не то новое, чем то старое. Не могу передать на бумаге всей прелести нерва, каким жила труппа в этот вечер, но в их сердцах я, наконец-то, подсмотрел то биение, какое послужит нашему благополучию. В добрый час! Вс. Мейерхольд 13 июня 1905 г.» [5] Для отца уже нет дней и ночей. Он отдается новому делу весь, без остатка. В театре без любви к коллективному не создашь настоящего. Днем – репетиции, ощущение биения творческого пульса каждого исполнителя, общение с режиссером, художником, все большее проникновение в мысли автора, а ночи… «бессонные, с широко открытыми во тьме глазами». (По его же воспоминаниям.) Он не допускает проторенных троп в своем творчестве, большая цель требует поисков новых звучаний, той же психологической правды, достоверности, которую он ощущает в действии. «Все не то. Проклятое « не то». Видно, мое желание писать свое – просто зуд черепахи, тянущейся к небесам из болота… Подхожу к роялю, и стоны отчаяния не находят себе места в этой банальной гамме из полутонов, в этом салонно слащавом ударе молотка по струнам… Ветер воет в трубе, хлопает ставень, заплакала старая дверь на ржавых петлях… Конечно, музыка не этот ряд белых и черных зубов, расставленных в порядке, как городовые. Зачем нет регистра «ветер», который интонирует десятыми тона? Мое переустройство должно начаться с тембров. Надо включить новые оттенки, как смех, шелест, стон, журчание, стук. И тогда я скажу свое – «здравствуй!»… Музыка создается для оркестра и хора. Композитор нашел хорошие, молодые голоса, певцы рвутся показать силу звука, темперамент, но… зачем все это в «Смерти Тентажиля?!» «Вы поете, как оперные любовники в голубом трико, а на сцене умирает ребенок… К чему здесь ваша диафрагма?!» Композитор велит петь хору с закрытыми ртами, присоединяет к оркестру шуршание брезентов, применяет каким-то особым образом трепещущие медные тарелки, ударами воздуха из мехов заставляет звучать гонг и добивается наконец впечатления, которого не забыли до сих пор все, кто присутствовал на этой репетиции. Но отец никак не может найти кульминацию – внезапный крик почувствовавшего приближение смерти ребенка. На каждой репетиции он ищет новое решение. То одному, то другому инструменту, то хору поручает пробовать вновь и вновь им для этого места написанное – не то… Не то. Не то! Внезапность, непосредственность правды детского крика – вот то «чуть-чуть», которого ему так не хватало. Вероятно, я мирно спала в своей кроватке, когда отца вдруг осенило. Он примчался домой, закутал меня в одеяло, положил в карман бутылочку с моим прикормом и, воспользовавшись тем, что мамы не было дома, помчался назад на генеральную репетицию. Справа около дирижерского пульта он составил два кресла, положил туда меня в одеяле, пробормотав музыкантам, что жены нет дома, дочку нельзя оставить одну, а лежать она будет тихо, так как ее жизнь в музыке началась со дня рождения и даже значительно раньше. Музыканты были заняты генеральной и не обратили на это, конечно, никакого внимания. Сцена ужаса подошла как раз к десяти – началу одиннадцатого. В это время мне полагалась овсянка из бутылочки. Говорят, я проснулась и лежала совсем тихо во время игры оркестра, пения хора и шуршания брезентов. Когда дошло до места «ужаса маленького Тентажиля», левой рукой продолжая дирижировать, правой отец поднес к моему рту бутылочку и, не успела я глотнуть, выдернул ее обратно. С таким предательством я тогда еще не была знакома – заплакала, закричала на полную мощь, а в нужном месте затихла, так как мне дали мою овсянку.– Гениально! – закричал Мейерхольд. – Полное впечатление настоящего детского крика. Как вы этого достигли?
Но тут прибежала мама, выругала папу и забрала меня домой. На этом моя первая гастроль кончилась. Дорогой читатель! Все, о чем написано на первых страницах этой книги, восстановила в своем воображении со слов и по дневникам мамы, отца, их близких. А вот сейчас начну писать о том, что, мне кажется, уже помню сама. Но воспринятое в детстве не всегда можно перевести на язык зрелости. Знаю, это изменит интонацию, но что делать! Какое-то «впадание в детство» произойдет. Нефактов не будет, но до конца отделить, какие из них помню сама, какие ярко нарисовала в моем воображении мама, – не смогу. Иногда факты расположены не по времени, а по значимости. Из отдельных, как разноцветные кубики, воспоминаний попытаюсь сложить мозаику своего детства. У нас, на Пресне Детство – это Москва, одноэтажный домик в переулке за Зоологическим садом, на Пресне. Детство – это мама, младшая сестра Ниночка, папа, музыка и театр. Музыка вошла в мою жизнь первой. А театр? Мысли о нем, как белые хлопья одуванчика под ветром, носятся в моей едва осознавшей свое собственное существование голове – настойчиво и часто. Меня в этот театр еще не водили. Там для взрослых: «Драма жизни», «У жизни в лапах». Я люблю непонятные слова и знаю: театр – это самое главное. Когда мама говорит: «Наш папа пошел в театр», ее голос звучит торжественно, хотя папа туда ходит почти каждый день: он – композитор Московского Художественного театра. Музыку к спектаклям этого театра наш папа пишет по ночам, когда нас с Ниной укладывают спать и в доме становится совсем тихо. Но мы не спим – притворяемся. Наш папа звучит так интересно! Его музыка нам про театр рассказывает. Вот из его комнаты несутся аккорды, его голос, снова аккорды. Папа говорит за артистов, пианино плачет, стонет… А вот папин голос стал громким, страшным, музыка колючая, чужая, упрямая… Про кого она? Утром папа сказал: про Анатэму. Он вроде черта. Зубы вперед, чтобы всех проглотить. Пока папа про него музыку сочинял, Нина во сне даже кричала. А потом пришел к папе Василий Иванович Качалов и насмешил нас.– Знаете, кто будет роль Анатэмы играть? Я. Качалов был наш с Ниной самый любимый артист. Артистов у папы бывало много. Но Качалов самый красивый, добрый, самый вежливый. Он всех по имени-отчеству знает, даже нас с Ниной «на вы» называет, за руку здоровается, как ни спешит, а всегда с нами хоть немножко разговаривает. Воротнички у него самые белые, галстуки разные, шляпа бархатная, а голос поет, как папина виолончель. Нет, еще красивей!
– Как же вы можете… стать чертом? – спрашиваю я его.
– Могу, – весело отвечает Качалов и достает из своей красивой шапки страшную картинку: голова огромная, продолговатая, совсем без волос, глаза злющие, нос и особенно губы вытянуты вперед. Всех съесть хочет! – Таким приказал мне художник стать в роли Анатэмы, – говорит Качалов.
Я спорю:– Все равно, когда вы заговорите, все по голосу узнают, что вы – красивый и добрый.
– Если узнают, – смеется Качалов, – значит, я плохой артист.
– Не узнают, – утешает Василия Ивановича Нина. Она ликует. Не будет она больше бояться этого Анатэму – не всамделишного, а которого «сделают в театре» из Качалова!
Но вдруг около нашей входной двери становится так шумно, словно там не то спорят, не то дерутся. Я заглядываю в окно, а Качалов уходит в угол комнаты. Сколько на нашем крыльце народу – и одни женщины! Мама выходит за дверь – они ее обступают, засыпают вопросами. Мама говорит громко:– Качалов пробудет у Ильи Саца до двенадцати часов ночи. Ждать его пять часов подряд неприлично. В нашем же дворе – вот, почти рядом, Плевако [6] живет. К нему по важным судебным делам, а вы весь проход заняли. Смотрите Качалова в театре. Зачем ему жизнь отравлять?
Кто-то возражает, кто-то обижается, несколько женщин уходят. Качалов благодарит маму:– И как они меня здесь выследили!
– Не будьте таким красивым и знаменитым, не будут за вами вереницей по улицам поклонницы бегать, – смеется мама.
А я думаю – не показать ли этим женщинам картинку «Анатэма» Может, испугаются? Мы с Ниной в театре еще не были, но как хорошо, что театр сам приходит к нашему папе, а значит, и к нам. Когда я слушала папину музыку к «Мiserere», всегда смотрела наискосок от нашего дома на трактир Ивана Затулкина. Там пьяные и поют, и плачут, и на мостовую у двери падают… Мама сказала, эту музыку в театре будут играть тоже в кабачке. А кто? Пьяный или который его стыдит? Однажды к папе пришел скрипач, высокий, худой-худой. Волосы длинные, в разные стороны, черные-черные, одного глаза нет. А нос тоже худой, огромный, торчит, точно ему одному на этом лице даже страшно. Папа сказал этому скрипачу ласково:– Борис Львович! Мне бы хотелось, чтобы в картине кабачка вы поднялись из оркестровой ямы и сами на сцене «После плакать» сыграли. Вы бы не согласились?
Скрипач пожал плечами, но не отказался. Папа сел за пианино, Борис Львович достал скрипку. Я никогда не забуду этого впечатления горечи, силы, мольбы о помощи.
Конечно, тогда я не могла бы выразить это впечатление такими словами, но… у папы даже глаза стали мокрыми после его игры – это помню. А я была поражена тем, что этот скрипач и папина музыка совсем одно и то же. А вот еще запомнившееся навсегда «чудесное явление» в домике нашего детства. Под вечер нас с Ниной однажды «ненадолго» оставляют одних. Звонок. Бежим открывать входную дверь.– Кто там?
Мужской голос отвечает негромко, словно у него язык застрял в зубах, что-то вроде:– Мистер Илья Сац?
Открываю. Незнакомый. Он пришел с каким-то мужчиной, которому, видно, поручили проводить его до нашего дома. Говорит второму что-то непонятное быстро и коротко, а входит к нам один. Невысокий, но какой-то особенный, и пахнет от него очень хорошо. Глаза узкие, губы тонкие, нос, как вырезанный. Пальто зеленое, широкое, легкое, веселое, шляпа, как от солнца, хотя уже идет снег, шарф через плечо, волосы длинные, большие кожаные пуговицы, кожаный воротник, кожаные с пряжками ботинки – таких мы с Ниной еще не видели. Смотрим на него, как на заморского какаду… Но он очень быстрый. Размотал шарф, подкинул его кверху, и шарф повис на спинке стула; снял кожаные перчатки и бросил их в большой карман, ловко так ноги вытер, как будто станцевал что-то, бросил на стул пальто и сказал как-то по-птичьи непонятное «чил чрин», устремился вперед, почти побежал по всем нашим комнатам. Мы с Ниной удивленно переглянулись, но как «доверенные лица» своих родителей не без удовольствия побежали за ним. Сперва мы попали в столовую, где стоял стол и стулья, потом налево, в детскую. Он остановился на мгновение около наших железных кроватей, сказал что-то вроде «О-у» и, широко взмахнув руками, побежал дальше. Рядом был папин кабинет – диван посередине как новый, с турецким узором, справа – бархат облезлый. «Заморский» снова остановился, сказал «о-у», подбежал к пианино, достал из кармана маленькую книжечку, что-то там записал и, снова сделав «летательное» движение, побежал в последнюю нашу комнату, на которую у нас мебели не хватило: там стоял только топчан, на котором мама иногда «от всех нас отдыхала», а чаще мы с Ниной кувыркались. Читатель, позволь мне сделать «сальто» в 1937 год. В том году, в одно и то же время мы лечились с Константином Сергеевичем в санатории «Барвиха» и часто гуляли вдвоем. Он вспомнил, как в свой первый приезд в Москву Гордон Крэг пожелал, «не предупреждая театр», отправиться на квартиру к Илье Сацу – известному русскому композитору, музыку которого он знал и ценил, и как он был поражен «пуританизмом его жизни». Вот только когда я соединила детские впечатления с «истиной». Но в том возрасте я считала, со слов папы, что мы «чудесно живем», потому что «соседи мешали бы папе, а он уж наверняка им». Их нет, и это – главное, а всякие там буфеты и лишняя посуда нам совсем не нужны. Мне навсегда запомнились «летательные руки» левого знакомого, острый интерес ко всему, что он видел, его движения, которые хотелось запоминать и повторять, какая-то удивительная увлеченность всем, что он видел в незнакомом доме. Смеркалось в нашем домике быстро. «Заморскому», видимо, захотелось рассмотреть папины ноты, картины, книги – их у нас было много. Он сложил три пальца правой руки и, ловко поворачивая их вправо, стал шарить по нашим стенам. Я уже научилась понимать его мысли по движениям и рассмеялась:– Ищет электричество, думает, оно у нас есть, как у Плевако.
Но тут «заморский» заметил стоявшую на столе керосиновую лампу и заинтересовался ею. Взял в руку. Нина закричала строго:– Мама не позволяет без нее зажигать лампу. Он понял заключенный в ее интонации протест, поставил на место лампу, поднял кверху руку, чтобы сделать успокоительный жест в сторону Нины, и вдруг… заметил, что его рука пахнет керосином. С искаженным лицом он устремился на поиски чего-то вроде ванны (?!) или водопровода, но мы с Ниной, уже привыкнув к этому человеку, подхватили его под руки и, весело смеясь, увлекли на кухню к жестяному умывальнику «здравствуй – прощай», куда мама из колодца наливала свежую воду. Мне кажется, ему даже (как и нам) понравилось смотреть, как вода стекает в таз и прыгает вверх-вниз длинная железяка. Нина подала ему неначатое мыло, я – чистое полотенце, и его последнее «0-у» уже было произнесено с приветливым кивком головы. В этот момент вошли родители и зажгли все наши лампы.
«Заморский» пошел с папой к нему в комнату, а мама рассказала нам, что это очень знаменитый режиссер, который приехал из Англии. Он будет ставить в Художественном театре «Гамлет, принц датский», музыку к спектаклю напишет папа. Когда в следующий раз Гордон Крэг пришел к папе, я примостилась около приоткрытых дверей его кабинета. Английский режиссер, как и в первый раз, бегал по комнате, что-то показывая папе голосом, потом папа садился за рояль и, словно спрашивая, так ли он его понял, что-то играл ему, режиссер тут же на папином столе делал какие-то наброски карандашом (какие-то! Они были потом сложены у папы в столе, эти наброски по спектаклю! Крэг был не только режиссер, но и художник), потом снова папина музыка… Они прекрасно понимали друг друга, хотя папа не знал ни слова по-английски, а Крэг – по-русски. Глаза у папы горели – ему, видно, еще больше, чем нам, нравилось смотреть на широкие движения режиссера – такие, за которыми хочется полететь самому. Он это потом нам не раз говорил. А мне больше всего нравилось, как, когда папа садился за свое пианино и начинал играть. Гордон Крэг вдруг забивался в угол дивана, сжимался в комок и замолкал, а когда папа кончал играть, его руки снова летали, и он почти кричал «сплендид», «вери гуд». Это были первые иностранные слова в моей жизни, и я была в восторге, что уже «заучила их», особенно после того, когда, как-то уходя от папы, Крэг чуть не задел меня дверью по носу и вместо Наталия назвал «Натаниэль». Папа был вне себя от радости работы с Крэгом. Он повесил в своей комнате его портрет (там было что-то очень красиво написано). На портрете режиссер, как сейчас помню, снят в профиль, в белой пышной рубашке, длинные прямые волосы, рука с тонкими пальцами. Этот портрет висел у папы до самой его смерти. Папина музыка к «Гамлету» – самая моя любимая. Только фанфар я боялась больше, чем Нина Анатэму. Мне никогда не говорили, о чем эта музыка, но когда я ее слушала, похоронная процессия почему-то всегда ползла в воображении… Помню ясно, как некоторое время папа не позволял нам ходить в его комнату, сделал там какие-то приспособления, подвесил колокол и однажды ночью, когда дул сильный ветер, открыл настежь окно (хотя была поздняя осень), играл то на рояле, то на фисгармонии, окно стучало ставнями, колокол звонил, а потом к папе в одной рубашке вбежала мама, закричала: «Сумасшедший, простудишься», прибежала кухарка от Плевако: «Что случилось?» – и папа после долго ходил с завязанным горлом, но был очень доволен.– Нашел, что мы с Крэгом искали. Сплендид. Мне «Гамлета» на сцене посмотреть так и не пришлось, но какая была радость, когда значительно позже из письма К. С. Станиславского моему отцу я вдруг «все поняла» и связала детское с недетским.
Гордон Крэг хотел, чтобы создалось впечатление: Гамлет «среди своих размышлений слышит трубы, звон колоколов, то звучный, праздничный, то надтреснутый – погребальный. С этими звуками перемешиваются отголоски похоронных мотивов. Такие же звуки труб и гимнов, связанные с воем ветра, с шумом моря и с похоронными, загробными звуками слышатся Гамлету и в сцене с отцом…» Раннее детство оставило неизгладимый след «рождения» музыки «Размышлений Гамлета», «Марша», «Тихих скрипок»… Одним из первых эти наброски у папы слушал Василий Иванович Качалов. Ему предстояло сыграть эту, как он сам говорил, «самую трудную роль». И я видела, как, прослушав музыку, он обнял папу и сказал:– Ваша музыка помогла мне глубже узнать моего будущего Гамлета. Мне кажется, я теперь лучше вижу этот образ.
Ну вот и мы с Ниной, когда слушаем папину музыку, разное видим. Значит, уже не раз побывали в папином театре. Когда Зверевы «звереют» На вывеске самого большого магазина у нас на Пресне написано «Братья Зверевы». Там все продается. Но где взять деньги? Они у нас далеко не всегда есть. Наш папа получает деньги, только когда напишет хорошую музыку.– Жалованья у нас нет, – говорит мама.
Таким, как мы, Зверевы дают продукты в долг, это называется «на книжку». Только у братьев Зверевых короткое терпение. Оно кончается каждый раз, как мы перебираем за сорок рублей. Мама становится мрачной: – Зверевы больше… «на книжку» не дают, – а папа пытается шутить: – Когда наши долги доходят до сорока рублей, Зверевы «звереют», а мы знаем, что паузы в музыке приятнее, чем паузы в желудке. Мы с Ниной даже рады: не будет супа, значит, не будут заставлять его есть и кашу тоже, дадут, что придется, это интересней. Но, оказывается, потухнут все наши лампы – они не могут гореть без керосина, а керосин тоже зависит от всесильных братьев… Самое плохое, когда кончились дрова. Зима. В комнате холодно, как на улице. Утром нас с Ниной быстро одевают под одеялом, а потом заворачивают обеих вместе в оба одеяла, чтобы было теплее. У мамы грустное лицо, но она шутит:– Сидите тихо, мои сиамские близнецы, не слезайте с кровати, пока ваш папа не найдет денег.
Единственное развлечение – фантазировать, где и как «ищет деньги» наш папа, а еще – мы любим дышать и смотреть, как застывает пар в холодном воздухе. И вдруг, когда уже стемнело, за окном раздается стук в ритме польки из «Жизни Человека», смех, похожий на лошадиное ржанье, папин голос: – Анночка, сюда, ко мне. – Это наш удивительный папа нашел где-то большую вязанку дров, уложил их на салазки и прикатил на себе. Вот уже мама затапливает печку, а папа на столе, на подоконниках – везде-везде налепляет разноцветные свечки, он их взял у Сулержицких, остались от прошлогодней елки. Огненные язычки болтают так весело! В карманах у папы две бутылки кваса – шипучего, клюквенного, а в руках большущая коробка с розовыми бантами, золотой подковой и бархатными фиалками. Внутри шоколадные конфеты! Пока мама готовит обед, я шестнадцать конфет съесть успела (у Нины живот заболел раньше). Помню мамины большущие глаза при виде разнаряженной коробки на продырявленном стуле: «Откуда это?» Папа хохочет и не просто рассказывает, а представляет нам, как он, запряженный в санки, с разлохматившимися усами и бровями, трусил к воротам нашего дома, и вдруг перед ним предстал гладко выбритый статный лакей в белых перчатках; лакей прищурился и слегка улыбнулся, передавая в папины красные от мороза руки конфеты и записку: «Жду «Пастушескую песню», привет жене и девочкам. Надежда Плевицкая». Мама говорит насмешливо:– Лакей этот, наверное, подумал: «Моя должность куда приличней, а музыкант – что уличный шарманщик, что знаменитый композитор – просто голытьба».
Мы с Ниной Плевицкую видели. Она летом на рысаке к папе приезжала. «Из-за острова на стрежень» пела. К папиному окну весь наш переулок сбежался, и дедушка один сказал:– Вот это поет! Как звон колоколов малиновых разливается.
Нина прозвала Плевицкую «певица с большим ртом и самым веселым голосом». Она не похожа на других знаменитостей. На тетю Гарпину из деревни Полошки похожа. Волосы на прямой пробор, говорит громко. А камней таких больших драгоценных, как на ней, мы ни на ком еще не видели; и в ушах и на пальцах…– Это ей царь подарил, – говорит папа.
– А когда он тебе, папа, что-нибудь подарит? – спрашивает Ниночка.
– Папе царь, наверняка, ничего не подарит, – смеется мама.
И снова у нас весело, горячая мамина еда даже вкуснее шоколада. А потом начинается самое главное. Папа говорит: – Сюрприз. За то, что наши девочки не хныкалки какие-нибудь, а хорошие товарищи, я написал для них оперу. За мной! Мама, Нина и я выскакиваем из-за стола и бежим вслед за папой к пианино. Опера называется «Сказка о золотом яичке». Папа играет аккомпанемент и поет за деда, мама – за бабу, я – курочка (жили себе дед да баба, была у них курочка-ряба). Нина будет мышкой.– Ну, Наташа, докажи, что ты у нас музыкальная– у курочки трудные интервалы.
Ничуть не трудные. Пою точно, с восторгом. Куд-куда с неожиданной нотой кверху в моем исполнении, по мнению мамы, очень напоминает соседскую курицу – высший комплимент! Но елочные свечки Сулержицких стали совсем маленькими. Спать. Сладко спать, чтобы скорее было завтра. Папа обещал целое утро с нами репетировать «Сказку о золотом яичке». Я уже придумываю, как наклею на свой фартук с крылышками кружочки из коричневой бумаги – стану «курочкой-рябой». Курятник сделаю себе за папиным диваном и появлюсь из-за него только на свою музыку – она вся во мне звучит. Мы – самые счастливые! Растем Выдумывать новые игры, сказки было в нашем доме так же естественно, как дышать. Главный выдумщик был папа – он зажигал веру в свои силы и у нас с Ниной. Как-то мы с ней сочинили для папы «баюкательную песню» (Нина – слова, я – музыку). Ночью папа работал, днем иногда ложился на наш единственный диван, но не мог уснуть – наша песня должна была ему помочь спать, как нам помогали мамины колыбельные. Но, кроме «выдумывания», мне рано и горячо захотелось учиться. Взрослые много знали, но всегда куда-то спешили. Зацепить их внимание, хоть ненадолго, выспросить «свое», а потом, ухватившись за нитку узнанного, самой распутать клубок нового – это ли не самое интересное?! Лет пяти принесла родителям свою первую «нотную баюкательную». Печатные буквы и хвостовые ноты были «нарисованы» на листе криво разлинованной оберточной бумаги. Долго и упорно перед этим «выспрашивала свое» у старших, но что-то сообразила и сама. Родители сжалились, и папа объявил меня своей ученицей. Высшая награда! Теперь не успевал папа утром открыть глаза, как я уже была около его дивана и, пока он умывался, одевался, ел, жадно глотала его задания – простучать ритм одной песни, подобрать мотив другой, записать ноты третьей. Скоро эти полуигры переросли в занятия теорией музыки и сольфеджио. Когда после завтрака отец шел куда-нибудь по делу, я увязывалась его провожать, и он давал мне задачи по устному счету: какое число к какому прибавить, из того, что получится, что вычесть, на сколько разделить – и все в голове. Ответ один, когда дойдем до места. Позже, в гимназии на уроках арифметики, по устному счету соперниц не имела, а когда стала директором (это на меня рано навалилось), обсчитать меня никому не удавалось. Папа говорил: где-то музыка и арифметика – родные сестры, а в чем-то они очень разные. Девчонка я была молчаливая, большеглазая и озорная. Как-то папу спросил его старый знакомый:– Говорят, Илья, ты женат, две девочки у тебя? Отец ответил:
– Младшая, точно, девочка, а старшая – без пяти минут мальчик.
Скакать по крышам чердаков и сараев, играть в казаки-разбойники с дворовыми ребятами – плохо ли?! Мерилась силой с самим Аркадием. Он на два года меня старше, курносый, ловкий, но атаманом ребята чаще выбирали меня. Однажды этот Аркадий меня побил. Не особенно больно, но самолюбие было задето. Побежала домой, пожаловалась папе, и когда папа взял меня за руку и вместе со мной отправился на квартиру, где жил Аркадий, заранее вкушала радость победителя. Узнав, что пришла Наташа со своим папой, Аркадий струхнул не на шутку и как-то боком вышел из комнаты в переднюю, где мы стояли. Папа поздоровался с ним вежливо, а потом сказал:– Вот, Аркадий, серебряная монета, десять копеек. Я буду давать тебе каждый раз столько же, когда ты будешь бить Наташу; буду давать до тех пор, пока она не научится сама за себя заступаться.
Папа протянул Аркадию гривенник, Аркадий ничего не понял, отдернул руку, монета упала и исчезла в щели пола, Аркадий заревел, а у меня от удивления слезы высохли. Мы вышли из чужой квартиры и долго молчали. Только перед сном папа меня обнял и сказал:– Не годится тебе, моя ученица, жаловаться! В жизни будет много трудностей. Учись их преодолевать, а не хныкать. Учись бороться и побеждать.
Очень рано слово «воля» стало моим любимым.– Воспитывай волю, – часто повторял отец. К шести годам воля моя стала довольно настойчивой. Неотступно я повторяла:
– Хочу учиться играть на рояле, хочу сама делать музыку.
Но тут отец неожиданно сказал мне– Нет. Руку должен ставить специалист, а мой инструмент – виолончель. Позже отдадим тебя в музыкальную школу.
Почему позже? К счастью, право «сметь свое суждение иметь» было предоставлено нам чуть не от рождения. Как-то мы с Ниной попросили папу «объяснить» нам вальс, который он написал для будущего спектакля «Мiserere», – мы его сегодня ночью слышали. Папа объяснил: этот вальс танцует юноша Левка с красавицей Тиной на свадьбе Левки… с Зинкой. Левка говорит: «Я люблю Тину, а должен жениться на Зинке», и в последний раз он танцует с той, которую очень любит и которая никогда не будет его женой. Папа играет по нашей просьбе музыку: вальс и грустный, и «словно со всеми спорит», – говорю я.– Да, это протест, – отвечает папа.
– А в середине этого вальса, кажется, кто-то всхлипывает. Верно, папа?
Папа отвечает серьезно:– Да. Понимаете, они танцуют молча, а в сердце у них слезы.
Значит музыка – сердце? Это запомнила навсегда!! Папа добавляет:– А в конце музыки – вы заметили? – никаких всхлипов. Ведь он, этот Левка, ничего не может изменить – подчиняется.
Зачем? А я бы не стала подчиняться, раз несправедливо. Моя настойчивость, мое «хочу учиться играть на рояле» росло. Однажды по Б. Никитской улице к двухэтажному белому дому с вывеской «Музыкальный институт Е. Н. Визлер» зашагала девочка в капоре, в правой руке папина рука, в левой – мамина. На экзамен привели много детей. Все старше меня. Я стараюсь держаться солидно, лет на восемь. Все время молчу. Родителей оставляют в передней, нас ведут в класс. Проверяют слух, ритм – все отвечаю верно. Моим родителям объясняют: Слух хороший, но пальцы слабые, лучше год подождать. Раздается оглушительный рев. Многие смеются. Маленькая девочка ревет низким, почти мужским голосом и повторяет:– Это несправедливо, я все ответила.
Напрасно учительница просит меня замолчать. Может быть, Левка в «Мiserere» согласен мириться с несправедливостью, а я ни в коем случае. На пороге появляется директриса Музыкального института Евгения Николаевна Визлер, в синем платье с белыми кружевами, полная, важная. Ору еще громче. Она уводит меня вместе с родителями в свой кабинет. Папа просит Евгению Николаевну еще раз меня проэкзаменовать. В кабинете знаменитые музыканты, профессора: Е. В. Богословский и Марк Мейчик. Меня экзаменуют все трое. Слезы высыхают моментально, отвечаю на все вопросы точно – угадываю ноты, подбираю, пою.– У нее низкое контральто, – с удовольствием говорит Евгения Николаевна, – она мне очень пригодится в хоре.
– А рояль? – спрашиваю я угрожающе. Марк Мейчик заливается хохотом, а папа стискивает мне руку в знак того, что я чересчур осмелела.
– Мы примем вашу Наташу на испытательный срок и по фортепьяно, а на хор пусть она обязательно ходит в основную группу.
Счастливая, иду с родителями по улице домой.– Высечь тебя мало, – весело говорит мама. – Взяла всех на горло.
– У меня контральто, – важно отвечаю я, и мы все смеемся.
Воля! Папа учил меня ее воспитывать, закалять, отличать большое устремление к цели «я хочу» от капризного, недодуманного «мне хочется». Началось со съестного: дадут шоколад «Галапетер» и скучную кашу. Съесть только ее. Шоколад будет несколько дней меня ждать, хотя я его куда больше, чем кашу, хочу съесть сейчас. Зимой хочется поспать. А воля? Реши проснуться в шесть утра и проснись даже без часов точно, оденься тихо, выйди во двор. То, что папа задаст по сольфеджио, трудно? Сделай больше заданного – и станет легче. Сперва всякие такие задачи мне задавал папа, а потом полюбила задавать их себе сама. Когда сама – еще интересней. Воля эта ведь моя. Сама решила, сама хочу, а без сильного «хочу» всякие Аркадии будут меня лупить. Не согласна! Первый концерт Перед вами ученица Музыкального института по классу фортепьяно. Занимаюсь уже год. Пальцы оказались не слабые, а в самый раз, и к ним теперь больше никто не придирается. Но всяких приключений у меня в музыкальной школе – полно. Моя учительница – Эмилия Александровна Кендер – сама еще учится на педагогическом отделении и должна меня показывать своему профессору – тоже немке – Адели Федоровне Флейснер. Адель Федоровна Флейснер очень важная. Лицо – как из камня высечено. Волосы кверху взбиты, большой пучок. Лицо желтое, платье синее, шелковое, высокий ворот подпирает ей подбородок, на шее большая золотая цепь и часы за поясом. Адель Федоровна сидит так прямо, словно внутри у нее вставлена палка, говорит отрывисто. Эмилия Александровна очень волнуется, смотрит на меня умоляюще и жалобно мигает. Играю первые упражнения Лютш. Стараюсь. Вдруг Адель Федоровна останавливает меня:– Неверно. Неверная нота.
Я отвечаю спокойно и уверенно:– Нет, верная. Это у вас рояль расстроен. Адель Федоровна смотрит на меня злыми, стеклянными глазами сверху вниз.
– Это… дерзость!
Не хочет меня больше слушать. Ну что ж! Я положила ноты в папку и зашагала домой. Назавтра маму вызвали к Евгении Николаевне:– Наташа надерзила Адели Федоровне!
Нет, я была уверена в своей правоте и потому сказала:– Она ошиблась.
Евгения Николаевна возразила:– Там недавно рояль настроили. Но я повторяла свое:
– Рояль настроился, а фа во второй октаве расстроилось.
Евгения Николаевна пошла в тот, вчерашний, класс и велела срочно настроить там рояль: фа второй октавы звучало нечисто. Потом в школе много смеялись: шестилетняя девочка осмелилась спорить с самой Аделью Федоровной. А моя мама сказала:– Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Меня перевели к настоящей учительнице – Наталии Петровне Юшневской, которая стала меня быстро двигать вперед. Итак, испытательный срок позади – готовят к первому публичному выступлению. Два раза в неделю хожу на хор. Там человек пятьдесят – все много старше меня. Поем «Здравствуй, гостья зима» – песню папиного лучшего друга Р. М. Глиэра. Только третьим голосом мало кто поет – нас там восемь человек, и некоторые сбиваются. А я с папой каждый день по сольфеджио занимаюсь – стыд, позор был бы, если б сбилась. И вдруг Евгению Николаевну осенило – дать мне петь «соло» в этом нашем хоре. Правда, одна я пела только одну ноту – фа малой октавы, но как спою, все кругом верещат:– Подумайте, у этой девочки даже не контральто, а мужской бас.
И вот наступает мой первый концерт. Через полчаса начнется. В зале народу не сосчитать. В первом ряду сидят папа и мама с Ниной на коленях. Сейчас весь наш хор выстраивают на большой, высокой сцене, мы выходим сбоку из артистической, стоим по голосам: там, где третьи голоса, – я впереди. Самая маленькая, с распущенными волосами и белым бантом, в коротком белом платье, из-под которого торчат оборки панталон. Лицо очень серьезное. Первым исполняется гимн «Боже, царя храни». В конце, после слов «Бо-о-оже», я одна пою «ца» (фа малой октавы), потом все вместе на октаву выше – «ца-ря храни». Вероятно, вид шестилетней девочки с очень низким голосом был непривычен – после моего «ца» раздался смех, гул, хлопки, и конца гимна никто не дослушал. Даже кричали «бис», но больше всего смеялись. Потом мы спели еще три песни и все удалились в артистическую. Евгения Николаевна была несколько смущена, но я думала о другом: в хоре нас много, нисколько не боялась, а вот как страшно будет вернуться на эту сцену совсем одной и играть там на рояле!.. Руки то и дело становились мокрыми от волнения, а это нехорошо – еще соскользнут с клавиш. Но вот мужской голос громко объявляет на сцене:– «Danse d’enfant» исполнит Наташа Сац.
Я выхожу из артистической, иду к роялю, а сердце убегает в пятки. Как далеко идти! Отчего люди смеются? Может быть, платье у меня не в порядке? Но мне совсем не до смеха. На стул надо подложить два деревянных круга, а то до клавиш не достану, подставить скамеечку под ноги, сесть точно посредине стула, сосредоточиться, чтобы каждый палец меня слушался. Играю без ошибок. Больше не смеются. Хлопают. На сердце полегчало. Кланяюсь публике. И вдруг меня осеняет: зачем же теперь я пойду так далеко в эту артистическую, когда папа, мама и Нина сидят прямо передо мной в первом ряду? Сцена высокая, но разве с таких заборов я прыгала? Сказано – сделано. Спрыгнула, не стукнулась. Я уже в первом ряду, влезаю к папе на колени. В зале стоит смех, еще более громкий, чем после «ца». Странные люди! Чего они смеются? А дома у нас пир на весь мир. Чокаемся ситро. Папа говорит:– Сегодня у нас торжественный день.
Я делаю торжественное лицо и думаю: «Сейчас будут хвалить». В хоре Наташа пела, как все, а ее «особенный успех» был очень смешным. Всем приказано исполнять «Боже, царя храни» – гимн скучный, напыщенный. Визлер решила блеснуть своей находчивостью и угодливостью. Наш домашний бас, Наташа, громовым голосом выдала свое «ца», и гимн посрамлен – превратился в какую-то оперетку. Только не принимай всерьез эти аплодисменты, они – чистая случайность. Мне немножко обидно, но киваю головой, потому что папа прав: «ца» – это ничего особенного. И тут папа перестает смеяться, смотрит на меня ласково и говорит:– И все-таки у нас сегодня большой праздник – наша Наташа в первый раз выступала в концерте и пела она точно, играла серьезно. Она любит музыку. Наташа будет музыкантом.
На вербном базаре Папина правдивая музыка раньше днем и ночью рассказывала нам только о человеческих страданиях, разбитой любви – «Смерть Тентажиля», «Драма жизни»… Мы рано со слов взрослых, как попугайчики, повторяли малопонятное слово «любовь». Когда наш папа зазвучал сказкой «Синяя птица», когда из его комнаты полились звуки танцующих стрелок часов сказочного марша, феи Света, мы, еще ничего не понимая, почувствовали, что это «наше». В ворохе детских воспоминаний хронология всегда хромонога. Кнут Гамсун, Леонид Андреев, Семен Юшкевич – «страхи-ужасы» их пьес остались в памяти большим мрачным фоном. Тем ярче сохранила память сердца «Синюю птицу» – чудесный островок Лазоревого царства. Обрывки воспоминаний о том, как папа писал «Синюю птицу», сохранились. Мне кажется, я и сейчас вижу вербный базар далекого детства… Вдали чуть виднеется памятник Минину и Пожарскому, узорчатые купола церкви Василия Блаженного. Мы уже почти дошли до Красной площади. Ранняя весна. Небо совсем голубое. Но людей так много, столько продавцов разноцветных воздушных шаров, ярких нагрудных игрушек – бархатных чертиков на булавках, пестрокрылых бабочек, что до неба глаза не поднимаются. Надо крепко держаться одной рукой за папу, другой – держать младшую сестру Ниночку, а то ее затрут, как щепку. Но вот совсем около нас – разносчик, весь обвешанный музыкальными игрушками. Соловей лесной, Соловей мой, Свищет летом и зимой, – выкрикивает белоголовый разносчик, и вслед за этим слышатся соловьиные переливы, булькает вода в жестяной игрушке, и кажется, что снова лето… Папа покупает соловья, глиняные свистульки, ему нравится погремушка с шелестящим звуком – «будто идешь по дорожкам, на которых осенние листья», его приводит в восторг «настоящая» сторожевая колотушка. Папа берет колотушку в руки, раздается «туки-туки-тук», и кажется, вербный базар отъехал куда-то далеко и только ночной сторож ходит по двору со своей колотушкой… Разносчик очень доволен, что наскочил на таких покупателей. Он подбавляет жару: А вот балалайка, Бери и играй-ка! Папа не любит механических игрушек: крутишь вправо ручку, которая приделана посредине этой балалайки, и всегда один и тот же мотив… Но эта папе, видно, понравилась. У него делается хитрое лицо, и он крутит ручку балалайки не вправо, а влево. Ее музыка делается какой-то удивленной и очень смешной; папа дает балалайке прозвище «балалайка наоборот» и надевает ее пунцовый шнур мне через плечо. Поворачиваем домой. До нашей Пресни далеко, но придется идти пешком. Ничего, зато игрушки с нами! Дома папа посылает меня за «дворовыми приятелями». Лихой Аркадий, дочь дворника Марфуша, все, кто был во дворе, молниеносно бросают начатые игры и бегут к нам: папа не в первый раз что-то с ними затевает. Что будет сегодня? Папа объявляет торжественно:– Первый концерт детских музыкальных игрушек при участии певицы Анны Сац (нашей мамы).
Будущие музыканты оркестра, конечно, немного волнуются, но ухмыляются и, подталкивая друг друга, идут за папой в его кабинет. Нас усаживают около пианино, дают каждому музыкальную игрушку – «свой инструмент». Папа садится за пианино, кладет на него справа дудочку из камыша, слева – балалайку. Начинает «Лесную польку» папина дудочка, она звучит таинственно, словно по секрету зовет кого-то. Нина тоже присоединяется к дудочке – «шелестит» своей погремушкой. Потом тихо и весело вступает папино пианино – делается все веселее. Я на счет «три-четыре» выделываю трели своим соловьем. Разве все расскажешь! Папа потом много раз говорил, что найти звучание ставшей такой знаменитой польки из «Синей птицы» ему помогли музыкальные игрушки. К папе приехал Станиславский Помню, как у папы за пианино собирались И. М. Москвин и Л. А. Сулержицкий, как они представляли папе Кота, Сахар, Огонь – многих, кто будет действовать в новой постановке и кому обязательно нужна папина музыка. Леопольд Антонович Сулержицкий, маленький, широкоплечий, двигается так быстро, как матрос, когда он лезет по мачте или канату. У него маленькая четырехугольная бородка, глаза всегда горят. Мама его называет «Сулер» и объясняет нам, что он режиссер, «б-о-ольшущий выдумщик, необыкновенно талантливый человек». Сулержицкий может все роли в «Синей птице» представить. Мы слышали, как папа играл ему музыку Воды, а Сулержицкий вдруг взлохматил свои волосы, сделал злое-презлое лицо, схватил с папиного стола рыжую скатерть, замахал ею, как будто она пламя, и папа закричал:– Да, в музыке нужна ссора Воды с Огнем, ты прав, Сулер.
Иван Михайлович Москвин, артист Художественного театра, «из самых главных». С виду он точь-в-точь псаломщик из села Полошки: глаза круглые, нос курносый, говорит тонким голосом. Только что он ни скажет – взрослым все смешно, хохочут, хохочут, как маленькие. А потом мы с Ниной видели, как без всякой скатерти, без ничего Москвин вдруг стал Котом из «Синей птицы». Куда девались его руки и ноги? Это же мягкие лапки, а сам он какой пушистый, ласковый, хочется его все время гладить!– Милая барышня, я очень люблю вас! – промяукал он вдруг нашей маме.
– Смотри, какой он хитрый! – прошептала мне Ниночка. – Кого хочешь перехитрит!
Да, посмотрев на Ивана Михайловича в этот вечер, я стала считать себя близко знакомой со всеми котами и кошками! Папа много и заразительно смеялся, и когда смеялся он – смеялись все. Соседи говорили: «У вас за день столько смеха, сколько у нас за год нету». Папа в разные игры и со взрослыми играть любил. А ребята! Они готовы были весь день стоять около нашей входной двери в надежде, что папа с ними сегодня поиграет. Мне кажется, я помню, как папа дописал музыку, простудился, у него было завязано горло, и как произошло «грандиозное событие». К папе быстрыми шагами проходят Москвин и Сулержицкий, что-то таинственно говорят ему, он вскакивает с постели, собирает листки нотной бумаги, очень волнуется. Пол в передней трут мокрой тряпкой, таскают с места на место стулья, убирают в кухню треногий, мама надевает свое лучшее платье. О нас с Ниной совершенно забывают, мы в дверях детской – все видно, ничего не понятно, страшно интересно! Раздается звонок. Все устремляются в переднюю и затихают. Входит огромный человек – папа, мама, все взрослые ему по плечо, но движения у него красивые, плавные. Очень мягкое пальто, бархатная шляпа, черные брови – он весь какой-то львиный.– Здравствуйте, Илья Александрович, – говорит он красивым властным голосом.
Под пальто у него бархатная куртка. Черная с серебряным отливом. А волос на голове очень много. Они серебряные, на косой пробор и сверкают. Хочется смотреть только на него, на его удивительный рот, большой нос с ноздрями, так красиво вырезанными. Папа, Москвин, Сулержицкий проводят нашего гостя в кабинет.– Кто это? – шепотом спрашиваю я маму. Мамин голос, сегодня какой-то странный, отвечает не сразу:
– Константин Сергеевич Станиславский, величайший артист и режиссер мира, создатель Художественного театра…
Мама неожиданно исчезает в папином кабинете. А мы с Ниной и не думаем ложиться спать: тащим свои соломенные стульчики и устраиваемся в коридоре около закрытой папиной двери. Сердце у меня почему-то стучит в два раза быстрее – Константин Сергеевич Станиславский. Словно нарочно такому красивому человеку досталось такое красивое и гордое имя. Папа часто жалуется, что в его дверях «большущие щели». А по-нашему, это очень хорошо: нам все видно. Константина Сергеевича сажают на самое почетное место – папин диван. Папа идет к пианино. Леопольд Антонович и Иван Михайлович читают слова действующих лиц, чтобы было понятно, когда возникает та или иная музыка. Папа играет и сам перелистывает клавир, все смотрят на Станиславского, хотят прочитать его мысли.– И вот Тильтиль, Митиль, Фея, Пес, Кот, Хлеб, Вода, Сахар выходят на цыпочках через стену дома, потому что не в дверь же выходить героям сказки, и звучит таинственный марш, – говорит Леопольд Антонович.
А папа начинает тихо-тихо в басовых октавах марш и шепотом поет: Мы длинной вереницей Пойдем за Синей птицей, Пойдем за Синей птицей, Пойдем за Синей птицей… Звуки марша все разрастаются, растет надежда, что Тильтиль найдет птицу счастья. Делается так хорошо… В глазах Станиславского прыгают солнечные лучики, он встает с дивана, берет в охапку нашего папу, обнимает, целует его… Но тут Нина падает со своего стула, Константин Сергеевич поворачивает голову, мама взволнованно открывает дверь… и нам бы сильно влетело, если бы не Леопольд Антонович. Он превращает все это в шутку.– Дружба с детьми в этом доме закадычная. Вот, Константин Сергеевич, два постоянных консультанта Ильи по музыке к «Синей птице» – его дочери Наташа и Ниночка.
Константин Сергеевич протягивает мне свою огромную руку, а Нинина в ней совсем тонет, «как в океане». Чайка И вот наступает главный день в жизни. В первый раз все вместе идем в папин театр. Подумать только, все на самом деле увидим! Камергерский переулок. Здание большое, светло-серое. Красивые полукруглые двери с матовыми стеклами. На металлическом квадрате летящая чайка, под ней – металлическое кольцо, чтобы взяться за него, открыть эту чудесную полукруглую дверь и войти…– Нам не сюда, – говорит папа и ведет нас во двор. Там на небольшой двери надпись: «Артистический подъезд». Мне немного обидно, что я не взялась за то металлическое кольцо и вошла в эту низкую дверь, но глупая обида улетучивается, когда со всех сторон появляются улыбающиеся лица и несется: «Здравствуйте, Илья Александрович». (Хорошо бы, когда я вырасту большая, со мной тоже столько же людей здоровалось!)
Швейцар в сером суконном костюме с летящей чайкой – металлическим значком на верхнем кармашке – помогает нам раздеться, приветливо улыбается и говорит:– Значит, вы родные дочки нашего Ильи Александровича будете?
Я отвечаю с удовольствием:– Да, это мы.
Нас ведут по лестнице вниз, потом еще вниз, «в оркестровую яму», – говорит мама. В яму? В какую это яму? Оказывается, так называется место для оркестра под сценой. Большая комната без окон, в самом низу, вся шумит, гудит, поет на разные голоса. Тут пятнадцать музыкантов настраивают свои инструменты. Инструментов много, но я почти все их уже видела, знаю, как они устроены и называются, музыкантов многих тоже знаю. Как-то у папы болело горло, и вдруг ему за что-то страшно много денег прислали – сто рублей, он решил репетировать у нас дома и устроить для всего оркестра обед «царский». Чего там только не было! Особенно запомнились мне рыбы всякие, икра разноцветная и ананас с кактусным хвостиком. Мама сперва сказала:– Не надо никого звать. Потом опять без денег сидеть будем.
Но папа ответил строго:– Не пригласить их я не могу. Они в театре каждый день мою музыку играют. Они – это я…
Теперь в оркестровой яме у нас все знакомые. Но мамина рука хватает мою и Нинину и ведет нас за собой по другой лестнице вверх. Мы бежим быстро-быстро по каким-то коридорам и вдруг попадаем в такой большой зал, какого я еще никогда не видела. О-о, сколько тут кресел составлено! По бокам балконы, тоже с креслами, перед нами полукругом огромный серый занавес, и на нем, в квадрате, летит большая белая чайка, а кругом закорючки, вроде волн. Мама сажает нас в кресло, где написано «20-й ряд», велит сидеть и никуда не уходить, пока она за нами опять не придет. Куда же нам отсюда идти? Зачем? Тут так интересно! На потолке огромные висячие лампы горят, как солнце. Красота!– Смотри, он здесь – царь всех морей и океанов, – шепчет мне Ниночка, показывая на величественную спину, волны волос из чистого серебра…
Константин Сергеевич сидит за несколько рядов перед нами. К нему то подбегает, то куда-то исчезает Леопольд Антонович – он похож на ртуть в градуснике, который я недавно разбила. Но вот лампы в зрительном зале, словно устав гореть так ярко, делаются все тусклее и тусклее, а полоска света под занавесом становится ярче – зовет смотреть только туда. Звучит тихая, словно спросонья музыка, отдаленные удары нашей знакомой колотушки, и занавес раскрывается. На сцене полутьма – чуть видно окно, закрытое ставнями, стол, лампу, две детские кровати. Мать в белом фартуке и большом белом чепце уложила спать мальчика Тильтиля и девочку Митиль. Тушит лампу, уходит. Дети одни. Они не могут уснуть. Завтра Новый год, а у их папы нет денег, чтобы купить елку. Они так мечтали о елке… Что это звучит далеко-далеко? Папина полька. Она доносится из дома напротив, где живут богатые дети – у них сегодня зажигают елку. И вдруг удары, короткие, отрывистые звуки какого-то деревянного духового инструмента – странная, таинственная музыка. Слушаешь ее и начинаешь ждать чего-то необыкновенного. В дверях появляется маленькая старушка. Хромая, странно подпрыгивая, подходит она к детским кроватям. Теперь виден ее единственный зеленый светящийся глаз. Это фея Бирилюна. Голос у нее такой же отрывистый, с присвистами, как музыка, что звучит сейчас. Но вот фея Бирилюна дотрагивается до стен бедной хижины своей волшебной палочкой, и они начинают струиться разноцветными огоньками, блестят, как много-много лесных светлячков ночью. «Разве стены сделаны из драгоценных камней?» – удивляется Тильтиль. А я закрываю глаза и все равно вижу что-то таинственно-прекрасное. Отчего это? Оттого, что музыка сейчас струится, переливается – дрожат струны под пальцами арфистки и смычками скрипачей, мерцают беспокойные триоли, и невольно ждешь сказочных чудес. Вдруг звуки оркестра словно вырвались из-под спуда, выплеснулись наружу – весь оркестр ликует. Узнаю флейту, гобой, колокольчики. Чудесные женские голоса словно венчают ликование оркестра. Они поют без слов, только «а-а, а-а», но какими светлыми голосами! Как делается радостно! Открываю глаза. Неизвестно откуда на сцене появилась золотая красавица в блестящих одеждах, с чудесными до самого пола золотыми волосами – они блестят, как музыка в оркестре! Как прекрасен и удивителен театр! Как тут все слито в одно – и смысл, и свет, и костюмы, и музыка! Музыка помогает звучать всей правде спектакля – она договаривает то, чего нельзя сказать словами, раскрывает чувства, мечты героев, помогает понять их характеры. Бывают впечатления, бывают и потрясения. Сейчас, когда я стала более чем взрослой, мне особенно дорого, что так восприняла этот спектакль далеко не только я. Вот слова актера Алексея Баталова: «С музыкой Ильи Александровича Саца навсегда связано мое детство. Первый виденный мною спектакль, первое зрительское потрясение неотделимо от той музыки, которая навечно впечатала в память слова: Мы длинной вереницей Пойдем за Синей птицей…» Этот спектакль называли гениальным, его с огромной радостью смотрели дети и взрослые, им восхищались величайшие С. В. Рахманинов и Ф. И. Шаляпин, ну а для меня он оказался тем зерном, из которого потом поползли незримые, но действенные ростки мечты о многом-многом, чего не скажешь словами, вероятно, о том театре, который так нужен детям, о большом искусстве для маленьких. Станиславский был гений – в этом люди нашего поколения не сомневались. Горький его называл «человечище». Но он был и огромный ребенок: его душевная чистота и граничащая с чудом непосредственность, его способность влюбляться в сказочное дали спектаклю ту жизнь, которая не погасла и столько лет спустя! Когда я думаю о спектакле, сыгравшем такую роль во всей моей последующей жизни, мне кажется, что я оказалась удачливее Тильтиля и поймала птицу счастья – Синюю птицу. На всю жизнь К восьми годам я была довольно «занятой особой»: утро в прогимназии Репман, занятия по фортепиано, хор, занятия с папой. А тут еще приехал знаменитый основоположник ритмической гимнастики Жак Далькроз из Бельгии. Он давал показательные уроки у нас в музыкальной школе и назвал меня «та девочка, которая все делает лучше всех». Его ученик Тадеуш Ярецкий вел теперь два раза в неделю занятия ритмикой в нашей школе и перед уроком неизменно спрашивал: «Пришла ли та девочка?» Словом, как говорила мама, «ребенка рвали на части». По фортепиано меня перевели от хорошей преподавательницы Н. П. Юшневской к выдающемуся профессору Василию Николаевичу Аргамакову. Мои «разносторонние» способности его нисколько не устраивали. И ссылки на «самостоятельность», когда я меняла точно выписанную им аппликатуру, тоже. Это был профессионал высочайшего класса, он требовал ювелирной отработки каждого пассажа, упорного, повседневного труда. Аргамаков был невысок, говорил гнусавым голосом, мог во время моей игры сесть под рояль на корточки, чтобы посмотреть, не провисает ли у меня ладонь, от фальшивой ноты он кричал, как кричат у зубного доктора, когда бормашина попала на открытый нерв, а когда я вместо указанных пальцев четвертого и пятого, думая, что он не заметит, играла трель вторым и третьим, мне попадало свернутыми в трубку нотами по шее. Я его мысленно называла «желтая лягушка» и хотела возненавидеть. Другие в музыкальной школе меня хвалили, а он был вечно недоволен. Когда папа был маленьким, он убегал от своей учительницы музыки и говорил, что «эти выкручиванья пальцев совсем не музыка». И я не хочу часами сидеть над всякими там упражнениями, раз они такие нудные и скучные. Чувство ответственности, волю к профессионализму, если упустишь в детстве, потом так трудно бывает «вызвать к жизни». Как-то я была дома совсем одна. Сидела, читала. Позвонили. Я открыла дверь. За ней стоял высокий худой мужчина в черном, бритый, строгий.– Илья Александрович дома? – спросил он у меня хмурым голосом.
– Он скоро придет, – ответила я, почувствовав, что это кто-то особенный, и мне стало немного страшно.
Он вошел, снял шляпу, потом кожаные перчатки – каждый палец в отдельности, положил перчатки в шляпу, вытер ноги, хотя на дворе было не мокро, снял и повесил пальто. В его движениях была какая-то каменная торжественность, и лицо каменное. Нет, он не из артистов. Высокий человек в стоячем воротничке мне не улыбнулся, рот у него крепко заперт, с ним не поговоришь. Выбрит так гладко, волос на голове мало, лоб очень высокий. Он какой-то совсем отдельный, как остров. Наклонив голову, прошел он вслед за мной в папин кабинет – казалось, ему было тесно под низким потолком нашей квартиры. Я подала ему стул, закрыла папину дверь и стояла с другой стороны в раздумье. А вдруг папа долго не придет? Что я буду делать с этим чужим человеком? У нашего папы и галстук и все как-то набок, у «острова» все прямо, пуговиц на пиджаке много, все точно застегнуты. Так я стояла, не зная, что теперь делать. И вдруг в папиной комнате зазвучал целый оркестр, куда больший, чем тот, который слышала под сценой Художественного театра. Вот так чудо! Не могло же так звучать старое папино пианино! Звуки настойчиво требовали какой-то своей правды, соединялись в аккорды, такие мощные, каких еще никогда не слышала. Они разбегались и соединялись с чудовищной быстротой. Эти звуки, точно неведомый поток, подхватили меня и унесли – ничего привычного не осталось, только эти звуки вокруг меня и во мне… Может быть, этот высокий – колдун?! Может, у него двадцать пальцев? Нам не позволяли открывать дверь, когда звучала музыка. Почтение к искусству, к музыкантам в нас воспитали чуть ли не от рождения, но в тот навсегда запомнившийся день, когда мне вдруг стало так хорошо и страшно, я приоткрыла дверь и увидела: незнакомый человек сидел у папиного пианино и играл. Вот он, большой, прямой, лицо, как из камня, двигаются только пальцы, руки огромные, мягкие, сильные – он им приказывает, и они… они поют самым нежным голосом, зажигают солнце, крушат врагов. Они все могут, эти чудотворные руки! Интересно: он какой-то серо-желтый, сухой, сделан из углов, а руки молодые, мягкие, совсем другие, чем он. Ой! Он берет от «до» первой октавы до «ля» второй сверху – почти две октавы одной рукой! Он играет что-то, похожее на польку. Мои ноги сами по себе начинают пританцовывать, а рот улыбаться. Как трудно стоять у дверной щели, когда эта полька звучит! Но чем дальше, тем она удивительнее: словно горячая волна заливает все внутри тебя и кажется, что настал праздник, которому радуются все. Теперь он играет другое – один огромный и много маленьких, великан и удивительно шустрые мальчики с пальчик! Волк и много Красных Шапочек? Они такие быстрые, что еще совсем неизвестно, кто кого победит. Но как можно простыми десятью пальцами так играть, какое это чудо и счастье! Наверное, он только прикидывается таким деревянным, чтобы никто не узнал по его лицу, какой он хороший, а когда играет, этого уже не скрыть… Звонок в парадном. Папа. Ни слова не говоря, быстро снял пальто, застегнул на все пуговицы пиджак, быстро поправил галстук, даже усы пригладил и прошел в кабинет. Домик у нас одноэтажный, как мама говорит, «продувной», конечно, папа еще на улице услышал эту музыку и понял, кто пришел. Удивительный человек приветливо поздоровался с папой, сказал:– Мне очень нравится ваша полька из «Жизни Человека», а музыка к «Синей птице» просто очаровательна.
Такой человек такое говорит моему папе? Горжусь. Но почему они закрыли дверь? И самое-самое сейчас главное – чтобы «удивительный» еще поиграл. Нет, все говорит, а не играет. Голос у него серый, на одной-двух нотах, даже когда он говорит приятное. Я была поражена, как можно играть то так тихо и нежно, то так сильно, как огромные колокола. У меня всегда звучало как-то средне: немного громче, немного тише, а в общем, обыкновенно. Сейчас в папином кабинете звучит папина музыка – а я… я в первый раз в жизни злюсь на папу! Так хочется, чтобы еще поиграл тот большой, огромный. Минут через двадцать незнакомец ушел – он, видно, очень дорожил своим временем, – но какой новый, совсем новый мир передо мной открылся! Я думала: мой папа играет на рояле лучше всех – никого, кроме него, ведь я не слышала! А теперь!.. Да разве я когда-нибудь представляла себе, что пальцы могут так выполнять волю музыканта, так бегать, петь, как самый нежный певец, звучать, как ураган, буря, война… Как он сделал, что наше старенькое пианино смогло столько сказать, сказать такое важное, что словами и выразить нельзя!.. Я подсела к папе. Он был в хорошем настроении.– Папа, ты не рассердишься? Он ведь лучше, куда лучше тебя играет на рояле. Почему это, папа? Папа ответил горячо, без малейшей обиды:
– Потому что он – Рахманинов. Сергей Васильевич Рахманинов. Он замечательный композитор, но он еще и величайший, гениальный пианист! Я играю на рояле, чтобы сказать людям свое, помочь понять пьесу, спектакль, играю, чтоб лучше осознать свою музыку. А Сергей Васильевич властвует над роялем безраздельно. Что он, без меня долго играл?
Я не могла измерить временем то огромное, что дала мне музыка Рахманинова. Как мне теперь захотелось научиться по-настоящему играть на рояле! Видела ли я Рахманинова еще? Видела не раз. В хоре Художественного театра вместе с мамой пела красивая полная женщина с большими серыми глазами – Нина Павловна Кошиц. Она была веселая, нарядная, дружила с мамой и папой, часто к нам приходила. Придет, сядет за пианино, сама себе аккомпанирует и поет красивым сильным голосом. И вот однажды, когда она пела романс Рахманинова «В молчаньи ночи тайной», к папе пришел Сергей Васильевич. Он вроде удивился, что певица так точно играет на рояле его очень трудный аккомпанемент, но все же указал ей на два-три места, в которых были неверные оттенки, и Нина Павловна спела этот романс с его аккомпанементом (мама ей даже позавидовала). Потом Сергей Васильевич сказал:– Это не свидание, а его ожидание, предчувствие. Не снимайте покров тайны, не превращайте ночь в яркий солнечный день. Только на словах «заветным именем будить ночную тьму» три форте, остальное при любом оттенке с поволокой.
Мне шел тогда девятый год, и я запомнила эти слова Сергея Васильевича сама, но читала их и в мамином дневнике – она сама исполняла этот романс и могла ли такое упустить?! В этот вечер Сергей Васильевич не был такой замкнутый, как в первый раз, говорил тоже немного, но глаза были веселые и светились. Он прослушал даже вариации Бетховена на тему «Nel соr рiu nо mi sentо» в моем исполнении, взял мою руку в свою и сказал:– Хорошие пальцы. Музыкальна.
От одного прикосновения к его руке я поднялась на седьмое небо и поклялась играть на рояле не менее трех часов ежедневно, что лет шесть потом и перевыполняла. Уже тогда Рахманинов стал и на всю жизнь для меня остался вершинным, сокровенно-любимым пианистом и композитором. Много раз вместе с мамой слушала его камерные концерты: он стал выступать с Ниной Кошиц и даже «Крысолова» ей посвятил: …Я на дудочке играю Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Я на дудочке играю, Чьи-то души веселя [7] … Помню, как уже гимназисткой получила в подарок от родных абонемент на восемь концертов оркестра С. А. Кусевицкого из произведений и с участием С. В. Рахманинова. Несколько раз накануне первого концерта просыпалась от волнения, вытаскивала из-под подушки заветный абонемент, на котором было написано: «Место на галерее», и слово «галерея» казалось мне тогда самым приятным на свете. Помню, как мама привезла меня на Театральную площадь и мы вошли в здание рядом с Большим театром – театр Незлобина. На свое место я долго шла по лестнице, словно на гору взбиралась. Мое место было стоячее, в ложе «парадиза». Мама объяснила: «Парадиз» – значит «рай». «Рай», или «раек», в театре называется самый верх, под потолком театра. На сцене занавес был открыт и стояло столько пультов, что и не сравнишь с Художественным театром. Когда вышли музыканты и стали занимать свои места, у меня даже дух захватило. Потом появился дирижер С. А. Кусевицкий, небольшого роста, черный, с симпатичным, но очень красным лицом. Как, верно, интересно быть дирижером, повелевать звуками такого огромного оркестра! Зазвучала фантазия Рахманинова «Утес». Мне захотелось глядеть на те инструменты, которые сейчас играют, но уж очень было высоко мое место, боялась, что закружится голова и упаду вниз. «Утес» прослушала невнимательно. Но вот на сцену вышел Сергей Васильевич. Он сел за рояль, и все кроме его музыки перестало существовать. Второй концерт для фортепиано с оркестром! Ни в чьем исполнении не могу слушать его спокойно, а тогда он играл сам – сердце стучит в два раза чаще при одном только воспоминании! Концерт начинает один рояль. Первые, затаенно тихие аккорды правой руки и, словно колокол, в левой, звучность аккордов постепенно усиливается, нарастают сомнения, и вдруг вступает оркестр. Он поет мужественно-суровую тему, и рояль как бы соревнуется с оркестром – его захватывающие всю клавиатуру головокружительные пассажи звучат под пальцами Рахманинова как второй оркестр… Чудовищная сила в его пальцах! Но вот вторая тема. Как сокровенно поет ее рояль, когда за ним сидит Рахманинов. Ни один певец не смог бы спеть эту тему так ласково и выразительно, как поют сейчас пальцы Рахманинова. Три неожиданных аккорда заключают первую часть концерта. В огромном зале проносится вздох – видно, все слушали первую часть затаив дыхание. Но вот уже звучит вторая часть, третья… Слушаешь, и словно в тебя вливается новая горячая и яркая кровь, и веришь в могущество человека и даже… в свое! А вот… это поет не рояль, а мое собственное сердце. Но, как в самых чувствительных местах, Рахманинов остается таким же огромным и мужественным! Новый поток звуков врывается словно в неожиданно распахнувшееся окно. Только ураган аплодисментов заставил меня вернуться обратно на галерку, на свое стоячее место. А Рахманинов стоял на сцене отдельно, как его «Утес», и кланялся сурово. В 1908 году, 14 октября, Художественный театр отмечал свое десятилетие. Это был большой праздник – праздник для всей труппы, для основателей театра, для публики, которая за десять лет успела горячо полюбить МХТ. В этот день все хотели быть в театре. Но одному из страстных его поклонников не повезло. Это был Рахманинов. В эти дни он находился на гастролях в Германии. Он был далеко от Москвы, но все мысли и чувства его были обращены к ней. Рахманинов пишет Станиславскому поздравительное письмо. Очень теплое, очень искреннее. Вот оно: «Дорогой Константин Сергеевич! Я поздравляю Вас от чистой души, от всего сердца. За эти десять лет Вы шли вперед, все вперед, вперед и вперед. И на этом пути Вы нашли «Синюю птицу». Она – Ваша лучшая победа. Теперь я очень сожалею, что я не в Москве, что я не могу вместе со всеми Вас чествовать, Вам хлопать, кричать Вам на все лады: «Браво, браво, браво» и желать Вам многие лета, многие лета, многие лета! Прошу Вас передать всей труппе мой привет, мой душевный привет! Дрезден, 14 октября 1908 года. Ваш Сергей Рахманинов Постскриптум: жена моя мне вторит». Но просто отправить это письмо Рахманинов не мог. Художник, великий музыкант, он не мог вместить свои чувства в простые слова. Выразить их можно было только музыкой. Художник обращался к художнику. Федор Иванович Шаляпин спел это письмо перед Станиславским и труппой. Это был замечательный подарок. С восторгом приняла его и публика, присутствовавшая при великолепном исполнении письма. Торжественно, величественно, но одновременно и с неподражаемым юмором Шаляпин пел: «Дорогой Константин Сергеевич!..» И в аккомпанементе все узнавали знакомые звуки из музыки к «Синей птице» Ильи Саца. Еще о папе Вл. И. Немирович-Данченко сказал об отце «Это был темперамент, точно родившийся для драматического театра, быстро воспламеняющийся и умеющий воспламенять других»… Темперамент! Как необходим он в искусстве и как часто расплескивают его люди искусства… Папа был очень разный и… маме с ним было нелегко. В 1911/12 году газеты стали писать о папе много, часто писали «знаменитый», но и споров о его музыке было много. Немецкий режиссер Макс Рейнгардт присылал телеграмму за телеграммой – очень хотел, чтобы папа написал музыку к драмам Шекспира «Макбет» и «Буря». Папу звали и в Париж, и в Мюнхенский Художественный театр, его не отпускали театры Москвы и Петербурга – нам казалось, что он всем-всем нужен, а папа становился все грустнее. Почему? Мы этого не знали. Я училась горячо, полюбила «вдохновенную требовательность» своего учителя по роялю, а папа дополнял его уроки своими. Помню, как мама пела, я аккомпанировала, а он играл на виолончели романс П. И. Чайковского «Нет, только тот, кто знал». Папа учил меня чувствовать ансамбль, и сколько незабываемых часов мы проводили вместе около его пианино! Но особенно ярко помню одно дождливое воскресенье. Папа учит меня читать ноты с листа. Лирические пьесы Э. Грига «Ариэтта», «Листок из альбома», «Ночной сторож» – это не трудно. Папа ставит другие ноты Грига – «Пер Гюнт». Играю «Танец Анитры» и слышу драгоценное: «Молодец». Но вот папа сам садится за пианино. «Смерть Озы» – грустная музыка; папа играет ее выразительно, все внутри переворачивает. Сыграл. Помолчал и начал еще раз с объяснениями:– Первая нотная строчка – все в печали, чинно идут за гробом. Вторая строчка должна звучать совсем тихо, и только эти вот неожиданные аккорды – с акцентом, как стон, крик ужаса. Третья строчка – горечь, протест собравшихся нарастает. Почему смерть уносит людей? И вот уже три форте – горячо, сильно звучит протест собравшихся. Но вдруг в верхних октавах возникают вот эти звуки – что ж поделаешь, все умрут, человек бессилен бороться со смертью, а та, которая умерла, была так бедна… может быть, ей и лучше было умереть?! И вот снова чинно и спокойно движется похоронное шествие… Папа играл недолго, снял руки с клавиатуры, подпер голову рукой и сказал очень тихо:
– Натушенька, я скоро умру. Дай мне слово, что ты будешь серьезно заниматься музыкой, зарабатывать деньги, ведь Ниночка у нас маленькая, а мама слабенькая.
И вдруг папа заплакал. Нет, я не верила, что мой папа может умереть:– Мы доживем до тысячи лет, а потом вчетвером обнимемся и… решим. – Всячески старалась «отшутить его тоску», и он перестал плакать.
Но папа умер. Неожиданно для всех. Тридцати семи лет. Когда я увидела вырытую могилу, увидела, как опускают гроб, в котором лежит такой родной папа, я закричала, а Нина сказала мне тихо:– Не плачь! Папа и его музыка в театре тоже в оркестровой яме сидели. Теперь в этой яме ему не так страшно.
Мне стало еще страшнее, и я замолчала. Было так много людей и венков. На венке от Художественного театра написали: Красоте тревожной жизни, мятежному духу исканий, Дорогому товарищу… Но мне больно об этом писать, и я рада, что в двадцатые годы старшая папина сестра, тетя Соня, передала мне письмо ее подруги детства З. Сениловой, которое та ей прислала в эти, такие горькие для всех нас, дни: «Любезная Соня! Недели две назад я прочла заметку в газете «Русские ведомости». Вот она: «23 ноября в большом зале Благородного собрания Художественный театр устраивает концерт в пользу семьи покойного И. А. Саца, программа которого будет состоять из его произведений. В концерте участвует оркестр Кусевицкого под управлением С. В. Рахманинова. Оркестр исполнит музыкальные номера из «Синей птицы» и «Драмы жизни», инструментированные Р. М. Глиэром, фантазию «Козлоногие». Артистами оперы С. И. Зимина будут исполнены романсы покойного И. А. Саца. Известный пианист Н. П. Орлов исполнит фортепианные произведения композитора. И. М. Москвин выступит как солист в хоре «У приказных ворот». Артисты Художественного театра будут читать третий акт из драмы «У жизни в лапах». Этот акт, как известно, почти весь сопровождается музыкой. Среди обычно участвующих в этом акте О. Л. Книппер-Чеховой, В. И. Качалова, А. Л. Вишневского будет еще участвовать К. С. Станиславский…» Я не привожу всей заметки. Чтобы понять, сколько звезд самой большой величины предстанет в концерте, хватит и этого. Добавлю, что уже два месяца в Москве все газеты пишут о смерти и таланте твоего брата. При жизни его популярность не так была заметна, а что творилось на его похоронах! Не только церковь святого Георгия (на углу Большой Дмитровки), где его отпевали, – весь церковный двор, весь Георгиевский переулок были запружены людьми, а когда гроб подвезли к зданию Художественного театра, произошло необыкновенное: вдруг распахнулась входная дверь, что ведет в бельэтаж Художественного театра, и огромный оркестр, расположенный на широких ступенях лестницы, грянул похоронный марш из музыки Саца к «Гамлету». В тишине эти фанфары (их исполняли не только музыканты Художественного театра, но, как потом узнала, еще и музыканты из оперы Зимина, Малого театра и многих других московских театров) прозвучали, как гром среди ясного дня. Лошади, которыми был запряжен катафалк с гробом, испугались этой музыки, взвились, отчего гроб подскочил и поднялся на катафалке почти перпендикулярно. Было такое впечатление, точно твой покойный брат Илья решил в последний раз сам продирижировать своей музыкой. В толпе поднялось смятение, рыдания, а вдова композитора упала в обморок. В следующие дни похороны твоего брата даже в кино показывали, а заметок в газетах – не сочтешь. Я почему-то вспомнила, Сонечка, наше детство, Чернигов, когда мы с тобой так любили играть в куклы, и твой брат – ты его звала «непутевый Илюшка» – приходил нам мешать. Помнишь, как однажды он объявил, что хочет играть с нами, и ты закричала: «Мы играем в мамы и дочки, ты не можешь быть мамой»; он засмеялся и ответил: «А я буду богом». Помнишь, как он пристроился, этот наш «бог», около лампы, подкручивал и закручивал фитиль, объявлял утро, вечер, ночь, неистово махал одеялом, возвещая бури и ураганы, посылал на наших кукол болезни – наша мирная игра наполнилась сплошными неожиданностями, и мы Илюшку изгнали: «Кому нужен такой бог?» Вот тебе и детская игра – умер нелепо тридцати семи лет… На концерт я приехала за час до начала, но уже подъезжали лихачи, роскошная публика, там и тут шныряли перекупщики билетов, предлагали за мой трехрублевый десять рублей!!! Никогда прежде я не была в Большом зале Благородного собрания. Ну и роскошь! Огромные хрустальные люстры, красный бархат кресел, величественные залы… Добавь к этому публику в соболях и горностаях, черные фраки мужчин – видно, богатеи решили друг перед другом покрасоваться «добротой» на концерте в пользу «оставшейся без всяких средств семьи молодого, безвременно погибшего таланта». Правильно ты о брате писала – не пил, не курил, а практичности в нем ни на грош не было, умер – жена и дети остались как нищие. Среди разряженной публики они выделялись заметно. Две девочки с черными лентами в косичках, в клетчатых черных с белым платьях. Младшая, смущенная и приветливая, а старшая, большеглазая, серьезная, крепко держит за руку младшую, чуть кто подойдет ее погладить, слова сказать, вроде «эх вы, бедные», решительно уводит ее в сторону… Жена твоего Ильи, еще совсем молодая, выглядела страшно. Темные волосы на прямой пробор, черная кофта, черная юбка, видно, надела первое, что попало под руку, с остановившимися зрачками широко раскрытых карих глаз. До начала вдова и дети старались быть подальше от толпы, что их так бесцеремонно разглядывала, но после первого звонка их усадили в самый первый ряд. Прозвенел третий звонок, а когда уже все расселись в зале, грянули фанфары из «Гамлета», откуда-то из глубины, потом дали полный свет на сцену, на огромную эстраду к портрету Ильи Саца среди цветов, пальм и лавров вышли все – понимаешь, все артисты Художественного театра, все музыканты, сотрудники, и Владимир Иванович Немирович-Данченко начал держать речь. Он говорил умно, красиво, с большим волнением, и казалось, он говорит то, что звучит сейчас в сердцах у всех собравшихся, и всем до боли горько, что так неожиданно погиб огромный талант. Ну а потом «Синяя птица»! Люди в первый раз услышали эту музыку не откуда-то из-под сцены, а во весь голос ее исполнял оркестр из двухсот, а может, и больше музыкантов, и Сергей Рахманинов – кумир Москвы, всем миром признанный Сергей Рахманинов – стоял за дирижерским пультом. Может быть, я сентиментальна. Соня, но если бы ты была там и видела, какая овация вспыхнула после исполнения последнего номера «Синей птицы», ты бы плакала. У всех что-то к горлу подступило: крики «браво», «бис»: марш повторяют, и опять то же самое. Я не буду описывать тебе весь этот концерт – не найду слов, слишком волнуюсь. Самые противоположные чувства – протест, рыдания в «Драме жизни», «У жизни в лапах», и вдруг яркий юмор в хоре «У приказных ворот», да еще с таким чудо-артистом, как Иван Михайлович Москвин, – зал в голос хохотал от этой музыки, и я поняла, все подвластно гению, да, гению нашего незабвенного друга детства «непутевого Илюшки». Скажу тебе то, что тогда без конца повторяли люди: «Москва любила Илью Саца, но масштабов его дарования до этого вечера никто представить себе не мог. Художественный театр во многом виноват перед «своим» композитором, но за сегодняшний концерт ему все можно простить. Такого не забудешь». Вахтангов После папиной смерти мы переехали в деревянный домик, тоже на Пресне. Платить дешевле – меньше квартира. Переезжать было грустно. Но мы искали, как учил папа, хоть что-то хорошее. Во дворе, где теперь будем жить, росло большое дерево – клен… Театр передал нам сбор с концерта памяти папы, еще собрали сколько-то через газету «Русское слово». Мама говорила:– У других бывает и хуже.
Запомнились переводчики сказок Андерсена – братья Ганзен. Они сами привезли маме сто рублей, а нам Собрание сочинений Андерсена в вишневом переплете. Нина сказала:– У такого, как Андерсен, и сказки, и переводчики добрые.
Папино пианино замолчало. Зима тянулась долго. И вдруг… к нам вбежал (он не умел ходить, как другие) Леопольд Антонович. Как будто бы кто-то потер огниво из сказки Андерсена, и он явился. Леопольд Антонович сказал, что забирает меня на все лето. Вот так чудо! Это лето навсегда врезалось в память. Днепр! Я никогда его прежде не видела. На высоком берегу на опушке леса домики – дачи артистов Художественного театра. Какое это было красивое, привольное место! Оно называлось «Княжая гора». Здесь шла совсем особенная жизнь. На следующий день после приезда меня «произвели в матросы», дали рубаху с голубым воротником и «рабочее задание». Волна общей затейно-трудовой жизни захлестнула неожиданной новизной. На «Княжей горе» были дачи, но не было дачников. Леопольд Антонович говорил:– Зимой работа в театре, летом на земле. Отдых в том, что работа духа, работа на сцене, заменена физической, но без работы настоящий художник не смеет прожить ни одного дня своей жизни.
Леопольд Антонович умел вдохновить товарищей делать все своими руками. Дел было много – таскать воду, пилить, сажать, полоть. Каким вкусным казался суп из своей капусты и картошки, жареная рыба своего улова! Ели на деревянном столе, на воздухе, из мисок, деревянными ложками. «Роскошью» был только самовар, который по вечерам всем нам мурлыкал что-то уютное и доброе. Ложились спать с заходом солнца, вставали очень рано, как только слышали пронзительные рулады свистка Леопольда Антоновича. Подъем, кружка молока с черным хлебом – и все уже на берегу. Еще больше, чем сушу, Сулержицкий любил воду: реки и моря были его родной стихией. Не зря жители «Княжей горы» присвоили ему чин «капитана»! Вести парус, грести, управлять рулем на лодках с удивительными названиями: «Вельбот-двойка», «Бесстрашный Иерусалим III», «Дуб Ослябя» – должен был уметь каждый матрос, а кто, как не Леопольд Антонович, мог всему этому научить! Самые печальные мысли не могли засидеться в мозгу, когда «мичман Шест» (Игорь Алексеев [8] ), не привыкший к физическому труду, с поразительной старательностью пытался грести сразу двумя веслами, осторожно разглядывая мозоли на белых руках, а «матрос Дырка» (Федя Москвин [9] ) оказывался на дне лодки, сбитый им же самим натянутым парусом. Хохотали на «Княжей горе» по всякому поводу, писали друг другу комические стихи, сочиняли песни, придумывали прозвища, импровизировали сцены из «морской жизни». Сколько неповторимо нового, необычного несло каждое «завтра»! Неиссякающим фейерверком била творческая фантазия Леопольда Антоновича. Он умел вызывать инициативу каждого, неожиданно скрещивать выдумки своих «подчиненных», и вся наша жизнь на «Княжей горе» была большой театрализованной игрой, которой увлекались все – от мала до велика. Это увлечение помогало Леопольду Антоновичу установить в «коммуне» абсолютную дисциплину. Слово Сулержицкого было законом. Все его любили, но больше всех восхищался Леопольдом Антоновичем смуглый артист в белой матерчатой панаме и белых штанах, по прозвищу «матрос Арап». Сильный и ловкий, он лучше всех исполнял поручения капитана. Помню, я смотрела, как он перепиливал дерево. Один, большой пилой. Ух и работал! Искры летели из-под пилы, опилки взвивались в воздух. К нему подошел Леопольд Антонович, он поднял голову с темными вьющимися волосами, и я подумала, что глаза у него, наверное, совсем черные. Но удивительно! Они оказались светлыми и с такими же искрами, какие летели из-под его пилы. Леопольд Антонович заметил мой взгляд, тихо сказал что-то смуглому артисту и подозвал меня:– Познакомься. Это Евгений Багратионович Вахтангов. А это Наташа, дочка Ильи Александровича Саца.
Евгений Багратионович пристально на меня посмотрел и протянул свою сильную, большую руку – как сейчас ее помню:– Я очень любил вашего отца и его музыку. Давайте дружить, Наташа.
И в руке и в голосе Евгения Багратионовича было что-то надежное – то мужественное тепло, недостаток которого так чувствует каждый ребенок, только что потерявший отца. Я пожала его добрую руку двумя и сразу навсегда полюбила его. У Евгения Багратионовича была какая-то особая манера разговаривать с детьми. Он говорил с нами, как со взрослыми. А на Леопольда Антоновича Вахтангов смотрел, как будто сам был еще совсем юный. Не помню, кто сказал: «Человек, который никогда не восхищался своим учителем, на всю жизнь теряет какую-то очень важную струну». У Вахтангова это восхищение задевало, видно, не одну струну – оно звучало вдохновенным аккордом. И все чувствовали это звучание, увлекались не только самим Леопольдом Антоновичем, но и увлеченностью им Евгения Багратионовича. Впрочем, иной раз учитель и ученик были похожи больше на озорных друзей, вроде Макса и Морица. Леопольд Антонович считал, что Константин Сергеевич слишком бережет, создает оранжерейные условия для своего действительно болезненного сына Игоря; вместо того чтобы закалять его, идет на поводу у «коммерческой» медицины, бросает массу денег попусту. Кто-то из врачей прописал Игорю минеральную воду «Сурс Каша» [10] . Заботливый Константин Сергеевич велел прислать ящик этой «целебной» воды из Франции. Игорь три раза в день, как святую воду, пил этот «Сурс» и уверял, что чувствует себя немного лучше. Сулержицкий и Вахтангов, никому не говоря, вылили минеральную воду из знаменитых бутылочек, налили туда простую воду из родника, снова запечатали бутылочки, а Игорь, ничего не замечая, продолжал пить эту воду и утверждал, что «Сурс Каша» ему все больше и больше помогает, что надо выписать из Франции еще ящик. Сколько было смеха, когда выяснилось, что он уже давно пьет не «Сурс Каша», а «Сурс Княжа», как назвал обыкновенную воду с «Княжей горы» Леопольд Антонович! Константин Сергеевич много смеялся, узнав об этом, и сердечно благодарил «милого Сулера» за «психотерапию». Евгений Багратионович ходил со мной гулять, любил слушать, когда я рассказывала, как отец водил нас с сестрой по ярмаркам, как он устраивал игрушечный оркестр. Евгений Багратионович часто просил меня петь папину музыку. Однажды я спела ему «Стенька Разин и княжна». Евгению Багратионовичу понравилась папина обработка этой песни. Как-то мы катались с ним на лодке и пели ее на два голоса. На правах друга он уже называл меня на «ты» и спросил:– А если бы это была не песня, а представление, кого бы ты хотела там сыграть – княжну? Я ответила:
– Нет. Я бы хотела быть «Эй ты, Филька, шут, пляши».
Евгений Багратионович засмеялся и спросил, почему. Я ему рассказала, как верно этот Филька любит атамана, переживает, что атаману грустно, а показывать это не смеет, еще должен делать веселое лицо и плясать… Евгению Багратионовичу рассказ понравился, и часто потом он задавал мне такие задачи: рассказать, о чем думает сидящая на берегу кошка или какой характер у молочницыной дочки. Евгений Багратионович был очень разным – то смеется, шутит – искры из глаз, то замолчит, уйдет в себя и о чем-то упорно думает… Я никогда первая не начинала разговаривать с ним, это нравилось ему, кажется, больше всего. Рядом с ним чувствовала себя сильнее без всяких слов. В артистической коммуне Художественного театра уважали детей и детство. Сулержицкий говорил, что не признает изолированного воспитания детей, воспитания в «детских». Он считал, что не только детям надо расти рядом со взрослыми, но что именно рядом с детьми настоящий художник сохраняет силу творческой непосредственности. В августе 1937 года в «Барвихе» я записала очень сходную с этой мысль Константина Сергеевича: «Художник до конца дней своих остается большим ребенком, а когда он теряет детскую непосредственность мироощущения – он уже не художник». Итак, вернемся на «Княжую гору», где большие и маленькие «матросы» жили единой творческой семьей, где никогда не было серых будней. Однажды после обеда, когда старшие члены коммуны отдыхали, капитан собрал всех своих помощников, матросов и мичманов на секретное совещание в сарае. Капитан объявил всем собравшимся, что через две недели день рождения Ивана Михайловича Москвина. В нашей театрализованной игре он был высшим чином – адмиралом. В быту Иван Михайлович держался проще простого, ходил в синей в полосочку ситцевой рубашке, в белом картузе… Все преклонялись перед талантом и мастерством Ивана Михайловича, всем хотелось участвовать в торжественном празднике дня его рождения. Как и всякий подлинный режиссер, Леопольд Антонович был прекрасным организатором. Он разделил работу на ряд «особых заданий», каждая группа по секрету от других придумывала интересное – свое.– Пусть в нашем празднике будет много сюрпризов, неожиданностей, как во всякой увлекательной игре, – сказал Леопольд Антонович.
Строжайший секрет от Ивана Михайловича, секреты друг от друга – все это было страшно интересно, да еще режиссером театрализованного парада, в котором участвовали все дети, был назначен Евгений Багратионович! Вахтангов загорелся этим праздником, как только он умел загораться. Искры из глаз и из сердца. Он придумал слова детской песни: Сегодня все мы, дети, Надев матроски эти, Хотим, чтобы орала Во славу адмирала Вся «Княжая гора» – Ура, ура, ура! Евгений Багратионович сочинил и музыку к этой песне и спел мне ее потихоньку утром, во время лодочных занятий. Вечером Евгений Багратионович зовет меня к себе:– Знаешь, Наташа, беда! Забыл мотив своей песни. Никак не могу вспомнить.
Но я этот мотив не забыла ни тогда, ни сейчас и спела ему: Скорей, ребята, в лодки, Скорей дерите глотки, Ведь надо, чтоб орала Во славу адмирала Вся «Княжая гора» – Ура, ура, ура! Евгений Багратионович очень обрадовался и назначил меня своим помощником. На всю жизнь осталась в памяти эта первая моя «режиссерская» работа – это счастье выполнять задания Вахтангова и первые самостоятельные репетиции. На одной из них Евгений Багратионович сказал:– Жаль, что ты девочка. Из тебя бы вышел режиссер.
И мне этого страшно захотелось, хотя в те времена женщин-режиссеров не было. Еще в этом празднике у меня была очень ответственная роль – горниста адмирала. Евгений Багратионович выучил меня играть на горне. Он был удивительно музыкален. Музыке его никогда не учили, а он на многих инструментах мог играть. Для горниста он придумал два сигнала. Один, когда Иван Михайлович захочет что-нибудь сказать, только пошевелит губами, а другой, когда адмирал только кончит говорить и закроет рот.– Горни каждый раз, поняла? Нет, не поняла.
– Зачем? – спросила я.
– Это будет придавать важности нашему адмиралу. Каждую его фразу вставляют в музыкальную раму, приветствуют музыкой, понимаешь?
Задача оказалась трудной. Евгений Багратионович репетировал со мной, как будто бы он адмирал. Только откроет рот, а мне ни на секунду нельзя опоздать.– Играть, когда адмирал начнет говорить, это просто невежливо, – пояснил Евгений Багратионович, – значит, все время надо быть начеку.
Я научилась, конечно, не сразу, но Евгений Багратионович подбадривал:– Целый день внимание у тебя должно быть сосредоточено. Это очень полезная роль. Если, когда вырастешь, в театре будешь работать, спасибо за нее скажешь! Не спускай глаз с Ивана Михайловича, и ни одного «мимо». Обещаешь?
Накануне дня рождения меня взяли в лес собирать землянику – тоже для праздника, и вдруг пошел дождь. Артист Николай Осипович Массалитинов раскрыл большой черный зонтик. Евгений Багратионович, когда ставил даже детский парад, все время только об этой постановке и думал. Как увидел он этот зонтик, просиял и стал уговаривать Николая Осиповича отдать ему зонт «до послезавтра». Уговорил. Через час Евгений Багратионович вызывает меня в репетиционный сарай и говорит:– Наташа, твоя роль увеличивается. – Он раскрыл зонт Массалитинова. – Для торжественности ты будешь все время держать этот зонт над головой адмирала. В одной руке – гори, в другой – зонт. Представляешь, как торжественно? День будет солнечный, а над головой адмирала этот огромный, допотопный зонт, – и он засмеялся.
Горнист был готов на все, хотя сигналы горна и зонт в вытянутой руке трудно совмещались. Когда мы репетировали, вошел Леопольд Антонович с четырьмя музыкантами – у них в руках были скрипка, кларнет, труба, барабан. Леопольд Антонович специально ездил за ними в город Канев. Некоторых из них помню – один все время мигал глазами, и ноги у него были колесом, другой был рыжий, как апельсин. Эти музыканты играли на еврейских свадьбах. Леопольд Антонович познакомил нас с музыкантами, а потом вместе с Евгением Багратионовичем стал просить их надеть матросские рубашки и бескозырки с ленточками, которые он для них купил в городе. Но это был какой-то день (пятница или суббота), когда по их обычаю нельзя было веселиться. Тогда Леопольд Антонович стал им рассказывать с грустным лицом:– Наш товарищ был настоящим адмиралом, а теперь вынужден зарабатывать как актер. Это печально – вы сами должны понять, и для доброго воспоминания…
Уговорил. Но эти музыканты так нелепо чувствовали себя в матросках и так чудно в них выглядели, что Евгений Багратионович сослался на кашель и выскочил из сарая, я за ним. Отхохотался и занялся последними приготовлениями к завтрашнему дню. Рано утром начался подъем и сбор около дачи Ивана Михайловича. Там все еще спали, занавески были опущены. Леопольд Антонович и Евгений Багратионович объяснялись с нами жестами, чтобы раньше времени не разбудить «адмирала». Дети в наглаженной форме построились в первом ряду, взрослые матросы и другие «чины» во втором, музыканты в матросской форме отдельной группой, пока в стороне; капитан с разрисованным свитком «распорядок торжества» – у крыльца адмиральской дачи. Как только Любовь Васильевна, жена Ивана Михайловича, начала открывать занавеску, мы грянули: Сегодня все мы, дети, Надев матроски эти… На секунду в окне мелькнуло заспанное лицо Ивана Михайловича – можно себе представить его удивление, ведь он ничего не знал о нашей подготовке! Но мы не успели допеть нашу песню, как на крыльце появился адмирал, и в каком виде!.. Удивляться-то пришлось нам! На Иване Михайловиче была чалма из мохнатого полотенца с вставленным в нее ручным зеркальцем Любови Васильевны. Одет он был в женский шелковый халат вроде восточного, в руке «опахало» (плетеная выбивалка для ковров), на груди… кишка от клизмы вместо аксельбанта, «как у настоящего адмирала». Только что он хотел открыть рот, я подняла горн и сыграла сигнал – секундная пауза, и Иван Михайлович слегка кивает головой – дескать, ничего другого он и не ожидал, и с полузакрытыми глазами тоном привыкшего к почестям высокого начальника произносит:– Спасибо, братцы! [11]
Лицо Евгения Багратионовича кривится от желания расхохотаться. Но, видя, что адмирал уже закрыл рот, я горню сигнал № 2, и адмирал важно удаляется «в свои покои»… Что будет дальше, никто не знает. Все играют, а значит, надо быть готовым к любым неожиданностям. Леопольд Антонович велит «морскому оркестру» подойти строевым шагом к окну адмирала и исполнить туш. На секунду за занавеской мелькнуло лицо Ивана Михайловича. Он, видимо, удивился, услышав «настоящие инструменты», но смотреть на «морской оркестр» Леопольда Антоновича долго было невозможно. Занавеска задрожала и опустилась. Сулержицкий, Александров, Вахтангов переглядываются – наконец проняло Ивана Михайловича… засмеялся. Но через минуту Москвин снова с невозмутимым видом появляется на крыльце уже в новом «для принятия парада» костюме: белые брюки подпоясаны шелковым шарфом с бахромой, белая фуражка, черный фрак, на груди бесконечные ордена – жестянки от бутылок и цветные картонажи из игрушек Феди и Володи, через плечо голубая лента. На лице равнодушное высокомерие. Капитан подавил смех, скомандовал «смирно», все выпрямились и отдали честь. Затем под оркестр торжественным маршем мы построились ближе к адмиралу. Иван Михайлович «привычной рукой» взял под козырек, снова сказал свое «спасибо, братцы», доблестный капитан начал торжественное чтение «церемониала дня рождения адмирала», а я по взгляду Евгения Багратионовича вышла вперед, раскрыла зонт и вознесла его над головой почтенного рожденника… Так до поздней ночи продолжалась эта увлекательнейшая игра… Есть впечатления, которые никогда не забываются. Есть люди, которые становятся дорогими на всю жизнь, даже если быть рядом с ними пришлось недолго. Таким после лета в Каневе стал для меня Евгений Багратионович… В ноябре 1914 года мама взяла нас с Ниной на генеральную репетицию «Сверчка на печи» в Первую студию Художественного театра. Это был спектакль изумительный, и он совсем не был похож на спектакль. Казалось, каким-то чудом всем нам, кто пришел в эту большую комнату (слова «зрительный зал» к ней не подходили), позволили заглянуть в щелочку игрушечной мастерской, узнать бедного старика, который делает игрушки, и его такую трогательную слепую дочь, всю их жизнь. Играл – вернее, жил жизнью этого старика – Михаил Александрович Чехов, и какое счастье, что я его видела! Много было в этом спектакле замечательных артистов, и они играли хороших людей, но Чехов навечно остался в памяти сердца. Только одно действующее лицо, фабрикант игрушек, мистер Текльтон, был совсем другим. Лицо страшное, голос скрипучий, походка – как будто он сам механическая игрушка и ходит на ржавых шарнирах.– А ты знаешь, кто эту роль играет? – спросила мама.
–Нет.
– Евгений Багратионович Вахтангов.
Я не поверила. В следующем акте сквозь страшную маску Текльтона я старалась разглядеть хоть какие-нибудь черточки Евгения Багратионовича. Нет, это не он. В антракте к нам подошел Леопольд Антонович.– Разве правда, что мистера Текльтона играет Вахтангов? – спросила я его.
– Ну конечно. Кстати, зайдите после спектакля к нему за кулисы.
Мы пришли, когда Евгений Багратионович разгримировывался. Он поздоровался с нами ласково. На моих глазах артист возвращал себе свое обличье.– Значит, ты недовольна, что я такой злой? – смеясь, сказал Евгений Багратионович и добавил, словно что-то проверяя: – Но ведь в конце спектакля мистер Текльтон становится добрым.
За меня очень серьезно ответила Нина:– Он так долго был злой, что может быть добрым только на немножко, а это не считается.
Весной 1915 года неутомимый Леопольд Антонович загорелся идеей устроить большую артистическую коммуну на пустыре около маяка в городе Евпатории.– Солнце и море! Понимаете, море!!! – повторял Сулержицкий маме, забежав к нам на Пресню.
Летом двинулись в Евпаторию. В письме к жене Константин Сергеевич Станиславский так описывает жизнь на пустыре у маяка. «Ходят все там (мужчины) в одних штанчиках. Женщины – босые. Все делают сами, то есть и уборка и стройка. Сложили из камней стены, сами покрыли бетоном, в окнах вместо рам – полотно; и там в таких шалашах живут». А мы, пока негде было устроиться на новостройке, жили на даче Черногорского. Наши материальные дела были в это время весьма неважными, и мама сняла комнату, которую дачевладелец переделал из кладовки, но зато договорилась с ним о праве каждый день заниматься на рояле в его комнате. Это для меня было самым главным. И вот, в одно из первых занятий на рояле, когда после заданного в школе я стала играть папин вальс «Мiserere», вдруг тихо открывается дверь и входит… Евгений Багратионович! Оказывается, Вахтанговы живут на этой же даче. Лето, окно настежь, он услышал знакомую музыку, спросил, кто играет, и пришел.– Мы с тобой старые знакомые, – сказал Евгений Багратионович, – а я не знал, что ты на рояле играешь, Думал, только поешь.
Теперь мы часто встречались с Евгением Багратионовичем около рояля. Играли, пели. Он почему-то любил со мной разговаривать и молчать тоже. Некоторые даже смеялись: «Нашел себе друга – девчонка двенадцатилетняя». Однажды вечером Вахтангов в первый раз зашел в нашу комнату и понял то, о чем не говорят. Мамы и Нины не было, они гуляли. Евгений Багратионович сказал «да-а» и сел на нашу общую кровать. Больше-то и не на что было сесть. На следующий день мама, волнуясь, рассказала мне, что Евгений Багратионович пригласил ее преподавать пение в его студии, что теперь у нас будет жалованье, а главное, она опять чувствует себя нужной. Но тут же мама добавила:– А человек он странный. Протянул мне руку большой помощи, а когда хотела его поблагодарить, что-то буркнул и бросился от меня в бегство.
…Евгений Багратионович с уважением относился ко всякой инициативе, пусть даже детской. Сестра Нина написала пьесу в стихах «Царевич-лягушка». Мы поделили роли и начали репетировать. Нам помогали и Леопольд Антонович и Евгений Багратионович, но так, чтобы мы больше всего придумывали сами. Спектакль был почти готов, когда Евгений Багратионович меня спросил:– А ты подумала, где пойдет ваш спектакль, в каком месте?
– Ну вообще, здесь, на даче.
– Это не ответ. Ты должна найти точное место, и к нему все приспособить. Если оно будет удачным, оно само подскажет вашему спектаклю интересные места действия.
Так и получилось. Театр решили устроить во дворе, где в виде огромной буквы «П» была установка для трапеции и качелей. Получался готовый портал сцены. Наши мамы из летних одеял сшили раздергивающийся занавес. В глубине мы поставили ширмочку Сулержицких – получилась задняя стена сцены и место выходов. Евгений Багратионович был, конечно, прав. Репетируя здесь, придумала много нового. Например, при первом появлении лягушки царевна как будто сидела на ветке дерева (на спущенной трапеции с приделанной к ней веткой) и могла смотреть сверху вниз на лягушку, которая выползала из колодца. Публики у нас было немного – человек двадцать пять. Но какая публика! Русские, еврейские, татарские дети, несколько взрослых, в том числе: К. С. Станиславский, Л. А. Сулержицкий, С. Г. Бирман, Н. Г. Александров, Н. А. Подгорный, Р. В. Болеславский, Е. Б. Вахтангов, В. В. Тезавровский… Евгений Багратионович вместо матроски, в которой всегда ходил в Евпатории, надел новый черный костюм и соломенную шляпу-канотье, «чтобы было как на настоящей премьере». Константин Сергеевич тоже пришел в пиджаке, белой рубашке с галстуком-бабочкой. Так воспитывали они в нас, детях, уважение к искусству и веру в свои силы… После Октябрьской революции, когда я уже работала в Московском театре для детей, Елена Фабиановна Гнесина подарила мне музыкальную игрушку, которую она получила от А. Н. Скрябина. Это была старинная японская погремушка. Она звучала каждый раз новым аккордом. Я организовала первую Государственную мастерскую музыкальных игрушек. По образцу японской мне удалось сделать там такие же игрушки – они быстро получили распространение. Не знаю, кто рассказал об этом Евгению Багратионовичу, но когда в Третьей студии МХАТ шли репетиции «Принцессы Турандот», ко мне приехал артист К. Я. Миронов и сказал, что Евгений Багратионович хочет использовать звучание нашей игрушки в постановке «Турандот». Спектакль «Принцесса Турандот» имел огромнейший успех, и я вдруг ясно увидела себя опять на «Княжей горе», играющей с Евгением Багратионовичем в «день рождения адмирала». Теперь играли не ребята, а замечательные артисты, но зрители в «Турандот» перестали чувствовать себя зрителями, они ощутили себя участниками этой веселой игры. Вера в свои силы, вера в силу театральной игры. Как мне благодарить Вас, Евгений Багратионович? Наверное, у каждого подростка бывают неприкосновенные мечты. Да, мечты, в которых даже сама себе побаиваешься признаться, настолько они сокровенны. «Синяя птица» в Художественном театре задела их первая своим крылом. Вахтангов своим орлиным полетом в искусстве пробудил веру в свои силы, и мечты вышли из добровольного заточения. Евгений Багратионович! Спасибо Вам за это! Учим – учимся Хмурое зимнее утро. Еще хочется спать, но, накрой ухо хоть двумя подушками, – все равно туда вползают два аккорда и а-а-а-а-а-а-а-а-а. Опять два аккорда и опять это истошное а-а-а, на всех нотах одно и то же. И как папино пианино, которое раньше звучало так интересно, может терпеть такие нудные звуки?! Мама дает уроки пения взрослым. Она говорит: «Пока голос правильно не поставишь, он всегда звучит так противно. Эти упражнения необходимы, чтобы потом…» Тогда до этого «потом» было далеко. Некоторые безголосые барыни учились у мамы неизвестно зачем, но приезжали к ней на уроки очень тогда известная артистка Ольга Бакланова и студийцы Вахтангова Юрий Серов, Павел Антокольский и Юрий Завадский. Все девчонки во дворе нам с Ниной завидовали, что к нам Завадский ездит. Когда он на санях, запряженных рысистой лошадью, подъезжал к нашему двору, откидывал меховую полость, спрыгивал с саней и открывал калитку, из всех форточек торчали девчоночьи головы и косицы. Стройный, кареглазый, с клубничными губами, Завадский шел по двору, никого не замечая, такими легкими, красивыми шагами, что казалось, его ноги почти не касаются земли. Раздавался звонок, я быстро открывала дверь и еще быстрее пряталась в кухне, чувствуя себя Золушкой задолго до того бала, когда она получила право стоять рядом с принцем. Как эти большие, красивые люди были послушны, старательны! Мне тоже страшно захотелось кого-нибудь учить музыке, чтобы и у меня, как и у мамы, была ученица. Когда я играла на рояле, ко мне нередко приходила Марфуша, дочка дворника с Малой Грузинской.– Ловко ты пальцами перебираешь, – говорила она. И я однажды ей сказала:
– Хочешь, я буду учить тебя играть на рояле? Марфуша оказалась очень старательной ученицей. Наше бедное пианино кричало теперь свое «а-а» еще громче: с утра мамины ученики, после гимназии я, к вечеру Марфуша и еще Ниночка… Интересно, что, когда учишь другого, начинаешь больше уважать скучные упражнения, видишь, на глазах видишь, как они помогают. И вот наступил день, когда мамины ученики запели «Ласточку» Делякуа, а моя Марфуша сыграла «Травка зеленеет, солнышко блестит» двумя руками.
Как раз в этот день и час приехала Софья Васильевна Халютина приглашать маму преподавать пение на ее курсах драмы, услышала через стенку весь мой урок с Марфушей и предложила мне… учить игре на фортепиано ее дочь Лизу «за деньги»! Софья Васильевна сказала, что будет мне платить двенадцать рублей в месяц – целое состояние по моим тогдашним понятиям! Я долго рассказывала папиному пианино, какая я счастливая, и пианино понимающе глядело на меня всеми своими клавишами. Теперь мы с мамой обе учительницы. Обе зарабатываем деньги, и мама рассказывает всем:– В свои двенадцать лет Наташа уже зарабатывает двенадцать рублей в месяц – не шутка!
Софья Васильевна Халютина сделала и еще важное: она открыла при своих курсах драмы подготовительное юношеское отделение и разрешила мне посещать все уроки, хотя других туда принимали только с 18 лет. После игры с Е. Б. Вахтанговым на «Княжей горе» ставить спектакли стало моим самым любимым делом, и малыши нашего двора буквально требовали моих новых постановок. Но все это были спектакли-игры, а тут можно будет по-настоящему учиться у артистов Художественного театра, у самого Тильтиля из «Синей птицы» (ведь С. В. Халютина и была первой создательницей этого образа). В. Н. Аргамаков был мною доволен, я вскоре стала аккомпанировать маме даже в концертах – у мамы, кроме уроков, теперь и концерты были. Многие ее корили, что она столько лет не думала о своем таком красивом голосе. Не только С. В. Халютина – многие друзья папы хотели помочь мне стать хоть немного на него похожей и занимались со мной бесплатно: ассистент Жака Далькроза Тадеуш Ярецкий увлекательно занимался со мной ритмической гимнастикой, скульптор Матильда Рыдзюнская находила у меня способности к скульптуре. Богатыми мы, конечно, не стали; что такое новое платье, – после концерта памяти папы опять забыли. Перешивали из старья маминых родичей. Но разве это важно? Я училась в женской гимназии Марии Густавовны Брюхоненко в Столовом переулке, у Никитских ворот. Поблизости находились Реальное училище Мазинга и мужская гимназия Нечаева. Пока мы были в младших классах, это соседство нас совсем не волновало. Но с двенадцати-тринадцати лет мои одноклассницы то и дело шептали на ухо друг другу, как какой-нибудь мальчишка поднес ранец одной из них, назначал встречу в Скатерном переулке или даже поцеловал ее в Хлебном. Все эти переулки были рядом с нашим, Столовым, и причудливо сочетали прозу своих названий с поэзией первых флиртов. Человеком в детстве я была занятым. Одновременно с гимназией, где училась увлеченно, главным своим делом считала занятия роялем в Музыкальном институте Евгении Николаевны Визлер, очень много читала, рано полюбила, кроме Пушкина и Лермонтова, стихи Блока, Белого, Бальмонта, Северянина, не только знала их наизусть, но и придумывала своеобразные инсценировки самых любимых из них. Как мамин аккомпаниатор я знала и много ее романсов и тоже мысленно инсценировала их. И хотя в нашей семье не хватало ни еды, ни дров, считала себя самой счастливой. Еще бы! Ведь мы с сестрой Ниной имели право придумывать целые пьесы, собирать для их постановки ребят со всего нашего двора. На всю жизнь запомнили мы и те постановки Художественного театра, к которым папа писал музыку. И хотя там много было «про любовь», мы никогда не стеснялись этого слова, ни с кем об этом не шептались, но знали, что любовь – это что-то красивое, важное, иногда – грустное, а в общем, «для взрослых». Но однажды «широта» театрально-родительского воспитания меня не на шутку подвела. Однажды, когда я была уже в пятом классе, наша классная руководительница Анна Петровна торжественно объявила нам, что в субботу – день рождения начальницы нашей гимназии Марии Густавовны Брюхоненко, и будет концерт.– Пусть лучшие из вас что-нибудь изобразят на этом концерте, – заключила свою речь Анна Петровна.
Класс единодушно выдвинул кандидатуру Шуры Вахниной, умевшей лихо плясать матросский танец, и Наташку (это меня), которая может играть на рояле и читать стихи. В тот же день после уроков я отправилась в нотный магазин Юргенсона на Неглинной улице и в букинистическом отделе совсем за дешево обнаружила голубую обложку, на которой крупно было написано: «Евгений Вильбушевич. Стихи Константина Бальмонта. Мелодекламация». Слово «мелодекламация» было для меня новым, а все новое неизменно притягивало мое внимание. Прибежав домой, я немедленно занялась разучиванием нетрудной музыки аккомпанемента, выучила и стихи о красных и белых розах, что было уж совсем не трудно и, главное, очень интересно. Играть на рояле и читать стихи одновременно! До чего здорово! Подготовка к школьному концерту шла горячо и бестолково. Без всяких репетиций. И вот наступил торжественный день. В переполненном зале в самой середине первого ряда восседала именинница Мария Густавовна, с высоким воротником, в белом кружевном жабо, поверх которого – массивные золотые часы на толстой цепочке. Начальницу гимназии окружали парадно одетые учителя. Гимназистки всех классов ее умещались, сидя по трое, а то и по четверо на двух сдвинутых стульях. Несколько мальчишек из Нечаевской гимназии толпились у дверей. Концерт начался. Когда дошла очередь до меня, я ликовала: мелодекламация – сюрприз! Подняла крышку рояля, откинула две косицы назад, чтобы не мешали, поудобнее устроилась за роялем, и хотя зал продолжал шуметь при моем появлении, радость впервые исполнять мелодекламацию сделала мой голос еще более звучным. И я начала: В моем саду мерцают розы белые, Мерцают розы белые и красные, В моей душе дрожат мечты несмелые, Стыдливые, но страстные… Стало как-то сразу удивительно тихо; зловещую тишину прорезал шепот веселой двоечницы Тани Митрофановой: «Ай да Сацка!» Но я была вся во власти стихов и музыки: Лицо твое я вижу побледневшее, Волну волос, как пряди снов согласные, В глазах твоих признанье потемневшее И губы, губы красные…– Она у нас такая отчаянная, – довольно громко шепнула всегда гордая моими успехами Вера Нестеренко, и я закончила ликующе:
Моя любовь – пьяна, как гроздья спелые, В моей душе – звучат призывы страстные, В моем саду – сверкают розы белые И ярко, ярко-красные… Боже! Какая овация была мне устроена! Орали, хлопали, топали ногами, требовали: «Сацка, еще!» Но в первом ряду сидела с каменным лицом, угрожающе сцепленными пальцами начальница и, словно мраморные статуи, окружающие ее педагоги. Я сошла со сцены растерянная и, хотя девчонки бросились обнимать и целовать меня, поняла, что произошло нечто неожиданное, страшное. Оттолкнув локтями целовавших меня «поклонниц», руководительница нашего класса Анна Петровна схватила меня за плечи и трясла так, будто на мне росли спелые яблоки. Ее глаза выкатились, щеки пылали, голос звучал хрипло, точно она подавилась рыбьей костью: «Так подвести! И это в то время, когда Мария Густавовна тебе…» «Сейчас скажет, что меня учат на стипендию», – с ужасом подумала я, бочком протиснулась к выходу и исчезла во тьме Столового переулка. Бежала, не соображая куда, а в голове, как чертово колесо, вертелось неотвязное: «Неужели лишат стипендии?! Я же не хотела сделать ничего гадкого, почему вдруг такой скандал?!» Ответ пришел из лужи около фонаря на Большой Никитской: тринадцатилетняя девчонка с растрепанными косицами… Наверное, про любовь в пятом классе нельзя?.. Почему же я не посоветовалась с мамой, вдруг она заплачет, скажет про стипендию… Перебежав улицу, я неожиданно очутилась во дворике, окружавшем церковь (почему-то я считала, что это церковь Петра и Павла) и, споткнувшись о скамейку за оградой, уселась на нее. Мне все время казалось, что кто-то бежит за мной… Моя тень? И вдруг эта тень заговорила тихим, очень красивым голосом:– Зачем же вы убежали, удивительная девочка? Ведь все вам «бис» кричали.
Оглянулась. Рядом стоял красивый мальчик в гимназической фуражке, с высоким лбом и лучистыми глазами.– Я думала, что здесь, кроме меня, Петра и Павла никого нет, а вы…
Он ответил с доброй улыбкой:– А я и есть Павел. Мой друг Федя рассказывал мне, что у Брюхоненко учится удивительная девочка… А познакомились нечаянно.
Он протянул мне руку:– Нечаевец я – Массальский Павел. Теперь мой новый знакомый – на другом конце скамейки и декламирует нараспев:
– «Мерцают розы белые…» Красота! Вы, значит, и на рояле играть умеете?
– У меня папа – композитор, мама – певица, я бы не могла без музыки.
– У вас и голос, как музыка.
– Это вы для утешения? Я сегодня провалилась.
– Не провалились – над всеми вознеслись. Кстати, это церковь Большого Вознесения… Мне стало смешно.
– Что это вы как-то по-церковному разговариваете? «Вознеслась!»
А Павел спросил вдруг таинственно:– А правда, что вы самого Станиславского видели?
– Да, – ответила я просто.
В глазах его мелькнул какой-то странный огонек, точно я нечаянно коснулась чего-то заветного, что он бережет только для самого себя.– Дома ждут, – сказал он отрывисто и ушел, скорее, даже убежал в темноту, а я пошла домой на Пресню. Но улыбалась.
Мама, как и этот красивый мальчик, ничуть на меня не рассердилась. Я даже еще раз ей исполнила злополучную мелодекламацию. Встреч с красивым мальчиком я не искала, хотя Вера Нестеренко то и дело говорила ему заочные комплименты, особенно восхищаясь его гарцующей походкой и умением лихо вздыбливать гимназическую фуражку.– Наташка! Говорят, что он – княжич. Понимаешь, знатного происхождения. А ты на него – ноль внимания.
Нет, я смотрела на него, как из окна трамвая. Есть возраст, когда «на год младше» звучит отчуждающе, да и дел у меня все прибавлялось. Знаменитый виолончелист Виктор Львович Кубацкий сказал маме, что охотно и совершенно бесплатно будет со мной заниматься игрой на виолончели. Вот это была настоящая радость! Папина виолончель, такая большая и одинокая, вместе со мной возгордилась, что мой папа был не только композитором, но и виолончелистом. А теперь и я постараюсь тоже быть виолончелисткой. Ходить на уроки к Виктору Львовичу, ходить вместе с ним на концерты, в которых он выступал, – была еще одна большая радость в жизни. Я его обожала. Он совсем недавно кончил консерваторию, у него были золотистые волосы и карие глаза. Ему было двадцать шесть лет. Но, главное, он часто брал меня с собой на концерты. У него был красивый голос, который звучал бархатом виолончели. Помню, как-то возвращаюсь с урока на дому у Виктора Львовича, двумя руками держу свою драгоценную виолончель и вдруг замечаю, что по другой стороне тротуара идет самый знаменитый тогда артист Художественного театра Василий Иванович Качалов. Мягкое драповое пальто, воротник приподнят, сине-серое кашне через плечо. Наверное, пройдет, не заметит, и будет обидно… Куда бы свернуть? А тут, как назло, рядом в воротах – тот красивый мальчик, которого Вера Нестеренко назвала «княжичем». И вдруг слышу голос, звучащий прекрасней всех виолончелей.– Здравствуйте, Наташа Сац. Как вы поживаете? – И руку сам Качалов мне протягивает.
Я как-то неловко виолончель в левую руку переложила и отвечаю тихо:– Здравствуйте, Василий Иванович. Спасибо, что… меня узнали…
– Как же иначе? Я у вас в доме бывал, вашего папу навечно люблю… А вы уже совсем большая стали.
Прохожих в Газетном переулке было много. Я подалась с тротуара в глубь ворот и поравнялась с красивым мальчиком – это был Павел Массальский. Очень тихо, дрожащим голосом он сказал мне на ухо:– Необыкновенная девочка, вы снова принесли мне счастье – я увидел Качалова так близко, – и добавил задумчиво: – Красота и благородство!
А в подтексте его слов звучало: больше всего на свете хочу быть артистом, и самая большая мечта – быть хоть немного похожим на Качалова. В моей памяти «красивый мальчик» так и остался где-то рядом с Качаловым. Прошло много лет. Павел Массальский стал выдающимся артистом Московского Художественного театра, страстным учителем Школы этого театра. И какое счастье, что уже с детства я встречала людей, которых навсегда хочется запомнить как носителей Красоты и Благородства… Удивительный случай Я была уже в шестом классе гимназии. Училась хорошо. Но шалить любила. Вела себя иногда слишком независимо, не взвешивая возможных последствий. В классе нас было трое самых отчаянных: Лида Дьяконова, Соня Нестеренко и я. (Соня и уже упоминавшаяся мной Вера были двойняшками.) Собственно, злостных шалостей у нас не было. Но опасного озорства – больше чем достаточно. В трудных случаях на нашу тройку надеялись: «Сацка, выручай», – слышалось особенно часто. Классная дама наша, Анна Петровна, что бы ни случилось в классе, уже не давала себе труда разбираться в подробностях и кричала по трафарету:– Сац, Дьяконова, Нестеренко, выйдите вон из класса…
Это нам как коноводам даже льстило. А одноклассники нас любили за то, что «эти трое не выдадут». Однажды после уроков несколько двоечниц нашего класса – Труда Громан и другие – попросили нашу тройку задержаться в классе. Они узнали, что назавтра назначена классная работа по физике, сообщили нам, что они «ни в зуб ногой», и спасти их может только отмена классной работы. Но как сделать, чтобы ее отменили? После многих вариантов приняли предложение Оли Цветковой: она обещала принести из дома несколько «монашков», такое курево, которое употребляют в церкви. От этих «монашков», когда их зажжешь, дымок идет легонький, а запах – сильный.– Заводилы скажут: «В классе угарно», и классную отменят, – под общее ликование заключила Оля.
Ее поддержала Шура Андреева – у нее папа тоже работал в церкви, и она считала этих «монашков» совершенно радикальным средством для отмены классной. Утром «заговорщики» – три двоечницы, наша тройка плюс Оля и Шура – пришли в гимназию ни свет ни заря. «Чтобы крепче было», этих «монашков» принесли и Оля, и Шура. Я посмотрела один из них: сине-черный, как из сажи, с мизинец высотой и пирамидальной формы, неприятный какой-то с виду – да и что в нем может быть приятного, когда его в церкви по покойнику курят?! Мы наметили план действий. На переменке перед физикой Шура Андреева зажгла своего «монашка», которого держала в руке под партой, – потянул легкий, как из папиросы, дымок, ничего особенного. Но когда после перемены кончили проветривать класс и закрыли окна, когда зажгли своих «монашков» еще и двоечницы, – дышать в классе стало тяжело. Я, как и было намечено, первая подняла руку и спросила:– Можно выйти? Учитель пожал плечами:
– Я объявляю классную работу, а вы спрашиваете, можно ли выйти, и сейчас же вслед за переменой! Это по меньшей мере странно.
Несколько одноклассниц фыркнули, закрывшись кто рукой, кто передником, – от меня всегда ждали каких-то трюков. Через несколько минут я снова подняла руку, а вслед за мной и Соня Нестеренко:– Простите, но в классе чем-то пахнет. Может быть, это угар?
Учитель встал раздраженно, хотел нам что-то ответить, но вдруг раздался уже никем не подготовленный стон: «Мне плохо!» Худенькая Шура Андреева поднялась из-за парты и соскользнула вниз, на пол, потеряла сознание. Хорошо, что Соня успела незаметно подобрать и потушить ее почти уже догоревшего «монашка». Настроение у всех испортилось.– Тут действительно жуткий запах, – сказал учитель и велел вызвать классную даму и врача.
Шуру унесли на носилках. Классная дама влетела в класс, как ураган, и велела немедленно всем выйти. Дым теперь целиком завладел нашим классом. Труда Громан была вообще очень флегматична, а тут она задержалась около своей парты, чем вызвала новый взрыв гнева Анны Петровны:– Громан, кому я сказала? Вон из класса! Анна Петровна шагнула к Труде Громан, она что-то положила в парту и сонно выплыла в коридор. Классная дама открыла все окна настежь, после чего, бледная, помчалась к врачу за нашатырным спиртом.
Мы ходили по залу, как тараканы после дуста. Во всех классах шли занятия, и было неловко. Классную работу отменили, но никакой радости не было. И вдруг раздался крик:– Шестой класс горит! Пожар!
Мы помчались в коридор, к нашему классу: парта Труды Громан дымилась, как огромный «монашек», язык пламени лизал ее чистые, «неприкосновенные» учебники и грязные тетради… Пожар, конечно, быстро потушили. Обугленная парта Громан была печальным доказательством, что «монашки» – слишком сильное средство для отмены классной. Целый час мы сидели в классе одни, без учителей, без назиданий. То, что наш класс оказался в полной изоляции, было особенно страшно. Оля Цветкова была круглая отличница, образцового поведения, она и сейчас сидела одна с благонравным выражением лица и, достав где-то иголку с ниткой, подшивала белую кружевную манжету на рукаве. Труда Громан – родная племянница начальницы гимназии. И зачем я в каждой стенке гвоздь?! Я-то классную работу написала бы как следует. Лида и Соня – тоже… В класс медленно вошла классная дама.– Кто из вас является зачинщиком этого безобразия? Мертвое молчание.
– Все понятно, – заключила Анна Петровна и неожиданно крикнула:
– Сац, Дьяконова, Нестеренко! Немедленно к начальнице гимназии, а остальные приготовьте тетради, сейчас будет…
Мне уже было все равно, что сейчас будет в классе. Я встала и пошла к двери. Шла по коридору, по широкой лестнице очень медленно, чтобы никому не сказать ни слова. «Меня, конечно, исключат. Как мы теперь будем жить? Выдавать других не могу. Знала, что глупо, и участвовала. За такое прощения не будет.» Хорошо, что с четвертого этажа до первого так далеко идти… Когда объявят, самое главное – постараться не зареветь. Уже второй этаж пройден, вот и большая, торжественная дверь Марии Густавовны Брюхоненко. Ух, как страшно ждать!– Пусть что хотят с нами делают, только скорее, – произносит Лида.
Тик-так, тик-так, – издеваются над тремя девчонками, прижавшимися к стене, раззолоченные часы. У меня в голове идиотская мысль: надо сосчитать, сколько букв в фамилии «Брюхоненко». Если чет, то, может быть… Но что это? Сама начальница гимназии неожиданно выбегает из своего кабинета, глаза блуждают, за ней инспектор, учителя… Мария Густавовна говорит, еле сдерживая волнение:– Скорее все по домам. Бегите, не теряя ни минуты! Скажите всем: революция, на улицах неспокойно.
Мы переглядываемся с Соней и Лидой, обнимаем друг друга, бежим вверх и кричим, захлебываясь от радости.– Все по домам. Скорее идите все по домам – революция! Ура!
Ищу себя После Февральской революции занятия в гимназии потеряли всякую устойчивость, перестали быть тем стержнем нашей жизни, которому было подчинено все остальное. Играть на рояле (после разговора с папой) я привыкла еще с раннего утра. Теперь позволяла себе засиживаться за роялем по четыре-пять часов. Помню, как влюбилась в романс Рахманинова «Вчера мы встретились»… Я искала его «живую жизнь» в слиянии музыки, слов, движений, пауз, пока… мне не попало от мамы: оказывается, и молоко с хлебом на завтрак, и суп на обед стояли несъеденными… Потом буквально «набрасывалась» на В. Гаршина, стремясь инсценировать его произведение «Надежда Николаевна», найти все необходимое для будущего спектакля. Конечно, это длилось много дней, пожалуй, месяцев, но осталось в сердце… Очень любила я читать новые и новые книги, читать и учить наизусть стихи. Большой моей радостью была крепкая связь с курсами драмы Софьи Васильевны Халютиной, где с двенадцати лет я была кем-то вроде юной слушательницы, но быстро стала активной студенткой… Теперь эти курсы выросли в Драматическую студию имени А. С. Грибоедова, где проводил занятия сам Константин Сергеевич Станиславский, режиссер Н. Н. Званцов, но подлинным творческим руководителем, вдохновенным педагогом стал артист Московского Художественного театра Николай Павлович Кудрявцев. Бывали дни, когда в Грибоедовской студии мы «творили» с утра до ночи. Наш спектакль «Горе от ума» потом приглашали во многие клубы и школы. Но Николай Павлович этому не был рад. И я тоже. Хорошо выученная роль мне надоедала. Пока ищешь взаимоотношения с партнерами, репетируешь – интересно, а повторять те же слова для разной публики, часто безразличной, –не очень… Сваха Фекла Антоновна в «Женитьбе» Гоголя, Юлия в «Двух веронцах» Шекспира – интересные и очень разные были у меня роли, и пророчили мне, что я буду принята в труппу Московского Художественного театра… А я как-то не умела целиком погружаться в роль, смотрела на себя со стороны, хотя учиться старалась. Николай Павлович на занятия в Грибоедовской студии никогда не опаздывает. Он высокий, с прямыми русыми волосами, голубыми глазами, мягкими чертами лица. Ему двадцать восемь лет. Удивительно хорошо умеет он всех нас слушать. Девчонки его все обожают и… почему-то ревнуют ко мне. Но мне как раз дороже всего его серьезность, строгость и очень редкая улыбка на его очень русском лице. А что он ценит хорошую память и умение фантазировать – так ведь он сам зажигает в нас творчество, оно и рождается. Все очень понятно. Однажды (как раз был день моего рождения) я приготовила по заданию Николая Павловича водевиль «Бедовая бабушка» «как режиссер» и «исполнительница роли Глашеньки»… По ходу действия мне иногда приходилось подбегать к пианино и петь куплеты, аккомпанируя то одной, то другой рукой, потом я перевернула стул и села в него, как в люльку… И вдруг глаза Николая Павловича заблестели, он встал и громко сказал: «Наташа – моя самая лучшая ученица». Девчонки меня чуть не съели. А он еще добавил, что решил поставить силами студийцев пьесу А. Н. Островского «Не так живи, как хочется», где он сам сыграет роль Петра, а Наташа (это я) – Грушеньку. В тот день мне как раз исполнилось 15 лет, и эта новость превратилась в праздник для всей студии. Еще бы! Спектакль с участием нашего руководителя! Кто-то заиграл вальс, потом польку… Танцевали, поздравляли друг друга… И хорошо, что Николай Павлович куда-то ушел. Он меня прежде никогда не выделял из других ребят, и сегодня я себя чувствовала как-то неловко. Хорошо, что у нас в студии было несколько комнат, и одна из них – с пианино, маленькая, около кухни… Вошла туда: хотела побыть вдвоем с музыкой. Но на круглом стуле у пианино сидел… Николай Павлович, опершись рукой на пюпитр и опустив голову. Я уже хотела уйти, как он сказал:– А я знал, что вы сюда придете. Загадал, и сбылось. Очень хочется спеть для вас…
На рояле он играл по слуху, двумя руками, с хорошими гармониями, выразительными оттенками, а пел… чарующе. Я никогда не думала, что у него так бархатно, проникновенно звучит голос: Что он ходит за мной, Всюду ищет меня И при встрече со мной Так глядит на меня… Он пел тихо, только для меня, и смотрел на меня, не отрываясь, какими-то совсем новыми, звездными глазами. Конечно, и сейчас я слышу сердцем строчки «Ваших дьявольских глаз я боюсь как огня»… Он пел много, вдохновенно, потом снял руки с клавиатуры и сказал тихо:– Наташа, я люблю вас.
А я, как взлетевшая на качелях в поднебесье, видела какие-то новые зори и… чего-то боялась… В это же время к нам в студию стал приходить сын писателя А. С. Серафимовича – Тола. Настоящая фамилия его была Попов, но нам было приятно, что он сын известного писателя, и мы чаще называли его Тола Серафимович, хотя сам себя он называл только Тола Попов. Он был стройный, но какой-то слишком ясный, с очень розовым цветом лица и правильными чертами, чтобы понравиться девчонкам, – они предпочитали бледных и «загадочных». Ну, а во мне тоже ничего загадочного не было – я выглядела старше своих лет, потому что была толстая и краснощекая. В общем, мы подружились. Он был старше меня не только годами (ему было уже восемнадцать), но всем своим развитием. Когда Тола говорил, я диву давалась: откуда он столько знает! Не об искусстве – там я была сильнее его – о жизни. Политически я была в то время совершенно безграмотна. Знала, что царя свергли, что после Февральской революции у власти Временное правительство, что есть разные политические партии, видела, как некоторые из маминых родственников косились на нее за то, что она пошла работать в комитет большевиков. Я как-то мало задумывалась над этим, а Тола – совсем другое дело. Он ясно знал, что к чему. Жил он тоже где-то на Пресне, во всяком случае, домой из студии мы часто возвращались вместе. Я очень ценила, что он со мной разговаривал как с равной, хотя для «самоутверждения» подчас и пыталась с ним спорить. Помню, как-то идем из студии вечером, я ему рассказываю:– Сегодня у нас был доклад о разных партиях. Докладчик очень хороший. Он совершенно объективно объяснил, что во взглядах каждой партии хорошо и что плохо. Тола возмутился:
– Совершенно объективно о всех партиях может говорить только человек, у которого нет никаких взглядов! А человек без своих убеждений вообще не человек. Вот я, например, большевик и твердо уверен, что правы только большевики, и хочу, чтобы все, кому я верю, так же думали. Как же может быть иначе? Между прочим, ты живешь напротив нашего комитета, в Большом Предтеченском, и могла бы помочь нам концерты устраивать, читки на Прохоровке с рабочими проводить…
Эта работа не была большой, но она заставила зазвучать в сердце какие-то новые струны. Как-то Тола примчался к нам домой часов в пять вечера.– Анна Михайловна дома? Скоро придет, не знаешь? Вот незадача! Комитет поручил мне концерт для рабочих устроить в помещении аптеки, рядом с зоологическим садом, знаешь? Артисты из Второй студии Художественного театра прежде дали согласие, а сейчас записку прислали – репетицию у них назначили генеральную, не могут. Думал, Анна Михайловна выручит, я ей записку оставлю, а ты со мной пойдешь, хорошо? Там в шесть часов начало… Стихи какие-нибудь почитай, а я пока сбегаю – может, еще кого из артистов уговорю. А то ведь неуважение к рабочим получается, они усталые с работы придут, и вдруг отмена. Нельзя!
Я быстро вымыла лицо и руки, почистила туфли, причесалась, надела белую кофточку – словом, приняла свой самый парадный вид из всех возможных и, по дороге вспоминая все то, за что меня хвалили в Грибоедовской студии, побежала в аптеку. Тола – в другую сторону. Девчонка я была смелая, с Толой дружба крепкая, его доверие меня очень согревало, и я, хотя чувствовала, что одна иду навстречу неприятностям, не трусила. Рабочие на объявленный концерт начали собираться заранее. Я встречала их еще на лестнице, просила садиться, а сердце билось неровно: а ну как Тола никого из артистов не уговорит! Пробило шесть часов – ни Толы, ни артистов. Но… слово ему дала – значит… В шесть часов пятнадцать минут начинаю концерт сама. Сама открываю занавес, потом выхожу на эстраду, что несколько удивляет собравшихся – они думали, что я билетерша. А я вообще никто – просто выручаю Толу, и мне жалко, что никто, но… начинаю, и даже громким голосом. Читаю все, что знаю, с выражением, а сердце «заикается». В зале человек сорок – сорок пять (хорошо, хоть немного), все сидят какие-то отдельные, а совсем отдельно от них я. Читаю про любовь. За это в студии хвалили. Мой голос и стихи словно ко мне же назад и возвращаются – как игра в мяч у стенки, не долетают до зрителей… Читаю уже двадцать минут – Толы нет. В памяти еще только одно стихотворение – Андрея Белого. Начинаю: Мы ждем, ее все нет, все нет. Мы ждем средь праздничного храма, И, в черепаховый лорнет Глядя на дверь, сказала дама, Шепнула мне: “Si jeune? Quel ange!” (О счастье, я заметила в боковой двери красное лицо прибежавшего Толы. Но почему… у него такое злое лицо? Он мне, кажется, кулак показывает?!) Дочитываю свои стихи – в зале унылая тишина. Две старушки, постоянные посетительницы моих читок на Прохоровке, видно, из жалости раза два хлопнули в ладоши, и снова тихо. Не совсем: слышно, как топают по эстраде к выходу мои стоптанные, хотя и блестящие от свежей ваксы полуботинки. Тола хватает меня за плечо и зло шепчет:– Ты чего это по-французски там болтала и про какой-то лорнет?
– Разве я виновата, что у Андрея Белого так написано! Несмотря на все мое уважение к Толе, «уступать» ему моих любимых поэтов Белого, Бальмонта, Северянина я не собиралась… Но Тола настаивал на своем:
– Мне все равно, чья это… волынка. Рабочие к бою готовятся, а она им… всякую ерунду читает, только бы показать, что она уже взрослая, про любовь может, флердоранж всякий…
Раздались хлопки неудовольствия, стук ногами, выкрики:– Концерт-то будет или нет? Тола из красного стал вдруг бледный:
– Ты… это… не сердись, иди, что хочешь делай, потяни еще полчаса, пожалуйста, – к семи артисты придут, обещали.
Вдруг меня осенило. Я снова вышла на сцену и сказала:– Дорогие товарищи, сейчас сын писателя Серафимовича, Тола, расскажет вам, как сложились ваши любимые революционные песни. Попросим…
Я захлопала в ладони первая. Вероятно, помог авторитет писателя Серафимовича – захлопали многие, а Тола, глядя на меня круглыми глазами, боком вышел на сцену. Он ничего подобного от меня не ожидал, но понимал, что я права, – не могу одна отдуваться.– Я это… собственно, – начал Тола, но я смело и уверенно продолжала, будто всю жизнь говорила с этой сцены:
– Сейчас вы услышите, как сложилась ваша любимая песня «Варшавянка» (Тола про революционные песни все знает, уже сколько раз мне рассказывал).
Я подошла к пианино и сыграла двумя руками первый куплет «Варшавянки», это очень помогло: у публики создалось настроение слушать рассказ, а у Толы – говорить. «В тысяча восемьсот девяносто восьмом году в часовой башне Бутырской тюрьмы были заключены русские революционеры и среди них инженер, друг Ленина – Глеб Максимилианович Кржижановский…» В зале тихо – но это уже совсем другая тишина. И вдруг все собравшиеся, не сговариваясь, поют «Варшавянку». Поют негромко и так значительно, что у меня словно электрический ток по телу. Я участвую в чем-то хорошем, и соединение с залом произошло. Песня допета. Снова тишина… И потом короткое, настойчивое:–Еще!
Тола рассказывает о песне «Смело, товарищи, в ногу», об ее авторе – любимом ученике великого русского ученого Менделеева – Леониде Радине. И снова мы все вместе поем… Теперь я объявляю антракт – четверть восьмого, и… артисты приехали, в том числе моя мама. Домой возвращаемся втроем – мама, Тола и я. Настроение у всех хорошее. Вдруг Тола берет меня за руку:– А Наташа подходящий человек, правда, Анна Михайловна? Ошибки свои признает и… исправить может на ходу.
– Находчивая, – смеется мама.
– В общем, если все будет хорошо, я вам, Анна Михайловна, года через два скажу что-то важное. Хорошо? Тола надевает кепку и исчезает.
– Мама, что он тебе через два года скажет, а? – спрашиваю я.
Этого я так и не узнала: Тола погиб в первых боях за Октябрьскую революцию. Вероятно, у всех подростков бывает период сомнений, горьких ошибок, тщетных поисков цели жизни, неудовольствия собой. Конечно, музыка, которая вошла в мою жизнь первой, была любима навсегда. Но стать пианисткой или аккомпаниатором?.. Целиком уместить свое «я» под крышку рояля я не смогла бы. Для соединения музыки и театрального действия – не было голоса. Вот, если бы нести свою волю, став дирижером!.. Но в те времена женщин-дирижеров не было, и дедушка – папин папа, которого я видела редко (он жил в Чернигове) – говорил: «Ты можешь стать только дирижершей (это значит – женой дирижера)». Ни в коем случае! Вообще-то, я нередко потихоньку плакала: было обидно, что наша мама забросила пение из-за любви к папе, к нам и не звучит на весь мир ее дивный голос. Но голос от природы был дан мне только «для речей». Сильно перехваливали меня, когда выдвигали выступать на публичных показательных уроках в гимназии, и я одно время много читала о речах, уме и находчивости адвокатов, которым удавалось спасать своим красноречием невинных людей. Они должны были быть людьми кристальной совести, находить такие свои мысли и слова, которые властны были переубеждать большинство ошибающихся, находившихся в зале. Да, это интереснее, чем повторять уже написанные слова даже самого лучшего драматурга, но… не свои. Повторять! Все эти «умствования» пишу, чтобы честно признаться: баловали меня, видно, больше, чем надо было, и этот период моей жизни осуждаю не потому, что ленилась работать, учиться – этого не было – а потому, что недопонимала, как важно быть наблюдательной, сердечной, человечной… Пока Николай Павлович Кудрявцев был «золотым ключиком», открывавшим мне красоту и символику поэзии, научившим азбуке режиссуры, умению увлекать пусть небольшие, но коллективы людей задуманной постановкой, уметь объединять слово, действие и музыку, импровизировать – я восхищалась им. Учитель, вдохновенный, строгий, любимый учитель! А когда он, вероятно, даже неожиданно для самого себя в меня влюбился, я чего-то испугалась, и тот горячий интерес, который прежде вызывало каждое с ним общение, ушел в какую-то нору далеко от сердца. Моей лучшей подруге – маме – я почему-то не сказала в день рождения, что Николай Павлович сказал мне тогда: он же учитель, а я девочка, может, и пошутил. И потом… я же такие слова тогда слышала в первый раз в жизни! Лет пять я уже знала Николая Павловича. Он всегда приходил и уходил один, жил где-то поблизости от студии. Одет был очень скромно, зря не разговаривал. В его творческой собранности было что-то удивительное. У реки его восприятия и мыслей было глубокое дно. Как ни странно, мама в те дни очень внимательно ко мне приглядывалась, а однажды даже пошутила:– У тебя, доченька, кажется, появились поклонники? Сережа Васильев говорит, что он к тебе неравнодушен…
– Притворяется. Пошли мы группой в Большой театр на «Вертера» – он вдруг носовой платок к щеке подносит и говорит: «Эта опера – про меня». Я ему отвечаю: «Смешно, когда Фамусов (эту роль в «Горе от ума» он очень неплохо исполнял в студии) притворяется Вертером». А он носовой платок решительно спрятал в карман и сказал: «От эгоистки слышу!»
Мамочка ответила серьезно, хотя я думала, что она засмеется:– В этом, может быть, и есть доля правды. Ты могла бы быть гораздо внимательнее к Николаю Павловичу. Он с тебя глаз не сводит, а ты даже на репетицию «Не так живи, как хочется» вчера без всякой причины не пришла… Он тебя чем-нибудь обидел, хотел поцеловать что ли?
– Ну, конечно же, нет. Он никогда даже руки моей не коснулся. Он – мой учитель. С учителем ведь и не здороваются никогда: просто, когда он приходит в класс и уходит – все встают.
– Да, он человек необыкновенный. Сегодня он приезжал ко мне на дачу и сказал очень важное…
Я в первый раз в жизни не поверила маме. Откуда же он мог узнать, что мама сняла нам на лето комнату в Лосиноостровской? Потом ведь, кроме одной фразы у пианино, мы с Николаем Павловичем, кроме пьес, стихов и импровизаций, никогда и не разговаривали. Может быть, после того, что он объявил меня своей лучшей ученицей, я старалась и реже встречаться с ним глазами: у студийцев появилась в отношении меня то ли насмешливость, то ли зависть. Кстати, после уроков он никогда не поджидал меня на улице, не предлагал проводить домой… Да и понятно! Он уже совсем взрослый – ему двадцать восемь лет, а я – девчонка. В романах после слова «люблю» опять что-то такое говорят, носят цветы, а он молчал. Или… Это я подумала в первый раз только сейчас… Может быть, он надеялся, что я ему что-нибудь сама отвечу. Да! Сама отвечу, если мне его первое признание было дорого… Неужели вдруг чьи-то усмешечки убили у меня и прежнее восхищение им как моим дорогим, так много мне давшим учителем, радость (счастье?!) неожиданных его песен только мне в маленькой комнате, слов только мне… Моя мама поняла все, и я молчала. Оказалось, что Николай Павлович совершенно неожиданно приехал к маме в новом костюме, с цветами, чтобы… попросить у нее руки ее дочери Наташи. Он признался маме, что ему уже двадцать восемь лет, он никогда не был женат и никогда еще не знал такой большой любви, которая возникла у него чуть ли не с первых наших встреч, что с нетерпением он ждет моих шестнадцати лет – совершеннолетия, что верит в мой талант и будет беречь меня для искусства, никогда… не затруднит заботами о быте… Мама говорила о Николае Павловиче с восхищением. Она одно время работала с ним в театре К. А. Марджанова, где он играл главные роли в «Сорочинской ярмарке» и «Желтой кофте», большой имел успех, но относился к нему с той же вдумчивой скромностью, как ко всему, что он делал в искусстве. Особенно меня удивил мамин рассказ о том, с каким успехом он исполнял роль Лариводьера в музыкальной комедии Лекока «Дочь Анго». Федор Иванович Шаляпин, который присутствовал на премьере этого спектакля, попросил у Владимира Ивановича Немировича-Данченко разрешения зайти после спектакля за кулисы к Николаю Павловичу Кудрявцеву, чтобы поблагодарить его «за восхитительно созданный им образ Лариводьера». Затем Федор Иванович добавил, что мастерство подлинного артиста Московского Художественного театра в сочетании с прекрасным звучанием голоса и тончайшей музыкальностью можно оценить только как подлинный шедевр. Мама разволновалась, напомнила мне, что в этом спектакле играют и такая звезда, как Казимира Невяровская, и гордость Художественного театра, очаровательная Ольга Бакланова. И все-таки наш Николай Павлович получил высшую оценку гениального Шаляпина. Именно он! Я как-то раньше и не знала, как мама восхищалась Николаем Павловичем. Человеком, который пришел из села, юношей блестяще выдержал конкурс в труппу Художественного театра, стал его признанным артистом, а с нового сезона (это мама сказала с дрожью в голосе) переведен в состав ведущих артистов и включен в число пайщиков Художественного театра, как Москвин и Качалов… Я была счастлива за Николая Павловича, ощущала мамину гордость, но… совсем не хотела выходить за него замуж. Уважать, даже преклоняться… это же не влюбиться, тем более, не жениться…– Мамочка, скажи ему очень ласково, что только по глупости можно выходить замуж в шестнадцать лет, я же сама хочу искать и найти свои пути-дорожки…
Наверное, все-таки Николай Павлович горько обиделся… Грушеньку я так и не сыграла, он из Студии ушел. В детском отделе театрально-музыкальной секции я нашла свою цель и счастье жизни. Все остальное пролетало, как из окон поезда. А сейчас пишу так длинно потому, что… стыдно. И уже много-много лет стыдно. Но это – исповедь. Последняя и первая. Через несколько месяцев после предложения Николая Павловича я получила от него записку с номером телефона и просьбой позвонить. Позвонила. Раздался голос Николая Павловича:– Придите в ту маленькую комнату при Студии завтра. Я снял ее и живу теперь там.
– Очень жалко. Завтра уеду по делам. Можно послезавтра?
– Послезавтра будет поздно. Он оказался прав. Послезавтра его не стало, он умер.
Начало пути Весна 1918-го была удивительной. Наверное, люди никогда не пели столько, сколько в ту весну, наверное, никогда не испытывали такой радости от пения хором. Эти удивительные хоры возникали как-то сами собой. Запоют два-три человека на одной стороне тротуара, к ним присоединяются другие, а вот песню подхватили и те, что идут по мостовой, и уже поет вся улица! Раньше меня, бывало, не вытащишь на улицу из студии, не оторвешь от рояля, а теперь только проснусь и… на улицу! Так хочется шагать по весенней мостовой в ногу с теми, кто поет и радуется, смотреть на первые ярко-зеленые листья деревьев, на красные флаги, с которыми играет весенний ветер. «Вся власть Советам!» «Искусство – трудящимся!» Как новы тогда были эти слова! Помню, как к нам пришел, нет, вбежал Митрофан Ефимович Пятницкий. Его красивые вьющиеся волосы были растрепаны, усы, бородка, глаза – все говорило о волнении, которое он не может сдержать. Помню, он даже не дошел до комнаты – сел на первый попавшийся стул в передней и рассказал, как он выступал в кремлевском клубе со своим хором, как на этот концерт пришли Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна, как потом его пригласили в Кремль к Владимиру Ильичу, как просто и приветливо принял его Ленин – обещал полную поддержку «хорошему, нужному делу», пожелал дальнейших успехов. Мы с мамой горячо обнимали Митрофана Ефимовича, понимали, каким счастливым он себя чувствует. Когда-то наш папа мечтал вместе с Пятницким «открыть двери концертных залов» талантливым певцам и музыкантам из народа, возмущался теми, кто презрительно называл хор Пятницкого «поющими мужичками». И вот теперь Митрофан Ефимович дожил до других времен, совсем иного отношения к искусству народа. Как больно, что папа со столькими интереснейшими неосуществленными планами своими уже умер… Пятницкий так же внезапно исчез, как появился, а у меня родилось такое желание работать, быть нужной другим людям, что я уже не давала маме покоя, и в конце концов она смирилась:– Когда ты что-то задумала, тебя трудно переспорить. Ну что ж! Пока не наладились занятия в гимназии, поработай, попытай счастья. Пойди в театрально-музыкальную секцию к Керженцеву. О нем говорят как о хорошем человеке. Многие интеллигентные люди саботируют сейчас работу в Советах. Может быть, тебя на небольшую должность и возьмут – люди сейчас очень нужны. А для нас, конечно, всякий твой заработок – тоже подмога.
На следующее утро первым делом попросила маму записать мне адрес этой секции и, непрерывно повторяя «Кузнецкий переулок, дом один», вышла из дому. Примут меня на работу или нет? Я вышла на Красную Пресню, пошла вниз, к Зоологическому саду. Мне хотелось приготовить себя ко всем неожиданностям, чтобы в случае отказа не зареветь, и я снова начала загадывать. Значит, так: если сейчас пройдет трамвай № 25, мне дадут работу на вешалке или посыльной, если № 22, хорошо, как нельзя лучше, если № 1, вернусь домой ни с чем, если № 16, буду артистов на концерты по телефону обзванивать. Хорошо бы… Мимо меня с грохотом промчался трамвай № 22, весело подмигнул мне сразу двумя своими одинаковыми цифрами. Я решила больше ничего не загадывать. Солнце приветливо светило, старая китаянка на углу продавала пестрые бумажные шарики на резинке, и я дошла, ни о чем не думая. Заволновалась снова, когда увидела надпись: «Театрально-музыкальная секция». В прихожей висело зеркало. Посмотрела на себя и покраснела: волосы в две косы – могут не поверить, что я взрослая. Но сейчас менять что-нибудь в прическе было уже поздно. В театрально-музыкальной секции было удивительно тихо. Напротив зеркала, около жестяного чайника, сидела курьер Вера Ивановна. На мое «здравствуйте» она ответила приветливо. В первой комнате, за столом, высокая женщина в пенсне, с черными волосами – секретарь З. С. Герасимова (об этом было написано на дощечке над ее головой).– Вам кого нужно? – спросила она.
– Я насчет работы.
Она показала на закрытую дверь с надписью: «Заведующий театрально-музыкальной секцией МСР и КД», и я вошла. За столом сидел Платон Михайлович Керженцев. Он что-то писал, но, услышав, что в дверь вошли, сейчас же поднял голову:– Здравствуйте, садитесь. Что скажете? У него было немного волос, но они были золотистые, вьющиеся, как венчик вокруг головы. Я подумала, что они похожи на пушистый одуванчик, от этого мне стало менее страшно, и просьба о работе была изложена. Меня поразила простота и приветливость Платона Михайловича. Как просят работу, я знала только по литературным произведениям. Думала, будет тяжкий разговор, а Платон Михайлович держался как равный, без малейшего высокомерия, с полуслова схватывая все, что говорил и недоговаривал собеседник. Его веселый, живой ум, быстрота решений просто потрясли меня в тот момент.
– У нас должен быть детский отдел, а работника там пока ни одного нет. Попробуйте вы поработать.
Помню, от радости я подпрыгнула на месте, шарик на резинке выскочил из моего кармана, я страшно смутилась, запихнула его обратно и спросила заикаясь:– А что… мне надо будет… делать?
– А это мы вас спросим, что вы будете делать, – сказал Платон Михайлович и протянул руку в знак того, что мне пора уходить.
Наверное, у меня была очень глупая улыбка. Я никак не могла подтянуть углы губ на середину лица – они сами ползли далеко к ушам. Вышла, закрыла дверь. От переполнившего меня восторга хотелось всем рассказывать, петь о встрече с Платоном Михайловичем! Словно поняв мое состояние, ко мне подошли Вера Ивановна и Зинаида Сергеевна Герасимова.– Как вас зовут?
– Наташа… Наталия Ильинична, – в первый раз в жизни назвала я себя по имени и отчеству.
– Работать у нас будете?
– Да, завтра приду к вам в девять часов утра на работу. Только он сказал – это мы вас спросим, что вы будете делать…
Видя мое смущение, Зинаида Сергеевна пояснила:– У Платона Михайловича такой принцип – предоставлять новому работнику полную инициативу, пока надеется, что работник доверие оправдает.
Хорошо отнеслись ко мне старшие товарищи в Темусеке! Я вернулась домой именинницей. Следующий день – день начала работы – навсегда остался в памяти. Помню почти физическую радость от соприкосновения подошвы с каменной ступенькой у входа в Темусек. Было очень рано. Вера Ивановна еще спала на сундуке. Она нисколько не рассердилась, что я разбудила ее «ни свет ни заря». Хороший она была человек! Добрая, умная. Член партии с 1903 года. Говорила правду в глаза всем без исключения. Жизнь у нее была суровая и внешность тоже – худая, курила, как мужчина, зря не улыбалась. В необходимость детского отдела Вера Ивановна уверовала сразу, но так как лишних столов в Темусеке не было, а, как известно, без стола никакой отдел возникнуть не может. Вера Ивановна пошла во двор и притащила оттуда кем-то выброшенный кухонный стол. Потом она покрыла его листом бумаги, а мне дала картон и тушь, чтобы написать «Детский отдел». Когда пришли другие сотрудники, я уже сидела под этой надписью за столом, на котором было все, что полагается, – чернильница, ручка, белая бумага. Как белый лист, который лежал передо мной, была тогда и вся эта работа. Возможности безграничные, а как, с чего начать? Дети и театр – белое пятно на карте искусства, пути, еще никем не изведанные. На колесе счастья Видели вы когда-нибудь «колесо счастья» на народных праздниках? Оно так весело блестит разноцветными электрическими огоньками и все время кружится высоко-высоко. С первых дней моей работы в Детском отделе театрально-музыкальной секции я почувствовала себя самой счастливой, словно ухватилась за это колесо и сладостно быстро закружилась вместе с ним. Держаться приходилось крепко, на ходу менять руку, но не падать же вниз – удержаться во что бы то ни стало! Было ли трудно? Очень. Но отец говорил: «Трудности для того и созданы, чтобы их преодолевать». «Искусство – детям». Это ли не самое важное сейчас, когда в школах нет занятий, когда дети предоставлены сами себе?! Наша театрально-музыкальная секция Московского совета помещается на первом этаже чьей-то, в недалеком прошлом, барской квартиры. От ее обстановки осталась только французская шторка из запыленных воланов на одном из окон. Отодвиньте эту шторку, и вы увидите… многочисленные подводы около нашей входной двери. Впрочем, вы, наверное, не знаете, что сколоченные из досок «полки», запряженные одной лошадью, называются подводами. Казалось бы, удивительно! В центре Москвы и вдруг… подводы! Но они нам совершенно необходимы. Лето 1918 года. Транспорт разрушен. Как же без них мы доставим артистов к детям! Всего три месяца, как родился наш Детский отдел, но уже некоторым артистам удалось подружиться с ребятами. На пяти подводах «рассылаем» детские концерты на заводы и фабрики, а больше играем в скверах и на площадях. Выступать под открытым небом соглашаются далеко не все. Как правило, выручают цирковые артисты. Пишут для нас и «агитпьески» для нового репертуара. На моем столе первая из них, называется «Живой Петрушка», автор – Николай Адуев. Нужны четыре действующих лица, баянист и… корова. Ликую безмерно, что пока весь штат Детского отдела – это я одна, что нужна, что рвут на части. На большом белом листе, что лежит передо мной, аккуратно записала двух пожилых сказительниц, и вдруг между ними просунулось круглое личико какого-то юноши в гимназическом кителе и он почти закричал звонким голосом: «Запишите меня на ваш лист бумаги, я тоже хочу на сцене выступать». Изображая из себя «высокое начальство», я хотела было попросить его говорить не так громко, но вдруг передумала: «Он же как никто другой подойдет мне для исполнения роли живого Петрушки!» Лицо мое из хмурого моментально превращается в очень приветливое, но все-таки надо бы узнать, артист ли он или «просто так». Он на ходу ловит мой невысказанный еще вопрос и, смеясь, отвечает: «Я, как и вы. Гимназист, из гимназии Флерова. А пока нет занятий, меня по конкурсу приняли в студию Комиссаржевского».– Значит, все-таки… артист… Даю ему пьеску Адуева, карандаш, бумагу.
– Спишите роль живого Петрушки… в стихах… за ночь выучите? Завтра в десять утра приходите. Он улыбается. Заразительно рад.
– Мне так про вас и сказали: решительная там девочка верховодит. А мне не терпится на сцене играть.
Я несколько уязвлена словом «девочка», отвечаю сурово:– Играть будете не на сцене, а на подводе. Он круглоглазо на меня посмотрел, но другие артисты оттерли его от моего стола, и он исчез.
На следующий день «забавный мальчишка», как я мысленно назвала его в отместку за «девчонку», вернул мне пьесу и пулеметом отчеканил текст роли.– Прикрепляю вас к подводе номер два, будете выступать в пяти уличных пунктах. Наденьте эту петрушечью шапку, куртку, сейчас прорепетируете с двумя вашими партнерами, они уже здесь. Вот только на роль коровы еще никого не нашла.
– Через полчаса приведу вам на эту роль товарища. Тоже из нашей студии.
Через двадцать минут он уже вернулся назад в сопровождении кареглазого парнишки с меланхолическим взглядом.– Мой друг Аким Тамиров. Знаменитым артистом будет. Временно согласен для детей быть «коровой».
Обрадовал меня. Дала и «корове» костюм. Как и все тогда, у нас был он примитивным. Начало начал. Помню белый комбинезон из старой простыни с намалеванными коричневой краской пятнами, «головной убор» из картона в виде коровьей морды и на животе – обвислые надувные шары. Роль коровы состояла из нескольких «му-у-у», по соответствующим репликам. Это «му-у-у» у Тамирова, который не мог скрыть смущения при виде своего костюма, звучало жалобно. Впрочем, в те дни нам было не до эмоций. Уже в два часа дня подвода в полном оснащении двинулась в путь. Конечно, волновалась. Исполнителей почти не знала. Подвода уже тронулась, когда я спохватилась и дала действующим лицам рупоры: ведь выступать придется на открытом воздухе, будет ли слышно и смешно?! Но надо было отправить все десять подвод – дел по горло. Виталий Лазаренко с маленьким сыном Витей укатили последними на Сокольнический круг. За этих не волновалась – проверенный успех. Смотреть на флеровца пришлось только, когда он подъезжал к своей третьей точке. Зрелище оказалось неожиданно торжественным: за подводой бежала ватага мальчишек, торопливо шли и смеющиеся взрослые. С подводы из рупора заливисто несся голос «живого Петрушки»:– Товарищи зрители! Наше представление посмотреть не хотите ли? Времени осталось мало. Через шесть минут начало. Думаете, я игрушка? Как бы не так, сегодня в первый раз перед вами живой Петрушка.
Вот ведь забавный парень! Пританцовывает на движущейся подводе, сам какие-то стихи придумал. И как охотно его слушают! Каждое слово вызывает смех. Впрочем, задорнее, громче всех он смеется сам. Я, конечно, держалась незаметно в сторонке, но, когда началось представление, близко к подводе и подойти было нельзя. Подводу окружили со всех сторон. Петрушка стал прямо-таки магнитом для зрителей. У него нашлись какие-то неожиданные интонации, смеялся он заливисто, а главное, заражал всех радостью игры, импровизированными движениями, похожими на кукольные. Заборы, балконы домов, раскрытые окна все больше заполнялись зрителями. А когда третье представление кончилось и подвода номер два поехала на четвертый пункт, многие зрители, особенно мальчишки, бежали за ней, весело повторяя слова и движения живого Петрушки. На четвертый пункт подвода прибыла уже целиком окруженная «своей» публикой, и некоторые хранители уличного порядка заволновались: площадь запрудили со всех сторон, был, что называется, сверханшлаг. На следующий день я поинтересовалась именем и фамилией «живого Петрушки». Он улыбнулся мне, уже слегка важничая, и сказал:– Могли бы и вчера спросить. Вот вы – Наташа Сац, я это еще вчера знал. А меня зовут Игорь, фамилия Ильинский. Сказал вам вчера, что не подведу, и, кажется, не подвел…
Потом посмотрел на Акима Тамирова, который ходил за ним, как нитка за иголкой.– А вот тебя, Аким, я, кажется, подвел. Корове было не до смеха, она копытами все время закрывала розовые соски на своем животе и «му-у-у» мычала мучительно.
Я, конечно, бросилась особенно горячо благодарить Тамирова: а вдруг откажется? К счастью, второй день работы «живого Петрушки» прошел еще более лихо. Игорь Ильинский, окрыленный поразительным контактом, который он умел создавать с многочисленными уличными зрителями, вносил в свою роль все новые и новые слова и жесты, увлекался и увлекал, стал таким носителем задорного юмора, что я, открывшая такого «корифея», была на седьмом небе. Теперь я его гордо величала «мой сверстник», таким образом как бы отпивая глоток от его успеха. Но, увы, вскоре Ильинский сорвал горло, неделю мог говорить только шепотом и от дальнейших выступлений на подводе отказался. Он ушел, и меланхолическая «корова», как всегда, последовала за ним.– Ну, где же твой боевик? – подшучивали надо мной коллеги из театрально-музыкальной секции.
Исчез с моего горизонта. Замена «сверстника» опытным профессионалом провалилась. Этого адуевского Петрушку уже никто не считал живым. Но вскоре удалось нам добиться и настоящего закрытого помещения и возможности показать детям театральную сказку. Первый спектакль, который я организовала для них в Грузинском народном доме 7 июня 1918 года, забыть не могу. Пьесу «Бум и Юла» Н. Шкляра по моей просьбе поставила все та же замечательная артистка Художественного театра С. В. Халютина. Играли студийцы-грибоедовцы. Среди них были М. Кедров, М. Титова, С. Азанчевский, В. Орлова, Н. Оленина… Репетировали днем и вечером больше месяца, горячо и серьезно, спектакль получился интересный, хотя сюжет сказки и был несложен. Мальчик Бум и девочка Юла ходят по дворам в поисках подаяния. Бум играет на скрипке. Юла танцует. Но в сказке все возможно, и они попадают во дворец короля. Бум и Юла внесли во дворец струю жизнерадостности, за это их вкусно кормят. Но пусть маленькие музыканты изголодались и исхолодались – они не променяют приволья лесов и лугов на золотую клетку. Этот первый спектакль смотрели только двести – двести пятьдесят ребят. Они прежде понятия не имели, что такое театр, и шли неохотно. В большом зале дети чувствовали себя неловко, сидели вразброд, кучками. Они даже не знали, куда нужно глядеть, и когда открылся занавес, гул в зале некоторое время продолжался. У нас тоже многое еще было не дотянуто – и декорации и костюмы. Об оркестре и не мечтали: рояль и скрипка. Но как хорошо, что этот спектакль помог нам открыть первую страницу новой книги «взаимопонимания». В третьем акте тишина сменилась смехом, а возгласы одобрения подтверждали, какой силой обладает та радость, которую принесет детям театр. Искренность и молодой задор артистов Грибоедовской студии по-настоящему заразили маленьких зрителей. После окончания спектакля дети долго, как завороженные, ходили вокруг Грузинского народного дома, подбегали к разгримировавшимся артистам, с сияющими глазами спрашивали: «Когда будет еще?!» Москва разделена на одиннадцать районов. Ходить в центр дети не могут. Разруха. Нет транспорта, обуви. Для начала я должна устраивать хоть по одному утреннику для детей в каждом районе каждое воскресенье. У взрослых сейчас после каждого собрания на фабриках и заводах концерты. Репертуар для взрослых у каждого артиста есть. Конечно, рабочие их прежде не видели, не слышали – это чудесно, что знаменитые артисты выступают теперь для рабочих, но Детскому отделу куда труднее. Для детей прежде совсем никаких концертов не было. Надо уговорить артистов учить совсем новый репертуар.– Это еще что за агитатор выискался? – ворчит на меня пожилая артистка из Малого театра.
– Не донимайте нас речами, деточка, они нам и так надоели, – берет меня за подбородок артист в бобровой шубе. Но некоторые обещают «подумать», спрашивают:
– А что бы вы хотели, чтобы мы для детей выучили? Да, надо самой им что-то предлагать. Ночами отбираю ноты и книги, которые пригодятся для детских концертов. К счастью, библиотека у нас дома большая, хорошая – на нее деньги тратились в первую очередь. Чайковский – «Ласточка», «Кукушка», «Мой Лизочек» – проигрываю на рояле, откладываю – пойдет. Гречанинов – «Про теленочка», «Подснежник», «Ай-дуду»… Русские народные сказки, Андерсен… Днем со связкой отобранного хожу к артистам, которых мечтаю сблизить с детской аудиторией. Заметила: когда говоришь с людьми поодиночке, их легче уговорить. Много позже я поняла, какая трудная и необходимая наука «человековедение» и как без нее ни организатором, ни режиссером не станешь…
Первой знаменитой певицей, которая приняла меня радушно, была Надежда Андреевна Обухова. Когда я робко вошла в переднюю ее большой квартиры, меня сразу провели в ее комнату, где было много зелени, диваны, портреты в овальных рамах. Рояль приветливо распахнул крышку – верно, Надежда Андреевна незадолго до моего прихода пела. Было утро, и Обухова вышла ко мне в синем халате, косы вокруг головы, улыбнулась мне всем своим румяным русским лицом, усадила в кресло:– Выступать для детей? Это же очень интересно! Вот только понравлюсь ли я им? Я прежде для детей никогда не пела, своих у меня нет. Вы сами-то меня слышали?
Слышала ли я Обухову! Я и сейчас всем сердцем помню ее чарующе-глубокий, такой благородный голос, редчайшее меццо-сопрано, удивительное умение заставить полюбить всех тех, кого она пела-играла… Встреча с Надеждой Андреевной была чудесным взлетом на колесе счастья. Она сказала, что с интересом работала бы с композитором Гречаниновым над его детскими вещами, и дала его адрес. К Гречанинову пошла прямо от Обуховой. Там приоткрыли дверь, не снимая цепочки, и, сказав: «Нет дома», снова захлопнули ее. Несколько раз ходила туда, прежде чем попала в переднюю и увидела высокие потолки, очень прямые стулья, пол, который блестел, как каток.– Не наследите, – строго сказала мне женщина в фартуке, и я замерла около входной двери. Ко мне вышла черная, со злыми глазами жена Гречанинова. Была она в халате, вышитом райскими птицами, и, когда я объяснила ей, зачем пришла, посмотрела на меня, как на козявку.
– Мой муж еще спит, – начала было она, но вдруг звонок телефона и (о счастье!): «Здравствуйте, Андреевна».
И как Обухова почувствовала, что дела мои плохи?! Меня вводят в большую, чванливую своей чистотой и точным порядком комнату. Через несколько минут появляется Гречанинов. Он в хорошем костюме, без воротничка, бородка и волосы темно-русые, невысокий и такой же прямой, как спинки его стульев.– Ну-с, объясните, почему вы так настойчиво меня добиваетесь, – говорит он еще с порога своей комнаты.
– Я насчет детских концертов…
– Видимо, это дело поручили вам, так как вы сами еще не вышли из детского возраста.
На эту фразу-колючку надо ответить резко или навсегда уйти из этого дома? Но какой же из меня выйдет организатор, если не научусь подчинять себя и свои взрывы делу? Пауза задержалась. Подхожу к нему ближе, и вдруг… мне делается его жалко: оказывается, у него только один глаз.– Я знаю и люблю вашу музыку: «Острою секирой ранена береза», «Медведь обед давал», – говорю ласковым голосом.
Он, видимо, ждал от меня в ответ других интонаций… Через некоторое время он уже за роялем, поем дуэтом: Тень-тень-потетень, Выше города плетень, Сели звери на плетень, Похвалялися весь день… Дуэт у нас получился: я пою нижний голос, он – верхний. Голоса у нас одинаково противные, а музыка веселая, и на рояле он играет замечательно. Гречанинов вдруг закрывает ноты, идет к телефону, потом возвращается ко мне и заявляет довольным тоном:– Договорился с известной певицей Анной Эль-Тур. Неплохой состав для детского концерта подобрался: певицы Обухова и Эль-Тур, у рояля композитор Гречанинов.
Одновременно с артистами надо было «уговаривать» и тех, кто мог предоставить здания для детских утренников. Недоверие полное. Одна из причин – моя «несолидность», хотя косиц больше нет – остриглась. Но другая причина крылась глубже. «Никогда для детей утренников не делали, значит, можно и не делать», – рассуждают одни. «У нас и для взрослых дела хватает», – отвечают другие. «Дети нам все в театрах переломают» – говорят третьи. Сила привычки – грозная сила. Я часто думала об этом в первые годы новой работы. Но если крепко веришь в правду порученного тебе дела, кровно чувствуешь его своим, настойчиво ищешь, встречная поддержка появится! В этом сотни раз меня убеждали факты. И вот уже на подмостках Сокольнического крута в ярком атласном костюме перед детьми появляется Владимир Дуров, его собаки Лорд и Пак, лисица Желток, свинья Хрюшка-Финтиклюшка; на другой летней сцене дети аплодируют «великану» Виталию Лазаренко: курносый, с веселым хохолком на голове, он появляется на огромных ходулях, поражает своими прыжками в воздухе, а под конец перепрыгивает через несколько составленных вместе грузовиков, делает сальто в воздухе – у ребят дух захватывает.– Посмотришь на вас и подумаешь: человек все может, стоит только по-настоящему захотеть, – говорит Виталию после концерта рабочий-подросток Иван Камнев.
А в клубах фабрик и заводов русский танец для детей исполняет «сама» Екатерина Гельцер, читают сказки Ольга Озаровская и М. М. Блюменталь-Тамарина, радуют детей петрушки художников Ефимовых, поют А. В. Нежданова, Н. А. Обухова, Борис Трояновский, Е. Бекман-Щербина… всех не перечесть. Замечательные артисты повернулись лицом к детям. Молодежь тоже не отстает. Стремительные вешние воды новой жизни несутся с головокружительной быстротой! Работа Детского отдела с каждым годом становилась все более массовой. За три года мы устроили 1823 детских спектакля и концерта, которые видели более двух миллионов маленьких москвичей! Первый Детский Самое чудесное в жизни – иметь право проявлять свою инициативу, с головой уйти в любимое дело, завоевать доверие. Но уйти с головой в любимое дело, значит, ни на минуту не терять своей головы ни от трудностей, ни от успехов, организуя новое, анализировать уже сделанное, накапливая опыт «сегодня», думать о более значительном «завтра». Наверное, в те годы не смогла бы изложить эти мысли гладко, они были более корявы, но были. Передвижная работа, работа по охвату детскими спектаклями и концертами всех районов Москвы была в то время необходима, но с этим «вширь» мы упускали какое-то очень важное звено. На месте нередко полный хаос: рояль не настроен, нас торопят скорее заканчивать «развлечения для детей», потому что «более важно готовиться к вечернему концерту для взрослых», в больших помещениях немало мест, с которых детям ничего не видно и не слышно. А главное – детских пьес так мало и они редко даже приемлемы, надо по-настоящему осмыслить, что и как даем детям… Трудно сказать, как человеку приходит в голову какая-то самая дорогая ему мысль, новая мысль, как он «заболевает» потребностью действовать, вложить все силы, чтобы задуманное стало действительностью. Удивительное стечение обстоятельств – случай дал мне возможность оказаться в Детском отделе. Какие-то знания, умения, накопленные в детстве, какие-то способности и многие усилия помогли на «плэй» случая, как в игре в теннис, ответить «рэди» и не проиграть первые геймы. Но сейчас знаю, чего хочу уже сама. Хочу так сильно, как еще никогда. Это «хочу» горячо во мне созрело. Хочу создавать театр для детей. Совсем новый. Такого театра еще никогда нигде не было. «Синяя птица» был лучший, в своем роде единственный детский спектакль большого искусства. Но он так и остался единственным. Художественный театр жил интересами взрослых, а в задуманном театре все должно было быть для детей. Не отдельные спектакли, а театр – это большая разница. В этом театре дети – не случайные посетители, а полноправные хозяева. Лучшие писатели должны думать о детях, создавать для них новые пьесы, большие художники сцены – посвятить целиком свое творчество маленьким. В театре для детей, конечно, должно быть свое собственное помещение, так же как оно есть у театров для взрослых. О детских театрах пишут разные истории. Октябрьская революция окрылила многих нести свое творчество детям. Но как радостно и важно, что первый театр для детей в своем помещении открыл двери маленьким зрителям в Москве в первую годовщину Октябрьской революции! Нигде в мире до этого не было театра, сконцентрировавшего всю свою работу на единой цели – искать и найти то содержание, те формы театрального искусства, которые особенно дороги детям. Опыта в прошлом быть не могло ни у кого, мы шли вслепую, на ощупь, в чем-то ошибались, но ошибок не скрывали, старались их исправлять, крепко верили в настоящее и будущее Детского театра. Петрушки художников И. С. Ефимова и Н. Я. Симанович-Ефимовой имели у детей особенный успех, и я решила начать поиски «самого главного» в Детском театре, привлекая талантливых кукольников. Пусть о самом интересном и близком говорят с ребятами петрушки, марионетки, театр теней. «Это был первый детский театр… Мысль этого театра принадлежала Н. И. Сац, которая подобрала компанию художников для ее осуществления», – писала Н.Я.Симанович-Ефимова в своей книге «Записки петрушечника». «Компанию художников» удалось тогда подобрать замечательную. Впоследствии многие из них завоевали мировое признание. Назовем хотя бы Владимира Фаворского… На мои подростковые плечи («инициатора-организатора») навалились тягостные заботы – сделать первый Детский театр Московского Совета таким же «официально оформленным», как у взрослых. А это означало, что нужны соответствующие решения, утвержденные штаты, смета. С трепетом отправляюсь в горфинотдел – организацию грозную и могучую. За огромным круглым столом человек сорок, из них больше половины лысых – финансовые специалисты. Многие из них и в царском департаменте работали, держатся чинно, перед каждым толстые справочники с таблицами цифр, кожаные портфели, а тут я со своей доморощенной сметой. Сама необходимость Детского театра вызывала возражения.– Не то время, – сказал кто-то. Но глава горфинотдела Ф. А. Бассиас возразил ему:
– Времена не путайте. Сейчас то время. О детях заботиться будем, а смету урезать придется.
Споры были резкие, резали все, что могли, а я изо всех сил отбивалась. Больше всего боялась, что «зарежут» трех кукловодов театра марионеток (они называются «невропасты»). Но, к моему удивлению, единственное, что не встретило возражений, были именно «три невропаста». Старички переглянулись, а потом главный «резака» сказал солидно:– Ну, это, конечно, надо оставить полностью. Потом выяснилось, что никто из присутствующих не знал слова «невропаст» и не хотел показать этого другим. Так неожиданно иной раз повезет в жизни!
Очень трудно было найти помещение для первого Детского театра! Я внушала себе: надо правильно соразмерить свои силы, начинать поскромнее, но и поскорее. Помещение бывшего Театра миниатюр в Мамоновском переулке, дом 10, никого не привлекало – оно в переулке, у него крепко сложившаяся репутация «прогарного». Плохая репутация этого здания была нам в тот момент на пользу, и его удалось закрепить за Детским театром. Главная цель – иметь собственное помещение – была достигнута. Теперь перед нами стояла задача как-то его освоить и, что самое трудное, утеплить. Сейчас даже людям с богатым воображением очень трудно представить себе те времена. Отопление тогда было главным образом дровяное, а дров никак не хватало. Убедить в необходимости создания Детского театра мне удавалось многих, но самые горячие убеждения оставляли холодным заведующего дровяным отделом Московского Совета, который, дав однажды себя уговорить на двадцать саженей дров, ненавидел меня всеми фибрами души. Еще очень большой заботой было починить крышу – она протекала. Заведующая театром (это я) и главный администратор Максим Фаворский (брат художника) делали все возможное и невозможное, чтобы заделать ее дыры – нельзя же топить на ветер, особенно такими драгоценными дровами; а пока наш «штат» репетировал в этом промозглом помещении в шубах и валенках. Все привлеченные к работе люди были художниками-энтузиастами, давно мечтавшими о создании кукольного театра. Подготовка к открытию шла, несмотря ни на какие трудности, в очень быстром темпе. В большом зале мы устроили театр марионеток. В другом зале поместился экран, а за ним – все устройство театра теней, в специальном углублении – балаган театра петрушек. Зал театра петрушек и теней был открыт первым. Хорошо помню канун открытия первого Детского театра Моссовета. Ночью Ефимовы докрашивали скамейки по собственным эскизам, мы все им помогали. В шубах и варежках переносили мы с места на место жестяные банки с разведенной краской, старались как можно лучше выполнить первоначальную работу кистью, загрунтовать, подчистить. В конце концов все было сделано для того, чтобы непривлекательные деревянные скамейки выглядели более ласково даже в этой проклятой, пронизывающей сырости. Ефимовы сделали большие игрушки из фанеры, которые мы повесили на стены. Портал теневого театра работы Нины Яковлевны Симанович-Ефимовой как бы переносил зрителей в мир теней. Она просила нас позировать и изобразила всех взявшимися за руки и идущими вперед. Голубые тени от вереницы увлекающих друг друга людей составили одно целое с тенями листьев, контурами музыкальных инструментов. (Этот портал неоднократно экспонировался впоследствии на выставках и всегда имел успех.) Открытие первого Детского театра Моссовета прошло очень скромно. Но когда в «свой собственный театр» входили первые дети-зрители, когда мы встречали их в дверях, рассаживали на сделанные специально для них скамейки, потом следили за их восприятием спектакля, у всех сотрудников Детского театра было праздничное настроение. И пусть ребята сидели, как в кино, в шубейках и галошах, пусть наших дров далеко не было достаточно, чтобы исчез холод, – было тепло от сознания, что начато что-то важное и хорошее. Поздравил нас и Всеволод Эмильевич Мейерхольд (он был на этом спектакле). Театр марионеток открылся позже, в ноябре, новой пьесой, специально для этого театра написанной. Она называлась «Давид» и повествовала о победе мальчика – народного героя над великаном Голиафом. Написал пьесу Михаил Корольков – она приводила в восторг наших художников Павла Павлинова, Константина Истомина, Владимира Фаворского, заведующего музыкальной частью нашего театра известного композитора Анатолия Александрова, Валентину Жгенти (в прошлом артистка Художественного театра, теперь она работала у нас). Жгенти мечтала озвучить образ деревянного Давида. Но я не разделяла их восторгов в выборе сюжета. Мне казалось ненужным углубляться в такие дебри прошлого, как легенда о Давиде и Голиафе, но единомыслие больших художников, которых я сама позвала и которым верила, перегруженность административными заботами, а главное… мои пятнадцать лет от роду заставляли меня возражать лишь вполголоса. Я не совсем понимала тогда, почему Владимир Андреевич Фаворский так вдохновенно резал кукол для этого спектакля и не допускал даже мысли, что можно открыть театр не «Давидом».– Это и есть вершина в искусстве, выраженная в силе мальчика, – говорил он.
Фаворский не был красноречив, но был гениален. Когда я видела его за работой, становилась молчаливой и была согласна на все. Первый нарком просвещения В первый раз я увидела Анатолия Васильевича в девятнадцатом году в Большом театре совершенно неожиданно. Наш Детский отдел добился постановления Московского Совета – один раз в неделю все билеты в Большой театр распределять бесплатно среди детей. Дети, которые прежде и хлеба-то досыта не видели, подходят со всех сторон к величественному зданию Большого театра. Какие огромные колонны! Какие роскошные двери! Их даже страшновато с непривычки открывать… По мраморным лестницам, не веря, что это происходит не во сне, а на самом деле, поднимаются ребята, не узнают друг друга среди золота и бархата Большого театра. Но самое удивительное – в зрительном зале. По нескольку минут детские головы не опускаются – застывают в созерцании огромной люстры, росписи потолка. Потом ребята устремляются к оркестровому барьеру. Неужели все эти инструменты будут сегодня играть для них? Золото арфы, величина контрабаса, количество скрипок, мощь барабана – все приводит их в изумление и восхищение. Но если многое поражает ребят, то и они сами представляют поразительную картину в стенах театра, который еще так недавно был «императорским». Эти счастливые вертящиеся головы навсегда хотелось запечатлеть в памяти. Мы очень верили в воспитательную силу театра, но администрация Большого театра не верила в своих новых посетителей. «Такие грязные! Так громко смеются», – брюзжали некоторые. Дети детских домов и школьники не были грязными, но в отдельных ложах мы размещали и… беспризорных – их было много тогда на московских улицах, надо было пытаться возвратить в общую жизнь и их. Около этих лож дежурили педагоги, ну а вести себя эти ребята научатся, когда будут чаще ходить в театр – в Институте для благородных девиц их действительно не воспитывали. Ребята во время спектаклей сидели, в общем, хорошо. Но в балете они далеко не всегда понимали содержание (а главное для ребят – понимать смысл, действие, логику событий). Однажды, боясь упреков, что дети опять шумят, я, искренне желая помочь им во всем разобраться, сама «вылезла» на сцену Большого театра и сказала вступительное слово. Голос у меня был громкий, речь ясная, меня московские ребята знали, приветствовали криками: «Здравствуй, тетя Наташа» – и бурными аплодисментами после конца «слова». Я могла бы быть довольной, но, уходя со сцены, поймала на себе взгляд изящного представителя администрации театра – В. Ю. Про. Тогда я еще верила, что прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками: сидела в партере – беспокоилась, что дети опять могут не понять содержания, пошла «по прямой», думая, что поступила правильно. Но во взгляде В. Ю. Про вдруг увидела себя как в зеркале и смутилась. Платье на мне было красное шелковое, с огромным старомодным воротником из кружев, который я купила по случаю у бывшей петербургской барыни. На ногах новые валенки на сороковой номер – меньших в магазине не было, а у меня пропадал ордер. Я их надела потому, что ботинки окончательно сносились, а валенки были новые, но, конечно, падали с ног. Волосы накануне мама мне подстригла сама и смеялась, что я напоминаю наших украинских родичей, которые стриглись «под горшок». Щеки у меня в те годы были такие красные, как будто я их натирала свеклой, и, конечно, мое появление в этом «туалете» на сцене Большого театра перед показом вершин грации трудно было считать закономерным. Как назло оказалось, что в театре Анатолий Васильевич Луначарский, о котором я много слышала, но никогда еще не видела. Ругала я себя весь первый акт нещадно. В антракте меня позвали в ложу к народному комиссару просвещения. Я с ненавистью смотрела на свои новые валенки, пока шла.– Здравствуйте, тетя Наташа, – вдруг раздалось над моим ухом.
Кто это? Луначарский! Он уже вышел из своей ложи и в сопровождении нескольких работников Большого театра, которых я знала, направлялся в фойе. На Луначарском был синий френч с красным значком в виде флажка – «Член ВЦИКа». Глаза с веселым прищуром, пенсне, добродушно-насмешливая интонация, простота в обращении, пытливый интерес ко всему окружающему. Мое смущение начало проходить, я кратко рассказала Анатолию Васильевичу о нашей передвижной работе, о спектаклях для детей в центральных театрах. Луначарский повернулся к работникам Большого театра:– Достойно всяческой похвалы, что дирекция театра пошла навстречу этому нужнейшему начинанию. Я сегодня испытывал двойное удовольствие: от спектакля и от детского восприятия – второе удовольствие даже пересиливает первое. Получается как бы два спектакля: на сцене и в зрительном зале.
Я была очень рада этим словам Луначарского, так как эти «представители», которые сейчас ему, конечно, поддакивали, в его отсутствие за каждую детскую провинность ели меня поедом. Анатолий Васильевич опять прищурился и добавил шутливо:– Больше всего мне понравилось, что дети называют вас тетей, хотя вы на тетю совсем не похожи, и кажется, что вы сами вылезли из детской ложи. – Я покраснела, он, видимо, захотел меня подбодрить: – Объясняете вы толково, весело. Давно с детьми возитесь? Видно, любите их? Сколько вам лет?
Это был самый страшный для меня в то время вопрос: врать нельзя, а сказать правду – он обязательно велит снять меня с работы. С перепугу я вспомнила, как одна мамина знакомая, стареющая актриса, то и дело произносила в нос «При чем тут возраст?» – и так же ответила Луначарскому, чем очень его насмешила. Простился он со мной по-хорошему и даже познакомил со своим секретарем Шурой Флаксерманом – кареглазым юношей с пушистыми вьющимися волосами.– Вот, Шурочка, если эту «тетю» с ее весьма многочисленными племянниками кто-нибудь обидит, запишите ее ко мне на прием.
Возвращалась я домой, не чуя под собой валенок. Все новое трудно. Неудивительно, что и такое хорошее дело, как организация спектаклей для детей в лучших театрах Москвы, наталкивалось на многие подводные камни. Еще труднее было создать специальный театр для детей. И все же в 1919 году первый Детский театр добавил к спектаклям марионеток, теней, петрушек спектакли балета для детей. На ощупь искали мы пути нового театра, искали вдохновенно, но условия работы были настолько трудными, что однажды я пришла к выводу: надо покончить с административно-хозяйственной кустарщиной, поставить работу первого Детского театра шире, крупнее. А что, если из местного, принадлежащего Московскому Совету, сделать этот театр государственным, передать его Наркомпросу, опереться на его поддержку? Ведь Анатолий Васильевич – народный комиссар просвещения и сам возглавляет Театральный отдел Наркомпроса. Он, наверное, увлечется идеей театра для детей. Надо добиться у него приема, добиться во что бы то ни стало, тем более что на спектакле в Большом театре он уже обещал, что в «крайнем случае» меня примет. По знаниям академик, Луначарский по манере держаться был похож на студента. Он без устали вновь и вновь познавал людей, жизнь; безудержно ей улыбался. Его синий френч из полушерстяной материи собирался на рукавах гармошкой, оттопыривался на животе, хотя Анатолий Васильевич был худой [12] . В этом френче было что-то удивительно органичное Луначарскому первых лет революции, его обаятельно-студенческому облику. Попасть на прием к Анатолию Васильевичу в первый раз мне было очень трудно. Его то и дело вызывали в Кремль, он внезапно выезжал в командировки, на прием была большая запись, ответственные работники приезжали в Москву из других городов… Но я «на всякий случай» ходила в ТЕО каждый день и в конце второй недели попала на прием. Анатолий Васильевич выходил из-за стола навстречу каждому посетителю и здоровался за руку – чудесный, ободряющий людей обычай. Я была в кабинете наркома первый раз в жизни, у меня даже ноги дрожали. Очень обрадовалась, когда Анатолий Васильевич предложил мне сесть и заговорил в шутливом тоне:– Что скажете, тетя Наташа?
Я сказала, что мечтаю о большом государственном театре для детей, и у нас произошел такой диалог.– Идея правильная и необходимая, но очень трудно будет найти помещение.
– Помещение уже есть.
– Это важно. Где вы его заграбастали? Говорят, у вас энергии хоть отбавляй.
– Мне бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели спектакли нашего Детского театра.
– Постарайтесь меня туда вытащить, но это будет нелегко, предупреждаю.
– Конечно, вас рвут на части.
– Постарайтесь и вы что-нибудь урвать – я сопротивляться не буду.
И вот я уже знакома со всем «окружением» Анатолия Васильевича, знаю его курьеров, машинисток и, конечно, секретарей, и не только по имени и отчеству, но и их привычки, характеры. Выяснив заранее, когда примерно Анатолий Васильевич кончит в ТЕО работу, прихожу к этому времени в его приемную – авось сегодня вытащу его в Детский театр. Знаю, где он выйдет, жду полчаса, час, наконец слышу у двери его искрящуюся, словно шампанское в стакане, речь, смех, встаю, как на охоте.– Здравствуйте, Анатолий Васильевич.
– Здравствуйте, Наташа, страдалица за дело Детского театра.
– Анатолий Васильевич, может быть, вы сегодня…
– Сегодня ничего не может быть – даже пообедать мне удастся только в лучшем случае. Вечером – Совнарком. – Но, видя, как я огорчена, Анатолий Васильевич добавляет: – Вам предоставляется право проводить меня до Кремля и рассказать о настоящем и будущем Детского театра.
Он всегда шутит, но поговорить с ним полезно. Жаль только, что ТЕО совсем близко от Кремля, в моем распоряжении минут пять. Но куда там! До парадного за Анатолием Васильевичем идет приехавший откуда-то издалека писатель, по дороге к нему подходит женщина в бушлате.– Товарищ Луначарский, я уже несколько дней ловлю вас. Мне нужно, чтобы вы помогли мне достать ордер на галоши.
Мы у Троицких ворот, Луначарский прикладывает к кремлевской стене заявление и пишет в левом углу: «Поддерживаю. Луначарский». Как часто видела я аналогичные надписи в левом верхнем углу! Однажды я не удержалась и выразила ему свое недоумение:– Вы же этих людей не знаете! Анатолий Васильевич, смеясь, ответил:
– Я их не знаю, но они точно знают, чего им не хватает. Меня от подписи не убудет, а им, быть может, прибавится то, что им нужно.
Идея создания Детского театра Анатолию Васильевичу, конечно, нравилась, но я видела, он что-то для себя додумывает, в чем-то не до конца еще убежден, и пользовалась всяким случаем, чтобы говорить с ним о Детском театре, а потом размышляла над каждой его фразой по этому поводу. Часто мне приходилось ездить с Анатолием Васильевичем на многочисленные его лекции и доклады: «Почему не надо верить в бога», о драматургии Островского, о Расине, Гегеле, живописцах эпохи Возрождения, народном образовании, Бетховене. Приедет, спросит: «На какую тему я сегодня здесь выступаю?» Иногда выяснит какую-нибудь дату, а потом без всяких бумажек и конспектов как начнет говорить – диву даешься. Увлекается сам, увлечены все слушатели. Что говорить! Те тридцать – тридцать пять докладов Луначарского, что я слышала тогда, обогащали знаниями, могли служить школой ораторского искусства. Но если Анатолий Васильевич «захватывал» меня с собой, так как по дороге между двумя важными делами любил отвлекаться шутливым разговором с юным собеседником, то я своих маршрутов никогда не теряла, курс на Детский театр держала крепко и то подцепляла какую-нибудь новую мысль насчет театра, то давала ему на подпись какую-нибудь бумажку (например, о замене скамеек для зрителей настоящими стульями). Однажды мне удалось завезти его в Мамоновский переулок, и он видел одну картину спектакля марионеток «Давид и Голиаф» и дал высокую оценку куклам Фаворского и музыке Анатолия Александрова. В другой раз он посмотрел два спектакля: «Песочные старички» и «Макс и Мориц» по Бушу в постановке Касьяна Голейзовского. О 26-летнем тогда балетмейстере Касьяне Голейзовском и его балете «Песочные старички» Анатолий Васильевич Луначарский отозвался очень хорошо, назвал Буша остроумным, но недобрым художником, вредным для детского восприятия, и подтвердил правильность моих сомнений по поводу этой постановки, которую я и сняла после его просмотра. Как-то заехали с ним за полчаса до начала спектакля нашего теневого театра: театр уже был полон маленькими зрителями.– Они уже чувствуют этот театр своим, – сказал Анатолий Васильевич и вдруг без всяких шуток повернулся ко мне. – Попробуйте к концу месяца составить смету на будущий государственный театр с первоклассной труппой, хорошим оркестром, педагогической частью, новым оборудованием. Я берусь сам утвердить эту смету на коллегии Наркомпроса.
С этого дня мне уже не надо было ездить за Анатолием Васильевичем. Он, видимо, твердо решил помочь этому делу, и я приходила в назначенный час, с восторгом ощущая, какими гигантскими шагами вдруг стало двигаться дело будущего театра. Когда уже состоялось постановление о реорганизации первого Детского театра Моссовета в первый Государственный детский театр, когда были утверждены для этого театра значительные ассигнования, я стала замечать около дверей кабинета Анатолия Васильевича элегантную женщину, причудливо причесанную, с хриплым голосом. Однажды, видимо, поджидая меня там, она сразу протянула мне руку с длинными пальцами в лайковых перчатках.– Девочка, – сказала она мне, произнося букву «е» как «э», – вы еще такая юная, давайте работать вместе. Мне уже тридцать шесть лет. Я смогу помочь вам – хорошо знаю театр и жизнь. Моя фамилия Паскар Генриэтта.
Злые языки говорили, что ей уже многие годы все тридцать шесть, а я отнеслась к ней без всякой предвзятости.– Как Анатолий Васильевич скажет, так пусть и будет, – ответила я.
И вот мы уже работаем вместе. Моя задача – найти и уговорить работать в Детском театре наиболее подходящих и, конечно, очень хороших артистов для исполнения каждой из ролей в пьесе «Маугли». Анатолий Васильевич сам предложил нашей директории в первую очередь попытаться инсценировать «Маугли» Киплинга. Черноглазая, похожая на мальчика с юга, артистка Е. Спендиарова, наверное, будет очень хороша в роли Маугли. Михаил Гаркави работал со мной в детских концертах: Шерхан, должен быть самым большим из действующих лиц. Вероятно, будет очень колоритна в роли пантеры Багиры артистка Л. Анохина, очаровательна Мария Бабанова (лань). Но ох как не легко найти в театрах для взрослых тех, кто охотно и интересно будет играть «звериные роли». Ищем рьяно. Однажды раздается стук в дверь моего кабинетика, и, не дожидаясь моего «войдите», в щели двери показывается вихрастая голова с озорными глазками и заразительной улыбкой… «Живой Петрушка!» Конечно, он уже не в гимназической тужурке, повзрослел, приосанился. Уже не раз слышала, как в студии Ф. Ф. Комиссаржевского его хвалили. Он оглядел небольшой мой кабинетик, как княжескую палату, и сел в мое единственное полукресло для посетителей в лучшем расположении духа.– Узнали? Здравствуйте. Наверное, теперь уже можно вам сказать «хочу играть на сцене», и вы на подводу не посадите.
– На подводу не посажу, а театр у нас детский, и роли звериные.
– Какой зверь? Только бы не корова.
Мы оба засмеялись. Но я своих конечных целей никогда не теряла, и когда он, восхищенный тем, что у моего стола лежал даже коврик, начал подкидывать его край, болтая пухлой ногой, в голове у меня блеснуло: «Медведь Балу!» Его мое предложение взяться за эту роль, по-видимому, заинтересовало. Он спросил:– А кто будет режиссером, вы?
– Нет, мне быть режиссером еще рано. Мой учитель Н. П. Кудрявцев в Грибоедовской студии, сам Константин Сергеевич считают, что я вроде смогу. Но смелости еще нет.
Тут одна заграничная очень добивается, чтобы ей эту постановку дали. Наверное, в конце концов Анатолия Васильевича уговорит. Уж очень она старается. Игорь Владимирович вскочил со своего кресла, покраснел и сказал громко:– Вы же для этого театра больше всех сделали! Так
интересно с нами уже над Петрушкой работали! Все знают. Зачем этой мадам уступаете? Я засмеялась.– Может, эта Паскар и ничего?! Не вредная? Ильинский ответил убежденно:
– Вредная она. Когда к вам по коридору шел, сразу заметил: напомаженная, не по-нашему одета, как на червяка на меня посмотрела. Мадам она!
Когда подобрали кандидатов на разные роли, решили просмотреть их всей директорией во главе с Луначарским. Артист Н. Л. Коновалов как-то сразу «зацепил» зерно образа шакала Табаки. Но Паскар неодобрительно отнеслась к показу Ильинского. Антипатия друг к другу возникла у них как-то сразу, вероятно, еще при первой встрече в коридоре. К счастью, ее желание «отвести» Ильинского от этой роли не имело никакого успеха. Даже без грима и костюма Ильинский буквально привел всех в восторг, «импровизируя» роль Балу, роль в которую, как сам он после говорил «навсегда влюбился». Анатолий Васильевич воскликнул: «Для роли Балу этот артист – находка!» Ну, а я вспоминала гениального артиста Ивана Михайловича Москвина в роли Кота в «Синей птице». Как первое чудо перевоплощения и за всю жизнь большей удачи в «звериной» роли, чем у Ильинского в роли Балу я не видала. Контакт, найденный Ильинским с ребятами-зрителями, был настолько велик, что каждый его жест, каждое даже бессловесное рычание, не говоря уж о репликах, вызывали громкие возгласы: «Молодец, Балу!», «Балу, не уходи со сцены!» Исполнители некоторых других ролей не без иронии предлагали переименовать спектакль «Маугли» в «Балу». Вернувшись домой, зрители писали своему любимцу нескончаемые письма. Вот некоторые из них: «Здравствуй, Балу. Я уже смотрела на тебя четыре раза и еще пойду…»; «Балу, ты был настоящий медвежонок, а Маугли был девчонка. Сразу видно, когда девчонка камень бросает». «Балу, когда Маугли лежал у тебя на коленках, я думала: «Как ему мягко с тобой. У тебя такая длинная, пушистая шерсть…» Кстати, комбинезон у Ильинского был из хлопчатобумажной материи, и как он даже мне казался мягким и мохнатым – сама не понимаю. Увы, наш Игорь, как теперь я его за глаза величала, начал задаваться. Обувь ему для роли нам тогда сделать не удалось, он играл в своих черных тапочках. И вот однажды «назло мадам» Балу появился на сцене в желтых ботинках. Помню, как подобно черной пантере ко мне в комнату влетела Паскар.– Посмотрите, что творит ваш протеже… Слово «протеже» она произнесла почти по-французски, в нос. У меня с ней отношения уже тогда явно не ладились, и я ей ответила резко:
– Быть чьим-либо протеже Ильинскому не нужно, он талантлив.
Все же немедленно побежала в зрительный зал. О ужас! Ильинский играл Балу в ярко-желтых ботинках со шнурочками, но играл еще более забавно, чем обычно: то разглядывая с удивлением свои ботинки, то по-медвежьи пританцовывая от радости обладания этими ботинками. А «завсегдатаи из публики» ничему, что делал их любимец, не удивлялись, только восхищались, и крики «Ура! Балу! Скажи, где тебе мама купила такие красивые ботинки?», гром аплодисментов сопутствовали всем озорным выходкам Балу. Конечно, как и подобает директору, после спектакля я очень серьезно поговорила с Ильинским. Он был несколько смущен и откровенно признался:– Назло мадам сделал… Тоже мне режиссер…
Паскар была надменна и груба с теми, кто не льстил ей, мои дружеские отношения со всеми членами коллектива театра приводили ее в бешенство. Последней каплей для нашего окончательного разрыва было предложение Паскар сделать вторую редакцию «Маугли», «внести красоту и лирику, притушить юмор». Как известно, кульминацией перерождения отношений Маугли и хищников был огонь – «красный цветок», как его назвал Киплинг. Паскар решила ввести танец закутанной в красные шарфы девицы с красным цветком в руках – «символ, а не изображение огня на сцене». О эти красные шарфы бездарных подражательниц Дункан того времени! Махание танцовщиц красным шифоном острословы называли «намеком на революцию». К счастью, к этому времени их почти не оставалось, а Паскар прозрачно намекала, что лучшей исполнительницей танца «Красного цветка» будет она, так как танец – ее главное призвание. Увы, с опозданием выяснилось, что приехавшая из Парижа Паскар до Москвы была известна лишь как исполнительница танго в фешенебельном ночном ресторане. На заседании директории я резко заявила, что считаю недопустимым под видом «эстетического воспитания» привносить в спектакль трафарет пошлости. Как часто люди, не сумевшие проникнуть в театр для взрослых, используют театр для детей как первые ступени попадания на «большую лестницу искусства». Мы разошлись. Я стала организовывать новый – Московский театр для детей. Паскар продолжала некоторое время свою деятельность. Анатолий Васильевич любил «зажигать светильники нового», а потом переключался на многочисленные другие дела свои и вскоре совсем отошел от этого театра. В конце концов Паскар была снята с работы в детском театре, уехала в Париж, где некоторое время танцевала в ночном баре танго, но уже без красного цветка. Да, в первом Государственном театре для детей я была еще слишком наивна, что такое интриги, просто не знала. Бороться умела только тогда, когда понимала, с кем и за что борюсь. Поняла, что мы с Паскар – чужие люди. Доверие к ней после многих фактов исчезло навсегда. А какая без доверия может быть совместная работа! Я продолжала работать и в Детском отделе, организовала детский клуб для одаренных детей (он впоследствии стал моей любимой Школой эстетического воспитания), мастерские детской музыкальной игрушки. Энергия била ключом, но главное было потеряно. Без театра чувствовала себя, как птица без крыльев. Однако такие потери иногда помогают найти что-то очень важное в себе самой. Тот театр, о котором мечтала, еще не создан. Отдавать все силы труднейшим организационным заботам и не находить времени сосредоточиваться на главном – самом этом новом искусстве, которое надо создавать для детей, – не заслуга. О-о, теперь знаю гораздо больше – три года огромной работы, два «пробных» театра научили меня многому. Кадры приключений У меня теперь есть друзья. Единомышленники. В общей работе узнали мы друг друга и строить планы нового театра будем вместе. Писатели-педагоги С. Розанов, Н. Огнев, С. Богомазов, композиторы А. Александров, А. Шеншин. По моей просьбе писатель Иван Новиков на основе сказки «Жемчужина Адальмины» создает новую пьесу для наших ребят. Я люблю эту поэтичную, умную сказку уже давно – он прочел и полюбил ее тоже. Были там и реальные персонажи. Были там и мудрецы, и феи – Золотая и Зеленая, роскоши и праздности и противостояла любовь к природе, к труду. В этой пьесе были и песни, должны быть и танцы, много музыки. Один из женихов Адальмины не знает ее языка и захочет блеснуть ловкостью – на эту роль пригласим жонглера и акробата. Пусть уже в этом первом спектакле наметится наш путь: все богатство выразительных средств – на сцену театра. Спектакль ставил режиссер Н.О. Волконский в сотрудничестве с Н. И. Сац – так и было написано в программах. До этого Волконский работал в Театре имени Комиссаржевской, и всех артистов мы пригласили из этого театра (вначале – по совместительству). В разных организациях Московского Совета меня уже знали. Государственный детский театр был в ведении Народного комиссариата просвещения, наш будет театром Московского Совета. И название мы ему более правильное, более точное нашли: не «детский», потому что не дети же там играют, а «Московский театр для детей». В нашей Театрально-музыкальной секции (она теперь называлась художественный подотдел) после шести мы отставляли к стене канцелярии столы и репетировали до поздней ночи – меня там любили, и никто не возражал. Но где пойдет наш спектакль? Мучительный, самый мучительный вопрос! Весна 1921 года была унылой и дождливой, но не дождям было залить пламя, зажженное нашими мечтаниями. Открывать новые земли, конечно, было труднее, чем открыть в Москве хоть одно пустующее помещение, которое можно было бы превратить в театр. Этим я утешала себя во время ежедневных поисков, хлюпая по лужам в старых калошах. Меня больше всего влекло в сторону Мамоновского переулка, и однажды я остановилась как вкопанная почти на углу этого переулка, около полуразрушенного и заброшенного кино «Арс», Тверская, дом 61. Парадное с грязной фанерой на месте выбитого стекла оказалось запертым. Пошла во двор, нашла сторожа здания. Это был швейцар Закускин, с благообразной бородой, вежливый и рассудительный, типичный швейцар столичного кино-люкс. Мы установили с ним полное взаимопонимание, что сыграло большую роль в дальнейшем. Я узнала, что заработную плату Закускин получает в комендатуре Наркомпроса, но «вроде как все про это здание забыли, хотя прежде тут было кино – первый красавец по Москве. Отопление сейчас здесь сломано, кругом сырость, горько наблюдать». Товарищ Закускин и не знал, какой сладкой музыкой звучали для меня его слова! Но я сделала непроницаемое лицо и попросила показать мне помещение внутри. Закускин достал большую связку ключей, отпер парадное, и я жадно впилась глазами в вестибюль с недобитыми зеркалами, осмотрела отсыревшее нижнее фойе, поднялась в зрительный зал, прикинула, сколько места отойдет под сцену, даже глаза закрыла от волнения – представила себе, как тепло и уютно будет тут, когда придут в свой театр ребята. Но я временно прогнала эти мечты, попрощалась с Закускиным и по дороге домой составила план немедленных действий. Сегодня в Наркомпросе про это здание забыли, а завтра могут вспомнить, и тогда все пропало. Терять времени нельзя. Предупредила сестру Ниночку и маму, что сегодня по очень важной, но пока строго секретной причине домой ночевать не приду, чтобы не волновались. Никому ничего не сказала и в художественном подотделе, а во время вечерней репетиции «Адальмины» составила договор с фотокиноуправлением Наркомпроса о передаче Моссовету здания кино «Арс» под театр для детей. Договор вступал в силу по утверждении его народным комиссаром просвещения. Уже все разошлись, и потому от имени художественного подотдела в договоре значилось «Н. И. Сац», а от имени Фотокиноуправления – его начальник Воеводин. Петр Иванович Воеводин подпишет, была уверена, он очень хорошо относился к идее создания театра для детей и просто ко мне. Договоров прежде я никогда не писала, получилось не по юридической форме, но грамотно и логично. Позвонила Воеводину, сказала, что у меня к нему срочное дело, он ответил, чтобы заехала через час. Очень хорошо. Двумя указательными пальцами я перепечатала договор в трех экземплярах на машинке. Петр Иванович, как и ожидала, мой «документ» подписал. Теперь нужно было уговорить секретаря Луначарского Шуру Флаксермана и его жену, чтобы они разрешили мне прийти к ним ночевать. Они жили в Кремле на антресолях квартиры Луначарского. Шура сперва удивился этой просьбе, но я ему сказала мрачно: – От этого зависит все, – и он согласился. Они с женой тоже были совсем молодые, у меня с ними были очень хорошие отношения. Проснулась я ни свет ни заря, слышала голос маленького Толи и других Луначарских, но сошла вниз ровно в девять утра и стала в приемной у двери кабинета. Помню, Анатолий Васильевич проходил с полотенцем через приемную и очень удивился, увидев меня там. Конечно, удивился! Ведь вход в Кремль был по пропускам, а он еще никому разрешения на прием не давал. Призналась ему чистосердечно:– Я заняла очередь на ваш прием со вчера – ночевала у Флаксерманов.
Он рассмеялся и сказал, что это новый вид «внеочередных завоеваний».– Анатолий Васильевич, ведь если бы не так, пришлось бы добиваться приема, а когда вы узнаете мое срочное дело, вы мне это простите.
Он заинтересовался, и мы вошли в кабинет. Там уже был Флаксерман. В том, что детям Москвы мало одного театра, Анатолия Васильевича долго убеждать не пришлось – у него была широкая натура, и он, как я уже говорила, любил детей. О кино «Арс» до меня ему никто не говорил, а потому с очередной шуткой («С миру по нитке – Наташке рубашки») он утвердил мой «договор». Шура Флаксерман поставил на подписи Анатолия Васильевича печать (я попросила поставить пожирнее). В восторге выбежала я из Кремля и помчалась в кино «Арс» к товарищу Закускину. Предугадывать, вернее, предчувствовать бои и бури я уже научилась. Показала Закускину договор с печатями и попросила дать мне ключи от помещения. Закускин немного удивился:– Все ключи растеряли, только эти одни остались.
Но я уговорила его не беспокоиться, взять себе выходной, а я заеду с комиссией насчет ремонта. Это была хитрость. Когда он мне отдал ключи, я почувствовала себя значительно спокойнее и со своими трофеями – ключами и договором – помчалась в художественный подотдел поделиться радостным событием с заведующим. Впопыхах я забыла, что некоторое время у нас место заведующего пустовало и только что назначили товарища Бека, которого я еще ни разу не видела. Но какое это имеет значение? Я же сделала важное и хорошее, он, конечно, будет рад! Вошла в кабинет. Передо мной в кресле сидел черный человек с четырехугольной черной бородой, красивый. Я ему рассказала о будущем Московского театра для детей – как хорошо идут репетиции, но как трудно найти помещение. Он слушал меня молча, его большие глаза были непроницаемы. Я вытащила из нагрудного кармана и развернула свой драгоценный договор. Он был на одной странице и начинался словами: «Мы – начальник Фотокиноуправления Наркомпроса П. И. Воеводин и Н. И. Сац (художественный подотдел Моссовета) заключили настоящий договор о нижеследующем: Фотокиноуправление безвозмездно передает, а художественный подотдел принимает помещение бывшего кино «Арс» целиком для размещения там Московского театра для детей»… и т.д. Договор был жидковат, но его очень украшали слова в правом верхнем углу: «Утверждаю. А. Луначарский» – и печать Наркомпроса. Вдруг лицо Бека перекосилось:– А кто вам дал право подписывать этот договор, да еще носить его к народному комиссару? За превышение власти вы будете отданы под суд.
Мне стало холодно, но главное было унести и спрятать драгоценный договор. Несмотря на волнение, это мне удалось сделать, прежде чем я услышала каменное: – Можете идти. Не без оснований я решила податься на свежий воздух и там все взвесить. В чем же я виновата? Хотела сделать и сделала хорошее. Самой подписать пришлось – иначе бы ничего не вышло. Ну, будь что будет… Главное – договор и ключи у меня в кармане. Следующие дни напоминали кадры приключенческого фильма. В Наркомпросе узнали, что Анатолий Васильевич разрешил передать кино «Арс» под детский театр, и вдруг все оценили это помещение в центре города, всем оно стало необходимо, никто не соглашался на его утрату. Заместитель народного комиссара просвещения, очень волевой товарищ Е. А. Литкенс, разослал приказы: «По согласованию с наркомом считать договор на передачу кино «Арс» расторгнутым». Комендант Наркомпроса товарищ Ган – весьма колоритная фигура, коренастый, одетый во все кожаное, с кобурой на поясе, – приехал к Закускину и потребовал ключи. Я обдумывала план действий на уличных скамьях, подальше от дома и художественного подотдела, чтобы никто не отобрал договор и ключи. Но когда по телефону от товарищей из художественного подотдела узнала, что Бек готовит бумагу, в которой отказывается от кино «Арс», решила во что бы то ни стало опротестовать его решение в Президиуме Московского Совета. На двое суток вместе с ключами и договором «переселилась» в район Московского Совета. Не просто было увидеть «самых главных». Но убежденность в правоте того, за что борешься, делает любые трудности преодолимыми. В Президиуме Московского Совета я получила полную поддержку. Беку дали понять, что он неправ, кино «Арс» специальным постановлением закрепили теперь за театром для детей «с правом сдавать свое помещение на вечернее время другим организациям для получения дополнительной материальной базы». На первый год я подписала договор с М. М. Шлуглейтом, очень опытным театральным деятелем, организовавшим свой театр, и он взялся за четыре месяца произвести в кино «Арс» полный ремонт. Шлуглейт начал ремонт нашего «собственного» помещения немедленно. Теперь мы уже отнюдь не были «бездомными», Бека перевели на другую работу. Наступил май. Зимний сезон в театре для взрослых кончился. На летнее время нашему театру предоставили прекрасное театральное помещение на Большой Дмитровке. Мы торжествовали полную победу. Московский театр для детей – родился! С первых чисел июня 1921 года в театре на Большой Дмитровке [13] начались генеральные репетиции «Жемчужины Адальмины» После дождей и слякоти как-то неожиданно настало лето. Не только окна, но и двери театра мы старались держать открытыми, насквозь освежить помещение после зимнего сезона перед первым приходом детей. Помню сладостное чувство, когда еще на улице, приближаясь к театру, слышу звуки музыки Шеншина в исполнении оркестра. Да, у нас уже был свой оркестр, и для драматического театра не маленький – восемнадцать человек! Шеншин с упоением репетировал свою музыку по два раза в день в «своем оркестровом помещении», артисты репетировали на сцене, в закулисные комнаты свозили костюмы. Ни до, ни после «Жемчужины Адальмины» я не видела таких костюмов. Александр Веснин – знаменитый архитектор и удивительный художник театра того времени – добивался точной формы каждой складки: жесть, клей, стальная проволока, бархат, парча, холст, картон, кожа – он указывал фактуру портным и неуклонно добивался воплощения своих эскизов. Артистам костюмы очень нравились, правда, «освоить» их было совсем нелегко. Возгласы удивления, смех, спор, звуки музыки, удары молотков по рейкам почти готовых декораций сливались в тот особенный, предпраздничный гул, который так характерен для театра накануне выпуска премьеры. Большие приготовления шли и в нашей педагогической части. Сергей Розанов добивался выпуска красочных программ, афиш, обращенных «прямо к детям», проводил беседы с гардеробщиками, билетерами – всеми, с кем будут общаться дети-зрители, когда войдут в свой театр. Для детей театр начинается с вешалки – это уже точно. Как только они переступят наш порог, пусть почувствуют сразу же атмосферу приветливости, праздника. У каждого человека свое понятие о самом прекрасном и радостном в жизни. Ну а мне ничто никогда не доставляло такой радости, как дети, которые пришли на спектакль в свой театр. Когда ребят рассадили по росту в их зрительном зале, когда погасли люстры, раздались звуки музыки, открылся занавес и на просцениуме у колыбели новорожденной Адальмины возникли огромные (в два человеческих роста) фигуры фей Золотой и Зеленой в удивительных одеяниях, сердце застучало с удвоенной силой: родился новый театр. Анатолий Кторов, Василий Аристов, Екатерина Мельникова – интересные артисты были в составе нашей труппы. Запомнился эпизод появления из глубины зрительного зала в свете зеленых прожекторов трех седобородых мудрецов в необыкновенном облачении, огромных головных уборах, со свитками в руках. Они шествовали к сцене по среднему проходу зрительного зала под звуки сказочной музыки, заставляя верить в свое величие и мудрость…– Какие артисты, оркестр, какие масштабы, монументальность, художественная четкость – и все это для детей?!! – с ласковым удивлением воскликнул известный архитектор Виктор Веснин (брат Александра).
В семью московских театров наш театр приняли дружелюбно после первогодке спектакля. А. В. Луначарский, который был на нашем открытии, хорошо отозвался «о маленьком театре, в котором уже и сейчас чувствуется творческое своеобразие, интересный подбор артистического и руководящего состава, серьезная и большая любовь к детскому зрителю». «Тысяча и одна ночь», «Гайавата – вождь ирокезов», «Пиноккио» – вот постановки первых лет жизни Московского театра для детей. Мы путешествовали с юными зрителями во времени и пространстве, неотрывно следили за борьбой благородного Гайаваты с коварным Атотарто, вместе с ним боролись за первобытную коммуну. По-настоящему счастлива я бывала, когда удавалось заметить талантливого человека и увлечь своим, переключить его творчество на детей-зрителей. Писатели Н. Огнев, С. Шервинский, С. Г. Розанов, режиссеры Рубен Симонов, Алексей Грановский, художник Н. А. Шифрин – эти имена выдержали испытание временем и вошли в историю искусства. «Пиноккио» Алексея Дикого Особенно хочется вспомнить приход к нам в театр Алексея Денисовича Дикого. Он «прорезал» мое воображение, когда я еще девочкой ходила с мамой в студию Художественного театра и видела его на сцене рядом с М. А. Чеховым, Е. Б. Вахтанговым. Мое приглашение поставить пьесу Сергея Васильевича Шервинского «Пиноккио» Дикий принял несколько удивленно, но, когда прочел ее, – увлекся, только кое-что там переделал и попросил меня:– Вы как-нибудь повежливее объясните автору (я этого не умею), что он иногда в публицистику вдается. Мне нужен характер Пиноккио, слова, именно для него органичные. Поэтому я упростил язык Пиноккио, и он у меня без конца повторяет: «Я – Пиноккио, сын дяди Вишни. Мать моя – бревно, объяснения излишни». Мне хочется, чтобы в этом спектакле жил дух детской игры, жила горячая вера в правду и важность всего происходящего, готовность к любым неожиданностям.
И я как-то сразу поверила в то, что нашла родного нам режиссера. Алексей Денисович предложил интересный принцип декоративного оформления:– Декорации нашего спектакля будут складываться из кубиков. Все мы, когда были маленькие, строили из кубиков дома и башни, складывали из них различные картинки. Так мы поступим и в нашем спектакле, только кубики наши сказочно вырастут, каждая сторона будет равна примерно восьмидесяти сантиметрам. На разных сторонах будет нарисовано то, что нужно в той или иной сцене: рубанки, пилы, свежие стружки, чтобы сложить первую картину. Мы перевернем декоративные кубики на другую сторону и перенесем зрителей на рынок – там они увидят овощи, цветы, рыбу, фрукты. Кроме живописно-изобразительных этот декоративный принцип открывает огромные конструктивные возможности – во втором акте из них получаются прекрасные прилавки для уличных торговцев, а в первом – сложим из кубиков стену комнаты с окном посередине.
Алексей Денисович одинаково хорошо видел и слышал свой будущий спектакль. Когда он заговорил о музыке для спектакля, я знала, что обрадую его: оркестр у нас очень хороший и для небольшого драматического театра значительный; заведовал музыкальной частью знающий, серьезный композитор А. А. Шеншин. Я очень гордилась, что у нас в театре есть такой солидный музыкант, потомок Фета (его полная фамилия была Фет-Шеншин), что у меня дружеские отношения с таким человеком, хотя он в три раза старше меня. Музыку для «Пиноккио» Шеншин сочинил довольно быстро, аккуратно переписал ее, и вот мы собрались втроем около рояля. Александр Алексеевич сыграл песню дяди Вишни, уличную песню, тарантеллу. С каждым тактом углы губ Дикого все более уныло ползли книзу, а глаза глядели все насмешливее. Он прервал исполнение четвертого номера.– Хорошая, ученая музыка, – сказал он, – а к нашему спектаклю никакого отношения не имеет. Чувствуется, что вы ее у себя в кабинете написали, а посидеть на наших репетициях времени не выбрали.
– Я вас не понимаю, – напряженно сказал Александр Алексеевич и снял с пюпитра ноты. Алексей Денисович вскочил с места.
– А вот Илья Сац понимал. Он на все репетиции в Художественном театре ходил, за актерами…
Но Шеншин не дал ему договорить, встал и повернулся ко мне.– Писать музыку к «Пиноккио» отказываюсь, дирижировать не буду. Всего лучшего. – И удалился с нотами под мышкой.
До чего же мне было неприятно, а упоминание в этот момент о моем отце еще более усиливало неловкость. Позвать Шеншина, постараться их помирить? Оба были упрямы. Александр Алексеевич, кроме того, болезненно обидчив. Ничего не выйдет. Я не могла удержаться и сказала Дикому:– Нехорошо быть таким резким со старыми людьми.
Но он набросился на меня яростно:– А хорошо из вежливости принимать то, что спектаклю не нужно, даже вредно? У меня есть сейчас одна правда – наш спектакль, его единство. Вместо жизнерадостности, легкости, простоты вымучил какие-то ученые каноны, черт бы его побрал, а я должен время тратить и слушать? Мне нужно, чтобы музыка помогала действовать! Он симфонии разводит, а она… вежливость! А еще дочь… Эх вы!
Однако с музыкой к «Пиноккио» надо было что-то решать. После сосредоточенных размышлений осенило: Анатолий Николаевич Александров! Он писал и симфонии (что очень хорошо, хотя Алексей Денисович и «выругался» в прошлый раз этим словом) и талантливо чувствовал театр. Работал с А. Л. Таировым, в 1918 году создал очень интересную музыку в нашем первом Детском театре Моссовета, кроме того, он очень любил народное в музыке и умел увлекаться чужим замыслом (качество у некоторых серьезных музыкантов, представителей «чистой музыки», иногда отсутствующее). Анатолий Николаевич написал для «Пиноккио» чудесную музыку, полную разнообразных ритмов. Он использовал народные неаполитанские мелодии, еще более поднял общий тонус спектакля. Очень ценил Алексей Денисович и работу, которую проделал в этом спектакле Лев Лащилин. Большой, красивый, смуглый, он так показал итальянские пляски, словно всю жизнь был итальянцем. Никакой «грации» – все просто, даже грубовато, жизнерадостно, ярко. Но… Спать по ночам я уже не могла – нас ждал крах. Кроме меня это знал только бухгалтер, верный друг – Миша Дроздов. Он тактично и укоризненно молчал, когда, увлекаясь замыслами Дикого, я шла на новые и новые расходы, думая только о «Пиноккио». Кстати, наши рабочие, которые меня слушались больше всех и поверили, что в детском театре нельзя ругаться, заменили «крепкие слова» непривычными для них именами действующих лиц наших постановок.– Ты Маграбин, вот кто! – грозно кричал один.
– Молчи, Пиноккио несчастный! – отзывался другой. Все в этом театре было такое родное, и я крепко верила – успех «Пиноккио» упрочит наше дело. А если не дотяну? Ведь платить-то уже абсолютно нечем… Чтобы как-то успокоиться, взяла газету. Прочла об открытии Московского городского банка: «Председателем правления назначен Н. В. Попов». В мозгу зашевелилось: «Это, верно, тот Попов, что раньше работал в Мосгорфинотделе. Он как-то был на детском утреннике, который я вела. Ему у нас понравилось, он сказал: «Это хорошо, что вы с детьми занимаетесь. Радость воспитывает лучше многих учителей». Снова взглянула в газету и прочла: «Учет векселей». Слово «вексель» мне показалось в этот момент сказочно-прекрасным, чем-то вроде «Сезам, откройся!»
Рано утром я уже была на Ильинке и в числе самых первых посетителей вошла в Мосгорбанк. Еще никогда в жизни я не была в банке, и ковровые дорожки, огромные кожаные кресла, стеклянные двери, швейцары в синих суконных костюмах с золотыми пуговицами произвели на меня огромное впечатление. Высокий шатен с пробором, секретарь правления, на мой вопрос, когда можно увидеть председателя, ответил: «Прием будет на следующей неделе, не раньше». Вероятно, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что перед ним не вкладчик, а банкрот. Я вышла от секретаря, но не ушла из банка. Все в театре будут задавать один и тот же вопрос: «Когда будут деньги?» А что отвечать? Перед кабинетом Попова и других членов правления был круглый зал, и там стоял один только швейцар. Я села в кресло – швейцар подозрительно посмотрел на меня, но я своим видом ему ответила, что сижу просто так, ни за чем, может быть, у меня знакомый деньги тут получает, а я его жду, и вообще ничего особенного. Как только швейцар куда-то отошел, я подбежала к двери председателя правления и, страшно волнуясь, открыла ее. «Не побьет же он меня!» Кабинет у Попова был небольшой, а он сам близорукий. Когда в дверях появился уже искавший меня швейцар, Попов пробормотал: «За порядком раньше следить нужно было», – и велел ему уйти, а я сразу приступила к делу.– Скажите, пожалуйста, вексель – это когда дают деньги в долг, да? Он улыбнулся.
– В этом роде. А вы кто такая? Я напомнила ему о себе, рассказала краткое содержание «Пиноккио» и о том, как из кубиков будут складываться декорации. От волнения всегда говоришь не совсем то, что надо, но Попов был отзывчивый человек и очень любил театр.
– Ну что же, напишите вексель, учтем его, если Московский Совет даст за ваш театр поручительство.
Стоит ли говорить, что за полчаса до закрытия банка, обегав всех и вся, я стояла у кассового окошечка со всеми бумагами и с бухгалтером Дроздовым. Деревянная створка окна открывается, в нем – седая голова бобриком, с моржовыми усами, в очках.– По векселю Детского театра кто будет получать деньги?
– Директор Сац Наталия Ильинична, – как-то особенно почтительно говорит Миша.
Моржовая голова поворачивается ко мне.– Сколько вам лет?
Какой неожиданный и бестактный вопрос! Впрочем, он раньше был для меня страшен, а теперь уже девятнадцать с половиной, но поскольку год рождения 1903-й и сейчас 1923-й, не будет же он месяцы высчитывать…– Двадцать лет, – авторитетно заявляю я.
– Несовершеннолетним векселей не учитываем, – отрезает моржовая голова и крепко закрывает деревянную створку окна.
Из банка мы возвращались с Дроздовым, не глядя друг на друга. Я была посрамлена. Как назло и в театре было неблагополучно. Дикий, не дав мне раздеться, начал меня ругать за то, что в театре нет дисциплины, что я где-то езжу, в то время как хорошие директора должны все время сидеть на репетиции и думать о производстве. Я ему ответила не менее взволнованно:– А хорошие режиссеры должны думать о возможностях театра. Вы с художником Ковальцигом только требуете, а как все это добывать, если сидеть в театре?
– В вашем возрасте рано читать лекции. Работу над «Пиноккио» бросаю, навсегда из этого театра ухожу. – И он пошел к двери.
– В любой день вы могли бы это сделать, но не сегодня! – закричала я. – У меня такое горе, такое горе! Дикий остановился в дверях и хмуро спросил:
– Ну, что еще случилось?
Я рассказала ему все – про вексель и моржовую голову, с трудом сдерживая слезы, когда выговаривала: «Несовершеннолетним векселя не учитываем». И вдруг Алексей Денисович начал хохотать, как маленький.– Театр у вас детский и горе тоже детское, – сказал он, скинул пальто и шапку и как ни в чем не бывало пошел на сцену.
На следующий день, когда я пришла в кабинет, то увидела на столе маленькую деревянную куклу-мальчика и записку Алексея Денисовича: «Я – Пиноккио – паяц рождаюсь по воле Наталии Ильиничны Сац». Мне было очень дорого это внимание! На долю спектакля Московского театра для детей выпал исключительный успех: у детей, прессы, у самых требовательных работников искусства. Конечно, трудности идут за человеком, пока он жив, и в этом нет ничего особенного. Даже интересно. Но все это пока человек жив. И как страшно, когда неожиданно в ваш дом врывается смерть… Русалочка Это было в детстве… Однажды ночью сестра Нина разбудила меня и сказала каким-то странным голосом:– Слышишь? Папа опять сочиняет музыку про страшное. А вдруг все косматые, все страхи-ужасы из своих сказок выползут, обступят меня кольцом и начнут душить?
Я любила спать и ответила строго:– Уже давно дверь на цепочку закрыли. Никто не придет. Дай спать.
Нина считала меня «большим авторитетом» с первых дней жизни, но на свою постель не вернулась. Влезла ко мне под одеяло и заснула, чувствуя себя рядом со мной «под защитой». Сейчас, когда в первый раз в жизни я набралась духу написать о смерти Нины, вспоминаю этот детский разговор без тени улыбки. «Метерлинковско-леонид-андреевское», которое иногда звучало в папиной музыке и, значит, жило вместе с нами, меня никогда не пугало. Что-то будило фантазию для новых игр-представлений, что-то оставляло равнодушной. «Темные силы» и мрак символов, модные в искусстве того времени, мое сознание не тревожили. Я была здоровой и жизнерадостной, право иметь собственное мнение рано стало для меня главным, и в папиной музыке борьбу, протест, преодоление, пусть неосознанно, любила больше всего. Нина была у нас «меченая»: она родилась с двумя красными пятнами на шее. Странные пятна ползли вертикально, напоминая изображение Британских островов на географической карте. Ниночка была очень нервной, часто плакала ночью в подушку, никогда ни с кем не спорила и старалась быть незаметной. Внешне мы совсем не были похожи. «Лимончик» – прозвали Нину ребята. Она была бледна, продолговатое личико казалось выточенным из слоновой кости, большие серые глаза, пепельные волосы, угловатые от излишней худобы плечи, руки, ноги, привычка сидеть сжавшись в комочек, подперев голову рукой – все было иным, чем у обычных детей. В гимназии и музыкальной школе Нина училась безрадостно, но где-то глубоко в ней были скрыты жемчужины многих дарований. Помню, как я с подругами поставила пьеску Клавдии Лукашевич «Победила», как в нашу квартиру набилось человек десять соседей, пришел и друг нашей семьи артист Владимир Афанасьевич Подгорный. Пока на домашней нашей сцене лицедействовали я и подруги Дина и Маня, наши зрители разговаривали почти так же громко, как мы, шутили. Но вот в белом платье появилась по пьесе только что «похоронившая своих папу и маму» Любочка – Нина, и от одного ее появления стало тише. Она долго смотрела на «дальних родственников» большими, недетскими глазами, потом, как бы пересиливая смущение, заговорила. Стало совсем тихо. «Черствые родственники» сказали страшные слова: «Отправим в приют», и вдруг Нина закрыла лицо руками и заплакала настоящими слезами, заплакала так, что появились слезы у зрителей, а наша дворничиха заревела в голос…– У вас растет вторая Комиссаржевская, – совершенно серьезно сказал маме Владимир Афанасьевич Подгорный.
Да, в Нине нет-нет и прорывалось удивительное, а потом снова уходило в незаметное. Больше всех сказок Нина любила «Русалочку» Андерсена. В разные годы она по-разному воспринимала эту сказку, но жила вместе с ее образами много лет. Лет семи Нина, слушая папину музыку, начала танцевать – импровизировать эту сказку, превращаясь то в принца, то в колдунью, то в саму русалочку, то в птицу. Мы смотрели на нее широко раскрытыми глазами: в движении худенькое Нинино тельце вдруг стало неожиданно гармоничным, нельзя было не смотреть на ее вдохновенное лицо, не удивляться пластической выразительности. Чем старше становилась Нина, тем больше она любила «Русалочку», рисовала, сочиняла о ней стихи и, наконец, написала «большую пьесу», которую попросила меня поставить. Долго мы вместе готовили этот спектакль, подключая и театр теней и музыку (это было уже после папиной смерти). Нина со своим вдохновенным лицом и верой во все происходящее снова поразила наших немногочисленных зрителей и нас с мамой… Дарование драматической артистки, пластическая выразительность у Нины, конечно, были… После гимназии она закончила Институт ритма, где воплощала музыку в движении едва ли не лучше всех выпускниц. Когда родился мой первый сын Адриан, Нина баюкала его своими песнями: Спи, детеныш маленький, Мой цветочек аленький… Любовь к литературе привела ее на филологический факультет Московского университета. Когда Нина узнала первую любовь, стихи ее стали еще более лиричными. Серафим – так звали того, кого она полюбила, – был лет на десять ее старше, и… нам с мамой казалось, что Нина снова попала в «кольцо косматых», которых боялась с раннего детства. Серафим был странный человек со странной биографией. Прежде монах, потом офицер, после – артист. У него был красивый голос, сценичная внешность и корявое нутро. В то время, когда его полюбила Нина, он полностью изолировал себя от женщин, углубился в сочинения Платона. Его зеленые глаза напоминали тряское болото. Но Нина, улыбаясь, вспоминала, что страдала и русалочка, любила мутного Серафима и поэтизировала его: Вы большой, вы с глазами бездонными, Для меня вы мечта и загадка. Сердце плачет неслышными звонами И украдкой. Нине исполнилось двадцать лет, когда она перешла на второй курс Московского университета. В детстве она была некрасивой и вдруг (в ней все было неожиданно) из «гадкого утенка» превратилась в лебедя. Неожиданно для всех и для нее самой ее начали называть «красивой девушкой», не хорошенькой даже – красивой. Фигура, черты ее лица стали правильными, гармоничными, на нее хотелось долго смотреть. Казалось, она вышла из «кольца страхов», стала менее нервной. Она очень радовалась, что может поехать к морю. У Художественного театра была в Евпатории земля близ маяка. Четыреста квадратных сажен досталось и маме. Нина мечтала быть ближе к морю и сразу после экзаменов поехала туда вместе с подругой. Подруга осталась в городе у родных, а Ниночка одна отправилась на маяк. Она шла, почти танцуя, улыбаясь солнцу, морю, встречным. Ближе к маяку их становилось меньше и меньше. Вот подошел мужчина, предложил ей поднести чемоданчик. Вероятно, Нина ответила, что чемоданчик легкий, но мужчина сказал, что ему по пути, и некоторое время слушал Нинины рассказы о Москве, ее стихи, а потом толкнул в море и бросился бежать с ее чемоданчиком в руках. Нина выплыла, она плавала хорошо. Тогда страшный человек подумал, что Нина донесет на него, вернулся и задушил ее… После того как бандит Петр Общих бросил тело Нины Сац не песке у моря, он пошел продавать ее вещи. Он открыл чемоданчик. Там оказалось: смена белья, маленькая подушка, умывальные принадлежности и тетрадь – черная, толстая, наполовину исписанная. Он швырнул тетрадь в сторону от дороги так же просто, как швырнул тело Нины в море. Несколько дней Нина лежала мертвая, никем не опознанная. Подруга думала, что она на маяке, не маяке считали, что она решила остаться в городе… Когда зарыли в землю опознанный по платью труп девушки, кто-то передал следователю подобранную у дороги подмоченную солено-горькой водой и высушенную солнцем пожелтевшую тетрадь. Написанные на первых же страницах слова странно вплетались в действительность. Будто сердце билось еще, и звук голоса не замер в груди: «…С самого детства я пугалась во время переездов. От малейшего шума просыпалась. Я боюсь, что никогда не смогу ездить одна на поезде с ночевкой… …Я так некрепко сложена и так не уверена, что Я ЕСТЬ, что, обрывая привычную обстановку, – людей и дело, – ночью под шум колес, которые, будто сама жизнь, бегут, мне не за что зацепиться, негде искать опоры и я могу умереть или помешаться. Через 10–15 дней буду в Евпатории. Страшно мне чего-то…» Этими словами обрывается дневник, начатый с одной стороны тетради. С другой стороны тетрадь исписана стихами, которым предпосылается следующий заглавный лист: «Первое и единственное собрание стихотворений Нины Сац, которые сама она нашла возможным записать, а следовательно, и признать их дорогими для себя». Мы с мамой издали эти дорогие для Нины и нас стихи. Читатели прежних моих книг спрашивали меня настойчиво: «А где сейчас ваша сестра?» И вот написала… Ее не стало в двенадцать часов дня. Все ее деньги – пять червонцев – сохранились зашитыми в платье. Какая жуткая бессмыслица. Даже для бандита. И родимое пятно на шее – все страшно. С первых лет нашей жизни папа всегда посвящал свои детские вещи «Наташе и Ниночке». Все, что было хорошего и плохого, делили поровну – Наташа и Ниночка. Это родное «и» исчезло навсегда. Неожиданный попутчик Слова «отпуск» тогда я еще не знала. Но хорошо знала другое: завоевать трудно – удержать завоеванное еще труднее. В Москве стало два детских театра. На кино «Арс» жадно претендуют многие. Боюсь от его здания уезжать, хотя в театре отпуск. Но мама достала две путевки в дом отдыха «Алушта». Она в тяжелом состоянии, а без меня, конечно, не поедет… Я согласилась, хотя беспокойные мысли о театре были со мной. Юг с его зеленью и цветами, безбрежное Черное море, красавец Севастополь взяли свое. Чудесные сутки провели мы в этом городе. До Алушты предстояло ехать катером. Поднялся шторм, была беспрерывная качка, плыли на несколько часов дольше, чем обычно. Добрались до Алушты только вечером. Вот наш Дом отдыха и комната на втором этаже. Листья цветущего каштана у раскрытого окна, две чисто застеленные постели, маленький столик между ними. Блаженство! Через полчаса и мама и я крепко спим. Неприятно только, что невидимый дятел непрерывно стучит по дереву или, может быть, по моей кровати… Открываю глаза и с трудом понимаю – снился дятел, потому что стучат в дверь. Тихо, чтобы не разбудить маму, подхожу к двери, чуть приоткрываю ее и получаю адресованную мне телеграмму: «Есть сведения передаче кино «Арс» Фотокиноуправлению слиянии детских театров тчк Субботу Наркомпросе совещание Подробности письмом». Какие еще нужны подробности?! Быстро одеваюсь, беру пальто и деньги. Мама крепко спит. Оставляю на столе записку: «Получила неприятную телеграмму, выехала в Москву. Все сообщу по приезде, поправляйся» – и спускаюсь по лестнице вниз. Там девушка, которая передала телеграмму. Узнаю, что поезда на Москву идут рано утром из Симферополя, но добраться до него сейчас вряд ли удастся – последняя машина уходит в шесть, а сейчас десять вечера. Девушка видит мое волнение и идет показать, где дорога. Уже совсем темно. Но неужели никто не проедет на Симферополь?! Сегодня среда, если завтра утром выехать, в субботу на заре буду в Москве. Напрасно милая девушка хочет расспросить меня о причине такого внезапного отъезда – все мысли в дорожной мгле, и кажется, да, не ошиблась, из темноты вынырнули дроги, на них возница-татарин, еще двое мужчин, едут быстро.– Вы не в Симферополь?
– В Симферополь, – отвечает татарин, не останавливая лошади.
– Сколько возьмете довезти?
– Пять червонцев, – озорно кричит уже проехавший мимо возница. Девушка обрушивает на него поток возмущенных слов, но еще секунда – и он скроется с глаз… Кричу:
– Стойте, я согласна! – подбегаю к дрогам и сажусь на них.
Скоро делается совсем темно. Мелькают горные дороги, крутые повороты, сижу позади, надо крепко держаться, чтобы не вылететь. Мужчины говорят на неизвестном мне языке. И вдруг делается страшно. Колючие мысли наскакивают друг на друга. Если что-нибудь со мной случится, никто и не узнает. У меня двадцать червонцев. Если, кроме пяти, они отнимут и пятнадцать, как я доеду до Москвы? Какая узкая дорога и огромная пропасть под ней! Очень трясет, будут синяки… И все-таки это счастье! Что бы я делала, если бы не эти дроги? Часа в четыре утра подъезжаем к Симферополю, отдаю деньги и оказываюсь одна на большой улице спящего города. Поплутала недолго и нашла вокзал – огромное серое здание. Вхожу и тут только понимаю, что уехать сегодня – несбыточно. Люди сидят на лавках, на подоконниках, на полу. Кончилась жестокая гражданская война.– Всего не хватает, транспорт разрушен. Это надо понять, – говорит какой-то прохожий.
Значит, не уеду? Должна! Иначе не может быть! На мой вопрос о билете на сегодня кассир отвечает:– Вы что, свалились с луны?
Иду к носильщику – одному, другому, прошу достать любой, пусть сидячий, билет, а все, что останется от пятнадцати червонцев, взять себе. То ли этого мало, то ли просто они сейчас ничего не могут, но реакции никакой. Иду в комнату с надписью «ЧК». За столом – благообразный молодой человек в серой шинели, с рыжими бровями. Подхожу к столу и прошу помочь мне уехать сегодня с девятичасовым в Москву.– У вас командировка или что? Командировки у меня нет, удостоверение личности не производит никакого впечатления, слова «Детский театр» вызывают снисходительную полуулыбку.
– Не поспеваем грузы отправлять, ничем вам помочь не можем.
Железнодорожные часы над его головой показывают семь утра. Мобилизую все слова и интонации:– Товарищ, вы, вероятно, еще не водили своих детей в детский театр, но именно сейчас, когда у взрослых столько трудностей, это дело огромной важности, и не улыбайтесь, послушайте меня…
Он терпелив, но непроницаем. Бегу в зал для ожидающих – может, кто-нибудь уступит мне свой билет. Как огромные бескрылые мухи, на каменном полу вокзала серо-черные люди со своей кладью. Снова рывок к носильщикам, еще раскаленнее зигзаги молний в мозгу: должка уехать, хоть на крыше, хоть зайцем. Снова несусь в комнату ЧК. Благообразный службист – за своим столом, на деревянной лавке маленький с рыжими бровями. Железнодорожные часы показывают семь пятьдесят пять, скоро придет поезд. Бросаюсь к кассе, где сказали «на всякий случай подойдите», – отказ. Подбегаю к поезду, мечусь между вагонами, но везде проводники – без билета не уедешь. Хочу снова бежать в комнату ЧК. По перрону навстречу мне проходит тот, маленький, в шинели, с рыжими бровями. Он говорит тихо, почти не разжимая губ:– Ты сегодня уедешь, – и проходит мимо. Я останавливаюсь как вкопанная. Неужели слуховая галлюцинация?
Первый звонок. Что теперь делать? Счастливцы с билетами садятся в поезд. Второй звонок. Сейчас уйдет. В голове обрывки мыслей. Меня в субботу в Москве не будет… одна в чужом городе… надо узнать, как беспризорники влезают на крышу вагона… Бросаюсь в комнату ЧК – там ни души, снова на перрон, вплотную к поезду… Третий звонок. Кто-то сзади подталкивает меня к вагону. Ничего не понимаю, оборачиваюсь: человек с рыжими бровями. По железным ступенькам входим в вагон, и поезд трогается. Неужели я еду? Еду. Ничего не понимаю, но точно – еду. Человек в шинели открывает своим ключом купе. Там четыре деревянные лавки, нас только двое. Он приподнимает нижнюю полку и кладет под нее какой-то зеленый мешок. Затем снимает шинель, стелет ее на верхней полке, велит мне лезть туда и постараться уснуть. Влезаю, ложусь, накрываюсь своим пальто и тут только замечаю, как устала. В мозгу мысль: «Нас только двое, совсем не знаю этого человека, а вдруг он схватит меня, убьет…» И словно в подтверждение этой страшной мысли мой спутник вынимает револьвер из кобуры, кладет его на деревянный столик у окна и говорит, глядя на меня в упор:– Вот что. Я тебя пожалел, как ты делом своим страдаешь, но помни: обокрадешь – убью.
Обкраду? Я?! Сажусь на верхней лавке, плохо понимая его слова, но отвечаю очень вежливо:– Нет, гражданин, я вас, честное слово, не обкраду, потому что я даже не умею этого делать. Но когда будет много, много детских театров, все узнают, какой вы хороший человек и…
Он не слушал, что я говорила, но, видимо, окончательно мне поверил.– Взять у меня, кроме этого мешка, нечего. К нему подходить не смей, и хватит тебе разговаривать.
Благодарю его за все, поворачиваюсь к стене и, засыпая, слышу, как он выходит из купе, поворачивает ключ с обратной стороны двери, слышу стук колес – самую сладкую для меня сейчас музыку: все-таки еду в Москву! За сутки, в течение которых ехала вместе с человеком в шинели, поняла, какое хорошее слово «товарищ». Мой спутник оказался фельдъегерем ВЧК, он перевозил секретную почту. Конечно, никакого формального права впускать меня в свое купе он не имел, но слова и просьбы мои в комнате ЧК, которые не произвели никакого впечатления на молодого службиста, вызвали у этого товарища желание помочь мне, и сделал он это совершенно бескорыстно с огромным благородством. Ночью я слышала, как к нему постучали знакомые, и он ответил:– Ко мне не ходите. Неудобно. Везу девушку. А через сутки он взял у меня деньги на билет, купил мне его и перевел в другой вагон. Всю дорогу он делил пополам со мной еду, был молчалив и внимателен. Когда на вокзале в Москве я хотела сказать ему слова благодарности, он ответил коротко:
– Не о чем тут говорить, я вам поверил. Вижу, для дела стараетесь. Бывайте счастливы.
Какая странная штука жизнь! Сколько раз я попадала в опасные ситуации в чужих местах, ночью… Неведомо какая сила спасала от страшного. А наша Нина погибла ни за что в двенадцать часов яркого, солнечного дня… Какая нелепая жестокость жизни!.. В Москву я приехала как раз вовремя: Московский театр для детей продолжал свою жизнь. Михаил Кольцов Первую встречу с Кольцовым помню так ярко, как будто она была вчера… Театр для детей переживал ясельную пору своего существования. Почва то и дело уходила из-под слабых ножек «младенца». Театр работал «по совместительству» с кино «Арс»: мы – с утра до пяти вечера, они – с вечера до ночи. Нэп – новая экономическая политика – поднимала шансы столичного кино-люкс [14] . Детский театр – дело непривычно новое, дотационное, для многих не до конца понятное. Могли и «отложить» это дело на неопределенное время. В те годы ничего страшнее этой мысли для меня не существовало, а потому я неустанно искала новые и новые «точки опоры», искала театру «сильных» друзей. Но работники «Арса» тоже не дремали – всячески доказывали, что детский театр надо выселить из здания, которое они считали своим. Помню, наш спектакль уже кончился, ребята, громко обмениваясь впечатлениями, надевали свои пальтишки. Какую радость уносили они домой после спектакля! Их смех, казалось, еще звучал в воздухе, а администратор кино уже торопил уборщиц, бросал на меня уничтожающие взгляды, ядовито повторял: «После этих «деток» сутки надо помещение в порядок приводить». Я ничего не ответила и вышла на улицу. Скромная медная вывеска «Московский театр для детей» была тяжело придавлена грандиозной рекламой столичного кино. Зазывно блестели разноцветные электрические лампочки, на грандиозных плакатах Присцилла Дин улыбалась во весь рот, показывая многочисленные острые зубы. Зубастая кинозвезда и администратор вдруг слились в моем воображении в одно коварное существо. «Проглотят» – подумала я и решила, что идти домой нельзя. Но… куда идти? Уже вечер… Была осень. Капал дождь. Машинально перешла на другую сторону. Прошла несколько шагов по направлению к Страстной площади и машинально прочитала: «Редакция газеты «Правда». В голове мелькнула какая-то недодуманная мысль, и я пошла к входу – он был со двора. Ясно помню большую серую лестницу. Поднималась по ней очень медленно. Я никого там не знала. Сотрудники «Правды» выходили в коридор, переходили с одного этажа на другой. Каждый знал, куда и зачем идет. Ясный ритм, собранность движений резко отличали этих людей от меня. Я даже остановилась на ступеньке и вдруг услышала сзади два голоса.– Он все поймет, – говорил задорный женский голос.
– А может, не стоит беспокоить? – возражал голос женщины постарше.
– Как это не стоит? – настаивал первый голос. – На то и «Правда», чтобы помогать бороться за правду. Михаил Кольцов поймет. Все поймет. – Второй голос не успел ничего ответить, так как первый закричал ликующе: – А вот и он сам, видишь?
Женщины устремились наверх с такой порывистостью, что чуть не сшибли меня с ног. Я подняла голову. На площадке верхнего этажа стоял молодой мужчина в больших роговых очках и, опершись о перила, смотрел вниз. Пушистые темно-каштановые волосы открывали красивый лоб, орлиный нос, веселые, чуть капризные губы, а ростом маленький, «как перочинный ножичек», – подумала я. Неужели это и есть Михаил Кольцов? Сколько раз слышала около нашего газетного киоска: «Сегодня опоздали. «Правды» не достанете: фельетон Михаила Кольцова – газету в момент расхватали». Я снова посмотрела вверх. Кольцов разговаривал с незнакомыми женщинами так просто и приветливо, как будто был с ними давно знаком. Та, что постарше, открыла портфель, передала ему какие-то бумаги, он взял их, простился и направился по коридору влево. Он был хорошо сложен, но левую ногу как-то смешно ставил внутрь. Мне стало ясно, что идти надо именно к нему. Нашла комнату с дощечкой на дверях «Кольцов М. Е.» Вошла не сразу. Он – знаменитость, а я неизвестно кто. Может, повернуть назад? Ведь и дела-то конкретного у меня к нему нет… Все же взялась за ручку двери и открыла ее. Комната была небольшая. Стол у окна. За ним, подперши кулаком голову, сидел Кольцов и что-то читал. Услышав мои шаги, он поднял голову. За роговыми очками блеснули глаза.– Простите, я ненадолго, – оставаясь в дверях, пролепетала я.
Он улыбнулся.– Проходите, садитесь. Если не ошибаюсь, вы Наташа Сац?
Я остолбенела от неожиданности…– Разве… Откуда… вы меня знаете?
– А я журналист. Как кто что новое задумал, я тут как тут – обязан знать. А отстал от жизни – уже не журналист. – Он засмеялся очень весело и добавил, когда я села: – Ну, как с театром для будущих коммунят, получается или не очень?
Легко и просто можно было с ним разговаривать! Ярко и глубоко умел он воспринимать собеседника! Узнав о наших трудностях, Кольцов сказал:– Сила привычки – страшная сила. Обыватель упрям, нового не любит, а остатки обывательщины сразу не вытравишь. Только… разрушить это дело им не удастся.
Разрушить не удастся… Подумать только! Он сказал то самое главное, что было спрятано в моих думах на самом дне! После этих слов Кольцов стал мне сразу закадычно близким. Я расстегнула и бросила мокрое пальто на спинку стула, придвинулась к столу и заговорила, боясь упустить хоть секунду:– Меня интересует театр для детей, дети. А все зависит от взрослых. «Что вы от меня хотите – я давно не ребенок», – отшучиваются одни. «Понятия не имею, что такое театр для детей. Есть дела поважнее», – заявляют другие, третьи, снисходительно улыбаясь, спрашивают: «Ну как там играют ваши детишки?» Они даже не знают, что в нашем театре для детей играют настоящие артисты, хорошие взрослые артисты!
Зерно мысли собеседника, попадая на почву восприятия Кольцова, мгновенно начинало расти, приобретало цвет и форму. Однажды Михаил Ефимович пришел к нам на репетицию. Я ставила пьесу С. Заяицкого из жизни беспризорных, специально для нас написанную. Пьеса и ее исполнение молодыми артистами понравились Михаилу Ефимовичу.– Это уже что-то свое, – сказал он с ласковым уважением и неожиданно спросил: – А как ваш спектакль называется? Ответила:
– «Как беспризорный Васька Червяк в люди вышел».
– Название не должно быть длинным и раскрывать содержание, – сказал Михаил Ефимович. Он взял пьесу, перечень действующих лиц, в чмсле которых был и англичанин мистер Бьюбль. – Я бы дал название «Мистер Бьюбль и Червяк».
Артистам и автору понравилось это «загадочное» название, мы поблагодарили Кольцова, хотели еще о чем-то его спросить, но он, как всегда, спешил. Как режиссер спектакля, тогда еще начинающий, я время выключилась из всех «внешних» дел – этот спектакль стал всей моей жизнью. Но когда он уже пошел, наскоки администраторов кино стали особенно мучительными. Новый спектакль не только говорил о беспризорниках, но и был обращен к беспризорникам… Тогда их было много – грязные, оборванные, из детских домов убегали… В театр входят настороженно. Куда это их привели, что с ними здесь будут делать? На всякий случай демонстрируют свою «независимость». Но открывается навес, и вдруг – тишина. Тишина такая – не верится, что все они здесь сидят, с лицами, с которых восторг и изумление словно чудом сняли налет хулиганства… Это дети, такие же дети, как все те, что сидят в партере внизу, как те, которые учатся в школах, ходят в отряды. Только этих детей необходимо еще освободить от всего того страшного, что грозит отнять у них детство. Спектакль им не только очень нравился, он действенно помогал их организовать. Мы были в восторге, что многие из беспризорников приходили к нам по нескольку раз. Но администратор «Арса» отнюдь не разделял наших восторгов. Нэп. Кино в центре города «зашибает деньгу», а мы по двугривенному пускаем школьников, ребят из детских домов и даже в специально отведенные ложи – беспризорных. Работники «Арса» везде и всюду кричали, что мы своим «контингентом зрителей» подрываем посещаемость комфортабельнейшего кинотеатра столицы и что-то еще. На мою «деятельность» поступали многочисленные жалобы, я отбивалась то здесь, то там, ходила мрачная, озабоченная… Враги уже почти добились победы – кто-то доверительно сообщил мне, что есть проект «освободить кино «Арс» от Детского театра». И вот как-то рано утром я пошла к высшему начальству, пошла без чая, без надежд, даже не посмотрев утренние газеты. Ждать приема мне пришлось гораздо меньше, чем предполагала. Всесильный начальник встретил меня с поздравлениями. Да! Он пожал мне руку, приветливо улыбнулся и сказал:– Читал, читал. Рад успехам детского театра. Такой фельетон в «Правде» – это уже этап в жизни Детского театра. Сам Михаил Кольцов пишет – не шутка.
Ничего не понимая, я потянулась к «Правде», которая лежала на его столе. Все закрутилось перед глазами, когда увидела огромный, чуть не во всю страницу фельетон и прочла: Михаил Кольцов. «Дети смеются». Буквы скакали перед глазами… «…В Москве есть театр, который не боится и даже не замечает никаких репертуарных и прочих кризисов. В этом единственном театре публика всегда одна и та же, всегда в отличном настроении, всегда внимательна и чутка к автору, пьесе, декорациям, к исполнителям и к музыке. Сотни раз в начале спектакля появляется перед занавесом женская фигурка и вступает в переговоры с дружественной державой зала.– Тетя Наташа! Здравствуй! Ур-ра-а!
– Здравствуйте, дети! Ну-ка скажите, что я люблю? Иногда свежие, звонкие голоса отвечают из глубины зала с уверенностью, искушенной на опыте:
– Знаем! Ты любишь разговаривать. Наталия Сац, директор Московского театра для детей, отвечает на эту обиду вполне миролюбиво.
– Да, я люблю разговаривать. А еще что люблю?
– А еще любишь, чтобы была тишина.
– Верно, ребята. Люблю, чтобы была тишина. Вот теперь, когда тихо, я вам расскажу про наш сегодняшний спектакль.
Публика слушает настороженно и нетерпеливо. Шестилетний обладатель кресла в партере, когда наступил маленький антракт после пятиминутного вступления к двухчасовому спектаклю, посопел носом и хмуро спросил:– Уже кончилось? Уже домой идти? Другой счастливый обладатель входного билета, нисколько не подозревая, что человек есть существо общественное, требует на свой билет совершенно неслыханных удобств:
– Тетя Наташа, посади меня к себе на колени!
Колен у директора Детского театра – раз-два и обчелся, а зрителей – шестьсот человек. Но маленький посетитель – тиран, он обижается даже на самый мягкий отказ. Приходится посадить…» Пожалуй, за все время существования Детского театра ничто из написанного не сыграло такой роли, как этот фельетон. Главное – для многих прояснилось: Детский театр – дело нужное. Казалось, Кольцов включил над крышей Детского театра солнце. В тот день самые хмурые заулыбались мне, улыбалась и я… Последний раз я его видела в начале тридцать седьмого. Он выглядел усталым и на вопрос: – Как живете? – ответил:– Под копирку. Четвертый экземпляр самого себя. Не все и разберешь. Я похож на дверную ручку, за которую все время кто-то хватается…
Но неожиданно дверь, соединявшая его с людьми, закрылась. Навсегда. Мы с ним оба оказались людьми сложной судьбы. И когда я снова вернулась с Москву, забыли меня. Чувствовала себя одиноко. С этим чувством шла мимо книжного магазина на улице Горького. Из витрины на меня глядела книга «Михаил Кольцов. Избранные фельетоны». А может быть… не совсем забыли?! Вошла в магазин, открыла книжку и увидела фельетон «Дети смеются»… В первый раз по возвращении в Москву улыбнулась и я. Моя стихия К счастью, наблюдать и расширять увиденное и услышанное своей творческой фантазией было основой самых разнообразных игр и заданий, которые я получала от отца и его друзей, едва осознав свое маленькое «я» существующим. Второе качество, становлению которого помогло и детство и отрочество, было стремление и право пробовать свои силы как организатора игр, в первую очередь театральных. «Задумала – сделай», – говорил отец мне, еще дошкольнице, когда я вслед за ним хотела устроить «свой оркестр» музыкальных игрушек со сверстниками и быть дирижером, когда разыгрывала и «ставила» инсценировки знакомых песен и сказок, прежде с сестрой вдвоем, потом с ребятами нашего двора. Умение заразить своим «замыслом», понять разные характеры участников, пронести свою волю через капризы одних, склонность быстро остывать других – как это важно для того, кто решил стать режиссером! Он в своем воображении уже нарисовал, ясно увидел то целое, которое только предстоит воплотить другим участникам. Его воля должна быть увлекающей и целеустремленной. Близость к театру, музыке, живописи у многих режиссеров предшествовала их работе над самостоятельными постановками, но профессиональное становление все же происходило в результате природных качеств, помноженных на очень многие умения, выработанные человеком самим в себе. Никаких курсов для режиссеров тогда ведь не было. Мечту стать режиссером питала постоянная жажда вбирать новое и новое в искусстве. Мое дорогое детство! Какие сокровенные сокровища искусства ты открыло мне! Шаляпин, Нежданова, Собинов, Рахманинов, Михаил Чехов, Москвин, Качалов, Красавин, Монахов, Мордкин, Сулержицкий, Марджанов, Станиславский, Вахтангов – печатного листа не хватило бы, чтоб только перечислить спектакли и концерты, которые видела своими глазами, видела много раз, которые были событием в искусстве и продолжали расти в моей памяти и сердце. Сколько репетиций, которые вел сам Константин Сергеевич, сколько бесед о его сокровенно дорогой всем нам системе слышала, на скольких занятиях в Студии Вахтангова еще в Мансуровском переулке могла притаиться за маминой спиной. Вахтангов!.. Со всей силой своего режиссерского дарования он воспринял сердцевину учения Станиславского, страстно полюбил правду в искусстве. Но в постановках Вахтангова совсем по-новому чарует сила поэзии, ощущение перспективы! Четвертая стена в его спектаклях не подразумевается, ни в какие ее щели заглядывать не нужно – это уже не четвертая стена, а венецианское окно, распахнутое настежь весной. Был еще режиссер, оставивший память в сердце: Марджанов. По-грузински – Котэ Марджанишвили. Он умел «развернуть яркую, такую солнечную ярь» в своих спектаклях, требовал, чтобы артисты говорили «как можно ярче, действеннее, красочнее». Уже апплицированный занавес Свободного театра, занавес Константина Сомова, был прекрасен по мысли динамике, краскам, а когда он открывался… чувствовался праздник, огромный праздник! Как забыть «Покрывало Пьеретты» с Алисой Коонен, Чабровым и Кречетовым, «Желтую кофту» с Монаховым и Кудрявцевым, блистательное умение Таирова, подобно художнику-скульптору, ощущать пластическую выразительность артиста и всего спектакля, «Елену Прекрасную» и «Арлезианку» Котэ Марджанишвили! Свободный театр был театром короткой, но поразительно яркой жизни. Театр – молния. Не упомнить всех тех впечатлений, которые помогли мне стать режиссером – человеком, стремящимся ощутить цели и образы будущего спектакля. Увидеть, услышать, дать многогранную единую жизнь на сцене тому, что пока только написано на бумаге, увлечься и увлечь, найти свой «золотой ключик» к каждому образу, к каждой актерской индивидуальности… Я говорила, что мечта стать режиссером возникла в детстве. Актерскому мастерству я училась, но главную свою мечту – стать режиссером – считала тогда несбыточной. А теперь – уже семь лет назад стала руководить Детским отделом, организовала театр – были все возможности самой стать режиссером… Никто бы не возразил, кроме… меня самой. Знаете ли вы это чувство бережности к самому сокровенно любимому? Любишь и потому… боишься прикоснуться. Переключала себя от работы «вширь» на работу «вглубь» – она куда труднее и значительней. Справлюсь ли? Смотрела на других, а искала в самой себе. Наконец набралась духу осуществить мечту… «Между театром и действительностью находятся оркестр, музыка и тянется огненная полоса рампы. Действительность, миновав область звуков и переступив через знаменательные огни рампы, является нам на сцене, преображенная поэзией». Не помню, знала ли я эти такие мне близкие слова Гейне в 1925-м, когда взялась за постановку – первую самостоятельную в моей жизни. Поэт С. Шервинский написал «Японские сказки» – своеобразный триптих одноактных пьес для сцены. Первой зазвучала в воображении и сердце лирическая сказка «Зеркало Акико». Она в четырех картинках: зима, весна, лето, осень. На сцене будет маленькая сцена, лесенки по бокам ее – вертикаль поможет построению мизансцен. На маленькой сцене только легкая ширма и циновка. Музыка еще в темноте будет вводить в атмосферу картины, эмоционально подготавливать маленьких зрителей. Слов у Шервинского мало. Они выразительны и поэтичны. Сказка будет насквозь музыкальной – отдельные фразы зазвучат на музыке, другие – в специально для них предусмотренных паузах, органичных для целого музыкальной мысли. «Музыкальное оформление» – нередко пишут в программках драматических спектаклей. Музыка как некий «гарнир»? Нет. Музыка в спектакле – неотрывная носительница глубин его содержания. С первой своей постановки начинаю работу с художником и композитором одновременно. Где, какая, с какой целью мне нужна музыка, ощущаю органически, и взаимопонимание с композитором – взаимоувлеченное. А. А. Шеншин – мастер музыкального пейзажа. Сказки природы ему сродни. Художник Константин Юон тоже увлекся: сделал не только эскизы костюмов и ширм, но сам своей кистью расписывал эти ширмы, находил тончайшие узоры, локальное полнозвучие цветов, разных в каждой картине. Трепетно искать гармонию всех сценических компонентов спектакля – величайшая задача режиссера. Итак, «Зеркало Акико». Зазвучала музыка, открылся занавес. На белой, словно занесенной снегом, ширме серебристые очертания гор, заснеженная ветка ели; перед ширмой на циновке сидит женщина в серебристо-черном кимоно. Она чувствует приближение смерти, «вечной зимы». Маленькой дочери Акико она оставляет ларец и просит открыть его, только когда дочери минет шестнадцать. Вторая картина – весна: бело-розовой стала ширма – цветет вишня. На циновке в розовом кимоно с ларцом в руках сидит Акико. Как одинока стала ее жизнь без матери! Сегодня ей шестнадцать, наконец можно открыть заветный ларец. Что это там овальной формы с резной ручкой? Акико поднимает незнакомый предмет и вдруг… видит свою мать. Живую, совсем молодую, такую красивую. Она улыбается Акико. Видя свое собственное отражение в зеркале и принимая его за пришедшую к ней снова мать, Акико решает, что она уже не одинока, что свершилось чудо! За два месяца до начала репетиций я ежедневно занималась «японоведением» с профессором О. В. Плетнером из Института народов Востока, вглядывалась в произведения Хокусаи, Хиросиге, Окио и других художников Японии… Режиссер, даже самый известный, каждой своей работой держит некий экзамен, а моя «Акико» была экзаменом на «аттестат режиссерской зрелости». У военных субординация и дисциплина – одно целое. В театре ничего подобного. Можно числиться самым главным режиссером и не иметь авторитета у труппы. Пока артисты сами не поверили тебе как художнику, ты никто, хоть и называешься режиссер. А полководцев без армии не бывает… После показа «Зеркала» я уже смелее стала назначать на роли в «Скупом благодетеле» и «Храбром Тадайо» более опытных артистов (я уже говорила, что спектакль «Японские сказки» состоял из трех одноактных пьес). У детей «Японские сказки» настоящего успеха не имели: их утомляла дробность спектакля (три пьесы и двадцать две картины), отзывы в печати были малочисленными. Водевиль С. Заяицкого «Пионерия», наоборот, имел успех и у детей, и у взрослых, и у прессы. Спектакль был жизнерадостный. Очень весело работалось с актерами. Удачно распределила роли по принципу творческих неожиданностей. В. Воронова после капризной красотки-маркизочки в «Пиноккио» превратилась в чопорную старуху-тетку; Т. Кутасова, которая у нас раньше только танцевала, заговорила и даже запела. Но режиссерского опыта, чтобы до конца охватить все компоненты спектакля, верно ощутить пульс времени, у меня не хватило. Музыка Шеншина говорила в «Пионерии» мелодиями и ритмами музыкального «вчера», а чувство времени было в этом спектакле совершенно необходимым качеством. Пьеса С. Заяицкого о беспризорнике «Ваське Червяке» вызвала во мне неодолимое желание подражать Станиславскому, Качалову и другим великим из Художественного театра, когда они перед постановкой «На дне» объезжали ночлежки и другие злачные места. Однако в постановке «Червяка» мне это скорее повредило, чем помогло: уж очень держалась за правду, мелкую, бытовую, и подчас упускала большую. Чувствовала, что меня что-то не то захлестывает, но в причине своих просчетов разобраться еще не умела. Помог мне забавный случай. Незадолго до начала работы над «Червяком» прочла, что журнал «Прожектор» объявляет конкурс на рассказы молодых авторов. Писать я начала с детства и понемногу писала всегда, просто для себя. Когда у меня родился сын Адриан и материнские чувства стали очень меня занимать, я написала рассказ «Родители», подписалась – Наталия Адрианова, послала его на конкурс… и забыла об этом. Однажды утром вдруг ко мне на квартиру явилось жюри – комиссия из «Прожектора»: Е. 3озуля, В. Лебедев-Кумач и И. Бабель Спрашивают:– Молодая писательница Наталия Адрианова здесь живет?
Я ответила:– Да, – через паузу, не сразу вспомнив, что выдумала себе эту фамилию. Они сказали, что рассказ мой премирован на конкурсе, будет напечатан [15] , посоветовали, если служу, бросить службу и всерьез заняться писательством (они думали, что служу я делопроизводителем или машинисткой, и меня очень забавляла эта ситуация).
Бабель просил показать другие мои «произведения». Я с восторгом притащила ворох рассказов, которые никогда еще никому не читала. Помню, как Бабель прочел вслух рассказ «В больнице», как ему понравился образ – фраза о женщине, недавно вставшей после тяжелой операции: «Идет рубашка, внутри которой человек».– Это по-настоящему хорошо, – сказал он Зозуле и стал листать другие мои рассказы.
– А тут вы боборыкаете.
– Боборыкаете? – я не знала этого слова. Что оно значит?
Ефим Давыдович Зозуля, смеясь, пояснил:– Был такой писатель Боборыкин. Он писал слишком много, без всякого отбора. Когда пишут многословно и водянисто, мы это называем боборыканьем.
Слово «боборыкать» очень помогло мне понять ошибки, допущенные в постановке «Червяка»: не умела отбирать выразительные средства, боборыкала! Были у меня и режиссерские удачи в «Червяке»: подметила во вспомогательном составе труппы и выдвинула на роль Тани Клавдию Кореневу. Она и Павел Беляев (Васька Червяк), особенно в диалоге на уличной скамейке, искрились верой во все происходящее и своей жизнерадостностью увлекали зрителей. Живая жизнь, живые люди, большая художественная правда – как это трудно достижимо в искусстве, особенно таком новом, как театр для детей, вся драматургия и принципы которого рождались почти одновременно с его организацией. В те времена в поисках «правды» многие режиссеры стали подключать к театру кино, по преимуществу документальное. Расширяя возможности сцены за счет показа документально жизненного, они, мне кажется, уводили от единства художественного замысла, обесценивали театр, в условности которого своя, особая художественная правда. Впрочем, как говорил Гейне, «Рассудку никогда не принадлежит ведущая роль в создании художественных произведений. Они поднимаются откуда-то со дна души, и только когда творческая фантазия готова забросать замысел художника переизбытком цветов, ковыляет с садовыми ножницами в руках рассудок, отрезает все лишнее и дает произрастание главному». Замысел спектакля «Негритенок и обезьяна» поднялся во мне неожиданно для меня самой – либретто и режиссерское видение возникли одновременно. Кажется, впервые в театре – не только нашем, вообще в театре – я ввела мультипликацию в органической связи с театральным действием. Киномультипликация близка детскому рисунку, ей дано отбрасывать ненужные подробности, предельно динамично передавать главное. Она расширит возможности театра, не выпадая из общего художественного замысла, поможет показать быстро сменяющие друг друга картины природы, приключений – так говорила я сама себе. Мои мысли во многом подтвердились в ходе самого спектакля. Эта моя режиссерская работа была первой, вызвавшей признание у прессы, общественности и, самое главное, у детей. Спектакль этот «справил» свое тысячное исполнение на нашей сцене всего через шесть лет после премьеры, был вместе с мультфильмами перенесен на сцену театров Тбилиси и других городов Советского Союза. «Негритенком и обезьяной» был открыт театр Тициан Высоцкой в Варшаве, Милы Меллановой в Праге, Театр для детей в Брно; он шел в Швейцарии, с моего согласия был дублирован и известным турецким режиссером Муксином Эр-Таргулем в Стамбуле. Как важно для режиссера встретить талантливых единомышленников, смотреть на них не «снизу вверх», как я все же смотрела на Юона и Шеншина, а как на сверстников, молодо ощущающих наше сегодня и в сегодня завтра! В те годы с золотой медалью как пианист, дирижер и композитор окончил Московскую консерваторию Леонид Половинкин. Он заменил в нашем театре Шеншина. Спектакль «Негритенок и обезьяна» я задумала как пантомимно-танцевальный, целиком музыкальный. Половинкина увлекло либретто, и он принялся за работу со всем своим юношеским пылом. Музыка росла, как тропический лес, где происходило действие этой сказки. Наши словесные характеристики в музыке Половинкина приобрели объемность, интересные и разнообразные ритмы подсказывали новые штрихи и краски режиссуре и исполнителям. Завсегдатаями в нашем театре после этого спектакля стали композиторы Н. Я. Мясковский, С. М. Василенко, дирижер Н. С. Голованов, А. В. Нежданова. Большой радостью была эта моя первая совместная работа с художником-архитектором Георгием Гольцем. Он нашел основную цветовую тональность спектакля и не хотел мельчить ее. Гольц нашел единое для всех картин решение, которое давало возможность строить разнообразнейшие мизансцены, развертывать непрерывное действие. Слово «совместители» [16] уже было давно забыто. В «Негритенке» были заняты творчески «мои» артисты: Михаил Ещенко, Тамара Верлюк, Регина Лозинская, Наталия Чкуассели, Юлиан Корицкий, Евгений Васильев (всех не перечтешь) и, конечно, до конца умевшая раскрывать мои режиссерские замыслы, на редкость одаренная Клавдия Коренева. Она играла Обезьяну. Коренева нашла правду, живую жизнь этого образа до того, как художник помог ей гримом и костюмом на премьере. В сцене, где Обезьяна учит Негритенка лазить по деревьям, когда Коренева с абсолютной легкостью влезала по стволу пальмы до ее вершины, скрывалась под верхней падугой нашей сцены, а затем вновь появлялась на декоративных лианах, раскачиваясь вниз головой на одной ноге, в зале то и дело слышались недоуменные разговоры – кто это? Неужели живая обезьяна? В. Ашмарин в статье «Здесь – настоящее» рассказывает смешной случай, свидетелем которого он был сам. «…Все билеты на «Негритенка и обезьяну» были давно проданы, но одна из матерей напрасно уговаривала свою дочь уйти:– Спектакль этот ты уже видела, билетов на сегодня нет, пойдем в Зоологический сад, посмотрим теперь настоящую обезьяну.
Девочка с возмущением ответила:– Там не настоящая. Здесь настоящая…»
Мы тщательно изучали особенности детей разного возраста совсем не для того, чтобы давать им такие впечатления, которые легко и бездумно будут ими восприняты. Мне казалось, что спектакли для детей должны быть нелегкими, а посильно трудными: не манная каша, а орех по зубам. Но обязательно по зубам, чтобы дети сами могли его разгрызть, расти, воспринимая увиденное. В Московском театре для детей я поставила семнадцать спектаклей: одни были обращены к малышам, другие к школьникам средних классов, третьи к юношеству. Ощущение «адресата» неизменно творчески помогало мне. Мне кажется, режиссер всегда, задумывая новую постановку, мысленно ведет некий творческий диалог с будущими зрителями. Для какого возраста и какие пьесы любила больше ставить? Позвольте, я отвечу словами Святослава Рихтера: «Больше всего я люблю те музыкальные произведения, которые играю сегодня». Если бы режиссер не умел влюбляться в каждую свою новую постановку, вряд ли он был бы режиссером. Чем дальше работала с композитором Л. Половинкиным, художником Г.Гольцем, тем больше радовалась нашему взаимообогащению, творческому росту от общения друг с другом. Режиссура заняла главное место в моих мыслях и жизни. Любимая моя Школа эстетического воспитания, буйство энергии, мечущей искры в разные стороны, – позади. Творческое созидание Московского театра для детей, театра со своим индивидуальным почерком – главная задача его главного режиссера! Каждый новый спектакль для меня – новое рождение, единственно возможное режиссерское решение. Получив пьесу, «заболеваю» ею, страстно влюбляюсь в ее идеи, долго сама с собой спорю, прежде чем до конца сумею ощутить ее целенаправленность, остроту ситуаций, глубину и яркость характеров, прежде чем ясно увижу ее места действия, найду ощущение атмосферы будущего спектакля. Выявить идейную сущность, глубоко вскрыть текст – основа основ. Но когда форма – выразитель содержания – найдена в мизансценах, жестах, динамике и паузах, борюсь за ее отработку в тончайших деталях. Когда режиссер нашел то, что искал, мне кажется, для него уже нет «или», есть «только так». Некоторые склонны считать это формализмом. Не согласна. Это точное знание, чего ты хотел, что искал и что уже ни в коем случае не хочешь потерять. На личные темы У меня, конечно, была, как у всех, личная жизнь, увлечения и прочее. Но театр и мысли о нем звучали во мне и днем и ночью – всегда. Они всегда главнее всего остального, занимали не только мысли, но и чувства, и, по правде сказать, на остальное у меня совсем времени не оставалось. Первое серьезное чувство связало меня с Сергеем Розановым. Он был лет на десять меня старше, очень много знал о художественном воспитании, был талантливым педагогом, писателем, режиссером детских празднеств и знатоком эстетических теорий. Сергей мне во всем помогал, стал моим учителем и по театру и особенно по созданию Опытной школы эстетического воспитания. Она так и называлась «ОШЭВ под руководством Наталии Сац и Сергея Розанова». В Московский театр для детей Сергей Григорьевич тоже внес много талантливого, умного, хорошего, особенно в методику изучения детского зрителя. Однако, помогая мне познавать многое, мой дорогой «путеводитель» и сам напоминал большую книгу далекой мудрости и этой же книгой мечтал закрыть мое восприятие цветущей жизни и людей, которые не могли не интересовать меня. Он был болезненно ревнив, «оберегая» каждую мою улыбку, адресованную не лично ему, и подчас без всякого повода впадая в пессимизм. Поэтому совместная жизнь у нас не получилась, несмотря на то что родился сын Адриан, которого крепко люблю, которым горжусь. Человек, с которым я глубоко поняла радость любви и семьи, был Николай Васильевич Попов. В первый раз я увидела его в Горфинотделе. Он был там заместителем заведующего. Невысокого роста, пенсне на мягком носу, добрые, живые глаза и обаятельная улыбка. Он должен был экономить деньги и отказывать театрам в ассигнованиях, но его все театральные работники почему-то любили: даже в тех условиях все, что он мог делать хорошего, он делал, хотя совсем не был размазней – наоборот, был умным, деловым. Как-то он попал на один из районных детских утренников, где я в качестве «тети Наташи» вела программу, и был искренне захвачен тем контактом, полным взаимопониманием, которое всегда возникало у меня, стоящей на сцене, с сотнями ребятишек, сидящих в зале. Когда должен был пойти спектакль «Пиноккио», Н. В. Попов был председателем Московского городского банка и помог мне «учесть вексель» – без этого постановка наша неминуемо была бы сорвана. Об этом я рассказала уже в главе, посвященной работе А. Д. Дикого над «Пиноккио». Каждый раз после встречи с Н. В. Поповым кроме помощи получала какой-то заряд веры, что делаю нужное, что не в одиночку преодолеваю трудное, – хороший был у него стиль разговора с людьми, обаяние тепла. Н. В. Попов стал частым посетителем спектаклей в Московском театре для детей. Он хорошо разбирался в искусстве. Конечно, я очень его уважала, но… однажды совершенно для меня неожиданно оказалось, что мы любим друг друга. Я вышла за него замуж, у нас появилась дочка Роксана – казалось, большего счастья и быть не может. Слово «банкир» звучит богатством. Но смешно, когда думают, будто председатель советского банка имеет какое-нибудь личное отношение к его капиталам. Попов – обаятельный человек, это говорили все, и так оно и было. Виделись мы с ним мало – он был весь в своей работе, а я в своей, но знать, что в одиннадцать вечера каждый день есть твои ласковые полчаса, и полное взаимопонимание, и сердечный уют, это ли не прекрасно? К сожалению, вскоре Николая Васильевича назначили торгпредом в Польшу. О том, чтобы уйти из театра, я и думать не могла. Театр был и оставался самым главным.– Мне говорят: «Попов, бери с собой жену» – и не понимают, что моя жена не подушка и не чемодан, она – Наталия Сац и неразрывна с Детским театром, – всячески подбадривал себя Николай Васильевич, хотя ему было очень тяжело уезжать одному.
Конечно, в первый же отпуск поехала к нему. Торгпредство занимало роскошный особняк по улице Матейки, 3. В приемных комнатах чопорные кресла с обивкой розовыми букетами на шелку, золотой короной и буквами «Н». Это была дворцовая мебель. Ее хватало на три комнаты для официальных приемов, а у нас в спальне на первых порах стояли только две железные кровати и один стул. Часть вещей, раздеваясь, мы клали на пол на постеленные там газеты, а всякие коробочки на подоконники. Не брать же к себе мебель с «Н»! Однако в Варшаве и у меня начались дела. Познакомили меня на приемах с деятелями литературы и искусства, сделала по просьбе полпредства доклад о театрах для детей, стала помогать Тициан Высоцкой создавать балеты для детей – она поставила моего «Негритенка и обезьяну». Я познакомилась с Юлианом Тувимом, подучилась дипломатическим правилам и помогла Николаю Васильевичу провести ряд приемов в Варшаве и в тогдашнем Данциге. Вы согласны на интересный скачок через двадцать пять лет? Я – студентка-заочница ГИТИСа, хотя мне уже… пятьдесят. Руководитель кафедры марксизма-ленинизма Б. К. Эренфельд замучил меня строгими вопросами, разными датами… краснею, трепещу, но отвечаю правильно уже пятьдесят минут. Когда же конец?! Он выводит в моей зачетной книжке «5», говорит совсем другим тоном – не экзаменатора, а равного:– Значит, и после всего пережитого вы полны энергии?
Молодец! А меня не помните? Я был полпредом в Данциге, когда вы с Николаем Васильевичем к нам пожаловали. Вы помните торжественный обед для Данцигского сената, немцев-сенаторов «в теле», дымящих сигарами, с непроницаемыми лицами, откровенным высокомерием? И вдруг появляется Попов со своей обаятельной улыбкой – специально прибыл для торговых переговоров из Варшавы – и с ним прелестно одетая курчавая, худенькая девушка – кто она? Представляют: Наталия Сац-Попова, жена торгпреда. Вы помните, какой был фурор, когда вы заговорили с ними как ни в чем не бывало по-немецки, без всяких переводчиков, словно не замечая их надутого чванства? Помните, как весело стали им рассказывать о своем театре для детей, об искусстве Москвы и как вы помогли создать ту непринужденность атмосферы, которая так помогла нашим переговорам?! А что на вас было за платье?.. О, я очень хорошо помню. Это платье из шелковой чесучи, с длинными, широкими рукавами, подбитыми красным шелком, было сделано по эскизу знаменитой художницы А. А. Экстер и украшено шелковыми вышивками в русском стиле. Когда данцигские «сенаторши» немного привыкли ко мне и обступили меня, раздался вопрос жены их «главы»:– Это платье вы купили в Париже?
– Нет, в Москве.
– В каком модном доме можно там с таким вкусом одеться?
– В Москвошвее.
В то время это звучало сенсацией. Вслед за Польшей Николай Васильевич получил назначение тоже в торгпредство в Берлин. Это был первый европейский город, который поразил меня масштабами своего величия, и с ним у меня связано много ярких воспоминаний. Сезам, откройся! «Отец умер в расцвете сил и творческих возможностей, умер, когда его музыку ждали театры Парижа и Лондона, когда сам Макс Рейнгардт…» Эти слова слышала от мамы еще с детства, и ее интонация, с которой она произносила «Макс Рейнгардт», рисовала в моем воображении гения, почти чародея. Мне крепко запало в голову: буду режиссером – увижу его! В начале 20-х годов «Тысячу и одну ночь» Н. 0гнева в Московском театре для детей ставил Алексей Грановский. Он учился в школе режиссерского мастерства в Берлине у Рейнгардта. Рассказы Грановского слушала с восторгом. Я тосковала по такой Мeisterschule и восхищалась Рейнгардтом, который осуществил мечту многих таких, как я. И вот, конец 20-х годов, я сама в Берлине. У Рейнгардта не один театр. Это – могущественный владыка театрального искусства Запада. В пяти его берлинских театрах всегда все билеты проданы. Но я, конечно, прорываюсь, жадно пью вино театральных наслаждений, им созданных. Спектакли Рейнгардта! Как все в них вкусно приготовлено, как точны пропорции убаюкивающей грустя, радостного умиления, приятно будоражащих мыслей, уксуса и горчицы юмора, какая роскошь в костюмах и декорациях! Как тонко и точно подобран состав исполнителей! Да, именно подобран. Артисты здесь не связаны с тем или иным театром. Их приглашают на исполнение какой-либо роли в разные театры. Тем важнее воля, сильная воля режиссера, который, несмотря на это, создает полное единство ансамбля, ансамбля «звезд», как любят здесь говорить. Как сладко спится после спектаклей этого театра! Великий «Мaitre de plaisir» [17] театра! Он ни под кого не подделывается. Его вкус просто совпадает с хорошо платящей и нежно его любящей публикой. Они шагают точно в ногу. Пьесы в те времена шли у Макса Рейнгардта незначительные, но чудесно поданные. Бедные девушки изящно страдали, надеялись, неожиданно становились кинозвездами, меняли чистую бедность работниц с белыми воротничками блузок на пышные меха, сапфиры и изумруды. Смирение на глазах приносило зрелые плоды счастья, и, уходя, каждый убаюкивал себя мыслью об этом так неожиданно возможном, прекрасном. Я посмотрела в Берлине спектакль Э. Энгеля «Трехгрошовая опера» Бертольта Брехта с музыкой Курта Вейля в «Театре ам Шиффбауэрдамм». Мэкки-Мессер – «бандит-джентльмен» в исполнении Германа Тимига навсегда врезался в память. Как правдив и своеобразен… элегантен, умносатиричен! А Карола Неер – Полли! Сколько обаяния, какая лаконично выразительная мимика, глаза часто полузакрыты, но даже скулы на ее лице играют. Весь артистический состав – это предельная собранность без всякого нажима, скупость и точность жестов, точность и упругость дикции – не пропадает ни одна буква, точность и упругость ритмов спектакля… Испытываешь радость познания чужой жизни на сцене, ни на минуту не переставая наслаждаться искусством. Рейнгардт – это академик режиссерского искусства. Но как он все успевает? У него театры не только в Берлине, но и в Вене… Огромная машина работает мягко, целенаправленно, безотказно – еще бы, ею управляет властитель театральных вкусов большинства платящей публики – Макс Рейнгардт. Иронизирую? Да. То, что видела в те дни, по содержанию было куда ниже того, о чем столько читала и слышала. Рейнгардт – «великий реформатор немецкого театра» – был связан в моем представлении с гениальным режиссерским прочтением пьес Шекспира, Горького, шедевров оперы, массовыми празднествами… Я хочу, должна увидеть его, хочу творчески понять режиссера, о котором столько читала и слышала. И вот вновь и вновь поднимаю эту тему в разговорах с мужем. Разговоры частые, но короткие. О том, чего очень хочешь, подолгу говорить нельзя. Но не пробить все «затворы» тоже нельзя. На днях начинаются знаменитые «театральные игрища» – «Festschpiele» Макса Рейнгардта в Зальцбурге. Без помощи мужа мне туда не попасть. Я приехала к нему в свой отпуск в Берлин, а это – Австрия: разрешение, виза, валюта. Нет, честное слово, это будет совсем недорого, я буду экономна! Никаких покупок – клянусь! Посчитаем: билет в два конца, гостиница – три ночи, билеты на спектакли, на еду совсем немного, городской транспорт, всего… 100 марок. Все же 100 марок. А с валютой ой как туго! Но хочется, страстно хочется увидеть близко этого мага и чародея, посмотреть его знаменитые «фестшпиле». Попов верит мне, как себе, но партийная дисциплина превыше всего. Все со всеми согласовать, никакого риска. Да и обидно: приехала в отпуск на месяц и опять… разлука. Но вот я с маленьким чемоданом. В нем только одно зеленое вязаное платье с асимметричными квадратами, выходные туфли, пижама и несколько бананов. Я смотрю на доброго моего мужа уже из вагонного окна, он смущен, не хочет, чтобы я уезжала.– Не задерживайся, помни…
– Спасибо, дорогой, за все.
Поезд ускоряет ход, торопится расширить рамки моих жизненных впечатлений. Какой чудесный город Зальцбург! Еще бы – родина Моцарта. Чудесные строения церквей, средневековые домики – все утопает в зелени. Это город-магнит. «Фестшпиле» Рейнгардта знамениты на весь мир. Сколько сюда съехалось машин! Еле достала в гостинице, ближе к вокзалу, двухместный номер. Такая жалость – одноместных уже нет. И вот я одна в этом незнакомом городе. Просыпаюсь от колокольного звона. Какие разные звучания! Это звонят не в одной – в нескольких церквах. Колокола перекликаются друг с другом – каждый поет свое, словно звучит многоголосый хор… А вот они, колокола многих церквей, слились в одну общую гармонию… и снова – перекличка. Подбегаю к окну, раскрываю его. Да, звучит весь Зальцбург. И вдруг на затихающем звоне чей-то призыв откуда-то, чуть не с неба: «Jedermann» (каждый человек). И из другого пространства – другой голос: «Jedermann!» И снова – теперь уже разными голосами и ритмами – перекличка – инвенция: «Jedermann!», «Jedermann!» Призывы сливаются со звоном колоколов, и машины туристов перед моим окном одна за другой исчезают, словно вспорхнувшие птицы. Звоню служанке, смущенно спрашиваю по-немецки:– Скажите, пожалуйста, что происходит?
– Сегодня открытие знаменитых «фестшпиле» господина Рейнгардта. Показана будет пьеса «Jedermann».
Ах вот в чем дело – «Jedermann» Гуго фон Гофмансталя! Значит, это своеобразная интродукция, увертюра открытия «фестшпиле», и чародей Рейнгардт включил в театральную игру весь город: с его колоколен и крыш домов несутся эти призывные звоны и голоса, словно с небес на землю… Конечно, без завтрака, скорее, в общем течении несусь к театру. Но… все билеты давно проданы. Спектакль дневной, через полчаса начало. Проникаю в кабинет директора-распорядителя. Высокий, немного кривоносый, но очень представительный мужчина. Молю его: из Москвы, специально приехала, дочь композитора, которого лично знал Макс Рейнгардт, сама – начинающий режиссер… Мои приманки очень слабы. О билетах просят американцы с пачками долларов, важные испанцы, господа и дамы из Парижа, а в резерве… Но мои молящие глаза в сочетании с дьявольской настойчивостью побеждают. Билет стоит дороже, гораздо дороже, чем надеялась, но он в руках, а это сейчас единственно важно. Я не смогу сейчас рассказать подробно содержание пьесы – оно и тогда не дошло до меня полностью. Помню почти микеланджеловского Христа, снятого с креста, и деву Марию в ниспадающей с головы на плечи и закрывающей всю ее до пят одежде-покрывале. Сверкающая белизна и мягкость складок этой одежды полностью сливались с необычайной чистотой и мягкостью исполнения роли девы Марии артисткой Еленой Тимиг. Момент снятия Иисуса Христа с креста она играла изумительно проникновенно и просто. Нет, это была не игра. Казалось, у Марии прервана жизнь. Поразительная пауза отрешенности, полного непонимания смысла жестокости. Кажется, видишь ожившую в плоти и крови скульптуру Микеланджело… А сцена, в которой Человек – Александр Моисси – веселится среди друзей и красивых женщин, пирует за нарядным столом, в то время как за его спиной уже стоит с косой огромная гололобая смерть… В этом спектакле кроме артистов, оркестра, богатой постановочной части с ее чудесами монтировки и электросвета участвовал весь Зальцбург и даже… его солнечный свет. Да, колокола церквей в точно предусмотренных режиссером местах продолжали «аккомпанировать» спектаклю, а неожиданно открывшееся во втором акте окно под крышей сцены дало ворваться в зал солнечному лучу, который, казалось, точно знал, когда ему нужно светить. Иногда было ощущение, что крышу в театре вообще сняли и сейчас разверзнется небо, а эти отовсюду несущиеся голоса «Jedermann», «Jedermann»… надолго остались в памяти. Постановка была незабываемо прекрасна, тончайше аскетична, пластически выразительна, как скульптура великих… Возгласы восторга на самых разных языках людей, съехавшихся со всего мира, чтобы посмотреть «Jedermann» Макса Рейнгардта, еще подогрели мое желание во что бы то ни стало с ним познакомиться. Я вернулась в номер гостиницы, открыла чемоданчик и с удовольствием съела банан. От обеда сегодня полезнее воздержаться: стоимость билета опасно накренила бюджет. Действовать надо скорее, но солидно, продуманно. Звоню. Умная служанка входит.– Скажите, господин Рейнгардт сейчас в Зальцбурге?
– О да. Господин профессор (до чего немцы любят, чтобы их звали профессорами, даже Рейнгардт, светило!) несколько дней назад приехал с супругой в свой замок. (О боже! Он живет в замке! Где уж мне, советской Ваckfisch [18] , его увидеть!)
– А далеко этот замок?
– Замок Короны Леопольда находится в окрестностях нашего города. Профессору это очень близко – у него чудесные автомобили.
(Замок называется «Корона Леопольда»! Корона! Как у царя!!! Еще хорошо, что «Леопольда» – все не так страшно: Сулержицкий был Леопольд Антонович.) Служанка милая, а потом… она такая же молодая и щуплая, как я. Может, она мне поможет? Да, у нее через два часа кончается рабочий день, она отнесет мое письмо в дирекцию того театра, где я была. Немцы народ точный – передадут, доложат. Но… писать по-немецки с моим доморощенным знанием языка? Наглость. По-русски? Чушь. Станет он переводчика искать… Итак, на немецком, очень кратко. Но как это трудно! Москва! Станиславский! Папа! Помогайте зацепить что-то красивое в его сознании! «Даже несколько минут общения с таким, как Вы, это важно начинающему режиссеру. А я уже работаю в Детском театре» (он понятия не имеет, что это такое, да и не очень интересуется). Не помню точно, как я написала письмо. Главное – выйдет из этого что-нибудь или нет. Это надо было знать скорее – послезавтра ночью последний срок для возвращения, даже и при строго банановой диете; даром в гостинице меня держать никто не будет. Легла спать пораньше по многим причинам. Главное – ничем не отвлекать себя от виденного спектакля, такого значительного и необычного. На пустой желудок все лучшее попадает прямо в сердце. Выигрыш! Утром, чуть свет, побродила по Зальцбургу, первой в тот день осмотрела домик Моцарта и вернулась в гостиницу. Мое письмо к Максу Рейнгардту я закончила просьбой известить меня в гостиницу, будет ли у меня надежда увидеть его завтра-послезавтра. И действительно, вскоре мне позвонили. Женский голос очень вежливо сообщил, что профессор благодарит за внимание, но, к сожалению, слишком занят. По окончании всех спектаклей фестиваля в Зальцбурге он постарается уделить час внимания для общей беседы с многочисленными просителями. Это было крушение всех надежд. Но я запомнила фамилию того, кто устроил мне вчера билет. Что-то человечное в его глазах, хоть и в спешке, мелькнуло, и он помог. Его фамилия Герцберг… Да, господин директор Герцберг.– Позовите его, пожалуйста, к телефону. Он подошел. Я так горячо стала молить о разрешении увидеть его (а не Рейнгардта), что он рассмеялся.
– Название отеля, номер комнаты?.. В 17 часов я к вам заеду.
Положив трубку, я некоторое время на нее с опаской глядела. Смелость и настойчивость могут быть истолкованы как нахальство и… доступность. А вдруг придет он сюда и сделает мне… гнусное предложение? Я посмотрела в зеркало и поняла, что кудрявых волос слишком много. Лицо было какое есть – тогда не подкрашивала даже губы, но волосы надо было отмочить, сделать поскромнее, чтобы он понял, что никто с ним кокетничать не собирается. К счастью, в моей сумочке нашлась фотография мужа и детей – очень важно поставить ее на стол. С газетой, гладкими волосами, без улыбок встретить директора. Он пришел с немецкой педантичностью в семнадцать ноль-ноль, высокий, в сером костюме и фетровой шляпе. Положил портфель и шляпу, спросил «в темпе»:– Чего же хочет маленькая русская?
Я поняла, что главная опасность – он приехал только из вежливости и… ему некогда. К каждому человеку надо найти свой ключ, и это самое трудное. Человек не стоит на месте, он движется и, пока меняешь два-три «не тех» ключа, исчезает. Я начала с директорского юмора. Сколько вчера у него было посетителей, какая перегрузка и на скольких языках он должен был говорить «нет», «не могу»! А мне – огромное спасибо – он дал билет, и какое это было счастье! О, я тоже директор, я понимаю, как трудно его положение. Слово «директор» в применении ко мне не произвело никакого впечатления, и я зацепилась за великих моего детства. Это произвело некоторое впечатление, и я, уже думая только о том, как сделать его проводником моих устремлений к намеченной цели, говорила о театре, музыке, постановках Рейнгардта, своей мечте увидеть его, говорила, как сама с собой, сердцем. А когда волнуюсь, вижу то, о чем говорю, вскакиваю с места, показываю, как актерам на репетиции… Что я говорила, точно не помню, что-то вроде: «Я не могу вам объяснить, почему это свидание с режиссером Рейнгардтом так для меня важно, оно важно для моего становления очень. Должны же большие с вершин славы протягивать руку тем маленьким, кто только карабкается на гору режиссерского мастерства. А может быть, мне хочется увидеть мэтра, потому что им восхищался мой отец, а смерть пришла за ним сейчас же вслед за предложением Рейнгардта писать музыку для его театров. Отец не осуществил своей мечты…» Герцберг слушал меня с интересом; вероятно, его забавляли мои не похожие на немецких женщин манеры, вернее, полное их отсутствие, а главное, он понял – у меня никаких просьб к Рейнгардту не будет.– Вы очаровательны, – сказал он. – Я расскажу о вас профессору – он любит необычных людей. Жаль, что вы так спешите – дней через семь-восемь у него, быть может, нашлось бы для вас время. Все же завтра утром я вам позвоню.
Мы простились дружески. Оставшись одна, мысленно повторила то, что мне говорил Герцберг: Макс Рейнгардт в прошлом актер, играл Луку в «На дне», раньше его театры ставили в основном произведения мировой классики, но сейчас публика устала от войн и распрей, профессор, как никто, чувствует ее потребности, тягу к комедийному. Узнала, что на репетициях Рейнгардт сидит за столом в пятнадцатом ряду и по микрофону дает свои гениально точные указания. Само собой разумеется, еще до начала репетиций план постановки, образы, мизансцены уже решены мэтром. На репетициях рядом с ним ассистенты всех отраслей постановки – по взмаху его ресниц они понимают его, мгновенно бросаются реализовать его указания на колосники, в оркестр, электробудку. Техника и мастера техники – одно из основных условий создания подлинно блестящего спектакля. Рейнгардт создает наилучшие условия этому штату специалистов по электричеству, реквизиту, гриму. Они работают здесь десятилетия бессменно. Рейнгардт – крупнейший режиссер и театральный директор мира, но административный штат невелик – каждый знает свое дело и с полуслова понимает «главу». Женат Макс Рейнгардт на той актрисе, которая вчера играла деву Марию. Елена Тимиг не только жена, но и замечательный друг. Вся семья Тимиг – артисты, может, я видела братьев Елены – Гуго и Германа… Пойти смотреть город? Бесполезно. Когда я концентрирую себя на одном – другого не вижу. Глядеть-то гляжу, но не воспринимаю. И спать в эту ночь было трудно. Что ответит мэтр своему директору? Вежливое «нет» наиболее вероятно, и хотя я посмотрела «Jedermann» – это на всю жизнь запомню… мурашки по телу, когда задуманное, долгожданное срывается! Внутри было потеряно единство. «Разве это так важно?» – говорил один голос. «Важно научиться добиваться всего, что ты задумала», – отвечал второй. И так, в спорах, всю ночь. Герцберг позвонил в девять утра.– Профессор назначил вам аудиенцию в четыре часа в своем замке. Поздравляю вас и рад, что мог этому содействовать. Садитесь в такси, берите визитную карточку и приезжайте.
Ура, ура!!! Но… Жил бы он в центре, а то… окрестности! На такси хватит? Да, еще… где я возьму визитную карточку? Хорошо, что назначил в послеобеденное время: мое разнозеленое с асимметричными квадратами платье чуть ниже колен, как раз для этого времени. Позже надо было бы надевать длинное, а у меня его нет. Сейчас куплю железнодорожный билет на десять вечера, расплачусь здесь, чемоданчик в руки, прямо от Рейнгардта на вокзал и там сколько нужно посижу до поезда. Да и не будет времени. Назад придется без такси шагать – на два конца, конечно, не хватит денег. Но сейчас – на коне! Вернее, на такси. Еду к Рейнгардту, и потому ура, ура, ура! «Замок», «Корона» – этого бояться не стоит. В театре мы все себе выдумываем. Золотая бумага, наклеенная на картон, в нашем воображении заменяет золото. А сколько чудесных замков мы строим из фанеры! Макс Рейнгардт – режиссер, наверно, в жизни тоже фантазирует. А город хорош! Эта прогулка в такси – роскошь. Высокие домики – домики-башни в одно, два, редко три окна, гербы на стенах, витражи из разноцветных стекол, сводчатые двери-малютки и двери-врата, взлетевшие ввысь строения кирх, и зелень, зелень… Но что это вдали?! Настоящий феодальный замок. Огромные каменные стены, средневеково-величественные строения за ними, круглые каменные башни… Перед высокими стенами этого феодального укрепления чуть видны деревья палисадника. Такси останавливается около огромных ворот из черного металла – «Leopoldskronschloss»». Нажимаю кнопку бесшумного звонка. «Глазок» в металле открывается. Слышу голос– Будьте любезны, ваша фамилия?
– Наталия Сац, – на спертом дыхании.
– Вашу визитную карточку, пожалуйста.
Притворно шарю в сумочке, бормочу: «К сожалению, забыла» – чтобы меня не выгнали, быстро плачу за такси. Меня оглядывают и, словно нехотя, пропускают в ворота. Иду по палисаднику. На меня высокомерно смотрят розы, ирисы, лилии с выхоленных газонов; подстриженные кусты и деревья; красные от песка в рамках из серо-розовых камней дорожки – даже они дают мне понять, что меня «не по чину занесло». Неужели я струсила – кажется, дрожат ноги. Или это от банановой диеты? Но назад не поверну! Мраморные ступени террасы подводят к сводам парадной двери. Она полуоткрыта. Но, едва ступив за порог, замечаю швейцара в парадной ливрее – он принимает чемоданчик, пальто, шапку. Появляется лакей, с баками, в белых перчатках. Да, да! В белых перчатках, как в романах из жизни французских графов. Я же – дитя Октябрьской революции, у нас и в театрах еще таких пьес не видела, а тут вроде сама – действующее лицо. Иногда ночью такое снится: кто-то в театре заболел, я должна его заменить внезапно, а роли не знаю, даже пьесы не читала, выпихнули на сцену – и стою… Зачем у лакея серебряный поднос? А, опять требуют визитную карточку, для этого и держит свой круглый под-носик. Нет у меня ее, простите, пожалуйста, забыла. Меня вводят в огромную строгую комнату с высоченным потолком, сводчатыми окнами, длинными зеркалами, стульями со спинками, на которых можно сидеть, только проглотив аршин, – слишком прямо, дескать, знай, к кому пришел, прими почтительную позу. Пожалуй, только серый пушистый ковер не такой строгий. Изящные часы на столе с венком из фарфоровых цветов вокруг циферблата показывают 4, 4.10, 4.20, а я совсем одна в комнате, где я… честно признаться, никому не нужна, да и мне ведь особенно-то никто не нужен. Выдумала себе «идею»… смешная дура. Вдруг снова вижу лакея; он почтительно открывает внутреннюю дверь, склонив голову, становится в профиль – в дверях появляется невысокий бритый мужчина с орлиным носом, острыми глазами, в элегантнейшем темном костюме, с галстуком-бабочкой под белоснежным воротничком. Седые волосы с аккуратным, идеально точным пробором, осанка такая, словно у него на голове корона. Уверенным шагом он приближается ко мне. Да, это поступь феодала, земного владыки; теперь я точно знаю, что нахожусь в самом настоящем замке. Протягивает мне руку, говорит капризно:– Я действительно ценил талант вашего отца, но мы с ним даже не были знакомы…
Я почему-то чувствую себя виноватой, хочу пожать его руку, но она поднимается, кружится вместе с венком на циферблате и белой перчаткой лакея, потом все растворяется в воздухе, я… теряю сознание и падаю на ковер. Не знаю, кто и как принес меня в удивительно уютную комнату. Когда я открыла глаза, увидела белый рояль, горящий камин, круглый стол, заставленный вкусными вещами, дымящийся бульон, ласковые цветы. Я лежала в мягком с откинутой спинкой кресле, как в кровати, а надо мной в кружевном платье с широкими белыми рукавами склонилась красивая и добрая Мария из спектакля «Jedermann», директор Герцберг, четверо спрыгнувших со страниц модного журнала мужчин, сам Рейнгардт держал мою руку.– Вам лучше? – спросил он меня участливо. Я плохо понимала, а язык не шевелился.
– Не надо говорить, она еще очень слаба, – сказала Мария – Елена Тимиг.
– Чашку крепкого бульона? – протиснулся ко мне Герцберг. Это было очень кстати.
Увидев, что у только что умиравшей прекрасный аппетит, каждый стал подносить мне еду и радоваться ее быстрому исчезновению. Особенно весело поил меня кофе со взбитыми сливками подвижный черноглазый мужчина, который говорил только по-французски. Силы вернулись ко мне полностью, и стало страшно неловко. Добилась своей цели, чтобы отнимать у таких людей время, чтобы о русской думали бог знает что. Веселый бес снова зажег золотые огоньки в мыслях и словах.– Господин профессор, я мечтала увидеть ваши спектакли, ваш дом, вас самого, и это сбылось. Большое спасибо. Простите, что мне стало дурно, не знаю почему – это со мной в первый раз. Но можно, я спрошу вас что-то важное: почему вы ставите спектакли только для взрослых? А для детей?
– Для… детей? Я как-то никогда об этом не думал.
– О-о, но еще Станиславский…
– Станиславский! – перебил меня Рейнгардт. – Это имя звучит для меня как вечно живая музыка. Вы хорошо его знаете?
– Я знаю его с самого детства, сказать «хорошо» не посмею. Снизу вверх не все видно, но…
Стала рассказывать забавные факты из своего детства, когда Станиславский вместе с отцом работал над «Синей птицей». Белый рояль был открыт; я села за него, иллюстрировала пожелания и замечания Константина Сергеевича к папиной музыке, вспомнила много интересного о его первом спектакле для детей, который видела десятки раз, его замечания исполнителям роли Огня, Воды, Собаки, Кота, детей, представила артистов на репетициях со Станиславским, снова села за рояль… Потом связала «Синюю птицу» с созданием уже после революции Детского театра, рассказала о детях-зрителях, о наших первых спектаклях, которые тоже прозвучали на этом рояле в основных мелодиях… На меня смотрели удивленно и слушали с увлечением. Я сделала паузу.– Мне показалось, что я сам побывал в Детском театре, вы образно рассказываете, – сказал Рейнгардт. Герцберг ликовал:
– Неужели я бы разрешил отнимать ваше драгоценное время, если бы еще вчера не понял… (Пошли комплименты.)
– Черт возьми! – закричал француз. – С вами хорошо умирать и куда интереснее жить.
– Смерть совсем не идет вам – вы так молоды и в самый тяжелый момент напоминали уснувшую Белоснежку из сказки братьев Гримм, – сказала Елена Тимиг ласково и продолжала: – Это известный французский драматург Альфред Савуар. Ах, эти французы. Они так экспансивны! Знакомьтесь!
– А я? – сказал очень красивый молодой человек. –Я тоже хочу быть представлен маленькой милой русской.
Он оказался сыном Гуго фон Гофмансталя. Подошел и знаменитый исполнитель роли Мэкки-Мессера в «Трехгрошовой опере», брат Елены – Герман Тимиг. Ему я так хотела сказать миллион комплиментов, рассмотреть его поближе, но Рейнгардт остановил этот поток представлений:– Наталия Сац приехала ко мне как режиссер к режиссеру, и у нас, несомненно, есть более интересные темы…
Мы все уютно расселись за столом, пили чай с такими вкусными сладкими вещами, а говорили вдвоем с Рейнгардтом.– Какое содержание любят дети, только сказки? Я рассказала «Алтайские робинзоны», «Робин Гуда» и углубилась в тропические леса своей режиссуры, рассказывая о «Негритенке и обезьяне». Мне очень хотелось проверить себя: ведь я впервые объединила там танец, пантомиму, киномультипликат и слово.
–Вы ярко чувствуете образы и ясно видите то, о чем говорите. Мне бы хотелось работать вместе с вами, – неожиданно изрек Рейнгардт. – Я бы хотел, чтобы вы поставили вашего «Негритенка и обезьяну» для немецких детей на утренниках в моем театре. Это возможно? – спросил он меня вдруг вполне деловито, а Герцберг тут же вытащил из кармана блокнот и карандаш для записи распоряжений.
Подумать только! Во время всех моих рассказов главным было смотреть на него, изучать восприятие великого мастера – такое слушание моих бредней для меня важнее слов: умею читать на лице впечатления и делать из восприятия этого для себя самокритичные выводы. Это было чудесно, что могла общаться с ним, но такой победы, такого предложения… С ума сойти от радости! Молодец, значит, собрала себя… Но раздался голос Герцберга:– Я запишу ваш адрес и счастлив буду по указанию профессора уточнить сроки вашего к нам приезда. Но вчера вы сказали, что уезжаете сегодня в десять часов. Вы не передумали?
Боже мой! Как быстро пролетело время: через сорок минут уйдет поезд, я же не имею никакого права – билет и… две марки в кармане. Все это вихрем пронеслось в голове, а Савуар закричал по-французски:– Я поеду ее провожать на моей машине. Дайте это право мне.
Но и у фон Гофмансталя была машина и горячее желание поступить так же. Он выкатил свою машину из гаража, я крепко пожала руки – поблагодарила Рейнгардта и Тимигов, через минуту мы уже мчались к вокзалу: Гофмансталь за рулем, я рядом с ним. Герцберг с видом «открывшего меня» Рейнгардтам Христофора Колумба солидно восседал на сиденье сзади и молчал, а Савуар вставал, махал руками, выкрикивал в мой адрес комплименты, то и дело падая на колени Герцбергу. Гнали машину сладостно быстро. Приехали за три минуты до отхода поезда.– Спасибо за сегодняшний вечер. Я буду ждать репетиций детского спектакля и не отстану в восторгах от немецких детей, – говорил Гофмансталь. Герцберг повторял:
– Я очень рад, очень.
Поезд уже набирал скорость, и франко-немецкие комплименты быстро остались позади.– Ну как? – спросил муж на вокзале…
– Чуть не погорела. Чуть-чуть.
– Чуть-чуть не считается. Все как хотела?
– Все, и даже больше.
Рафаэль, Бетховен, Лев Толстой – бессмертны. Они живут в созданных ими произведениях искусства, многие столетия будут обогащать тех, кто непосредственно соприкоснется с их творчеством. Талант артиста подчас заставляет нас рыдать, ярче ощущать пульс жизни, дарит минуты огромной радости, но все это, пока живет сам артист – его творчество, эмоции, тело. Еще быстротечней искусство режиссера. Он живет во всех участниках спектакля, во всех его компонентах на… первых спектаклях. Не все и тогда, видя талантливого артиста или художника, вспоминают о роли главного архитектора, строителя всего спектакля – режиссера, а позже… Как часто спектакли делаются «полумертвыми», еще когда не сняты с репертуара, хиреют от различных замен, недосмотров… Искусство режиссера, умеющего открывать новые миры в уже известных и совсем новых пьесах, создавать своей волей, талантом, культурой то целое, которое называется спектаклем, объединять самые различные творческие индивидуальности едиными целями, достойно большого уважения, но как редко удается непосредственно познать искусство режиссера. Макс Рейнгардт – один из тех, кто навсегда занял почетное место в истории мирового искусства театра. Могучий реформатор немецкого театра, великий режиссер, заставивший тысячи немецких зрителей любить и понимать Шекспира, Толстого, Горького, современных драматургов, режиссер поразительной многогранности, давший новую жизнь наряду с драмой спектаклям оперы, оперетты, маг и чародей театральных игрищ на площадях, режиссер, заставивший вспомнить величие античных трагедий, – о Рейнгардте надо писать многие исследования. Рейнгардта первых десятилетий его работы я знала только по рассказам и литературе. То, что было в его театрах в 1929, 1930, 1931 годах, – самоуспокоенность достигшего зенита. Не случайно Эрвин Пискатор писал: «…Рейнгардт больше уже не Рейнгардт, а в такой же степени может быть Барновским, Клайном или Роттером, поскольку все они черпают из одного и того же актерского резервуара. Никто у нас не стремится придать театру собственное лицо или особый стиль. Все полагаются на случайную интуицию автора, режиссера или актера, и эти-то случайности определяют стиль и форму, даже самое содержание работы. Какой режиссер у нас является подлинным учеником Рейнгардта? Кто призван продолжить его театр, поддержать его традицию? Да и у самого Рейнгардта нет больше традиций. Я, например, прибывший в Берлин после войны, Рейнгардта вообще не знаю, потому что в это время он уже не показывал ни нового репертуара, ни своих прежних спектаклей» [19] . Мне довелось прикоснуться к кубку творчества Макса Рейнгардта, видеть его самого, когда он был, так сказать, в зените славы. Я, приехавшая из советской Москвы, смотрела на этого «полубога» с прищуром молодости и с тем немного смешным интересом, которого не может не быть у начинающего режиссера по отношению к великим мастерам. Романтики своей профессии простят мне эти юношеские стремления. Встречи с Отто Клемперером Идти или нет? Когда папа держал меня за руку, в Художественный театр шагала смело. Теперь стала самостоятельной – одиночка, входящая в жизнь, новенькая. Бывшая девочка. Это была вечеринка для избранных, войти в этот круг людей не просто, видеть меня здесь непривычно. А привычка – это великая сила… В главном фойе Художественного театра был празднично накрыт стол – закуска «а ля фуршет». Но видеть так близко знаменитых артистов из всех московских театров куда интереснее, чем есть. Качалов, Радин, Нежданова, Собинов. Собинов звучит особенно, даже сама его фамилия, а голос… С раннего детства я полюбила Ленского, его сердечное тепло, воплощенное в звуках голоса Собинова. Собинов – сбывшаяся мечта Пушкина. О лучшем Ленском не мог бы мечтать даже он… Никогда больше не видела певцов такой глубокой и тонкой культуры. И вот Собинов – наискосок от меня, поймал мой взгляд, улыбнулся. Он сильно пополнел, но… какое красивое и доброе лицо!– Привет маленькой хозяйке большого Детского театра. – Да, это он сказал мне, сказал голосом, каждый звук которого берет в плен. Он протянул мне руку и пожал ее как раз в тот момент, когда зазвонил звонок. Все устремились в зал, я тоже. Села где-то в двадцатых рядах, с пылающими щеками и сладостными сердечными синкопами: «Со мной говорил сам Собинов, он знает о Детском театре».
Не помню, что был за концерт и как рядом со мной оказался И. М. Лапицкий. Он скучно-хорошо ко мне относился, и я удивилась, когда он в перерыве между двумя номерами зашептал мне с некоторым волнением:– Наташа, с вами хочет познакомиться гениальный дирижер, наш гастролер. Ну о чем вы все время думаете? Спуститесь наконец на землю и дайте ему руку. Наташа! Прошу вас.
Мне хотелось, чтобы рука подольше запечатлела прикосновение Собинова. Кому и зачем ее давать? Но из-за фигуры Лапицкого встал большой, очень большой и черный мужчина в роговых очках, протянул мне огромную руку, сказал:– Отто Клемперер, – а Лапицкий произнес с церемонной иронией:
– Фрау директор Наталия Сац.
Вместо того чтобы пожать мне руку, Клемперер вытянул в мою сторону огромный указательный палец, сказал по-немецки и залился мефистофельским смехом:– Это возможно? Она директор? Ха-ха-ха. Я «спустилась на землю» и, положив руки за спину, по-немецки ответила:
– Нечего смеяться. Да, я директор. Ха-ха-ха. Лапицкий покосился и постарался вернуть меня в берега вежливости; я совершенно точно передразнила смех Клемперера.
– Наташа, прошу вас поспокойней. Он вас заметил, еще когда вы с Собиновым разговаривали, просил познакомить. Это у него такой стиль. А потом, таких юных директоров за границей не бывает, тем более женщин. Он наш гость. Скажите ему что-нибудь приветливое, дайте руку.
Руку пришлось дать и вежливую улыбку выдавить тоже, но, к счастью, продолжился концерт, а после следующего номера я удрала домой, несмотря на знаки, которые мне делал Лапицкий. Жила я тогда с мамой на Пресне; мама была моей лучшей подругой. Но я вернулась, когда она уже спала, а завтра я решила поспать подольше – выходной день. Было уже часов двенадцать дня, когда меня разбудила мама. В руках она держала большой красивый конверт.– Я ничего не понимаю. На дом принесли два билета на концерт знаменитого немецкого дирижера Отто Клемперера… Говорят, это гений, достать билет на его концерты и мечтать нечего. Откуда он тебя знает?
К билетам было приложено письмо на немецком языке. Оно было написано большими черными буквами, похожими на него самого: «Милостивая государыня директор Детского театра Наталия Сац, прошу Вас оказать мне честь и посетить мой сегодняшний концерт». Зеркало напротив отразило мою кудлатую голову и обиженное лицо. Все эти «вежливости» он написал нарочно, я слышала его вчерашнее громовое «ха-ха-ха». Мама, не зная «предыстории», велела мне не задаваться и ровно в пять быть дома, оценить это неожиданное счастье и как следует привести себя в порядок перед концертом. Мы пришли в Большой зал консерватории за полчаса до начала, но дойти до гардероба оказалось совсем не просто. Одиночки и целые группы людей разного возраста с молящим: «Нет ли лишнего билетика?» – очень затрудняли продвижение по консерваторскому двору. Занятая по горло делами Детского театра, я ничего не слышала про концерты нового для Москвы дирижера и только пожимала плечами: «Как дикие, до чего иностранцу обрадовались'». Мама была наэлектризована, как и все обладатели билетов, она волновалась и, только сев в середине четвертого ряда, благоговейно замолкла. Люди не только заняли все места – они стояли в проходах, в ложах, в дверях, спорили со сбившимися с ног билетершами. Но вот огромный оркестр занял свои места на эстраде, музыканты захлопали смычками по пультам и устремили глаза на моего вчерашнего знакомого. Он казался еще больше, чем вчера, – во фраке, белом жилете, галстуке-бабочке, со старательно приглаженными завитками волос. Мне даже смешно стало. Ну и рост! Гулливер среди лилипутов. Но между пультов музыкантов он прошел как-то даже грациозно, никого не задел, хотя проходы были для него узки. Его появление приветствовали тепло, но, казалось, он не глядит через стекла очков на публику, а отгородился ими от всего внешнего, и аплодисменты, словно чтобы не вспугнуть его собранность, как-то сразу замолкли. Он повернулся к оркестру и поднял огромные крылья рук. Это была Шестая, «Пасторальная» симфония Бетховена. Меня поразила звучащая тишина, тончайшие нюансы. Он достигал их, казалось, так просто – мановением руки; все его пальцы, каждый сустав, чудодейственно помогали тончайшему раскрытию партитуры. Музыкант! Это слово было для меня святым с детства, а все музыканты сейчас смотрели на него как на пророка. Они целиком пребывали в добровольном подчинении, в полной самоотдаче титанической, такой убежденно-увлекательной воле великана-дирижера. Казалось, сама природа предопределила еще при рождении его будущую профессию. Клемперер стоял на ровном полу. Пьедестал, на который становились все дирижеры, был ему совершенно не нужен. Он был вершинно виден всем без исключения музыкантам и так. Неизбежного у других дирижеров пульта с нотной партитурой перед Клемперером также не было. Все, что он дирижировал, он знал наизусть. Он держался совершенно просто. Минимальные, точные и выразительные жесты только для возникновения звучаний – ничего для публики. Да он о публике вроде бы и совсем забыл. Только когда между частями симфонии раздались аплодисменты, он повернулся один раз с болью на лице, словно сказал: «Не прерывайте, дослушайте до конца, зачем шум, когда музыка только прервана, но не закончена». И тишина, наэлектризованная восприятием двух тысяч слушателей, больше не прерывалась до самого конца. Тишина сберегла последние аккорды на несколько мгновений дольше, чем они звучали, услышанное словно выиграло время, чтобы спуститься в память слушателей глубоко, затаиться там надолго. Но потом, казалось, аплодисментам и вызовам не будет конца… В шестой раз дирижер снова почтительно поклонился публике и каким-то одному ему ведомым движением дал понять, что больше не будет выходить кланяться – второе отделение ждет его сосредоточенности. И вот… Девятая симфония Бетховена! Я не слышала ее прежде. Где взять слова, чтобы говорить о Девятой, когда ею дирижирует Клемперер?! Казалось, звучит не только оркестр – каждый слушатель, своды здания, земля, небо. О, это дерзкое фортиссимо Клемперера, когда его черные крылья-руки повелевают, укрощают и снова будят титанические звуки протеста, страсти, веры! И как органичен он сам: нос, тонкие губы, острый подбородок, разметавшиеся, как у дьявола, черные завитки волос, такая пропорциональная в своем величии фигура… Потрясающее проникновение в звучащие образы, масштабы понимания Бетховена, способность волновать, всецело увлечь слушателей… После конца Девятой зал ревел, как буря… Мою маму вместе со многими другими «вынесло» к эстраде, она была в исступлении, доселе мною невиданном, махала руками, кричала «брависсимо». Мы ушли после десятого вызова дирижера, когда многие еще оставались в зале – видно, не знали, как вернуться обратно в свои берега. Шли мы молча. Мне было и хорошо и неловко. Почему вчера он показался мне таким неприятным? Конечно, сегодня он был совсем другим, такого человека только в творчестве узнать можно, но была у меня и предвзятость. Теперь, после концерта, он для меня не был иностранцем. Язык музыки – единственный, который понимают все народы. Такой музыкант, как Клемперер, безусловно, не может быть чужим. Клемперер позвонил мне на следующий день, сказал, что надеялся видеть меня вчера в артистической после концерта, и спросил, осталась ли я довольна исполнением симфоний Бетховена. Мама стояла рядом со мной и «возмущалась», конечно, не без скрытой материнской гордости: «Клемперер спрашивает мою Наташку, понравилось ли ей, как он дирижирует. Тоже мне «авторитет»!» Но я ничуть не верила, что Клемпереру интересно мое мнение, считала, что все это шутка, какой-то розыгрыш – не знаю, зачем. Ответила:– Всем понравилось, и вы это знаете…
Мама рассердилась, а он ничуть не обиделся и попросил разрешения через час заехать посмотреть, что такое театр для детей. Мы встретили Клемперера при входе всей дирекцией, очень почтительно. Он поцеловал мне при всех руку, назвал «госпожа директор», был тих и приветлив. Зато дети, в это время парами входившие в свой театр, прыснули – они никогда не видели человека такого огромного роста. И его черные роговые очки, и костюм – все показалось им непривычным и смешным. Удвоив почтительность, повела было Клемперера в бельэтаж, в директорскую ложу, но нам наперерез бежал молодой администратор филармонии Лева Юделевич. При виде Клемперера, перед которым он панически благоговел, Юделевич засеменил маленькими ножками, что-то шепнул ему по-немецки, Клемперер покраснел, стал вдруг еще больше и шире, громовым голосом закричал: «Это невозможно!» – и гигантскими шагами побежал к выходу, Юделевич за ним. Потом узнала – заболел кто-то из участников вечернего концерта, нужно было согласовать замену. Но тогда, как «молодой директор», я была весьма сконфужена: «Ничего у нас не посмотрел, вошел и сразу же умчался…» Однако к концу нашего спектакля снова появился Лева Юделевич. Он улыбался робко и просительно:– Клемпереру так хочется, чтобы сегодня вечером вы снова были на его концерте… Билеты я еле-еле у кого-то «из груди выцарапал», но даже капризы такого гения…
Вот именно капризы, подумала я, еще не решив, как реагировать. Мимо проходил музыкант из нашего оркестра. Он сделал такие большие глаза, видя, что я медлю взять билет на концерт Клемперера, что… отдав один из билетов ему, пошла и сама. Когда Клемперер дирижирует, он совсем другой, чем в жизни. В жизни он может и раздражать, и казаться громоздким, с ним есть о чем спорить… Когда же дирижирует – это такая огромная правда, что хочется только вбирать ее. Клемперер-дирижер – огромная загадка природы, ее неповторимое чудо. Он создан с ювелирно точной отработкой всего внешнего, поразительной силой и многогранностью внутреннего. Все в нем задумано для одной цели: он – дирижер. Репетировать жесты перед зеркалом? Ему это неизвестно. Жесты приходят только во время музыки, ее задачами тут же рожденные. Клемперер, весь огромный Клемперер, входит в звучащий оркестр, как рыба в воду, чтобы стать неотделимым от музыки. Об этом я думала, когда бушевала овация после конца концерта, когда за мной прибежал Юделевич и буквально потащил в коридор, затем на каменную лестницу Большого зала консерватории и по ней вверх, в артистическую. Около дверей артистической стояли руководящие и музыкальные авторитеты Москвы и почтительно ждали. Ну при чем я тут? – подумала с тоской и хотела было вырвать пальцы из цепкой руки Юделевича, но дверь артистической приоткрылась и показались совершенно мокрая голова и шея полуголого Клемперера.– Господин Левич, – закричал он, – где Наташа?
Юделевич пропихнул меня слегка вперед. Клемперер успокоился и снова закрыл свою дверь; некоторые из «руководящих» и «ведущих» презрительно поджали губы, а я снова почувствовала себя «не в своей тарелке», совсем не в своей! Потом были восторженные, чопорные, излишние и деловые слова, благодарности… Когда он при всех этих людях снова каким-то игрушечным тоном спросил, что думает о сегодняшнем концерте «госпожа директор Детского театра», я посмотрела на него строго, и он оставил меня в покое. Интересное там было: совершенно мокрая, точно ее принесли с речки, фрачная рубашка, которая, когда он дирижировал, была так хорошо накрахмалена, а теперь стала такой жалкой. Оказывается, дирижировать – это и огромная чисто физическая отдача! Он и сидел сейчас какой-то вдруг осунувшийся, подурневший. Все отдал Бетховену, концерту, нам! Потом Юделевич нашел извозчика, с которым договорился, что он поедет на Пресню, чтобы отвезти меня, а затем отвезет Клемперера в гостиницу. После 1928-го Клемперер стал часто приезжать в Москву на гастроли. Уже на вокзале он обычно задавал встречавшим его вопрос: «Как дела у Детского театра и Наташи?» П. М. Керженцев однажды даже пожурил меня за то, что я, зная теплое ко мне отношение великого дирижера, никогда не встречаю его.– Он же не в Детский театр дирижировать приезжает, – ответила я.
Платон Михайлович только рукой махнул: неисправима! Он недооценивал, конечно, сколько у меня было дел во имя главного. То, что называется «личная жизнь», было у меня тогда далеко на втором, даже третьем плане. А Клемперер… помню, шла рядом с ним по улице, и все прохожие смеялись: он – титан, я – козявка, пятьдесят килограммов весу. Моя голова кончается там, где начинается его плечо. Такой я себя чувствовала по отношению к нему и по существу. Его успехи в Москве и Ленинграде все росли, женщины одолевали его цветами и письмами; одна даже переусердствовала: сидела около его дверей всю ночь, и он ее утром почти спустил с лестницы. Вероятно, он знал, что этот факт стал широко «популярен», и, словно оправдываясь, сказал мне:– Неужели она не понимает, что любовь это дело двоих. Я же ей это еще в прошлый приезд объяснял.
Мне понравилось это выражение: «любовь – дело двоих», и я поняла, что дружба со мной, то есть с существом, которое наверняка не собирается бросаться на его вершинную шею, его в какой-то степени страхует от нежелательных этих наскоков. Поняла, и стала с ним приветливее, мягче, тем более что он хотел видеть меня на всех своих выступлениях, а я уже поняла, как это меня обогащает. Собеседник он был средне интересный. Зато музыкант!!! Больше никогда в жизни не слышала дирижера с таким диапазоном. Бетховен – весь познан, прочувствован, возрожден им в звучании изумляющем. Пятая и Шестая Чайковского – глубина, ширь! Откуда такое наше, родное?! Когда Клемперер дирижировал в Большом театре «Кармен», на сцену смотрели мало. Он в звуках гениально образно раскрывал все и всех – казалось, здесь с нами сам Мериме, Бизе, Кармен, Хозе, толпы работниц табачной фабрики, контрабандисты… Клемперер первый познакомил Москву с сюитой Курта Вейля к «Трехгрошовой опере» Брехта. Когда он зазвучал образом Мэкки-Мессера, Большой зал консерватории ревел, как будто был одной из жертв короля бандитов, – ревел от восторга, и этот фрагмент был повторен… три раза! Клемпереру доступно и великое, и озорное, и трагедийное, и лирическое – все он ощущал как творчески родное. Помню, он пригласил меня пойти с ним на спектакль в Камерный театр, потом на встречу в Артистическом клубе, где были Нежданова, Голованов, Таиров, Коонен, Гоголева, Аксенов. Клемперер не отходил от меня, а так как я любила танцевать, он танцевал, бережно держа меня руками и отдалившись туловищем на метр. Как-то во время моей командировки в Ленинград Клемперер там дирижировал. Между его репетицией и концертом я успела его сводить в Эрмитаж и сейчас же после концерта ночным поездом уехала в Москву, что его очень огорчило, но, пожалуй, даже закрепило какое-то почтительно-хорошее отношение ко мне, которое он пронес через всю жизнь. Впрочем, тогда я не понимала, как это можно дружить и не знать меня, то есть не посмотреть толком ни одного моего спектакля. Ведь «я» человека выражается в его творчестве. И вот во второй или третий свой приезд в Москву Клемперер посмотрел на меня как-то серьезней, рассказал, что «сам» Рейнгардт говорил с ним обо мне, собираясь пригласить меня ставить «Негритенка и обезьяну», он просил его посмотреть у нас этот спектакль. Клемперер исполнил просьбу Рейнгардта и не без удивления констатировал, что у нас звучит настоящая, современная музыка, настоящий театр на интересном, профессиональном уровне, а ведь он думал, что я устраиваю «театральные игры с малышами и это называется Детский театр». Все чаще и чаще бывали иностранные гости в нашем театре, все больше писали о моих постановках, особенно в Германии. Однажды Клемперер привез мне большую статью профессоров-театроведов, в которой они делились впечатлениями о театрах Москвы и выделяли постановки Е.Б. Вахтангова и, простите, мои. Как-то я вела одну из последних репетиций спектакля «Про Дзюбу». По вине Васи – Дзюбы на верхнем этаже большого дома вспыхнул пожар. Пожарные лестницы заняли всю глубину сцены, от пола до колосников. Музыка Половинкина и возгласы пострадавших, движения артистов и световая партитура должны стать единым целым, а слова Нинки и Павла – своеобразным контрапунктом… Глазунов (5-й пожарный) боится быстро взметнуться по лестнице к колосникам? Лезу сама. Еще раз он – нет, это без чувства темпа. Еще раз я, и артисты мне даже хлопают. Теперь пошло, но… скис оркестр. Прыгаю со сцены в оркестровую яму, подкручиваю их. Проверить появления из люков. Так. Теперь на верхний мостик к электрикам: на этом звучании в темноте спустится перед лестницами белое полотно – своеобразный экран, пожарные превратятся в тени, а подсвет красных языков… Не получится? Почему? Должно получиться! Дайте языки тогда из кинобудки… Получилось. Теперь (прыгаю в зрительный зал) всё подряд! Прошло с блеском, и вдруг из директорской ложи тихое «браво». О ужас! Клемперер видел всю нашу репетицию и меня в ситцевых репетиционных штанах… С каким-то новым выражением лица он пожал мне в этот день руку и уехал вместе с нетерпеливо ждавшим его Юделевичем. Клемперер пришел и на генеральную репетицию и на премьеру спектакля «Про Дзюбу». Пришел за двадцать минут до начала, досмотрел до конца и сказал серьезно:– Это по-настоящему хорошо. Вы удивительно музыкальны. Среди режиссеров драматического театра такого еще не видел. Вы все пронизываете музыкой. Ваше место в опере.
Корреспондент «Нового зрителя» попросил великого дирижера сказать несколько слов о спектакле. Клемперер дал такой хороший отзыв, что не могу – неловко – процитировать. Конечно, я была рада «музыкальному доверию» такого дирижера, рада, что его шуточки уступили место творческому уважению… Отто Клемперер в эти годы двигался к мировому признанию гигантскими шагами. Начав со скромной должности концертмейстера в Висбаденской опере, он стал затем там же дирижером. Потом концерты в Праге, Москве, Берлине – везде триумфальный успех, и вот Отто Клемперер уже генерал-мюзик директор, главный дирижер Кролль-оперы в Берлине. Ранней весной 1931-го я получила официальное приглашение из Кролль-оперы поставить в Берлине «Фальстафа» Верди совместно с Отто Клемперером. Это было захватывающе интересно, но… совершенно неожиданно. В Московском театре для детей я к тому времени уже поставила девять больших пьес, все они были неотрывны от музыки; некоторые мои спектакли критика называла «насквозь музыкальными», но в театре для взрослых еще не работала, опер никогда не ставила, а тут… прославленная опера в Берлине! Несколько дней я никому об этом приглашении не говорила, конверт держала под подушкой и спала плохо. Ну как я попрошу разрешения на выезд, когда столько режиссеров, во всех отношениях постарше меня, хотели бы… Но выезд оформлять не пришлось. Заболел муж. Он был в это время заместителем торгпреда в Берлине, и мне предложили выехать туда немедленно. Я написала Клемпереру, что благодарю за доверие, но посоветуюсь с ним лично, так как буду в Берлине через несколько дней. Помню, как увидела этого столпа, еще подъезжая к вокзалу, – он встречал меня вместе со своей женой Иоганной. Встречал меня, конечно, и муж – похудевший, побледневший, который казался мне таким уютным и своим рядом с «маститыми». На следующий день Клемперер пригласил меня к себе в большую роскошную квартиру. Иоганна была певицей, артисткой, с хорошим лицом, внимательными глазами, которые секундами напоминали о происхождении кошки от тигра. После обеда темпераментный Клемперер, любимым выражением которого было «Темпо, сеньоры, темпо!» (когда он чем-нибудь загорался, он абсолютно не допускал потери времени), повез меня в Кролль-оперу. Здание показалось мне красивым и величественным, а внутри таким же большим, как наш Большой театр, но более уютным, в тонах мореного дуба. Кроме генерал-мюзик директора во время нашего разговора было еще трое солидных мужчин, и между мной и Клемперером произошел следующий диалог:– Справлюсь ли я?
– Я в этом не сомневаюсь.
– Я верно поняла, господин Клемперер, вы будете ставить оперу совместно со мной?
– Безусловно. И это заставит меня во всем вам помогать. Но, убедившись в вашем режиссерском даровании и музыкальности еще в Москве, знаю, помощь эта меня не затруднит и отнимет у меня мало времени. – Он повернулся к трем другим присутствующим и сказал с обычным для него грубоватым юмором: – Госпожа директор – бесстрашная личность.
Тут Клемперера куда-то вызвали, я решила поговорить с остальными. Без его ласковой иронии и искренней убежденности в моих способностях хотела как-то почувствовать, как меня примут другие руководители этого театра. Художники – профессор Эвальд Дюльберг и Теа Отто – начали наперебой ободрять меня рассказами о восторгах Клемперера, о его оценке моих постановок, о том интересе, с которым ждут работы со мной многие. Третий собеседник, вероятно штатный режиссер этого театра, господин Курьель, был несколько уязвлен моим приглашением и только вежливо молчал. Но почти тотчас же вернулся Клемперер и сказал деловито:– Итак, концертмейстер и дирижер (он церемонно мне поклонился) для начала работ над клавиром в вашем распоряжении с завтрашнего дня. Экземпляр клавира вам вручаю. Начало репетиций через пятнадцать дней, план выпуска вы получите завтра, договор подпишете в бухгалтерии теперь же – он уже заготовлен. – Он подал мне большую руку, кивнул остальным и большими шагами устремился к выходу.
В счастливой растерянности я медленно пошла домой мимо Тиргартена (звериный сад). Там не было зверей, но были огромные деревья, много людей, кормилиц и колясок с малышами. Под одним из деревьев я уселась на лавочке, постаралась «раскинуть мозгами». Клавир уже в руках, сегодня поближе познакомлюсь с ним сама. Завтра с утра пойду поступать на курсы Берлица. Ежедневно буду там заниматься немецким, часа по два-три – между мной и артистами не может быть никаких переводчиков, должна установить с ними только личный контакт. Хоть немного надо будет позаниматься и итальянским: либретто Бойто, на которое писал музыку Верди, написано по-итальянски – должна знать звучание образов в оригинале, почувствовать соответствие слов музыке в первоисточнике. Когда я вернулась домой, оказалось, Клемперер уже звонил мне. Теперь не ждала повторного звонка – наши отношения менялись. Отзвонила сейчас же.– Что хочет господин генерал-мюзик директор? Какой он хороший! Оказывается, хочет сегодня же вечером, «если я свободна», сам проиграть мне всего «Фальстафа».
– Да, спасибо, конечно!
Вечер. В Кролль-опере идут «Нюрнбергские мастера пения». Когда-то на этой же сцене (страшно подумать!) будет идти наш «Фальстаф»! А сейчас мы с Клемперером в маленьком музыкальном классе за сценой. Он вынимает клавир в голубом переплете с золотыми буквами и садится за рояль. Я с карандашом и таким же своим клавиром рядом. Клемперер играет на рояле превосходно – пианист-виртуоз. Музыкальное вступление предельно энергично. Увертюры в «Фальстафе» нет.– Музыка правдива и груба, как бордель, где развертывается действие, как дом с красным фонарем, – говорит Клемперер. Я еще не знаю ни слова «бордель», ни что он понимает под красным фонарем. Ничего, конечно, не говорю, но он добавляет: – Трактир, понимаете?
Ага, поняла. «Фальстаф. Ну что? Заткни глотку!» – поет Клемперер. Первые звуки музыки сразу начинают действие – ссору, скандал в трактире. Обобранный Фальстафом и его слугами доктор Каюс напрасно взывает к совести веселящихся пьяниц. Клемперер говорит дружески:– Быть может, эта картина будет для вас режиссерски наиболее трудна. Как я заметил, вы даже не знаете, что такое красный фонарь? В Детском театре этого не показывают.
Я смотрю на него укоризненно:– Да, в Детском театре нет многого того, что в вашем Берлине придумано только для взрослых. Но есть ли у вас сейчас время надо мной насмешничать?
О, я теперь говорю, соблюдая пафос дистанции, не так ершисто, как в Москве, но он покорно склоняет голову, складывает губы бантиком и продолжает:– Мне хочется, чтобы в этой картине звуки музыки в пении и оркестре органически смешались со звуками жизни этого кабака – звоном бокалов, стуком пивных кружек, ударами кулаков по столу. Оперная академичность здесь была бы ложью. Подумаем, как органически вплести в музыку Верди звуки жизни.
Клемперер сам поет за всех – много ансамблей, их пока надо довообразить, кое-что он просит ему подыграть на рояле. Но как объемно он показывает, раскрывает мне существо этой музыки! В некоторых местах сразу говорит об оркестровом звучании. Партитуру оперы уже знает наизусть. Как по-шекспировски, единой правдой, спаяно драматическое, лирическое и гротесково-комедийное в этой опере! Как ярко чувствуешь многоплановость единого в контрастах! Мы дошли только до пятой картины. Кто-то осторожно стучит в нашу дверь:– Господин генерал-мюзик директор! Спектакль кончился, все давно разошлись.
Верно, уже двенадцать, мы и не заметили. Говорили только об опере. Некоторые музыкальные места я просила повторить. Клемперер отвозит меня на такси домой и обещает завтра доиграть нашу оперу до конца. Огни потушены – но не во мне! Где достать Шекспира на русском? На немецком – сколько угодно, но… нашла и на русском у Алеши Сванидзе. Все его называют Алешей, потому что любят седого, удивительно воспитанного, красивого и подвижного человека, сочетающего европейскую культуру и совершенное знание многих восточных языков. Он один из заместителей торгового представителя СССР в Берлине, живет там же, где и большинство ответственных сотрудников торгпредства, дверь в его квартиру прямо против нашей. С большой готовностью он приносит мне всего Шекспира в издании Брокгауза и Эфрона! Подумать только – Сванидзе притащил с собой в Германию совершенно роскошную библиотеку! Скорее погрузиться в обе части «Генриха IV» и «Генриха V», ну и «Виндзорские проказницы» само собой. Какой блестящий оперный либреттист Бойто, как органично и искрометно развивается действие, как омоложен новым видением оперного искусства и сам Верди! Ничего тормозящего действие – даже чудесных арий и дуэтов, если они задержат сценическую динамику! К концу жизни Верди пришел к Шекспиру. Моя главная задача – заново вобрать в себя их обоих. Семь утра – читаю, читаю. Девять утра – школа Берлица – немецкий. Одиннадцать утра – с концертмейстером за клавиром. Три часа дня – поесть, передохнуть и с пяти вечера снова читать, думать, чтобы в семь снова за клавир – до тех пор, пока не слипнутся глаза. От погружения в материал приходят видения. Можно поговорить с художником? Конечно, говорит Клемперер. И вот уже вечерами сидим втроем, когда Клемперер не дирижирует; вдвоем, когда он с оркестром. Как жаль, что у главного художника Эвальда Дюльберга открытый туберкулезный процесс и он эту постановку взять не сможет. В его «Летучем голландце» много интересного и поразительно найдено движение света: он устанавливал свет по партитуре. Да, художник оперы Дюльберг свободно читает партитуру! Теа Отто – молодой, жизнерадостный птенец этого театра. С хорошим образованием, знает технологию, эпоху, работает не покладая рук, но… целого в моем понимании не видит. Больше верит тем трафаретам старого театра, по которым учился, больше знает, чем ищет и может. О немецкая техника! Декорации, нафантазированные мною и нашедшие воплощение в красивых эскизах Теа Отто, были изготовлены за две недели с прочностью, позволяющей на любой высоте строить любые мизансцены с… подводкой воды для моих финальных фонтанов! А как это важно, когда есть время «обжить» декоративное в развернутом действии, дать артистам почувствовать себя «дома» в найденном режиссером и художником декоративном оформлении! Я была права, что выиграла время, не отправилась с молодым художником в дебри для него непривычного, взяла от него в срок все то, что могла! Конечно, еще до первой встречи с артистами знала клавир наизусть» могла спеть своим непевческим голосом, но точно, любую партию, даже и по-немецки. Самое трудное (этого за две недели не сделаешь) было правильно говорить по-немецки, но я надеялась на помощь Клемперера. В Берлине мы встречались или за роялем, или за общими творческими делами, мне всегда с ним было очень интересно, и при крайней занятости он всегда находил для наших дел время. Он называл меня не иначе как Наташа. Даже дал распоряжение, чтобы в афишах и программах печатали не «Наталия», а «Наташа Сац». Наступила моя первая репетиция в Кролль-опере: Шекспир, Верди, Клемперер, блистательные певцы и… Наташа Сац из Московского детского… В фойе составлены диванчики и кресла ближе к круглому столу. За ним расположилась постановочная группа. Ловлю на себе любопытные взгляды солистов и солисток оперы. Белоснежный крахмал их воротничков, дорогие духи, тщательно причесанные волосы словно спорят с некоторым недоумением при виде выглядящей, увы, значительно моложе своих лет, просто одетой женщины. Женщин – оперных режиссеров в Европе еще никогда не была И вот теперь привезли, да еще откуда! Из Москвы! Но авторитет Клемперера в Кролль-опере так велик, что эти мелькающие в глазах артистов мысли заслонены вежливостью полуулыбок. Клемперер представляет меня, говорит тепло и тактично о виденных в Москве постановках, о предстоящей работе и дает мне слово. Рядом со мной ученый переводчик. Начинаю по-русски и чувствую, как кругло переведенные мысли теряют образность, как между мной и артистами возникает холодное, пустое пространство. Вижу настороженный взгляд Клемперера и… перехожу на немецкий.– Простите, говорю плохо, но наш контакт решит, быть или не быть успеху в нашей новой работе, а потому – как получится, но без посредников.
Клемперер слегка кивает головой – правильно. Я говорю о Верди, гении итальянской оперы, о его вкладе в оперное искусство, о мастерстве певцов, растущем на исполнении его арий и ансамблей, о все большей с годами устремленности Верди к театру правды, о его последней опере «Фальстаф», где композитор сознательно отказывается от чисто вокального, «номерного» во имя развития действенного, о тех шекспировских образах, которые нам предстоит воплотить, внимательно вслушиваясь в звуки музыки гениального Верди. Мы помечтали о наших будущих образах, говоря о видении и характерах которых я делала небольшие вокальные «цитаты» вместе с Клемперером; не сговариваясь со мной, он немедленно очутился у рояля и помогал мне. Несмотря на неправильные обороты моей немецкой речи и путаницы der, diе, das, беседа прошла хорошо и дельно. Труппе понравились эскизы декораций и костюмов Теа Отто. Клемперер представил мне будущих исполнителей, и – надо отдать ему справедливость – распределил он роли очень удачно. Это я не только увидела, но в небольших отрывках услышала звучание голосов всех главных персонажей и могла уже в какой-то степени начинать множить свое представление об образах Верди – Шекспира на актерские индивидуальности наших певцов. Весна 1931-го. По асфальту чисто вымытого Берлина рано утром пересекаю уже зазеленевший Тиргартен; под мышкой голубой клавир, который неотступно и сладостно звучит во мне. Служенье муз не терпит суеты, Прекрасное должно быть величаво. А в этом театре у меня и нет никакой суеты. Я вся без остатка в «Фальстафе», наших артистах. В смысле текстов и подтекстов помогаю им разбираться во время занятий с концертмейстером.– Может быть, подождать, пока они доучат партии и перейдут на сцену? – говорит Клемперер.
– Ни в коем случае, – возражаю я.
Слова и ноты, мысль, выраженная в целой фразе, и музыкальная фраза – если на последних концертмейстерских уроках это не объединить, глубокой между ними гармонии и не достигнешь. А поиски характера, лепка образа начинается тогда же. Когда перейдем на сцену, за движениями индивидуальные характеры уже и не всегда уцепишь. Видя артистов поодиночке, лучше понимаю, что от них можно потребовать в действии, уже кое-что меняю в эскизах костюмов. Когда все партии и ансамбли были выучены и мы пришли на сцену все вместе, чтобы намечать мизансцены, вернее, жизнь наших образов в действии, артисты уже мне верили. Творческая атмосфера у нас была чудесная, работали радостно, много, ну а мелочи, капризы артистов, особенно певцов… они неизбежны. На генеральной репетиции с оркестром вдруг мы заметили отсутствие баса – исполнителя партии слуги Фальстафа, Пистоля. Звоним ему домой.– Больны?
– Нет, – отвечает он, – просто было много репетиций, и я решил поберечь голос перед премьерой.
Боже, что было с Клемперером! Извержение вулкана! Его длинные руки и ноги, громовой голос, черные завитки волос – все бушевало. Кажется, только я одна не боялась его ни в эти, ни в какие другие моменты.– Он будет отвечать за срыв премьеры, я отменю репетицию.
– Отменять репетицию нельзя – она нужна нам и всему коллективу. Я знаю все мизансцены Пистоля.
– А музыкальные ансамбли, которые без него не будут понятны ни другим исполнителям, ни оркестру, ни даже черту-дьяволу?
– Я спою их не таким хорошим голосом, но совершенно точно…
Ярость Клемперера исчезала так же неожиданно, как возникала.– Вы? Новый бас-профундо? Пошли.
Репетиция, начавшаяся с недоумения и шуточек участников при виде меня в роли Пистоля, потом пошла совершенно нормально. Про меня просто забыли. Мое участие даже эмоционально подогревало ход этой репетиции, а ноты и мизансцены я знала точно. Даже не поняла, за что после конца репетиции Клемперер сгреб меня в охапку и оркестр устроил мне настоящую овацию. Ну как же я могла к концу репетиций не знать всех партий, которые пели артисты?! Вечером не было репетиций, Клемперер приехал к нам и сказал:– Вы идете к оперной правде от музыки, а драматические режиссеры часто ищут в опере только правду слов – вот почему так трудно обновлять оперу. Вы вся от музыки и устремлены к ней. Зачем вам Детский театр? Вы же рождены для оперы.
Я засмеялась, сказала, что лучше Детского театра ничего быть не может, а если буду еще ставить и оперы, всегда буду считать его отцом этих моих устремлений. Кроме репетиционных работ очень важной была для меня возможность посещать спектакли тогдашней Кролль-оперы. Этот театр в пору руководства им Клемперером был передовой оперой, с подлинным чувством нового, стремлением к правде. Незабываемы были многие постановки Кролль-оперы, особенно «Летучий голландец» Вагнера. Сколько настроения, какая большая художественная правда в абсолютно найденном синтезе музыки, содержания, голосов, декораций, чудес световой партитуры! Не случайно один из самых ограниченных и тщеславных деятелей искусства тогдашней Германии Зигфрид Вагнер, сын великого отца, рвал и метал «как главный хранитель традиций постановок Рихарда Вагнера». Он выучил все трафареты постановок прошлого и мешал гениальной музыке отца идти вперед, продолжать жить вместе с современными людьми и современным искусством в его вечном движении. Путь Кролль-оперы, руководимой Клемперером, был нов, талантлив, прогрессивен, и я счастлива, что тоже приложила руку к спектаклю, который был признан кульминацией достижений этого театра. Помню последнюю генеральную перед премьерой. Пошла на сцену проверить новый реквизит – пивные кружки времен «Старой Англии», – и вдруг вспышка магния из оркестра, голос: «Милостивая государыня, будьте любезны, поднимите еще раз эту кружку и разверните ко мне фигуру». Не успела я отреагировать на эту фразу, как из другого угла некто, накрывшийся черной материей, попросил меня задержаться около пивной бочки. Они мне явно хотели помешать заниматься своим делом, и я сказала об этом вошедшему Клемпереру. Но он положил мне руку на плечо и сказал ласково:– Дитя мое, сегодня фотографы имеют на вас право – ведь вы первая женщина – оперный режиссер Европы.
При этих словах магний вспыхнул в нескольких местах, и нас с Клемперером запечатлели вместе. Сейчас фотографируют бесшумно и незаметно. Тогда еще магний и черные покрывала были фотографам необходимы, и как они мне мешали работать во время последней репетиции – эти большие черные мухи, притаившиеся со своими аппаратами повсюду! Наша премьера прошла с огромным, да, огромным успехом.– Я еще никогда не чувствовал себя в опере так просто и весело, таким увлеченным всем происходящим, – сказал мне режиссер Эрвин Пискатор.
В последней картине неожиданно исчезли деревья парка, обнаруживая настоящие фонтаны, как на площади Рима. Их высокие водяные струи и брызги, подсвеченные то голубым, то фиолетовым, то зеленым светом, были фоном большого заключительного ансамбля в опере. Потом вспыхнула овация. Раз десять ходили кланяться артисты, потом вышли Клемперер и художник – искали меня, но я спряталась у электриков в будке. Когда вытащили и меня на сцену, внесли такое количество цветов, что я откровенно растерялась. Я стояла, как в цветочном магазине, некоторое время совсем одна, потом меня окружили артисты труппы и оркестра, а я низко поклонилась за доверие, помощь, за все самое хорошее Клемпереру. Потом было много-много рецензий, моих портретов, даже в чужеродной эмигрантской газете был мой портрет с подписью: «Успех (через «ять») русской». Дорогой читатель! Может быть, я утомила тебя своими рассказами? Работа над «Фальстафом» – одна из светлейших полос моей творческой жизни. Я могу рассказывать об этом без конца, но именно поэтому иду на коду. Писать своими словами о собственной постановке очень трудно. Если позволите, познакомлю вас с заметкой из газеты «Советское искусство»: «Наталия Сац, совместно с Клемперером, осуществила недавно постановку «Фальстафа» Верди на сцене Кролль-оперы. Тот факт, что руководство театром и, в частности, Клемперер, «рискнули» пригласить советского режиссера в Кролль-оперу – одно из свидетельств того интереса, который вызывает советское искусство у передовой интеллигенции Запада. Само собой разумеется, что работа т. Сац привлекла большое внимание всей германской печати и вызвала весьма злобные нападки фашистской печати. Если судить по отзывам буржуазной печати, постановщик сумел внести в оперу много нового и яркого, стремясь заострить социальные характеристики, усилить элемент драматический, в непосредственной связи с внутренним существом музыки и от музыки отправляясь. Постановщики в таких случаях стремились переключить действие на современность, пользуясь острогротескной характеристикой персонажей. Даже фашистская печать, не ослабляя злобных выпадов, все же была вынуждена кисло признать успех постановки. Фашистская «Дойче цай-тунг» иронизирует: «Фальстаф» Верди, поставленный русской еврейкой, конечно, в Кролль-опере… Однако нельзя не признать, что восточной Наташе удались полные настроений сцены». Это кислое признание свидетельствует об одном: газета оказалась вынужденной, чтобы не очутиться в смешном положении, признать самый факт успеха и новизну постановки. Примерно так же реагировала на постановку «Дойче альгемайне цайтунг» – весьма близкая по духу выше цитированной «Дойче цайтунг»: «Наташа Сац из Московского театра для детей ответственна за трудности, поставленные солистам. Она требует от них игры, движений, требует того, чего нельзя требовать, зная, насколько трудна музыкальная сторона этой оперы… …Большой успех, успех, переходящий в овации после каждого акта этой новой постановки». Этот отзыв свидетельствует о том, что постановщики действительно стремились внести струю свежего воздуха за кулисы Кролль-оперы. Об этом же свидетельствует отзыв «Берлин ам морген»: «В постановке… сделанной с ироническими акцентами и наивной радостью игры, много свежести, много сделано в народном духе. Интересна в последней сцене смесь пародии и реализма, осмеяние сказочных настроений». Постановщикам, видимо, удалось в своих поисках сохранить «добрые отношения» с композитором. «Дортмундер цайтунг», как и «Рейн-Вестфалише цайтунг», свидетельствует, что «постановщики достигают полного единства музыкально-сценического движения, полного взаимодействия всех факторов театра». «Певцы, – говорит первая газета, – забыли все оперные жесты, играли подлинных людей, создавая идеальный ансамбль». То же отмечает и «Р-В-Ц», причисляя постановку «к лучшим оперным вечерам всей зимы». «Постановка была буквально создана из духа музыки». В тоне полного восхищения выдержаны рецензии «Дер абенд», «Берлинер морген пост». Само собой, коммунистическая печать, как и трудящиеся Германии, приняли постановку тепло и дружественно». В гостях у Альберта Эйнштейна Сколько разного встречаешь на дороге жизни! Идешь, идешь вперед, и вдруг засияет перед тобой один камень (Ein Stein) – огромный и драгоценный, воспоминание о котором хочется сохранить на всю жизнь. Даже почва, травинки, что соприкасались с ним, сохраняют в раме твоих воспоминаний какой-то особенный аромат… Моя постановка «Фальстафа» зазвучала на сцене Кролль-оперы весной 1931 года. Еще так недавно я стояла на одной из больших берлинских улиц, прижавшись к стволу тополя, и смотрела, как в четыре ряда мчатся неисчислимые автобусы и автомобили. Мимо, мимо! Никому до меня здесь нет никакого дела… А теперь я у того же дерева жду сигнала «переходите улицу». Мужчина в фетровой шляпе взглянул на меня пристально, что-то сказал своей спутнице. На мне четыре вежливо-быстрых глаза. Мальчик продает вечернюю газету. На первой странице моя смеющаяся физиономия, рецензия о «Фальстафе». Почти перебегаю мостовую, и, кажется, влажный асфальт, отражающий разноцветные огни машин и рекламы, по-весеннему улыбнулся мне. Вот и величественное здание Кролль-оперы с радушно распахнутыми дверями. На кассовом окошечке, как песня, звучат слова: «Все билеты проданы», и билетеры приветливо мне улыбаются. Еще недавно все было по-другому. «До» и «после» моего «Фальстафа»! Вхожу в ложу. Аплодисменты. Это Отто Клемперер появился в оркестре и идет к дирижерскому пульту. Взмах его волшебной палочки, и зал во власти ликующего жизнелюбия Верди – Шекспира. Но режиссер на каждом своем спектакле должен подкручивать какие-то винтики. В закулисной комнате в антракте около стола реквизитор с быстро начавшим терять вид золотым ларцем из папье-маше, сам Фальстаф в ботфортах и атласе с огромным ван-дейковским воротником, журналисты в черных смокингах. Фриц Креня – Фальстаф просит обуздать исполнителя роли его слуги Бардольфо, который, излишне нажимая на педали комедийного, мешает ему петь. Кренна сменяет Шарль Кульманн – Фентон. Он чувствует, что «захрипает», и просит освободить его от завтрашнего спектакля. Голос у него звучит прекрасно. Кульманн хочет подчеркнуть свою незаменимость. Увы, сказать ему правду нельзя – тенор ласку любит, ему нужны «лекарственные комплименты», хотя иногда их очень трудно из себя выдавливать. Первый звонок. Как-то вдруг около меня стало тихо. Надо все же завтра дать репетицию «второму» Фентону, и тогда… Кульманн явится на спектакль сам и заявит, что «выздоровел». Конечно, жаль днем мучить партнеров и оркестр, но – скорее выписать и объявить на всякий случай завтрашнюю репетицию. Склоняюсь над столом, слышу, в дверь входят. Говорю нетерпеливо:– Одну минуту. Сейчас допишу.
– Не торопитесь, – отвечает мужской голос удивительно приятного тембра. – Мы хотим сказать вам, что спектакль ваш нам нравится и певцы ваши сродни Шекспиру.
Кто это с таким приятным звуком голоса? Поднимаю глаза, пожилые мужчина и женщина. Она – невысокого роста, в темном платье с белым воротничком, приветливой улыбкой, он – какой-то светящийся. Где я видела эти черные, одна выше, другая ниже, словно в пляске, брови, большие карие смеющиеся и такие лучистые глаза, мягкий подбородок, высокий лоб, черно-седые волосы, которым, видимо, очень весело и свободно на этой голове? Галстук набок, обжитой пиджак… Я еще не могу отключиться от мысли о необходимости завтрашней репетиции, двоюсь между нею и вошедшими. Говорю привычное «простите», но он весело выручает меня.– Позвольте вас познакомить с Ильзе – женой Эйнштейна.
Она протягивает мне приветливую руку, я ей тоже. И вдруг, уже не знаю как, задаю идиотский вопрос– А почему… вы пришли с женой Эйнштейна?
– Вероятно, потому, что я тоже Эйнштейн, – отвечает он.
У меня перехватывает дыхание. Ну как я сразу не поняла, кого он мне напоминает?! Самого себя на портретах, которые глядят отовсюду! Люди гордятся, что живут в одну эпоху, в одном городе с этим гением, а я… Он легко читает мои мысли и разражается таким звонким смехом, какой я слышала только в Московском театре для детей и никогда – в чопорном Берлине! Я растерянно гляжу по сторонам и тут только в глубине комнаты около портьеры замечаю худенькую девушку и сотрудника нашего торгпредства Диму Марьянова. Оба в восторге от удавшегося «сюрприза», а у меня все мои заботы начисто выскакивают из головы. Передо мной вот так, запросто, стоит Альберт Эйнштейн!!! Усаживаю, лепечу извинения – это ему совсем неинтересно… Прерывает второй звонок.– Старые и молодые дети боятся опоздать на свои места, благодарят «первую женщину – оперного режиссера»…
Мне кажется, что он надо мной смеется, замечает, что я вот-вот зареву. Правая бровь Эйнштейна вскакивает еще выше, как озорной мальчик, который влез на забор, потому что заметил что-то интересное, и, вместо того чтобы снова рассмеяться, он говорит добрым голосом:– Молодая женщина – это хорошо, а газетная шумиха… надеюсь, вы не обращаете на нее внимания? Зрителям совершенно все равно, кто поставил спектакль – мужчина или женщина. Было бы интересно – вот и все. Нам интересно. Пошли.
Третий звонок. Как я ему благодарна! Усадила гостей на их места, когда в зрительном зале уже убавляли свет и не было видно моих пылающих щек. Но даже в темноте люди почтительно приподнимались с мест, вонзали глаза, полные восторга, в нашего гостя, хотя он шел закрытый с трех сторон фигурами жены, дочери, Марьянова. Ох, и ругала же я себя весь оставшийся вечер! Наутро уже многие знали, что Альберт Эйнштейн посетил новую постановку в Кролль-опере, что он, видимо, был доволен: аплодировал, много смеялся. Этот человек был чем-то вроде живого кино для толпы. Каждый поворот его головы обсуждался и фиксировался. На вопрос мужа, правда ли, что меня постигла радость такого посещения, я ответила:– Вот именно – постигла, – и замолчала. Было не по себе.
Но через день ко мне домой позвонил Марьянов.– Эйнштейны приглашают вас провести воскресенье у них на даче.
– О радость! Значит, он на меня не обиделся?
– Ничуть, – ответил Марьянов, – вы же были заняты своим делом и так непосредственно реагировали на новое знакомство.
Бывают же такие благородные люди! Посредственный человек такое бы мне выдал за эту «непосредственность»! Но теперь все позади. В воскресенье снова увижу Альберта Эйнштейна. Ура! Вся моя семья радовалась и гордилась этим приглашением. Дети скакали, муж вспоминал слова Ленина, Луначарского, знаменитых писателей, называвших Эйнштейна самым великим ученым современности, Ньютоном XX века. Муж окончил физико-математический факультет, моим знакомством был горд и счел нужным рассказать об этом секретарю нашего полпредства Борису Виноградову. Тот радовался успехам всех своих соотечественников, но спросил меня строго:– А вы имеете какое-нибудь представление о теории относительности и других научных открытиях Эйнштейна?
Он прав: тут я могла потерпеть значительно большее фиаско, чем от недостатка хорошего воспитания. Назавтра рано утром Боря Виноградов принес мне книги Эйнштейна не немецком языке «О частной и общей теории относительности», «Космологические соображения в связи с общей теорией относительности», «О роли атомной теории в новейшей физике» и т.д. и т.п. До воскресенья оставалось еще два дня. Я решила никуда не ходить. Учиться. Боря сказал:– Это приглашение стоит всех ваших успехов и постановок, – а он был в дипломатических делах авторитет.
Труды Эйнштейна были для меня явно трудны. Старалась запомнить «гравитационное поле», «гелеоцентрическая система», «перигелий Меркурия», «кванты», но непривычные слова не «оседали», а кружились в голове – получилась какая-то чертова мельница. По-немецки я уже говорила свободно, но совсем не на эти темы. Какая может быть тут у меня свобода?! В памяти одиноко торчало слово «относительность – Relativitat». Еще запомнила разговор Эйнштейна с сыном: «Мой девятилетний сын Эдуард спросил меня недавно: «Папа, почему ты стал таким знаменитым?». Подумав, я ответил так: «Когда слепой жук ползет по изогнутому суку, он не замечает, что сук искривлен. Мне посчастливилось заметить то, чего не заметил жук». Как вы понимаете сами, речь идет тут о кривизне пространства. Конечно, не совсем удобно, что в моей притче мне пришлось сравнивать человечество со слепым жуком, но как иначе объяснить девятилетнему?» Разговор с ребенком, такой милый и образный… значит, Эйнштейн веселый, остроумный, любит детей. Может быть, я лучше поговорю с ним о Детском театре? Накануне поездки на дачу ко мне зашел энергичный Боря. Увидев полную «относительность» моих знаний, он сел записать вместе со мной «самое главное». Помню, там была фраза о будущем расщепления атома, еще о чем-то, и главное, Боря написал мне тост, который я должна сказать на приеме у Эйнштейнов. Из этого тоста было, как дважды два, ясно, что советская молодежь, в том числе я, хорошо знает, что она тесно соприкасается с достижениями современной физики, что она читает все новейшие труды Эйнштейна.– Вы не понимаете, Наташа, как важно, чтобы вы произвели на него солидное впечатление! Эйнштейн к нам относится хорошо, но избегает официальных приемов в посольстве, в то время как…
Но тут я взмолилась:– Время-то уходит, Боречка, уходите и вы. Буду учить наизусть наш тост. Стихи бы запомнила быстрее, а три страницы вашей прозы на немецком… – Он ушел, а я засела.
На следующее утро я была бледнее обычного, но муж сказал: «Печать высокого интеллекта украсила твое чело». Какой там интеллект! На уровне попугая. Боря сказал, главное – солидность. Нет у меня ее – сделаю… Буду взирать, внимать, говорить как можно меньше, двигаться не спеша. Оделась очень тщательно. За мной зашел Марьянов.– Вы не больны? – спросил он.
– Нет, что вы! – ответила я, радуясь, что печать солидности уже ощущается.
Марьянов был в том же костюме, что всегда. До автобуса пошли пешком, я спросила:– А что, у Эйнштейнов будет много гостей, тоже великие ученые?
Марьянов засмеялся:– Что вы! Эйнштейны очень любят свое уединение и уют. Сегодня они захотели видеть только вас. Это поразительно простые, кристальной души люди.
После автобуса пересели на электричку и поехали куда-то в окрестности Потсдама. Когда едешь в новый дом, как-то невольно фантазируешь. В моем воображении возникал роскошный парк с подстриженными, как у англичан, деревьями, лебединое озеро, что-то вроде замка, рядом с которым высокая башня для наблюдения небесных светил. К нам великий ученый сойдет, конечно, не сразу… После электрички мы снова пошли пешком. Я шла, держась за Диму Марьянова, и не смотрела вокруг.– Ну вот и пришли, – сказал Дима, остановившись у деревенской калитки – такой же, какая была у нас на даче в Серебряном бору.
Первое, что я увидела, были грядки клубники, кусты роз, барбариса и картофеля. За листьями мелькали черно-седые пряди волос, вероятно, Эйнштейна и его жены. К калитке подбежала худенькая девушка, чмокнула меня в щеку и сказала:– Очень рада вам, Наташа, вы позволите мне называть вас так? Доброе утро, Дималейн.
Меня насмешило: что к русскому «Дима» она добавляет немецкое ласкательно-уменьшительное «лейн» (мы бы сказали «Димочка»). Вслед за Маргот (так звали худенькую девушку) к калитке подошла фрау Ильзе в серо-белом цветастом фартуке поверх вязаного костюма из мягкой шерсти, очень приветливо протянула мне руку и повела по направлению к дому – он стоял в глубине сада-огорода, деревянный, двухэтажный, простой и уютный, как его хозяйка. Но до дома я не дошла. Справа, за кустом цветущего жасмина, увидела самого Эйнштейна со шлангом в руке. Засияла его улыбка, а вместе с ней все вокруг.– Добрый день! Рад, что вы к нам пришли. Не хотите ли порежиссировать рядом со мной на клубничной грядке?
– Ну конечно, с большим удовольствием.
Я перескочила через отделявшие меня от Эйнштейна огуречные грядки и канавки с водой, оказалась рядом с ним около клубники. Великий ученый поливал ее из шланга. Но бурьян? Он совсем не был достоин этой чести, а его выросло немало. Чудесно! Закатала рукава, села на корточки и рьяно принялась за дело. Он работал шлангом с детской радостью, стараясь точно распределить воду между кустиками клубники и не оставляя сухим ни одного побега. «Поливает с математической точностью», – подумала я и решила все время быть от него на шаг впереди. Во-первых, чтобы он не поливал сорную траву, во-вторых, чтобы с корточек, снизу вверх, смотреть на него, хотя бы знать, что он рядом. Заговаривать первая, конечно, не смела. Травы было немало, и оправдать доверие было важнее всего. После нескольких минут молчания Эйнштейн спросил:– Вы любите… это? – и показал на землю.
– У Художественного театра была земля на Днепре, в Каневе. Сулержицкий говорил: «Зимой – работа в театре, летом – на земле». И мы, дети Художественного театра…
– Вы говорите о Сулержицком, который был связан с Львом Толстым?
– Да, о нем, – сказала я, любуясь его глазами, при свете солнца еще более удивительными. Казалось, от них летят блестящие брызги, которые весело играют с брызгами воды.
И ловко же он работал своим шлангом! Мой бурьян аккуратно укладывала кучками, с работой справлялась и даже жалела, что сорняков становилось все меньше. Огород был хорошо ухоженный.– Вы знаете… свое дело, – засмеялся Эйнштейн. – Верно, часто отдыхаете на земле, как и мы?
– Нет, – вздохнула я, – теперь стала насквозь городская, а в тринадцать лет начинала свою трудовую деятельность у огородника. Прежде была пололкой, потом сажала капусту.
– Жаль, что мы уже посадили капусту, – рассмеялся Эйнштейн.
– Очень жаль, – совершенно серьезно ответила я. – Хорошее это занятие – правой рукой делаешь в земле ямку, левой прикладываешь капустную рассаду к левой стенке этой ямки, правой засыпаешь землю, потом пристукиваешь ее правым кулаком. Вот смотрите. Раз-два-три-четыре.
Я показала свое умение, использовав вместо рассады колокольчик. Всплеск его юношеского смеха был мне наградой.– Ильзль,– закричал он жене, – у нашей новой знакомой открываются все новые способности.
Как бы не так… Спрятать в ямку свое невежество по части физики, верно, не удастся. Но какая чудесная отсрочка, и как визит к Эйнштейнам совсем не похож на… визит.– А теперь Наташу ждет испытание, – сказал ученый, и я поняла, что, как всегда, сглазила хорошее. Сейчас спросит про теории! Напрягла все свои мысли, но… в голове было пусто. Словно вода из шланга начисто смыла слова Бориного конспекта.
– Какое… испытание, господин профессор? Он поморщился, словно я сказала пошлость.
– Я думал, вы…– начал он недовольно и остановился, – мы оба здесь работники сада-огорода, – недовольство его так же быстро прошло, как и возникло. – Вам поручается ответственное дело – закончить поливку клубники на этой грядке из шланга, а мне надо поработать садовыми ножницами.
Пронесло! Шланг был тяжелый, держать его надо было умеючи, поливать – тем более. Вода строптивой струей лилась не туда, куда ее направляли. К тому же хотелось рассмотреть и запомнить все кругом. На втором этаже дома – открытая терраса, или солярий, туда ведут широкие лестницы, в даче большие окна, справа от дома озеро, там стоят лодки и парусник. Неподалеку башня, верно обсерватория, – ему ведь подвластны и земля и небо…– Ну, как дела? – услышала я вдруг голос Эйнштейна и, забыв о предательских наклонностях шланга, чуть было не залила водой ноги ученого. Он весело подпрыгнул, молодцевато подтянул холщовые штаны на резинке и взял шланг из моих рук.
– Эта работа вам удается… значительно менее, чем предыдущая. – сказал он, лукаво поглядывая на мои мокрые ноги. С озера тянуло сыростью. Я выждала, пока он отвернется, вытащила из кармашка носовой платок, быстро вытерла чулки и туфли, сорвала большой лопух, завернула туда далеко не чистый платок и препроводила его обратно в карман.
Все это было очень далеко от соблюдения этикета и солидности, к которой меня призывал Боря, но наши отношения с Эйнштейном стали как-то проще и веселее. Он повернулся ко мне и, оттопырив шерстяную фуфайку на животе, сказал ликующе:– Подарок моей Ильзль. Чистая шерсть. Она связала своими руками. Мне всегда тепло.
Поверх рубашки с отложным воротником на Эйнштейне был мягкий светло-серый пуловер. Его слова были еще более теплыми, чем этот пуловер; видно, он умел любить, восхищаться своими близкими, радоваться им, солнцу, зелени. Как, оказывается, удивительно уживаются иногда величие мудрости и детская непосредственность! Я снова полола.– Поздравляю, эта грядка приняла воскресный вид; если не возражаете, перейдем на следующую.
– Конечно. С большим удовольствием!
Нашла корзину, сложила туда пучки вырванного сорняка и, видя, что Эйнштейн «ценит мой труд», еще более энергично взялась за прополку последней грядки. Только… мне хотелось, чтобы он говорил, заучивать его афоризмы, а он хотел молчать. Верно, отдыхал, отдыхал прежде всего от самого себя, своей пульсирующей мысли. Переключил энергию мозга на физическую, окунувшись с головой в милые дачные работы. Но мысли… они ведь непослушные! Какой огромный у него лоб, сколько жизни в глазах – все видят, все время в движении, может быть, именно сейчас новое открытие зреет под черно-серебряными непослушными волосами? Как хорошо работать на грядке рядом с ним. А вон Ильзе кормит таких же пушистых, как рукава ее джемпера, цыплят. А где Маргот? Они с Марьяновым стояли под деревом, недалеко от калитки.– Ну вот, рабочий день закончен, – закричал Эйнштейн, – вознаграждайте себя, Наташа, не отходя от грядки, – тут клубника куда вкусней, чем…
Я хотела сказать, что уже давно «вознаграждаюсь», повернулась в его сторону, но глаза его вдруг стали смотреть мимо меня, куда-то внутрь. Теперь они не соединяли, а разъединяли его с внешним миром – словно был спущен железный занавес. Не договорив фразу, Эйнштейн нетерпеливо подтянул резинку холщовых штанов, быстро пошел к дому и стал подниматься по открытой лестнице на второй этаж. Заметив мое удивление, ко мне подошла Ильзе:– Альбертлю пора побыть одному в своей комнате. Сегодня он с самого утра с нами. У него в голове так сложно и так точно все устроено…
Чего тут объяснять?! Пошел немножко отдохнуть или что-то записать. Он же «вторым планом», наверное, о своем думал – не обо мне же, не о грядках… Какая обаятельная, мягко подвижная была эта Ильзе! Как всепонимающе она любила своего Альберта! Они называли друг друга только ласкательно-уменьшительными «Ильзль». «Альбертль», их любовь давала им ту жизненную силу, ту «точку опоры», когда можно было… перевернуть мир. Ильзе принесла мне кувшин молока, стакан и, пока я пила, говорила о своем счастье, о Маргот, ее дочери от первого брака, которую «Эйнштейн любит, как ни один родной отец не смог бы любить», – не все помню, что она говорила, но как – запомнила навсегда. Потом ко мне подошла Маргот, обняла за плечи, вместе с Марьяновым мы спустились к лодке. Каждому из нас хотелось побыть со своими мыслями, а прогулка на лодке к этому так располагает. Через час мы вошли в большую комнату на первом этаже виллы «Капут». На подоконниках, шкафу, пианино – повсюду стояли скульптурные работы. Они были выразительны и разнообразны. Чувствовалось, что скульптор хорошо видит и любит людей – их нежность, горести, замечает и смешное. Эйнштейн и Ильзе сидели уже за круглым столом и с гордостью смотрели, как внимательно я рассматриваю выразительные глиняные головы матери с ребенком, старика, фавна, волосато-бородатую статуэтку.– Все это делает наша Маргот, – сказал Эйнштейн. – Не правда ли, талант у нее есть? – Он снова был весь тут, с нами.
Я ответила искренне:– Мне кажется, да!
Маргот покраснела и юркнула в дверь, а Ильзе просияла:– Альбертль любит Маргот даже больше, чем меня, – сказала она с милым ожиданием его возражений.
Эйнштейн не ответил ничего, но положил свою руку на ее, посмотрел на жену с такой нежностью, когда слова уже не нужны. Тут вошла Маргот с затейливыми пирогами и пирожками на тарелках. При виде баумкухенов Эйнштейн снова оживился:– Посмотрите, вот еще одно чудо нашей семьи. Только руки моей Ильзль умеют лепить такие вкусные пирожки. Да, наша мама тоже знаменитый скульптор. Вот среди каких талантливых людей я имею счастье жить.
Раздалась опять вспышка теплого юношеского смеха. Эйнштейну доставляла наслаждение радость других. Он искренне удивлялся и восхищался «чудесами» своей жизни, жизни, в которую, по его мнению, так много красивого вносили его близкие. Ему искрение хотелось радовать, поднимать и отеплять их, черпать в их радости что-то очень дорогое и важное для него самого. Маргот и в первую очередь Ильзе все приносили и уносили сами. Я видела, что Эйнштейну нравится есть из их рук, отдыхать в «малом кругу». Мне, уже побывавшей в Берлине на приемах, в домах знаменитых артистов, было странно и дорого полное отсутствие лакеев у Эйнштейнов. Они все делали сами. На столе было много овощей, даже артишоки и спаржа, маринованные грибы, действительно очень вкусные пироги и пирожки, рыба. Я ела и разглядывала комнату. Мебель? Сервировка? Не те слова. Покупали, когда придется, что придется, утилитарно нужное, по частям. Разные тарелки, кружки и чашки, соломенные и складные стулья и табуретки. Только пианино было в чести – вышитая дорожка наверху, другая – на крышке клавиатуры. Из Бориных книжек мне запомнилось, как, делая доклад об атомной теории в Цюрихе, тогда еще молодой Эйнштейн предупредил, чтобы от него не ждали элегантности изложения, «оставим элегантность портным и сапожникам»… Да, тут любят простоту по-настоящему, любят то, что согрето любовью, что множит уют и радость, но вещи сами по себе совсем не важны. Живут на другой волне, другой глубине. Ильзе принесла жаркое и вино. Обязанность сдержать слово, данное Виноградову, довлела надо мной, и, налив бокал и встав со стула, я начала полузабытый тост.– Что это вы встали? – удивилась Ильзе. – Так и мужчинам придется есть стоя.
Я сбилась окончательно, отчаянно путая слова и падежи, с торжественной дрожью в голосе сказала вместо «советское юношество» «советские артисты хорошо знают теории Эйнштейна…» Он перебил меня довольно резко:– А зачем это им нужно? Пусть каждый занимается своим делом…
Меня выручила Маргот. Она сказала ласково:– Наташалейн, Альбертль терпеть не может тосты.
– Тем более чужого сочинения, – буркнул Эйнштейн. Скрытности у меня досадно мало. Я так посмотрела на Эйнштейна, что несколько секунд хохотали все, в том числе и я.
– Пусть Наташа немножко расскажет нам о Москве. Я ее так полюбила, – сказала Маргот.
– Или еще лучше о театре для детей, – поддержал ее Марьянов.
Тут как раз было покончено с кисло-сладким мясом, на столе появились взбитые сливки, фрукты, чай, и я с огромной радостью заговорила на свою любимую тему. Эйнштейн любил детей. Ему очень понравилась идея Детского театра.– Я верю в большое будущее вашей страны, а без счастливых детей нет будущего. Воспитание радостью, живые образы в противовес школьной скуке – ох как еще много на свете бездарных учителей, которые могут убить веру во все прекрасное. А дети любят искать, сами находить. В этом их сила. Они всегда чувствуют себя Колумбами, не устают удивляться многочисленным чудесам живой жизни. Может быть, самое трудное – научить их понимать других людей, не всегда похожих на тебя, познавать глубину каждого. Мы часто перегружаем детей книгами, впечатлениями, не помогаем им отбирать то главное, что ведет в глубину знаний, в глубину своих собственных мыслей и творчества. Детям, как растениям, нужно гораздо больше свободы, возможности познать самих себя.
Как я была рада, что могу просто молчать и слушать. Его вопросы тоже были интересны. Ставили ли мы для детей Шиллера? Читала ли я письма Марка Твена, в которых он называет детский театр своей самой большой мечтой? Как я отношусь к картине «Броненосец «Потемкин»» и режиссеру Эйзенштейну? Почему в Детском театре не идет такая поэтичная пьеса, как «Синяя птица», музыку к которой, как он знает, написал мой отец? Большую ли роль в нашем театре играет музыка и часто ли дети в Москве слушают Моцарта? Моцарт был кумиром Эйнштейна, он говорил о его музыке с таким глубоким проникновением, что я диву давалась: физика, высшая математика, литература, музыка – вся культура в одной голове. И вдруг Эйнштейн вскочил и почти убежал из-за стола. Ильзе налила мне еще чаю и ласково зашептала:– Я полюбила Альбертля маленькой девочкой, когда он играл, и как чудесно играл, на скрипке Моцарта. Да, мы знакомы с раннего детства, ведь Альбертль мой троюродный брат.
Я не переставала удивляться в этот вечер:– Значит, он и на скрипке играет?
– Ну конечно, и на рояле тоже. Когда он обдумывает свои теории, ему всегда помогает музыка. Он то уходит в кабинет, то берет аккорды на пианино, потом что-то записывает, потом опять в кабинет. В такие дни мы с Маргот совсем исчезаем из его мира, разве тихо подсунем что-нибудь поесть или подадим калоши. Он может выйти без пальто и шляпы на улицу, вернуться, стоять на лестнице – она улыбнулась, – как ребенок. Не может долго сидеть на одном месте, и, знаете, то, чему удивляются люди, в его голове рождается так быстро и просто!
Я посмотрела на старенькое пианино, на котором стояли скромные полевые цветы, с огромным почтением, даже встала и подошла к нему. Неожиданно встала и Ильзе и сказала торжественно:– Ну а сейчас будет самое главное, и я уверена, что Наташа не откажет…
О боже! Неужели? Значит, все же должна говорить на немецком о теории относительности, расписаться в ее незнании? Обернулась и увидела Эйнштейна, который бережно нес скрипичный футляр. Ильзе мгновенно очистила место на столе, протерла его сухой тряпкой, подстелила бумагу, и только тогда он положил свое сокровище, открыл футляр. «Музыканта можно узнать по отношению к своему инструменту», – говорил мой отец. Скрипка жила у Эйнштейна в большом почете. Даже в футляре лежала «одетая» в серый шерстяной «пуловер» такого же цвета и вязки, как пуловер ученого. Скрипичный «пуловер» был, конечно, без рукавов, вроде мешочка, и завязывался шерстяными помпонами наверху. Он был на шелковой подкладке. Чего только не выдумает человек! Бархатная подушечка была тоже произведением искусства.– Все, все делает своими руками для меня моя Ильзль, – сказал Эйнштейн и поцеловал ее. – Значит, Наташа согласна? – продолжал он, подходя к пианино, около которого я стояла.
– На что согласна?
– Поаккомпанировать мне. Вы, говорят, хорошо играете?
– Ах, вот что. Не очень, но… с огромным удовольствием.
– Мы тут уже все почти русские – давайте играть Чайковского, – засмеялся Эйнштейн, поглядывая на Маргот и Марьянова.
В момент этих слов его лицо вижу, как сейчас. Лоб Бетховена? Нет, не хочу никаких сравнений. Они оба неповторимы. Лоб огромный, выпуклый, озорные – одна выше, другая ниже – широкие брови, черные щеткой усы на верхней губе, черно-серебряные волосы в разные стороны. В вечной динамике, как-то набок, углы ворота рубахи, пуловер – все, что на нем надето, и поразительно звездные, смеющиеся глаза, с великой мудростью познавшие вселенную и по-детски не перестающие удивляться чудесам этой вселенной, всему, что он видит. Таким навсегда запомнила Эйнштейна. Ильзе быстро поставила пульт для скрипки–Эйнштейн играл по нотам. Три стула поставили ближе к стене, вероятно, чтобы «отделить» музыкантов от публики. Сияя улыбкой, Ильзе сказала так, как будто была замужем не много лет, а переживала медовый месяц.– Наташа сейчас услышит: Альбертль – замечательный скрипач, но редко позволяет говорить о своем таланте.
– Лина, – сказал Эйнштейн, показывая мне свою скрипку.
– Альбертль зовет свою скрипку «Лина», – подтвердила Ильзе.
– Дайте, пожалуйста, «ля», – приступив к настройке инструмента, повернулся ко мне ученый. Сами понимаете, как ликовала я – теперь уже точно «обязательства по протоколу» были аннулированы. Играть на рояле «с листа» я очень любила, а с Эйнштейном это уже будет наш второй «дуэт» сегодня, первый – на огороде. В предвкушении музыки Чайковского сияли все, но больше всех – Эйнштейн. По отношению к музыке он был даже сентиментален или, вернее, безмерно эмоционален.
Он во всем был масштабен, как океан. Сам он своего величия не замечал ни в чем, наоборот, казалось, он удивлен и восхищен достоинствами всех нас, и потому радуется так безудержно. Глаза, улыбка, волосы разбрызгивают во все стороны этот озорной восторг. Но это выскочила у меня мысль вообще, «не о музыке». А сейчас подушечка и скрипка на плече, взмах смычка… «Меланхолическая серенада». Начинаем вместе. Темп я бы взяла быстрее, но главное – не разойтись. Играет вдохновенно, вдумчиво звучит каждая фраза, а склонность к замедлениям – верно, средство подчеркнуть меланхоличность этой серенады? Во второй части он устремляется решительно вперед, даже слишком, как мне кажется, – я за ним не поспеваю. Играю «Меланхолическую серенаду» в первый раз – не все ноты выигрываю, но это лучше, чем с ним разойтись. В конце наш контакт делается более тесным, и его чувствительные темпы мне даже на руку. Наша публика хочет устроить овацию, но он поднимает кверху смычок и правую бровь – снова тишина. Эйнштейн открывает «Юмореску». Ее играл, знаю. Он тоже знает. Очаровательное лукавство первых тактов, острота ритмического рисунка сменяются широкой улыбкой в музыке, а чувство юмора, очевидно, в жизни и музыке одно и то же. Оно «у нас» есть. После исполнения «Юморески» восторг «зрительного зала» уже нельзя было сдержать. Повторяем еще раз. В «Русском танце» оказалось, что мой солист не каждый день занимается техникой. Но… разве не чудо, что он играет по-настоящему хорошо, полупрофессионально, любит, чувствует, раскрывает музыкальные образы при основной работе… ведь не в оркестре же! Потом он попросил меня сыграть произведения отца– он только слышал о них. Играла «Синюю птицу», «Miserere». Сыграла «После плакать». Эйнштейну понравилась народная мелодия – основа этого произведения. Он сказал:– Как бы это хорошо звучало на скрипке. Какая творческая интуиция!
– А это и написано для скрипки! Сейчас сыграла в своем переложении для фортепьяно.
– Мне бы хотелось, чтобы вы дали мне ноты, – сказал Эйнштейн, – я тоже буду играть эту мелодию.
Я заметила чистый лист нотной бумаги, вложенный в переплетенные ноты, по которым играла.– Можно, я напишу вам скрипичную партию сейчас? Это заняло минут двадцать, не больше, вызвало удивление и восторг женщин. Но Эйнштейн остановил их:
– Она пишет ноты, как другие цифры и буквы. Это хорошо, но для культурного человека только естественно.
Второе, так сказать, отделение концерта началось с «После плакать». Первую часть Эйнштейн сыграл на удивление выразительно – право, мало кто из профессионалов, окружавших меня в опере, мог играть так заразительно, от «большого сердца». Пусть некоторая «старомодность» в игре Эйнштейна имела место – интонация была точной, бережно-чистой. Во второй, быстрой части двойные ноты ему не удались – я взяла вину на себя, сказала, что неточно помню аккомпанемент, и попросила перенести это исполнение «на после», когда придут из Москвы печатные ноты. Мы сыграли еще «Песню без слов», «Ноктюрн». Эйнштейн положил передо мной «Баркаролу» из «Времен года». Я никогда прежде не видела скрипичного переложения этой фортепьянной пьесы.– А Ленин между тем любил слушать это произведение именно на скрипке, – сказал Эйнштейн и рассказал эпизод из времен женевской эмиграции Владимира Ильича, когда он, слушая игру Красикова, под звуки этой музыки мысленно переносился в Россию.
Ни я, ни Марьянов не знали тогда этого эпизода из жизни Владимира Ильича. Марьянов сказал мне тихо по-русски:– Он обожает Ленина, называет его совестью человечества.
За аккомпанемент «Баркаролы» я принялась… «во всеоружии» – знала ее наизусть еще с музыкальной школы. Наш музыкальный ансамбль к этому времени, что называется, вырос. Маргот, едва дослушав последнюю ноту, потребовала повторения.–Альбертль, я не только слышала, я видела вашу музыку, видела сейчас снова русскую природу, очень прошу, сыграйте еще раз.
Сыграли еще. Эйнштейн сказал:– Мы нашли с вами общий язык, спасибо! Хорошо прошел этот день – просто, уютно, ласково, и кульминацией его был наш музыкальный дуэт.
Еще два вечера так же тепло и хорошо провела на городской квартире Эйнштейнов на Габерландштрассе, 5, когда проезжала через Берлин в Москву из Буэнос-Айреса осенью 1931-го. Весной 1933-го московские друзья решили отпраздновать пятнадцатилетие моей работы в Театре для детей. И вдруг… письмо от Эйнштейна. Он вспомнил мои рассказы о детском театре, «Фальстафа» в Кролль-опере, наш музыкальный ансамбль, даже клубничные грядки, и я еще раз подумала – сколько тепла и человечности вмешает это мудрое сердце! Через океан – в Аргентину В ушах еще звучала музыка Верди, сердце переполняла радость от успеха нашего «Фальстафа», а поезд уже спешил из Берлина в Москву. Июнь. Сезон в Театре для детей кончается, ребята, наши зрители, скоро разъедутся – каникулы. Куда бы мне достать путевку на отдых? Только, кажется, опоздала – надо ехать в Народный комиссариат здравоохранения, просить. Здесь много народу. Придется задержаться.– Театр?.. Пожалуйста, передайте, я опоздаю на репетицию минут на десять – жду начальника, насчет путевки… Что? Что-о?
Заведующая костюмерной Екатерина Павловна Шемякина говорит, не слушая меня:– Наталия Ильинична, на ваше имя только что пришла телеграмма из Буэнос-Айреса в Южной Америке. Вас приглашают на две постановки в оперный театр – знаменитый «Театро Колон». Просят отвечать срочно – корабль «Кап-Аркона» отойдет из Гамбурга четвертого июля.
Стены и люди, здравоохраняющие население, отъехали от меня, прежде чем вышла из каменного здания. Разноцветные попугаи замелькали на воображаемых пальмах. Неужели это правда? Южная Америка… о ней знала только по рассказу Даниила Хармса «Как Панькин Колька ездил в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил». В географии я всегда была слаба, а готовность к новому, страсть расширять горизонты – у кого же нет этого в двадцать восемь лет? Особенно горячо билось сердце от подтверждения этим приглашением успеха нашего «Фальстафа». Клемперер уже пригласил меня быть главным режиссером в Кролль-опере, он очень высоко оценил мою работу по «Фальстафу», но переехать из Москвы в Берлин, оставить Театр для детей – об этом не может быть и речи. А постановка в «Театро Колон»? Что за артисты, какой дирижер? В Московском театре для детей начинается большой летний отпуск. Впрочем, может быть, все это просто розыгрыш… И почему Шемякина распечатала мою телеграмму? Мало ли мыслей мелькнет, пока добежишь до театра! Но оказалось, все так. Приглашение дирекции «Театро Колон» на две постановки, еще одна телеграмма от Клемперера – просит не отказываться, дирижировать будет он сам. Своей труппы в Аргентине нет – будет состав из гастролеров Европы и Северной Америки, только «звезды» и т.д. Я была ошарашена. И лестно, и страшно, и решать надо молниеносно – уже 23 июня, а выезд из Гамбурга 4 июля, и корабли ходят туда чуть не раз в месяц, значит, никаких отсрочек! Посоветовалась со старшими товарищами – все высказались за мою поездку, хотя полпредства у нас там не было, с торгпредством тоже произошли какие-то недоразумения – оно оттуда выехало. Но делиться опытом в искус-стае мы всегда были готовы. Мне сказали, что в июле там зима, лето у них в январе, тогда там такая жара – дышать невозможно. «Осведомленные» предупреждали, что необходима осторожность – «хорошеньких женщин там похищают». Но меня больше волновало, что первой постановкой будет «Кавалер Роз» Рихарда Штрауса на немецком языке – опера, которую я не знала. «Кап-Аркона» делает рейс Гамбург–Буэнос-Айрес за шестнадцать суток, придется работать все это время, чтобы приехать с постановочным планом. Вторая постановка – «Свадьба Фигаро» Моцарта на итальянском. Итальянский знала недостаточно для постановки, но она все же вторая. Стало легче, когда получила сообщение, что дирекция «Театро Колон» принимает на себя оплату двух кают люкс, что в одной из них будет пианино. Лучше всего поехать с Леонидом Половинкиным. Он прекрасный пианист, хороший товарищ. Каким-то чудом к 1 июля все визы, разрешения – все было оформлено не только у меня, а за полчаса до выезда и у Половинкина. Друзья втащили наши немногочисленные вещи в вагон за восемь минут до отхода поезда, еще не веря, что мы действительно уедем так далеко, так надолго. А через несколько минут Белорусский вокзал остался позади, и колеса стучали удивленно и радостно. Шутка ли – режиссировать в Буэнос-Айресе! В Берлине меня встретили муж и дети – так недавно я еще была здесь, вся семья переживала трудности победы «Фальстафа», и вот сейчас – на одну ночь с ними, проездом в Южную Америку. Начал ли Адриан говорить по-немецки, как просила его? Нет. Школа на русском, товарищи русские…– Потом еще как пожалеешь – быть в Берлине и не использовать… – Но за вечер много не скажешь, воспитательная работа прерывается – скоро на поезд до Гамбурга, потом… отплытие.
В Гамбурге муж, Леонид и я. И солиден же ты, немецкий город, одна из главных гаваней мира! Поражают техника, камень монументальных строений и корабли, корабли. Они приносят сюда экзотику всего мира, кажется, что чувствуешь здесь дыхание далеких стран и островов с их удивительной растительностью и животным миром. Корабли уходят отсюда ежечасно, уплывают далеко, но всегда сюда возвращаются. «Кап-Аркона» – морское чудо, гигант, восьмиэтажный корабль! Это – целый дом, нет – маленькое движущееся по волнам царство, отдельный городок. Внизу – аллея магазинов: огромная витрина новейших автомобилей, цветы, книги, пальто и платья, торты и шоколад, мебель. На верхней палубе четыре теннисных корта. Наши каюты – роскошные: зеркальные шкафы, одна кровать – мягкая, для нормальной погоды, другая – специальная, без матраца, на случай качки. При каюте ванная, душ и т.д. В моей каюте по особому указанию поставлено пианино.– Черти вы эдакие, – вдруг по-детски обиженно говорит мой муж, – в какой роскоши поедете!
Мне торжественно вручают что-то вроде книжечки, где предусмотрительно сообщены все сведения, которые могут понадобиться в пути. Как я рада, что эта тщательно отпечатанная, изящно изданная брошюрка с рядом интереснейших сведений и подробным перечнем тех, кто в классе люкс отплыл 4 июля 1931 года из Гамбурга к берегам Южной Америки, у меня сохранилась… Как-то некстати среди этих «де» и «фон» торчит и моя фамилия: госпожа Долорес-Санта-Марина де Эшагюе, господин Эвальд фон Траувиц-Хелльвиг, госпожа Наталиа Сан-Попова и т.д. Какое причудливое общество! Прямо так, прыг – и попала туда без всякой даже мысленной подготовки. Но… снимают мостики, наш великан торжественно, под звуки оркестра покидает берега Гамбурга. Выхожу в коридор, Леонид стоит у моей двери, выбрит, в смокинге (когда он успел его купить? Конечно, в Москве сообразил!). На мне славное немецкое платье из отдела «для подростков». Он, конечно, куда представительней. На нашем пути гостиные с роскошными креслами среди пальм, читальный зал-люкс, ковры, в которых тонет нога, разряженные господа и дамы. Они носят себя, свое величие, свои драгоценности, как в ложно классических пьесах времен Расина и Корнеля. Но «святая святых» здесь – ресторан с крахмалом скатертей, нежным звоном хрустальных ваз и стаканов, серебром ножей и вилок, целой армией юношей-официантов в белых одеждах. Это почти балет: так мгновенно и грациозно появляются они с серебряными подносами в руках. Волосы причесаны гладко, а пробор в волосах каждого словно воспевает немецкую точность. Нам с Леонидом уже отведен специальный столик. Перед нами отпечатанное в типографии меню. Сколько можно заказывать блюд? Сколько угодно. За них уплачено вместе с билетом. Около нас два молодых официанта (их здесь называют стюарды). Но вот приближается метрдотель – он не склоняется перед нами, как юные стюарды, скорее, нарочито прям и даже откинул голову слегка назад. Советчик по вопросам кулинарии, советчик по таким важным вопросам для жизни (живота) человека! Он понимает свою «миссию», играет роль гостеприимного хозяина в этом «царстве желудка». Принимая заказ и записывая его серебряным карандашиком в блокнот, мэтр одновременно дает советы: у берегов каких земель лучше есть какие кушанья, какие блюда «сочетаются» и какие нет – он тонкий знаток всех этих «важнейших вопросов». Спаржа, крабы, артишоки, суп с какими-то узорными пирожками, мясо, рыба с удивительным соусом – мы еле встаем из-за стола. Настроение чудесное. После обеда, кроме стариков, никто не сидит в гостиной. Хождение по палубе быстрыми шагами тридцать-сорок минут – обязательное условие для сохранения стройной фигуры. Ну а мы бегаем два часа по палубам всех этажей. Морской воздух в лицо! Хорошо!– Сейчас время файф-о-клока. Нас ждут в ресторане, – тоном испанского гранда сообщает мне Леонид и, конечно, хохочет. В руках у него корабельная газета с распорядком дня.
– Пошли.
Чай или кофе с лимоном или сливками, всякие там печенья, торты. Только дамы смотрят на меня с прищуром. Они все переоделись – время файф-о-клока, платья не могут быть короткими, обязательно пониже колен. Но этикет мне сейчас недоступен, в голове один «Кавалер Роз». И вот мы уже около пианино. Один клавир у меня в руках, другой проигрывает Леонид. Музыка сложная, надо узнать, понять, полюбить ее. Либретто написал Гуго фон Гофмансталь – его пьесу «Jedermann» видела у Рейнгардта. Но дело режиссера не только анализировать, а синтезировать, найти свое звучание музыки и мысли в сценическом действии. Смогу ли полюбить эту музыку? Уже девять часов вечера – надо идти ужинать. Леонид забежал к себе в комнату и надел фрак. Он постарше меня и, верно, успел еще до революции узнать все эти этикеты. Я иду за ним машинально. Вся я полна диссонансами Рихарда Штрауса и думами, совладаю ли с этими диссонансами. Сейчас на меня уже не смотрят с прищуром, а еле в ресторан впускают. Все дамы в длинных платьях, с голыми плечами и руками, а я все в том же… С волками жить – по-волчьи выть. Навожу справки, как здесь положено быть одетой. Утром, значит, надо выходить в береговой одежде, штранданцуг – пижама с широкими штанами. На второй завтрак – короткое платье. К чаю после обеда – понарядней, подлинней; вечером – только длинное и открытое. Штанов береговых мне негде взять, а остальное у меня есть. Конечно, не каждый день разное, как у этих дам, а только чтобы не выделяться. Длинных платьев есть два хороших, других тоже по два, по три – всего семь штук, совсем немало. Я же гастролерша, режиссер, человек серьезной и ответственной профессии, а они выехали развлекаться, друг друга завлекать. Ну и пусть делают что хотят. «Кавалер Роз» уже увел меня от всего внешнего. Часов по пять сижу с Леонидом у пианино, часов пять еще одна с клавиром. Леонид теперь куда более свободен и жизнерадостен, чем я. Его ничто не давит. Постановку должна почувствовать, осмыслить только я сама. Мелькает живописное решение: белое и черное, иногда чуть серебра и платины – больше никаких декоративных пятен: Маршаллин и Октавиан. Но… с какой идеей понесу «Кавалера Роз» слушателям? Правда любви – юность? Мелко. А музыку уже почти всю знаю – слышу, глядя в клавир, слышу и без клавира… Оказывается, кроме Леонида, никто на «Кап-Арконе» не принимает меня всерьез, даже ни чуть-чуть не уважает. Леонида уже начали называть господин профессор Половинкин. Его спросили, что за подростка он водит с собой – племянницу или стенографистку? Он рассказал это мне. Хотела обидеться, потом смеялась. В Па-де-Кале началась качка. Ее ощущаешь как-то вдруг; дышал хорошо, радостно, а сейчас почему-то стало противно, тошно. Потом не понимаешь, почему нога, вместо того чтобы привычно тонуть в мягком ворсе ковра, скачет по нему, как по ухабам осенних дорог, и, наконец, придя в ресторан, испытываешь такое раздражение, что кажется, вот-вот скинешь и будешь топтать скатерть, бить посуду… Что происходит? Сохраняя дежурную улыбку на серо-зеленых лицах, официанты хотят навязать мне завтрак из четырех блюд, а я еще не до конца понимаю, почему-то, что вчера казалось таким желанным, сегодня противно даже в названии. И почему абсолютно пусто в ресторане? Вдруг понимаю:– Началась качка, да?
Юный стюард не подтверждает и не отрицает:– Ламанш – всякое здесь бывает.
Но уже подскочил с перекошенным лицом мэтрдотель:– Простите, мадам, его невежество. Легкая морская зыбь не имеет ничего общего с качкой, хотя лимон… – Забираем два лимона и срочно отправляемся каждый в свою каюту. Фу, какая гадость! Не хочу я ехать дальше, не могу. Еще будет остановка в Лисабоне – последняя в Европе. Вылезу и поеду в Москву!
Ложусь на жесткую кровать. Какая нудь! И где взять иностранных денег на обратный билет? А потом, если не выполню контракт, надо будет уплатить аргентинцам и стоимость этих наших билетов. Да, никуда не вылезешь. Стало чуть полегче. Поняла, что, когда качает, нельзя сопротивляться. Надо весь корпус направлять по движению волн, как будто сама качаешься, как на качелях. При нервном сопротивляющемся движении морская болезнь – гибель. Почти двое суток пути лучше не вспоминать. Теперь мы в бескрайнем Атлантическом океане. Европа позади. Слово «берег» начинаем забывать. Но делается все жарче. Ночью не спится и все время хочется пить. Чай или кофе дают только два раза в день, и они горячие. Хочется, очень хочется холодного. За спиртные напитки платить надо отдельно, наличными. За фруктовую воду и соки – тоже. По палубе ездят тележки с оранжадом, ананасной, гранатовой водой, с соломинками, льдом, вином – лучше не глядеть. Но пить хочется все больше. А как быть? Из крана в каюте вода течет соленая, попросить питьевой воды за едой в люкс-классе – недопустимый шокинг. И так мы одеты хуже других, еще будем срамиться. Надо терпеть! Приближаемся к экватору – жара явление абсолютно закономерное. «Праздник экватора», на котором наши соседи по ресторану резвились роскошно полуголые, наслаждаясь замороженным шампанским, коктейлями и другими напитками, был не для нас. Но все это надо терпеть, и вытерпим – главное, забрезжило наконец что-то свое в понимании «Кавалера Роз», постановочный план вычерчивается. И вдруг… телеграмма от Клемперера. Постановка Штрауса переносится. Первой пойдет «Свадьба Фигаро» на итальянском, репетиции надо начать немедленно по приезде. Это было для меня страшнее морской качки и экваториальной жары. Я же не разводящий, а режиссер. За шесть-семь дней до приезда перебросить себя из мира звуков Рихарда Штрауса в стихию Вольфганга Моцарта, в мир Бомарше… На это же нужно время! О, этот Клемперер! Ценит меня, большой друг, а чего-то самого главного не понимает. Вулкан! Где-то сбоку остался остров Святой Елены, куда был сослан Наполеон, причаливали на острове Мадейра с его экзотической красотой, поразительным разнообразием цветущих кактусов. Все это было вне меня. Хороша я буду, если завалю постановку, не оправдаю оказанного мне доверия. Это – самое страшное. Еще клавир итальянский, без перевода на языки, которые я куда лучше знала. Хоть по двадцать часов заниматься ежедневно – до корней понимания не дойдешь. «Свадьбу Фигаро» я, конечно, знала, но поверхностно, – разве это мне было сейчас нужно?.. Рио-де-Жанейро! Какой художник выдумал тебя?! Кто хоть раз причаливал к твоим берегам и ступал на твою землю, не забудет тебя никогда. Совсем белых людей тут очень мало – почти у всех примесь негритянской крови. Но и черных мало. Светло-коричневые, темно-каштановые, золотисто-смуглые лица. Одеты все по-европейски. Небо ясное, голубое, на улицах теплынь, а волосатый ствол пальмы неожиданно где-то высоко увенчан веером из зеленых веток. Пальма такая всегда смотрится как чудо природы, называется она здесь королевской. А какой в Рио Ботанический сад! Никогда, нигде не видела такого разнообразия растений. Бананы, ананасы, апельсины – их так много. Торговец на своей лодке хочет забросить веревку от своей корзины с этими фруктами и чудесными сигарами в окошечко вашей каюты. Возьмите все содержимое себе, положите в корзинку одну серебряную или даже медную монету взамен – торговец улыбнется вам всем своим смуглым лицом и белыми зубами, крикнет «грасиас». Фрукты, табак, кофе здесь очень дешевы… На час-два забываешь и постановки и все на свете у берегов Рио-де-Жанейро! Но корабль отчалил – снова мысли о главном, своем. Монтевидео – это обычный и очень забавный город. По-своему единственный. Сюда любой мог приехать без всякой визы. Убил? Ограбил? Не важно! Милости просим!.. На «Свадьбе Фигаро» я еще далеко не успела сосредоточиться, состояние у меня было растерянное. К Буэнос-Айресу подплыли ночью. Клемперер высился на пристани среди встречающих, как маяк. Рядом с ним двое черных мужчин с черными на верхней губе усиками и его жена Иоганна. Мы ступили на аргентинскую землю непривычной ногой – за шестнадцать суток поотвыкли от нее, земли-матушки. И очень устали. Вдруг Половинкина и баса Сальватора Баккалони (он тоже приехал выступать в «Театро Колон») люди в таможенной форме потащили в маленький домик и только через четверть часа вернули их нам. Досмотр, нет ли наркотиков и еще чего-либо запрещенного к ввозу, был проведен интересным способом. Баккалони ударили по очень мощному его животу двое из аргентинской полиции с вопросом:– Контрабанда?
– Но, натура, – спокойно ответил итальянский певец.
Половинкина, как русского, осмотрели, раздев чуть не догола и вывернув у него все карманы. Но он даже не курил, и карманы были абсолютно пусты… Клемпереры очень ласково меня приветствовали, довезли до гостиницы и оставили на попечение театрального директора или администратора – не знаю, кто был этот усатый. Несмотря на позднюю ночь, Буэнос-Айрес был шумен и весел. Из окон неслись звуки танго; масса огней на улице, светящиеся окна, фланирующие мужчины с темными, блестящими глазами и черными усиками, готовые пристать к женщине любого возраста, много автомобилей. Зима? Какая же это зима? Нежаркое, чуть дождливое лето! Гостиница, в которую нас привезли, была сорокаэтажной, похожей на мощную башню, она называлась «Галерея Гуэмэс». Рядом на игривом трехэтажном здании то и дело зажигалась и тухла электрореклама на нескольких языках: «Храм чистого святого искусства, только для мужчин». Половинкин расхохотался:– Представляю себе этот «храм»!
Администратор дал ему ключ от комнаты на тридцать шестом этаже, мне на шестнадцатом и удалился. Мы сели в лифт. Кабина помчалась, как бешеная, и через мгновение остановилась на сороковом этаже. Привыкнув к нашим тогдашним лифтам, мы были ошеломлены. Снова нажали кнопку «16» и через секунду были… в подвале. Оказалось, что нужно, поравнявшись с нужным этажом, мгновенно открыть дверцу, иначе прокатаешься снизу вверх и сверху вниз всю ночь. Мой номер состоял из двух комнат: приемная и спальня. Мы простились с Леонидом, и я легла на широкую двуспальную тахту, рядом с которой была дверь в коридор. Но я знала, если в двери торчит ключ (а это было), открыть ее с другой стороны нельзя, и была спокойна. К сожалению, аргентинки во имя сохранения прически не спят на подушках. Твердый валик под моей головой заставил поворочаться, но усталость пересилила. Проснулась от шума: кто-то уже несколько раз вставлял ключ в замочную скважину моей запертой двери, и, о ужас, мой ключ вывалился на пол, моя дверь открылась, и в двух шагах от себя я увидела усатого аргентинца в цилиндре и белом кашне, явно навеселе. В первую минуту он удивился, но вид молодой женщины в рубашке заставил его сделать шаг вперед; я собралась с силами, толкнула его к выходу, заперла дверь и услышала, как он, не удержав равновесия, упал за этой дверью. Спать, конечно, не могла. Утром пришел Леонид. Я ему все рассказала, он позвонил. По-испански Леонид немного говорил, аргентинское наречие он постиг довольно легко. Служитель в ярко-зеленом фартуке, с пышной черной шевелюрой и большими черными усами был очень колоритен. (Если бы я такого показала в своей постановке, все бы кричали – трафаретное представление об Аргентине, формализм, эстетизм!) Половинкин строго рассказал ему о безобразиях сегодняшней ночи. Аргентинец белозубо улыбнулся во весь рот и сказал приветливо:– Сеньорина напрасно испугалась – это не был чужой, это один из жителей нашей гостиницы. У нас во всех номерах одинаковые ключи, а господин хорошо покутил и ошибся номером. Вот и все. Это может быть и с вами, – подмигнул он Половинкину, который был ошарашен таким объяснением.
– Значит, в сорока этажах, по крайней мере, у двухсот обитателей, которых никто не знает, ключи одинаковые и каждый может… какая дичь!
Аргентинец не понял причин его гнева и продолжал улыбаться. Половинкин обегал все, что мог, и уже вечером мы переехали в скромный пансион, очень близко от «Театро Колон». Дом тоже походил на башню, но всего восьмиэтажную. Сняли для меня две смежные комнаты на втором, а для Леонида одну на четвертом этаже. Интересная манера у них строить высокие и узкие дома! Весь второй этаж занимали прихожая и мои две небольшие смежные комнаты (одна из них с пианино). У нас каждый этаж куда шире и вместительнее. Но я такой изолированности была очень рада. Придется начинать рабочий день ни свет ни заря; в башне соседей нет, и некому будет меня упрекать. Вечером того же дня мы пошли на спектакль в «Театро Колон». Здание солидное, каменное, сводчатые окна, колонны по фасаду. Мы прибежали на свои места в ложу бельэтажа, когда уже звенел второй звонок. Внутри театр красив и вместителен, большое зеркало сцены пока закрыто занавесом, мощный оркестр – музыканты, все в черных фраках, уже на своих местах. Но зрительный зал, зрители – никогда ничего подобного не видела! Соболь, норка, горностай – это какая-то выставка драгоценных шуб, палантинов, пелерин. В зал заходят не спеша, останавливаются и беседуют со знакомыми в проходах, явно демонстрируя со всех сторон себя и свои меховые изделия люкс. Уже третий звонок, открылся занавес, а дамы и сопровождающие их черные, усатые щеголи продолжают медленно двигаться проходам к своим местам. Леонид острит:– Верно, они не читали изречения «театр начинается вешалки» или совсем здесь нет вешалки, негде шубы оставить?!
В антракте между первым и вторым актом мы убедились, что вешалка была – вдруг весь зал преобразился: все дамы теперь предстали с обнаженными плечами, шеей, руками – для лучшей демонстрации своих бриллиантов, изумрудов, жемчуга, сапфиров… Из ложи бельэтажа партер выглядел сказкой из „Тысячи и одной ночи». За двадцать минут до конца спектакля публика начала уходить, и к концу осталось не больше трети зрительного зала. Все это оказалось не случайным. Владельцы абонементов в этом театре очень богаты, стоимость билетов предельно дорога – они сами себе создали своеобразный этикет поведения: являться «для шика» с опозданием, в мехах, оголяться ко второму акту, уходить – опять же «для шика» – до конца спектакля. Кстати, билеты и не могут здесь стоить дешево: каждый спектакль пройдет два-три, от силы – пять раз. Посещать «Театро Колон» могут только «избранные». Это, кажется, единственный театр в мире, который печатает фамилии не только артистов, но и… публики – абонементодержателей мест в партере и бельэтаже. Купила этот буклет – он сохранился у меня до сих пор. Кто же будет выступать здесь? Вот портреты: дирижеры Эрнст Ансерме, Отто Клемперер, Жорж Себастьян. Певцы: Карло Галеффи, Тито Скипа, Нинон Валэн, Лауриц Мельхиор, Жозефина Кобелла, Лили Понс, Фрида Лейдер и много еще. Балетмейстер Мигюэль Фокин (русский – Фокин Михаил Михайлович). Прима-балерина Ольга Спесивцева (в буклете она значится «Спессива»). Батюшки, мой портрет тоже здесь – где они его взяли? Подпись: «Наташа Сац». В «Театро Колон» нет своей труппы. Спектакли строятся целиком на гастролерах. Их выписывают со всех стран мира: прославился в Европе в роли Зигфрида – пожалуйте, контракт на пять спектаклей в вагнеровских операх, пойдут на немецком; для французской музыки – контракты со «звездами» Франции, итальянские спектакли – артисты главным образом из Милана. Каждый приглашен на исполнение определенных ролей из разных театров. Но как из этих разрозненных исполнителей создать ансамбль, единое целое? Для этого есть дирижеры, и притом знаменитые. А режиссеры? Разве они обязательны только в балете? Почему, кроме меня, не указан никто? Понимают ли здесь значение режиссера в оперном спектакле? Видимо, совсем не понимают. Если поет, скажем, Тито Скипа, все остальное уже не важно – публика заплатит, сколько бы ни стоило. А антураж к нему, естественно, надо подобрать подешевле, расставить остальных исполнителей на сцене так, чтобы они не мешали «звезде». И то сказать: Тито Скипа за спектакль получает три тысячи долларов! Первым я и видела там «Любовный напиток» Доницетти с его участием. Сколько драгоценных камней в партере и такая дешевая мишура на сцене! Все плоско, стандартные задники и мизансцены. В моем понимании, их никто и не искал. Трафарет. Статика. Общение партнеров? Об этом не стоит и говорить. Тито Скипа пел Неморино. Он уже был стар, а красивым он, верно, никогда и не был: что-то приземистое в фигуре, что-то обезьянье в лице. В любовном дуэте с Адиной он, как и во всех ариях, вышел на авансцену, встал против дирижера и запел, совершенно забыв о той, которой в данный момент объясняется в любви. О какой режиссуре, какой постановке можно было говорить?! Концерт Тито Скипа в театральном костюме, кстати, безвкусном, бархатном, с позументами! Но голос и в то время звучал у прославленного итальянского певца изумляюще! Чарующая красота звука, потрясающая сила, органически переходящая в нежнейшую кантилену, масштабность диапазона и вокальных выразительных средств, объемность каждого звука, одним итальянцам ведомая, и такие эмоциональные призвуки на верхних нотах, широта дыхания… Он так и остался лучшим из слышанных мною за границей теноров, и когда он пел, забывала, что это театр, находила целый мир в звуках его голоса. Но как только он умолкал, не понимала, зачем теряю здесь время… Во втором антракте вспомнила, что сегодня не обедала, и мы пошли в буфет. Оставшиеся четыре марки сменяли на местные деньги – два пезо, завтра обещали дать аванс – пока можно купить, наверное, два апельсина или банана (они здесь, верно, недорого стоят). С этой просьбой Леонид на испанском и обратился к буфетчику. Тот вытаращил глаза и переспросил:– Сеньор хочет купить в «Театро Колон» такую ерунду? – Он расхохотался и круто повернулся спиной.
В пансионе нам объяснили, что апельсины и бананы здесь так дешевы, что если подать нечто подобное нищему, он ударит по лицу. На следующее утро Леонид пошел на рынок и на пезо принес штук шесть ананасов и апельсинов. Мы сложили все это на бумаге на полу в углу комнаты: в большие вазы, стоявшие на столе, это изобилие «даров природы» не помещалось. В этот же день я подписала договор на постановку двух опер, получила аванс и, по своим тогдашним воззрениям, почувствовала себя богатой. В первую очередь, послала деньги в Берлин и просила сына Адриана поместить на три месяца в лучший пансион в лесу, в окрестностях Берлина. Там он волей-неволей заговорит по-немецки, так как по-русски некому будет с ним разговаривать, а узнать язык с детства – узнать навсегда, и это важно. Потом (о, бабье легкомыслие!) я купила дурацкий плюшевый костюм с мехом. То ли впечатления вчерашнего вечера ударили в голову, то ли название «зима», хотя климатически это было, как у нас в начале сентября, словом – купила. Явилась в этом костюме на первое совещание по будущей постановке в театр, и первым, еще на улице, в этом наряде меня увидел Клемперер.– Как вы находите мой новый костюм? – спросила я кокетливо.
– Это – катастрофа, – сказал он мрачно.
Я смеюсь и сейчас при воспоминании о выражении лица Клемперера, а название «катастрофа» так и осталось за этим костюмом, который за шесть лет пребывания у меня в шкафу был надет едва ли шесть раз. А стоил дорого! Вещи такие Аргентина тогда скупала по дешевке в Европе и продавала втридорога. Ну, ничего! Сколько трудного дела впереди – тут не до магазинов. Кто же выдумал пригласить меня сюда? Сеньора Санчес-Элиа, покровительница этого театра, жена одного из военных правителей тогдашней Аргентины. Она путешествовала по Европе в то время, когда прозвучала премьера нашего «Фальстафа». Ее восхитил спектакль, она удивилась, что совсем молодая женщина – режиссер этого спектакля (она видела меня на сцене, когда я выходила после спектакля на поклоны). Приглашая на гастроли Клемперера, сеньора Санчес-Элиа задумала хоть одну постановку сделать «в таком же духе». Своей внешностью сеньора Санчес-Элиа произвела на меня большое впечатление. Ее черные, очень длинные, гладко причесанные волосы, тонкие, как нарисованные художником, черные брови, длинные удивительно пушистые ресницы скрывали светло-серые глаза. Потом я видела довольно много аргентинок, и сочетание иссиня-черных волос, черных ресниц и светло-серых глаз меня уже не так удивляло – оно характерно для женщин Аргентины. Сеньора Санчес-Элиа оказалась европейски образованной, она мечтала, что когда-нибудь аргентинцы перестанут «покупать самое дорогое и нашумевшее в Европе для отдельных оперных спектаклей, попытаются создать свое искусство». На первом же совещании присутствовал большой и очень солидный заведующий постановочной частью из Германии Ганс Сакс (его портрет тоже был помещен в буклете). Ганс Сакс показал мне проект декораций для «Свадьбы Фигаро». Восемь вариантов готовых павильонов предлагала удивленному московскому режиссеру немецкая фирма декоративных изделий. Я оцепенела от ужаса. Как? Вместо того чтобы воплощать свой постановочный план, свое видение в том оформлении, которое мы создадим сами для нашего спектакля, этот ширпотреб? Ганс Сакс пожал плечами:– Здесь нет ни одного театрального художника. И зачем тратить силы и время на изготовление декораций, когда достаточно сообщить размеры сцены и мы получим первым рейсом все в готовом виде?! Не забывайте, это хотя и Южная, но – Америка, а не Москва. Время – деньги.
Клемперер чувствовал, что я могу сейчас «выйти из берегов», и, обращаясь к сеньоре, стал говорить о Станиславском, Вахтангове, о режиссерской – самой высокой в мире – культуре России, о моем театральном воспитании. Ганс Сакс, в полтора раза более высокий и в два раза более широкий, чем я, был нескрываемо возмущен моими «капризами», смотрел на меня как на козявку, притом и норовящую его зловредно укусить затратой лишнего времени. А я уже мечтала бежать отсюда – еще мне недоставало наспех склеить без стыда и совести нечто похожее на вчерашний «Любовный напиток» и, скрыв свой позор, ни за что получить большие деньги! Наступило тягостное молчание.– Идея! – воскликнула вдруг сеньора. – Недавно, окончив Парижскую Академию живописи, в Буэнос-Айрес вернулся аргентинский художник Гектор Бассальдуа. Он никогда не работал для театра, но если московская сеньора Наташа не жалеет сил и времени, если у нее есть и педагогические способности, если… очень много «если» будут ею преодолены…
Я подхватила эти слова быстро и горячо:– Постараюсь это сделать. Помогать росту национального искусства – наша задача везде и всегда, а идти по линии трафарета – нет, мне не подойдет.
– Ото! – сказала сеньора, когда я, красная от волнения, соскочив с места, выпалила это. – Я понимаю теперь сеньора Клемперера, когда еще в Берлине он говорил мне о темпераменте и воле молодой русской.
Ганс Сакс удалился, сделав общий поклон, сеньора взглянула на свои золотые часики и, протянув красивую руку, сказала, что муж уже приехал обедать и ждет ее на вилле в Палермо, и мы с Клемперером и не менее противными, чем Ганс Сакс, службистами стали договариваться о количестве репетиций и составе исполнителей. Через пять дней все они будут здесь. Фигаро – Александр Кипинс (США), Сюзанна – Мария Райдль и Керубино – Делия Рейнгардт-Себастьян (Германия), Граф Альмавива – Карло Галеффи, Графиня – Жозефина Кобелли, Дон Базилио – Луиджи Нарди, Дон Бартоло – Сальватор Баккалони – эти четверо из Италии, но из разных оперных театров. Есть еще француженка и испанец.– Каждый из них не только в своем городе – в Европе имел большой успех в той роли, на которую приглашен сюда, – сказал Клемперер успокоительно. – Много репетиций вам не понадобится.
Да, но ведь мы устраиваем не ярмарку, а хотим создать единый, новый, наш спектакль. То, что они эти роли уже исполняли, то, что каждый привык быть гастролером, имеет в своей роли накатанные штампы, с моей точки зрения, не плюс, а большой минус. Мне понадобится не меньше сорока репетиций. Запланируем сорок, и пусть в запасе будет еще пять.– Будьте благоразумны, Наташа, здесь никто на это не пойдет. Тут ценятся прежде всего певцы. И что у вас за манера перегружать себя заботами.
– А почему вы, почему Тосканини требуете себе репетиции? Вам есть что сказать, поэтому? Одному дирижеру пятнадцать репетиций мало, а другому и пять много – ему нечем это время заполнить. Так и режиссеру. А если я не могу отдать все, что должна творчески, из-за того, что все здесь куда-то спешат (хотя и лени здесь, верно, от жаркого солнца в избытке), зачем меня отрывали от моей ясной московской работы?
Все считают, что Клемперер – трудный человек, побаиваются его даже, а я ничуть. Он же художник – должен понять все и, если уважает, должен помочь. С кряхтеньем и неудовольствием всех присутствующих создали репетиционный план, вместив «пока» двадцать восемь репетиций на сцене, а во время спектаклей еще и в классе.– Для них это неслыханно много, – повторял Клемперер.
Ушла я очень огорченная. Но на огорчения время тратить тоже нельзя было и некогда. Значит, с дирижером и артистами немцами будут объясняться по-немецки – это смогу, петь будут по-итальянски – надо понять глубокий смысл каждого слова, фразы-переводы всегда не точны – главное, приналечь на итальянский, чтобы понимать все, что они поют, и направлять их сценическое поведение; объясняться с итальянцами буду по-французски. Французский немного знаю – срочно улучшить. Еще одна трудность – технический персонал и массовые сцены (дирекция театра думает обойтись без них – как бы не так). Придется хотя бы самые главные слова для работы выучить по-испански. Ну а думать буду по-русски. Пять языков зараз – не так много. В каждом городе Запада есть курсы иностранных языков Берлица. Договорилась на месяц. Конечно, продолжалась большая собственная работа по постановочному плану – клавир звучал часа по четыре ежедневно под пальцами Леонида, по ночам вскакивала и бежала к пианино сама, подолгу работала, споря за роялем с Клемперером. Для меня «Свадьба Фигаро» не только Моцарт, но и (в первую очередь) Бомарше. Французская революция, поднявшая чувство собственного достоинства третьего сословия, борьба «не на жизнь, а на смерть» с феодалами, в частности, их обычаем права первой ночи, свободолюбие, увлекающее за собой народ, – пусть меня простят, в звуках музыки Моцарта мне иногда мешала грация, чувство стиля того времени взамен бушующих классовых страстей. Клавесинность оркестрового звучания подчас не давала мне передать динамику органичной французской революции, борьбы, которая была для меня в данном спектакле ведущей. Мы спорили в ряде мест с Отто, стремясь точно договориться еще до начала работы с актерами. Красивый ли город Буэнос-Айрес? Не знаю, я его почти не видела. Только один раз за все время пребывания в Аргентине мы с Леонидом поехали на Коста-Нера – пляж около реки Ла-Плата, на которой стоит Буэнос-Айрес. Увидела там пальмы, удивительных попугаев: одно крыло васильковое, другое оранжевое или одно рубиновое, другое изумрудное; узнала, что аргентинцам легко заниматься торговлей фруктами, а особенно скотоводством – климатические условия и почва помогают; что летом здесь невыносимая жара, не все женщины переносят, а женщина здесь большая ценность, даже есть поговорка: «Женщину и вино держи в подвале: могут отнять». Заметила – лень и желание легкого заработка в избытке: в кафе сидит за столиком аргентинец, подсаживается другой, и они безмолвно бросают кости – потом расплачиваются. Кости носят в карманах все посетители кабачков. Но мало, очень мало трудовых людей я могла видеть – жила в своей башне и театре против нее, видела только тех, с кем связан спектакль. Мой художник Гектор Бассальдуа по внешности ничем не отличался от черноглазых, усатых аргентинцев, которые все мне казались похожими друг на друга. Но Бассальдуа был человеком любопытным ко всему новому в искусстве, он умел вбирать чужое и превращать его в свое, искренне интересовался театром, хотя и очень мало знал его. Он хорошо говорил по-французски и вообще легко меня понимал. Мои мысли о противопоставлении скромности коридорно-служебных помещений, где живут слуги, роскоши шелковых диванов, позолоте овальных зеркальных рам в графских покоях, красивых сильных чувств людей из народа элегантной развращенности графа, о приходе на свадьбу Фигаро не наряженных пейзан, как это часто бывает в оперных постановках, а людей, надорванных непосильным трудом, часть из которых стала из-за этого калеками, людей, которые готовы не на жизнь, а на смерть бороться против угнетателей, мстить графу и его приближенным за загубленные жизни, – мое желание показать яркие контрасты и правду той эпохи, которая породила «Свадьбу Фигаро» Бомарше, – все это увлекло Бассальдуа. Я говорила с ним и о важности решения пола сцены, о нахождении тех вертикалей, без которых трудно построить действие на сцене, рассказывала и даже рисовала ему декоративные решения моих любимых театральных художников и архитекторов, с которыми много работала в Детском театре, – Вадима Рындина и Георгия Гольца, об интереснейших макетах художника Кролль-оперы Эвальда Дюльберга, устанавливавшего свет в «Летучем голландце» по партитуре Вагнера и достигавшего поразительной гармонии света и музыки даже в ее инструментовке. Бассальдуа был станковист, театр с его трехмерностью, сценическим действием, музыкальный театр с его зависимостью от музыкального воплощения идей – все это надо было помочь ему освоить с азов. Но работа шла, а когда мы принесли готовые макеты, сеньора Санчес-Элиа и другие руководители посмотрели на меня с большим удивлением.– Таких результатов мы, признаться, не могли ожидать. Вы можете гордиться, что помогли рождению первого аргентинского театрального художника. А сам Бассальдуа держался более чем скромно и забрасывал меня цветами таких комплиментов, которые мне и повторять неудобно.
Надо отдать справедливость Гансу Саксу: когда он понял, что спорить бесполезно, выполнил макеты и костюмы так быстро и организованно, как далеко не во всех театрах умеют. Однако репетиции не начались и через шесть дней. Мои артисты вовсе к ним не рвались, а я, в клетчатом пальто, с видом земляного жучка, не вызывала у них никакого интереса. Голос певца, личный успех, самопоказ, спектакли, за которые получают, исходя из того, сколько раз они пропели, – вот что здесь ценили. Режиссер – пустой звук, за репетиции не платят… Беречь голос, голос – это все. В Кролль-опере была совсем иная культура, чувство нового, общее дело, за которое многие болели. Здесь – удобное место для добавочных заработков «звезд». А как они были одеты – эти «звезды»! Еще лучше, чем публика в партере. Меха, бриллианты… У певиц были при себе муж и администратор, главной задачей которых было всемерно раздувать их прошлые, настоящие и будущие успехи, какой угодно ценой добиваться, чтобы имя именно данной и никакой другой «звезды» не сходило со столбцов ежедневных газет. Господин Понс то выдумывал историю о похищении пятикаратных бриллиантовых серег Лили Понс, то сообщал, будто он нанял детектива, так как его известили, что будет похищена она сама… Казалось бы, при таком чудесном колоратурном сопрано, хрупкой фигурке и мастерстве пения, как у Лили Понс, к чему все эта дешевка, тем более что супруг другой примы – Жозефины Кобелли неустанно разоблачал в той же аргентинской печати лживые происки господина Понса? Нет, они верили только в рекламу, деньги и голос. У обеих примадонн были артистические аппартаменты – по три большие комнаты с ванной. У певцов-премьеров тоже роскошные условия. На что я им сдалась? Мучить их драгоценные голоса? Тито Скипа, хотя и не был занят в моем спектакле, один из первых заговорил со мной:– Понравился ли я русской сеньоре в «Любовном напитке»? – спросил он приветливо. – Мне сказали, что уже в день приезда вы слушали меня, и мне это было очень лестно.
Я совершенно искренне восхитилась его пением, но он спросил: «А как сценически?».– А вам можно сказать правду, вы не обидитесь?
– Итальянцы – самый веселый и простой народ. Мы не надуты чванством, как англичане и немцы. Прошу вас, говорите.
– Разве можно объясняться в любви и даже не смотреть на ту, которой вы о своем чувстве говорите, не приласкать ее, не поцеловать, не взять за руку, ну, как угодно, но не попытаться протянуть к ней нить своего чувства? Мне кажется, ни в жизни, ни в искусстве это невозможно. Ваша партнерша чувствовала себя такой одинокой, когда вы пели в отрыве от нее на авансцене.
Тито Скипа рассмеялся:– Неужели вы бы хотели, чтобы всю любовь, выраженную в таком голосе, как мой, я хоть на минуту отдал бы одной невзрачной женщине, и притом партнерше? О, это совсем не мой масштаб. Я воспеваю в этот момент всех женщин, сидящих в зале, всех женщин этой страны, может быть, всех женщин мира. Я воспеваю любовь во всем ее титаническом масштабе – для этого, только для этого природа дала мне такой голос. И пусть каждая сидящая в зале женщина принимает мое любовное объяснение на свой счет, пусть у нее в ответ на мои звуки загорятся глаза и надежды, я слишком благороден, чтобы вызывать ревность всех, обращаясь к одной женщине. У нас разное понятие о масштабе правды, сеньора. Правда должна быть огромной, как льющиеся звуки оркестра и, прежде всего, как мой голос.
Несмотря на разногласия, мы расстались дружелюбно. Вообще с итальянцами я как-то скорее нашла общий язык. Они веселые, легко возбудимые, скорее увлекаются сценой, импровизацией. Карло Галеффи тоже был уже в возрасте, но сохранил благородную красоту. Голос еще звучал прекрасно. Вот только коварства, инициативы зла, воли к греху графа Альмавивы ему не хватало, а без этого… повисает в воздухе основное, что держит контрдействие. Голос Жозефины Кобелли был в самом расцвете своего звучания. Слушая ее, ни о чем не хотелось думать, только слушать и слушать. Но графиня, несчастная графиня полюбила Керубино… Кобелли не вдумывалась в ситуации, ее эмоции не были оправданны – звуковая вибрация и ноты были единственным, что ее интересовало. Поразительно, увлекательно действовали на сцене Луиджи Нарди – дон Базилио – подвижный, острый, маленький; Сальватор Баккалони – Бартоло – огромный, круглый, с заливающей все лицо улыбкой в жизни и совершенно меняющийся в роли. Однако актер-комедиант «просвечивает» в злодее, и в этом подлинное обаяние актера, который сродни комедии дель арте. Очень «на своем месте», грациозна и музыкальна была в роли Керубино Делия Рейнгардт, певица и артистка тонкой культуры. Мария Райдль прекрасно пела, была хороша собой, но изюминки, озорства, горячности Сюзанны у нее не было. Надо было это искать и найти. Две беседы за репетиционным столом, когда пели и беседовали с ними о том, как они видят сценические образы и характеры своих героев, убедили меня: их голоса были куда «умнее» их самих. Мария Райдль, спев больше двухсот раз Сюзанну во всех странах мира, даже не дала себе труда подумать, к кому она обращает свою последнюю арию – Фигаро или графу. Бездумного выведения нот было куда больше, чем я могла предполагать. Но заставлять их думать было нелегко, и надо было начать с индивидуальных занятий. Скорее, чем хотелось бы, пришлось искать образ в пластическом выражении, сочетая это с внутренними задачами. Итальянцы легче соглашались петь лежа, сидя, повернувшись в профиль, им понравилась сценическая площадка с лестницами, вещами… Наибольшее сопротивление на первых репетициях оказал мне Кипинс. Он не желал на все это тратить время, предпочитая чистый воздух Коста-Нера затхлому воздуху театра. Он требовал, чтобы я узнала все его привычные мизансцены, небольшие трюки и, когда он поет, «увела подальше остальных действующих лиц, чтобы они ему не действовали на нервы». Причем, если с остальными артистами я могла думать, что чего-то недопонимаю, Кипинс дерзил мне на чисто русском языке, но говорил со мной в таком тоне, который был понятен всем и всех разлагал. Удалить его резко с репетиции? Я здесь не была хозяйкой, да и кто согласится порвать с ним из-за этого контракт, аванс по которому давно уплачен… Когда я ставлю спектакль, я совершенно точно знаю, чего хочу и по внутренней линии и по мизансценам, вижу пластическое выражение каждого образа в сочетании с исполнительскими данными артиста и отступить уже не могу. Я очень вежливо попросила Кипинса несколько дней погулять по берегам Ла-Платы вместе с его очаровательной женой, а когда я подработаю постановку с остальными – не раньше чем через неделю, – явиться «для окончательных выводов с обеих сторон». Моя выдержка и чувство собственной правоты несколько его удивили – я повторила на всех известных мне языках:– У господина Кипинса, по его словам, плохо с горлом, пусть он побережет голос, а мы на несколько дней обойдемся без него.
Дублеров там не было. За Фигаро действовала прежде я сама, потом «в порядке выращивания местных кадров» стала вызывать очаровательного юношу-аргентинца из хора, со средним баритоном, но сценически способного и поразительно к этой роли подходящего. Как-то Кипинс зашел посмотреть репетицию и… уверовал, что спектакль получается интереснее тех, в которых он до сих пор играл.– Я это… погорячился, – сказал он мне небрежным тоном и, одной рукой «отодвинув» аргентинца, другой взял у него щетку, чтобы продолжить чистку пелерины графа Альмавивы. С этого дня Кипинс не подпускал к сцене ни в чем не повинного юношу и ежедневно репетировал сам.
Постановочная часть быстро выполнила наш заказ, готовые декорации понравились артистам и заставили их действовать в предлагаемых обстоятельствах, далеких от трафарета. Общие и индивидуальные репетиции приходилось чередовать, все время разнообразить методы воздействия, часто разрешать репетировать «без голоса» (это для оперного режиссера – пытка, капризы певцов, их примат «сбережения голоса» известны во всем мире). И, как бы то ни было, появился творческий контакт, родились общая жизнь оперы, комедийно-действенное начало вместо концерта в театральном костюме каждого певца в отдельности. Помогли интересные костюмы, сделанные нами вместе с Бассальдуа и портными со знанием индивидуальности фигуры каждого исполнителя и характера сценического образа. Очень помогал мне своим авторитетом Клемперер, хотя иногда его излишняя горячность и портила дело. Так, красавец реквизитор Рафаэло Тераньоло на мой вопрос, когда будут готовы подушки для сцены у графини, ответил чарующе приветливо:– Маньяна, сеньора.
Я уже знала, что «маньяна» значит «завтра», и успокоилась. Назавтра он тем же тоном ответил:– Маньяна, сеньора.
Так продолжалось четыре, пять, семь дней. Когда об этом от артистов узнал Клемперер, он так за меня обиделся, что начал махать своими длинными руками, кричать, хватать стулья, даже хотел выбросить один из них в окно. Аргентинский реквизитор молча вышел из комнаты, и на мои репетиции перестали подавать какой бы то ни было реквизит.– О, аргентинцы – гордый народ. Они не позволят на себя кричать, – сказал администратор.
Пришлось теперь мне… улыбаться ленивому реквизитору, «совершенно случайно» идти с ним после репетиции в сторону от моего дома под видом каких-то дел и чуть ли не просить у него прощения. Потом… я купила на свои деньги какие-то подушки (они были нужны мне для мизансцен, артисты должны были привыкнуть играть с ними). Как я не догадалась сделать этого раньше! Вот тогда у Рафаэло заговорило подобие совести:– Но у русской сеньоры не так много пезо, чтобы приобретать реквизит для театра! – воскликнул он «рыцарски», и искусно им сделанные подушки наконец появились.
На генеральную репетицию приехала сама сеньора Санчес-Элиа с мужем. Успех нашей работы она относила на свой личный счет – ведь это она была инициатором моего приглашения в «Театро Колон»! Муж неустанно говорил ей комплименты, Клемперер радовался сценическому успеху даже больше меня, хотя в «Фальстафе» наш творческий контакт с ним был теснее, глубже. Вдруг сеньора Санчес-Элиа сдвинула брови:– Да, но в постановке есть и серьезные недостатки – я не допущу, чтобы она шла без исправлений. – Ее муж, руководитель какой-то там военной хунты, был восхищен повелительной воинственностью ее тона. Сеньора добавила резко:
– Все подушки в комнате у Розины безвкусны – приказываю их заменить.
– Это невозможно, – сказала я, – через два дня премьера – реквизит здесь делают очень медленно.
Сеньора снова сдвинула брови, и в светло-серых глазах засверкали мохнатые чертики, прыгающие черные точки.– Вы недооцениваете мои возможности, сеньора Наташа! Завтра утром я сама пришлю вам из Палермо то, что надо.
Так она до конца доказала свою руководящую роль, а многострадальные подушки вернулись к опечаленному Рафаэло. Не будем преувеличивать его страданий. Аргентинское солнце оставило ему здоровье, красоту и лень, лень сладостной истомы, лень, сберегающую силы совсем не для работы. Утром с виллы сеньоры из Палермо мы получили такие диванные подушки, которым могла бы позавидовать не театральная, а настоящая графиня. Они совсем не были нужны в реквизите театра, но… спорить из-за этого, конечно, не стоило. Мы с Клемперером и артистами весело смеялись: нам ясно доказали – нами мудро руководили! Что было дальше? Много всего. Позвольте, я напишу об этом не «воспоминания» (все же 60 лет прошло), а словами, которыми выразила все это тогда. Случайно сохранились мои письма маме из Буэнос-Айреса. Вот они. «Буэнос-Айрес, VII, 1931 г. Дорогая мама! Пишу – спешу. Предпремьерное настроение усиливается. Кто болен, кто скандалит, кто отчаивается, кто ругается… Словом, обычный для всего мира «предпремьерный букет». Уже подумываю, когда же смогу передохнуть, только… скоро вторая постановка, и вместо «Кавалера Роз», которого уже знаю наизусть и для которого у меня найдено режиссерское решение, пойдет… «Кольцо Нибелунгов» Вагнера! Лучше сейчас ни о чем таком не думать. Одна цель – наша премьера, наша «Свадьба Фигаро»». «1931 г., VIII. Дорогая мама! Пишу письмо, с трудом выводя слова (по-французски? испански? немецки? по-итальянски или по-русски? Этот вопрос изрядно прогвоздил мою голову!). Очень устала. Сегодня в шесть часов праздник по случаю отъезда знаменитого Эрнста Ансерме в Париж, но, право же, идти невмоготу. «Фальстаф» был мне труден, но в сравнении с «Фигаро»! Последние недели некогда было спать днем, а ночью по привычке… зубрила какие-то иностранные слова. Но вчера была премьера. Успех большой. Артистов своих «мировых» я завоевала – это они сами кричат, публика была в восторге, и ни один человек не ушел до конца спектакля – случай здесь еще небывалый. Пресса прекрасная, даже лучше, чем после «Фальстафа» (не сердись, родная, я не задаюсь и понимаю, что это просто случай), но если там писали «Первая женщина – оперный режиссер Европы», в сегодняшних здешних газетах подзаголовки «Первая женщина – оперный режиссер мира». Главная газета Буэнос-Айреса пишет, что «соотечественница А. А. Санина и А. Н. Бенуа внесла в спектакль столько жизни, столько движения, выразительности, натуральности! Спектакль глубоко психологичен, как это бывает только в драме. Этой постановкой русская художница создала новую эпоху в искусстве оперы». Понимаешь, мамочка, этот спектакль – эпоха! Ну, не сердись, пожалуйста, мне же самой это неловко писать, а не писать? Тоже ведь нельзя, кому же как не тебе и… похвастать. Зато одна газета мне доставила удовольствие, без ненужных преувеличений простая хорошая формулировка: «Эта русская сочетает в своей постановке фантазию интересных находок… с железной логикой. Всему происходящему на сцене веришь. В опере это бывает так редко…» А артисты все везде – капризные, балованные и… наивные дети. Теперь смотрят на меня так кротко, ласково – это после успеха. Да, трудно мне было. Единственным своим достижением, по правде говоря, считаю, что не бросила, довела до конца. У многих еще многому научилась, еще больше влюбилась в поющие голоса поющих людей. Какая это огромная сила! На работу с Клемперером в обрез было времени: не забывай, сколько еще сил выхватил итальянский. Должна же я была хоть научиться следить, что люди в моей постановке говорят. Ну, да ладно… Почему Московский театр для детей не пишет? Привет им!» «30 авг. 1931 г. Спасибо, родная моя, за письма! Очень много радости и теплоты чувствовала, их читая. Я немножко передохнула и взялась за новую работу. Помогаю Клемпереру ставить «Кольцо Нибелунгов», сиречь четыре оперы. Учу сейчас первую сцену III акта «Валькирий». Одновременно меня просят ставить «Орфея» Монтеверди. Итак, запутанных «Нибелунгов» на старонемецком пополнил старинно-итальянский язык. Но неожиданно для себя увлеклась оперой Монтеверди, и планы в голове роятся увлекающие. Тут оказалось, что дирижировать «Орфеем» будет не Клемперер, а его не устроит, если я буду работать здесь с другим дирижером, и обижать его, конечно, не могу. А жаль… в голове роится интересное. Получила предложение подписать новый контракт на октябрь – ноябрь за большие деньги, но наотрез отказалась. Очень скучаю по Москве, семье, своему театру, детям. Аргентинский директор удивился: «Почему вы не хотите остаться? Разве в Москве вам платят больше?» – «Нет. Мне платят тем, что для меня важнее и дороже». Да бог с ними! Устала даже от писания этого письма. В середине сентября делаю доклад в местной Академии о путях современной оперы. Очень ответственно. 30 сентября есть корабль в Европу «Сиерра Кордоба». Финита, финита. Целую». После «Фигаро» я стала «модная знаменитость нарасхват». Заточенная в башню-пансионат и стены «Театро Колон» – конечно, добровольно самозаточенная, – теперь я чуть не превратилась в светскую даму. Был прием в честь выдвижения аргентинцев (Гектора Бассальдуа и «молодого Фигаро») русской Наташей у сеньоры Санчес-Элиа в Палермо – прошел приятно, был торжественный обед у мэра города Буэнос-Айреса. Только я там «осрамилась». За большим круглым столом масса закусок из разного мяса, дичь, рыба, вина, но все глядели на меня, точно я и была самая здесь редкая дичь. Слышалось: «Какая молодая»; «А может, это не она оперу поставила, а кто-нибудь за нее»; «Смотрите, какая прическа». Прически никакой не было, была после мытья лохматая, курчавая голова, по-испански я уже понимала больше, чем они думали, и чувствовать себя зверем в клетке было противно. От смущения, что ли, я завязала себе сзади, как в детстве, салфетку. Все глаза вонзились в меня, а хозяйка дома спросила:– В Москве все так делают? Не помню, что я в ответ пробормотала. Потом начались дурацкие разговоры. Узнав, что я давно замужем, что у меня сын и дочь, хозяйка дома закричала;
– Кто же ваш муж? Певец? Музыкант?
Я ответила:– Он – торговый представитель Советского Союза в Берлине.
– Торгпред? – спросил хозяин дома и даже встал со стула. Я совсем забыла, что недавно из Аргентины выехало наше торгпредство, и слово «торгпред» им казалось неизвестно почему угрожающим.
– Он… коммунист?
– Да.
Нет, меня больше не задерживали на этом обеде. Когда заспешила домой, догадалась о всеобщем вздохе облегчения. Что же они раньше не спросили? Ведь у меня даже паспорт, как у жены Попова, был дипломатический. Доклад в Академии искусств был выслушан с интересом. Я назвала костюмированным концертом наиболее распространенные сейчас в Европе оперные постановки, говорила о взаимоотношениях музыки, сюжета, сценическом действии, говорила о Станиславском, Марджанове, Мейерхольде, Лапицком, Рейнгардте, о Вагнере, Верди, Мусоргском и Чайковском – многое, что оказалось интересным собравшимся людям большой культуры. Клемперер очень меня хвалил. Тито Скипа сказал, что теперь он понял и полюбил «русскую сеньору», и подарил мне трогательную живую обезьянку с грустными глазами и белыми бровями, Галеффи и Баккалони притащили голубого плюшевого мишку… Но жизнь снова вошла в обычную колею. Зигфрид – Лауриц Мельхиор – голосом, специально для вагнеровских опер созданным самой немецкой природой, очень поднимал мою творческую энергию. Однако оказалось, что эскизы костюмов никто не делает, и я пригласила господина Ганса Сакса. Его кошачьи глаза были дополнены третьим, воткнутым в ослепительный галстук. Он заявил, что эта постановка создается не заново, а возобновляется, устраивать люкс-затраты, как для «Фигаро», никто не согласится – словом, между строк Сакс излил на меня желчь, которую припас уже давно.– Какие могут быть выдумки и эскизы? Карлик Миме будет одет так, как всегда одеваются карлы.
– Что значит, как всегда одеваются? У них что – униформа, как у прусских солдат? Но ведь и униформа меняется!
– У милостивой государыни желание спорить, но я немец и, как должен быть одет немецкий карлик, знаю с тех пор, как вкусил молоко из груди своей матери. – Господин Сакс удалился, слегка склонив голову.
Рутина! Непреодолимая рутина! Ну зачем им творческие люди, режиссеры, художники, поиски нового?! Хорошо еще, что я успела наотрез отказаться ставить свою фамилию под этими «Нибелунгами», даже как режиссер-консультант, хотя работу провела большую, особенно с певцами… Тридцатого сентября на корабле «Сиерра Кордоба» мы отплыли в Москву. Аргентинцы – хористы и технический персонал – прощались с нами, как с родными. «Руководящие» проводили без тепла – не оценила их приглашения. Причалив к берегам Рио-де-Жанейро, услышала юношеские голоса: «Э вива Наталия русса». Ко мне подбежали две девушки и четыре молодых бразильца с цветами. О, они равняются на «Театро Колон», ездят на его спектакли, читают аргентинские газеты. Они так рады, что правда жизни прорвалась в рутину оперного искусства, что они видят новую женщину из Москвы… Радостно и… неловко все это пересказывать. А забыть нельзя. Много, очень много альбомов с газетными вырезками пропало у меня, а вырезку из газеты Рио-де-Жанейро, мой портрет, который там напечатали, жалко, очень жалко было потерять. Потом был сон, отдых, жалобные гудки сирены нашего корабля во время частых туманов. Оказывается, дорога для кораблей в океане «узкая» и во время тумана сирену прикрепляют к часовой стрелке: сорок пять секунд тишина – пятнадцать секунд завывание сирены, чтобы кто-нибудь на нас не натолкнулся. Это в могучем-то Атлантическом океане! В гавани Бремен меня встречали муж и сын Адриан. Пир я им задала в Бремене «на весь мир».– Мама теперь совсем не говорит: «Это стоит дорого, это нельзя», – ликовал Адриан, съедая в лучшем ресторане все, что находил на карточке.
По-немецки к этому времени он уже говорил так, что, когда я сказала: «Это мой сын», мне возразили:– Этот мальчик говорит, как настоящий немец, а вы… простите, русская.
Леонид тоже порадовал меня: оказывается, всю оркестровку балета «Мы – сила» он закончил на «Сиерра Кордоба», и выпуск этого спектакля в Московском театре для детей состоится по плану, в срок. В Берлине всех моих дорогих одела, обула. Но роскошный немецкий велосипед у Адриана быстро украли. Большие мои заработки разошлись нелепо, по мелочам, и забыли мы о них. Хорошо, что не подписала еще контракта – не живут в нашей семье деньги! Снова дома «Когда ж постранствуешь, воротишься домой. И дым Отечества нам сладок и приятен!» Да, ты был прав, Чацкий! Вернувшись поздней осенью 1931-го в Московский театр для детей после «Фальстафа» в Кролль-опере и постановок в «Театро Колон», я еще теплее и органичнее чувствовала себя дома, еще больше любила самых горячих и непосредственных зрителей – детей. Нет! Ничто не заменит режиссеру театра, который он считает своим, артистов, которые творчески росли на его постановках! Это подобно стремлению увидеть, как на посаженных тобою растениях появились листья из почек, цветы из бутонов. Ведь главное для режиссера – довести общее дело до радостного цветения. Казалось, какой-то всемогущий выдумщик, притаившись на дорогах моей жизни, нет-нет да и подбрасывает мне сюрпризы, более удивительные, чем многие сказки. Неожиданные встречи, чудесные путешествия… И как хорошо, что путешествия и работа «там» помогли еще больше полюбить возможности творчества «здесь». А главным в моей жизни всегда был Московский театр для детей. Теперь у нас уже давно собственная труппа. Она ежегодно пополняется по открытому конкурсу в начале сезона. Приток желающих очень велик, но попадают немногие: у театра монолитный артистический коллектив, одаренные артисты спаяны общими задачами, любовью к своему зрителю. А задачи совсем не легкие. Особенностью производственной работы в нашем театре было стремление разносторонне использовать возможности каждого артиста, расширить его творческий диапазон. Ограничение рамками определенного амплуа, творческие самоповторы мы считали явлением нежелательным, даже когда это и связано с успехом. Раньше нередко мужчин-актеров делили на «героев» и «характерных». Но может ли быть «бесхарактерным» герой? Кому такой «герой» нужен? Из моих постановок «после путешествий» большой успех выпал на долю пьесы Н. Шестакова «Брат». Она была драматургически интересна… В период гражданской войны скромная семья – мать, отец и два мальчика-близнеца – оказывается в Одессе. Через несколько лет мы видим мать – директора фабрики-кухни и комсомольца Виктора, энергично работающими в Москве, а отца и сына Сергея, живущими при эмигрантском ресторане в Париже. Очень интересно и разнопланово играл братьев-близнецов Михаил Ещенко. Как он творчески вырос за годы работы в Московском театре для детей! В третьем акте на сцену выбегала девчонка в ситцевом сарафане и приветствовала юбиляра-повара частушками «собственного сочинения». Она пела и плясала минуты три, после этого зрительный зал долго бушевал, требуя повторения. Не может изгладиться из памяти дарование Клавдии Кореневой ни у кого, кто хоть раз ее видел. Отец-лакей – Алексей Несоныч, повар Федор Иванович – Евгений Васильев, мадам Мари – Регина Лозинская… Как хочется назвать тех, кто все свои силы, талант, всю жизнь посвятил театру наших детей. Очень большой успех выпал на долю нашего театра после постановки пьесы В. Любимовой «Сережа Стрельцов». …Урок литературы. Идет обсуждение «Мцыри» М. Ю. Лермонтова. Споры, разные мнения, но Сережа не допускает никакой критики любимого произведения. Ему кажется, что он сам похож на Мцыри, на многих лермонтовских героев. В семье у Сережи разлад: мать поссорилась с отцом, уехала, оставила сына. Личные переживания Сережи переплетаются с огромным общественным событием – спасением челюскинцев с дрейфующей льдины. Пьеса была написана мягко, просто, правдиво. Она вызывала абсолютное доверие зрителей. Когда шел этот спектакль, казалось, линия рампы исчезала: и в зале и на сцене – школьники, которые дышат одной грудью, понимают не только поступки, слова, но чувства и намерения друг друга. В 30-е годы много талантливой артистической молодежи подметил наш театр, многих композиторов, художников, балетмейстеров увлек творчеством для юных. Тихон Хренников, Вадим Рындин, Дмитрий Кабалевский, Эмиль Мэй… Конечно, в первую очередь растущая популярность спектаклей нашего театра, любовь к нему зрителей, признание общественности и прессы помогают добиться большого: в нашем помещении по вечерам нет никакого кино – идут наши спектакли для старших школьников. Как ни велики были доходы от кино «Арс», Московский Совет, убедившись, какое нужное дело мы делаем, все мешавшее детям и их театру ликвидировал. Весной 1933 года товарищи задумали отметить пятнадцатилетие моей работы. Очень порадовал большой фельетон в газете «Известия», написанный таким интересным и уважаемым детским писателем, как Лев Кассиль. Кончался фельетон в «Известиях» так: «Театр Н. И. Сац шагает в передовой шеренге современного искусства. Н. И. Сац – не только организатор-педагог, но и талантливый режиссер. Ее постановка «Фальстафа», сделанная совместно с известным дирижером Клемперером в Государственном берлинском оперном театре, или постановка «Свадьбы Фигаро» в «Театро Колон» в Буэнос-Айресе имели шумный успех. Тут многие удивятся: «Чего же она торчит в Детском театре?» Да, надо любить свое трудное дело, надо любить эти застывшие внимательные мордашки, согретые отсветами рампы, вскрики и реплики общительного зала, высокий звук аплодирующих детских ладошек… А Наталия Сац любит это. Она всю себя отдает первому в мире театру коммунят, театру маленьких граждан рабоче-крестьянского государства. Сейчас мы отмечаем пятнадцатилетие прекрасной и нужной стране работы. Юбилей – вещь утомительная и тягостная. Но Наталии Сац пятнадцатилетний юбилей отнюдь не сообщает ничего грустного, завершительного. Это – совсем еще не вершина, не перевал, за которым начинается спуск. Это – только пятнадцать лет первой работы в области театрального искусства для детей, это – факт огромной и радостной значительности для всех, кто любит наших ребят. Юбилей – это может случиться с каждым. Но такой юбилеи, как у 29-летней Наталии Сац, может быть только у нас, в СССР, потому что только революция открыла занавес первого в мире театра для детей» [20] . Много теплых приветствий было получено от других театров и общественных организаций, но самым главным событием этого дня было письмо от Константина Сергеевича Станиславского. «Дорогая Наталия Ильинична! Московский Художественный академический театр Союза ССР им. Горького сердечно поздравляет Вас с Вашим молодым юбилеем. Старики МХАТ хорошо помнят Вас еще ребенком – в те дни, когда замечательный талант Вашего отца вносил столько свежести и остроты в наши спектакли. Поэтому с особой радостью и дружбой мы приветствуем Вашу молодую энергию. Вашу талантливую и добросовестную работу, которые помогли Вам создать и вести такое нужное и ответственное для нашей страны дело, как детский театр. Мы верим, что у прекрасного начала Вашей жизни должно быть такое же прекрасное и талантливое продолжение, которое обеспечит руководимому Вами театру расцвет его деятельности. Директор МХАТ Союза ССР им. Горького Народный артист республики К. С. Станиславский». Да, казалось, начали сбываться самые смелые мечты. Мы в помещении одни: кажется, мечтать о лучшем уже нельзя. Мы всем довольны, за все благодарны. Правда, уже жалуются педагоги, вожатые, родители и сами ребята: «Билеты за месяц вперед достать в этот театр невозможно». Оркестровой ямы по-прежнему нет. В узком пространстве между сценой и первым рядом по-прежнему умещаются только 18 артистов оркестра. Мы бессильны расширить и маленький зрительный зал, и такую же маленькую сцену – увеличился репертуар, негде уже хранить декорации… Предел желаний – обрести где-нибудь поблизости сарай. И вдруг… На один из воскресных спектаклей в 1935 году в театр приехали руководители партии и правительства. Приехали задолго до начала и уехали, когда выходила последняя группа детей. Шел спектакль для малышей «Негритенок и обезьяна», шел больше чем в восьмисотый раз при переполненном зале. Артисты играли как обычно, даже и не знали, кто их смотрит. Меня в этот день в театре, как назло, не было, и я обо всем узнала только на следующее утро. Мне рассказали, что товарищи из Центрального Комитета и Совнаркома очень внимательно приглядывались ко всей нашей работе, спектакль им, по-видимому, понравился, но они ни с кем не разговаривали. Через несколько дней кто-то из «всеведущих» сказал мне по секрету, что есть проект создать на базе нашего театра Центральный детский театр. А 3 февраля 1936 года было опубликовано решение ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР о создании Центрального детского театра и предоставлении ему помещения бывшего театра МХАТ 2-го на площади Свердлова. Мечтала о большем и большем для любимого дела, но такое… Об этом и мечтать было бы дерзко! Изменить архитектуру здания, конечно, было невозможно, но художники В. Ф. Рындин и П. В. Вильямс помогли нам «переосмыслить» ее. Они сделали чудесные эскизы внутреннего оформления. В полукруглых нишах теперь висели красочные панно, рассказывающие об истории театра. Главная лестница из раздевалки в фойе была превращена в зимний сад: кусты сирени, розы, хризантемы. Каких только там не было цветов! И буфет, и мебель, и игрушки в фойе – все было сделано специально для детей художником-архитектором Г. Гольцем. 5 марта 1936 года Центральный детский театр был готов к открытию. 5 марта 1936 года! Это был замечательный день. В газете «Известия» на видном месте было напечатано: «Привет Центральному детскому театру. Сегодня впервые поднимается занавес Центрального детского театра, созданного по решению Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП (б). Партия и правительство предоставили Центральному детскому театру одно из лучших театральных зданий столицы с хорошо оборудованной сценой, с большим зрительным залом, с просторными фойе, в которых можно организовать для детей и прекрасное театральное зрелище, и веселый отдых. В своем решении о создании этого театра СНК СССР и ЦК ВКП (б) подчеркнули, что организация и развитие Центрального детского театра «имеет первостепенное культурное значение». Значение его определяется и его названием. Это должен быть Центральный детский театр. Детский театр таким, каким мы его знаем теперь, родился впервые в Советском Союзе. За годы революции, кроме первого, созданного пионером и инициатором этого большого дела Наталией Сац театра для детей, организовано около 60 детских театров. Прошлогодняя поездка Наталии Сац за границу сопровождалась полными изумления и восхищения статьями о детском театре в СССР. Под влиянием Московского театра для детей недавно в Праге организовался первый детский театр». В этот и следующий день все московские газеты посылали привет новому театру: «С новым театром, товарищи дети! Кондуктор, до Охотного десять копеек? Дайте скорее билет этому юному москвичу! Не ворчите, пожалуйста, – он ведь торопится в свой новый театр. Площадь Свердлова. Смотрите, она совсем по-новому выглядит сегодня. Смотрите – яркие крупные буквы: «Центральный детский театр». С веселой песней школьники По лестнице идут, И Пресня, и Сокольники, И все сегодня тут. Песню пели дети, ее подхватывали взрослые. Юные гости чувствовали себя хозяевами этого нового большого дома. С ветками алой рябины в петлицах – значок, раздававшийся всем зрителям, – ребята быстро бегали по большим залам, рассматривали картины, заходили в комнату игрушек. Над головами поплыли красные воздушные шары. С песней прошли по залу знакомые персонажи спектаклей – няня Арина Родионовна из пушкинских сказок, «матрешки», добрая Негра из «Негритенка и обезьяны». Фойе театра стало похоже на карнавал: Слушай, слушай, вся столица, Пусть Союз услышит весь, Как поет и веселится Молодежь сегодня здесь. «Только самое лучшее достаточно хорошо для детей», – писал Гейне. Наша страна хочет дать детям самые лучшие книги, самые лучшие театры, настоящее большое искусство. В фойе толпы зрителей. Артисты приглашают ребят в зал. С пригласительным билетом Вы стоите в зале этом, Что же вы стоите тут? Наверху артисты ждут. И вот они сидят в зале, ребята, получившие в подарок театр…» [21] Теперь лучшие драматурги и композиторы повернулись к нам лицом. Конечно, писать для большой, настоящей сцены было гораздо приятнее, чем для сцены-пристройки в кино «Арс»! Мы не собирались отказываться от своих проверенных кадров – пионеров этой работы, но расширить круг авторов и могли и хотели. Талантливый ленинградский драматург Евгений Шварц и московский композитор Михаил Раухваргер писали музыкальную комедию для младших «Красная Шапочка», композитор Д. Б. Кабалевский – музыку к пьесе «Изобретатель и комедиант» для старших школьников. Валентин Катаев по моей просьбе написал для нас пьесу по своей повести «Белеет парус одинокий». Весной 1936 года вышла новая книжка Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик». Мы прочли эту сказку на художественном совете, затем на собрании всех наших артистов, и все как один влюбились в нее. Какая жизнерадостная, умная и талантливая сказка! Ее яркие, динамичные образы, казалось, сами просятся из книжки на сцену. Как будет замечательно, если Алексей Николаевич напишет пьесу! Ключик из настоящего золота Мечта зовет вперед. Мечта зажигает дальние огоньки. Но доплыть до них ух как бывает трудно, а иногда и… страшновато. Мечта попросить Алексея Николаевича Толстого написать пьесу для Центрального детского театра спорила с голосом «трезвого реалиста». Когда эти двое, уместившись в твоем «я», кричат диаметрально противоположное, как начать действовать? 1936-й был годом ликования. Много сил и радости влил он в мою жизнь. Наш театр теперь в сердце Москвы. Он назван: «Центральный детский». Огромная сцена, триста семьдесят пять человек – вы понимаете, – триста семьдесят пять сердец и семьсот пятьдесят рук будут творить, осуществлять мечту о большом искусстве для маленьких. В 1918-м даже и мечта такая не могла возникнуть. Перед глазами – полок, запряженный лошадью, подвода, на которой пять полузамерзших артистов и я приехали в Симонову слободу с «детским утром»… А теперь, в 1936-м, огромное здание рядом с Большим театром. От подводы с «детским утром» до Центрального детского – вот путь! Но что главное в театре? Репертуар. А какая книжка для детей сейчас самая любимая, увлекательная, с яркими образами? «Золотой ключик» А. Толстого. Горячее желание действовать в образах этой сказки на нашей новой большой сцене увлекло единым порывом. Но раз так… как можно терять время? Человек, который написал такую сказку, светится со страниц своей книги. Значит… сразу после моего предложения, сделанного на художественном совете, – на Ленинградский вокзал. Толстой живет в Ленинграде. В поход за новые репертуарные рубежи! Алексей Николаевич жил в Царском Селе. Сейчас оно называется «Детское Село». Детское – как и наш театр – чудесная примета. Дом отдельный, большой, двухэтажный. Спрашивают, кто, зачем, довольно приветливо, хотя я свалилась как снег на голову. Посадили подождать в большой комнате с длинным дубовым столом и большими окнами – за ними на деревьях первая зелень. Дом вольготный, но не чванный, доносятся чьи-то веселые голоса: говорят, напевают. Но вот сверху по широкой лестнице ко мне спускается хозяин дома – еще не вижу его лица, но хозяйскую поступь чувствую. Да, это он, Алексей Николаевич, которого прежде видела только на фотографиях. Широкоплечий, осанистый, волосы подстрижены «под горшок», а лоб кажется еще выше, потому что спереди волосы уже от него «отступили». Широкое лицо, большой нос, большие веселые глаза, а в больших руках… «Золотой ключик». Улыбнулся гостеприимно, сел на широкий диван, положил на колени свою книжку, раскинул руки. Откуда он знает, зачем я приехала, и почему взял эту книжку?!– Значит, сели на поезд и приехали, а потом с вокзала сюда. Мне так о вас и рассказывали московские друзья: Наталия Сац готовит на тебя поход, сопротивление бесполезно. Скоро у меня будет второй завтрак, а у вас сегодня еще не было?
Сразу угадал, но… разве это сейчас важно?– Позавтракать я и завтра успею, а вот как бы сделать так, чтобы эта ваша книжка стала пьесой?..
Говорю о театре, огромных его перспективах, которые сейчас нам открылись, о наших артистах, буквально рожденных, чтобы воплотить Буратино, Мальвину, лису Алису, кукол и бабочек. Слова мои порхают по большой комнате, пока не замечаю, что привычка говорить вежливое «нет» многочисленным просителям не уступает места какому-то вниманию.– Мне и самому будет интересно посмотреть «Золотой ключик» на сцене, – шутит Толстой. – Вот только где взять время, чтобы сесть за эту пьесу? – Он перечислил, кому и что обещал сделать в самое ближайшее время, и расхохотался, как юноша, перехитривший экзаменаторов. – Не хочется еще и вас обманывать.
Видя его колебания, стала доказывать, что образы книги так ярки и действенны, что пьеса уже почти готова, но он понял, что кривлю душой, и возразил:– Инсценировок терпеть не могу. Пьесу надо строить заново, даже если в ней будут действовать все те же лица, что тоже невозможно. У драматургии своя органика: некоторые исчезнут, некоторые добавятся. Природу жанра надо беречь свято.
Тут появился горячий кофе, много вкусного, а главное, та, которой посвящена сказка «Золотой ключик», – Людмила Ильинична. Она была в голубоватом домашнем платье. До чего красива! Она оглядела комнату, дала мне с улыбкой руку, села за стол, но когда протянула чашку с кофе Алексею Николаевичу и глаза их встретились, я поняла, что мы, просители его пьес, сейчас далеко на заднем плане. Здесь благоухала всей своей свежестью любовь. Людмила Ильинична глядела на все, но видела только Алексея Николаевича. А он словно чувствовал себя погруженным в морские волны ее глаз, и только культура и светское воспитание заставляли его делать вид, что мои заботы имеют для него какое-то значение. Мне было и не по себе и все же интересно. Алексей Николаевич ел вкусно, смеялся заразительно. Он был привольно русский, родной, как русская речь, как-то вкусно говорил по-русски, казалось, рядом с ним воздух пахнет просторами лугов и полей… Но, заронив зерно в душу автора, сеятель-проситель должен, боже упаси, не надоесть. Я заспешила по какому-то важному делу, которого у меня в действительности в Ленинграде не было. Расстались мы дружественно и весело. Теперь моей задачей было не упускать Алексея Николаевича ни в один из его наездов в Москву. Я являлась то с творческими предложениями структуры будущей пьесы, то с наметками отдельных картин, затаскивала его к нам в театр, чтобы показать того или иного будущего исполнителя роли в его пьесе, – всячески будоражила творческое воображение Толстого. Как-то он приехал к нам в театр сам, вошел в кабинет, сел сбоку от меня и, только сказав «здравствуйте», начал, глядя то на мои ноги, то на голову, то на платье, что-то записывать.– Что происходит, Алексей Николаевич? – после длительного молчания спросила я.
Он бархатисто рассмеялся и, озорно на меня поглядев, ответил:– После нашей последней встречи Людмила Ильинична спросила меня: «Ну, как она?» Я ответил: «Наталия Ильинична весела, просила кланяться, вполне здорова». Людмила Ильинична сказала, что я говорю совсем не то: ее интересовало, как вы были после поездки в Берлин одеты, и добавила, что этим способом я бы мог очень помочь ей узнать, что сейчас носят. Я исправляю свою ошибку и готовлюсь сделать ей по приезде обстоятельный доклад.
В Алексее Николаевиче как-то удивительно уживались мудрость и озорство, барин и трудяга, блестяще европейское и исконно русское. Театры, издательства, кинофабрики торопились унести себе побольше из «сада его творчества», и вскоре я поняла, что наше дело все же дрянь – пьесу не пишет, а моя настойчивость грозит перейти в надоедливость… Еще раз ехать для напоминаний в Ленинград? Это уже чересчур! И вдруг – осенило. Я попросила достать мне новейшие модные журналы – их тогда не так-то просто было заполучить из-за границы – и отправилась лично к Людмиле Ильиничне, просто чтобы передать ей в подарок «случайно мною полученное и уже совсем мне ненужное». Конечно, святая ложь. Объяснила мое пребывание в Ленинграде «по другим делам», а к ней заехала просто «по пути». А вот Алексей Николаевич действительно случайно застал меня в своем доме в Детском Селе за чисто бабскими разговорами. Мы сидели с Людмилой Ильиничной на диване, разложив кругом картинки с модными красотками. В первый момент Алексей Николаевич при виде меня даже слегка помрачнел, он, видимо, слишком много работал, и еще один «нажимщик» был ему совсем ни к чему. Но сидящие без туфель на диване начали показывать ему забавные картинки, он увлекся, смеялся вместе с нами, радовался, что рада Людмила Ильинична, а потом вдруг сказал «с прищуром»:– Сопротивление бесполезно… Я, конечно, покраснела, как жулик, пойманный на месте преступления. Он закончил добродушно и весело:
– Московские друзья предупредили меня о вашей многогранной стратегии. Завтра сажусь за ваш «Ключик».
К началу сезона 1936/37 года пьеса Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик» была в наших руках. Добилась своего, ура! В пьесе все было хорошо, кроме конца. Он и Алексею Николаевичу не нравился. Предложила, чтобы золотой ключик в конце пьесы открывал не театр «Молнию», а Центральный детский театр. Подробно спланировала финал спектакля, показала наметку Алексею Николаевичу, ему понравилось, и так он пьесу и закончил. Читал коллективу театра пьесу Алексей Николаевич сам. Он читал прекрасно, мудро, с огромным юмором, большим видением образов. Особенно мне понравился в его исполнении пудель Артемон – пес прямолинейной честности, старый вояка, до гроба преданный прекрасной Мальвине. У нас эту роль играл хороший артист Борис Медянник, играл убедительно, но такого образа, какой дал Алексей Николаевич на читке, ему создать не удалось – да вряд ли это смог бы сделать еще кто-нибудь, кроме самого автора. Артисты устроили Алексею Николаевичу овацию, и было за что. Вот когда я с благодарностью вспомнила свою работу в Кролль-опере и «Театро Колон»: тут были те же масштабы. Режиссерское видение «Золотого ключика» у меня начало созревать одновременно с работой над пьесой, которую целое лето вела с Алексеем Николаевичем. Буратино «был поленом – стал мальчишкой». Его интересует вся жизнь. «Не трогай мой ч-чудный нос», – кричит он папе Карло, когда тот, вырезая из полена куклу, хочет сделать этот нос короче. Нет, Буратино сует свой нос во все уголки жизни. Все хочет сам узнать, ощутить, он первооткрыватель-жизнелюб, и в этом его сила. Карабас-Барабас хочет подавить всякое творчество, все живое, превратить в подвластных ему деревянных кукол-марионеток не только своих «артистов», но и всех окружающих. Для Карабаса театр – средство наживы, для Буратино – сбывшаяся мечта, право на творчество. В пьесе много острых, жизненных коллизий. Без больших преодолений, борьбы Буратино не смог бы стать человеком, и пусть в его приключениях будут опасности, подлинная сложность и острота ситуаций. Карабасы совсем не одиноки – они выглядят и действуют разными способами, но умеют душить таких, как Буратино. Хорошая сказка всегда помогает ярче и яснее воспринимать правду, и в видении будущего спектакля одной из первых я ощутила сцену болота с огромным мостом, с которого, как ничтожный кусок дерева, сбрасывают Буратино, мостом, под которым на огромных листьях водяных лилий сидят лягушки и где (о сказочные неожиданности жизни!) черепаха Тортила дарит изголодавшемуся, «вконец отсыревшему» Буратино золотой ключик! Эту картину Алексей Николаевич писал вдохновленный моим режиссерским «предвидением», и я ее особенно любила. Впрочем, вероятно, «Золотой ключик» и был какой-то кульминацией моей режиссерской работы в Детском театре – те, кто его видел, теперь уже взрослые, тридцать пять лет спустя говорят об этом спектакле только «на высокой ноте». Контрасты образов, калейдоскоп приключений, яркое солнце, сменяющее зловещую тьму ночи, сочный юмор, неожиданность событий, яркая выразительность каждого образа и ликование, что на этой сцене фееричность сказки может звучать во всю мощь, – вот куда была устремлена режиссерская воля! Да, я люблю красивое, люблю спектакли-праздники, и в «Золотом ключике» так и повела за собой и своего сорежиссера В. Д. Королева, и балетмейстера Э. Д. Мэя, и всех участников. Уже в начале декабря вся Москва была заклеена афишами В.Ф. Рындина с изящным золотым ключиком, извещавшими о первой премьере нового театра. Наш администратор Л. Я. Сахаров был очень доволен: едва появились первые афиши, билеты на «Золотой ключик» были проданы на все объявленные спектакли. Дети очень гордились, что их новый театр находится рядом с Большим, долгое время называли его не Центральный детский, а Большой театр для детей. Премьеру ждали с нетерпением. Занавес открылся 10 декабря 1936 года. Перед зрителями огромная площадь в царстве тарабарского короля, с большими и маленькими домами, разной жизнью разных людей. И вдруг – музыка, появляется доктор кукольных наук, бородатый Карабас-Барабас, в сопровождении своих многочисленных кукол: фарфоровых, деревянных, тряпочных – ярких и разных. Поглядеть на них интересно всем – появляются лица в окнах домов, на площади собирается толпа взрослых, гул голосов – с каким наслаждением вспоминаю это. Еще бы! В прежнем нашем театре о массовых сценах нечего было и мечтать – спасались режиссерскими хитростями, а в первой сцене «Золотого ключика» было занято пятьдесят человек – на этой сцене можно было расправить крылья! Музыка Л. Половинкина к «Золотому ключику» говорила о его несомненном росте за годы работы в Детском театре. Яркая образность, изобретательность в нахождении новых оркестровых красок, острота ритмов – эта музыка стала неотъемлемой частью спектакля. Был поленом, Стал мальчишкой, Обзавелся умной книжкой. Это очень хорошо, Даже очень хорошо… Эта песня по требованию ребят была немедленно издана, передавалась по радио, была записана на пластинки. Пресса очень тепло приняла «Золотой ключик». «Занавес давно опустился. И чудесные живые куклы, которые без конца выходили на сцену, устало и счастливо улыбаясь, больше не показывались. Буратино уже, наверное, отдирал за кулисами свой невероятный носище. А ребята все еще смотрели на сцену жаркими и жадными глазами. Уходя из театра, зрители напевали песенку Буратино: «Это очень хорошо, даже очень хорошо». Они продолжали петь даже на улице. Они, наверное, и заснули сегодня с этой песенкой на устах, а завтра с ней проснутся… Это очень хорошо, что они унесли сказку домой. Беда наших многих спектаклей в том, что их не уносят с собой домой, их забывают уже в раздевалке». Наконец-то сцена детского театра заиграла, всеми красками. На сцену вернулась настоящая фантастическая сказка – по ней соскучился детский театр. По ней соскучились и актеры, и режиссеры, и художники. А больше всех – дети. Алексей Толстой золотым ключиком своего мастерства открыл детям Москвы их Центральный детский театр, его полноценно новый репертуар. Но и многие другие театры вслед за Центральным детским открывались этим же ключиком, полученным из рук Алексея Николаевича. В годы Великой Отечественной войны первый театр для детей и юношества на казахском языке тоже открылся пьесой «Алтын-Кылт». С какой радостью я снова была режиссером спектакля по сказке А. Толстого, которая теперь называлась по-казахски. Но разве можно забыть о детской пьесе Алексея Николаевича сейчас, когда в Москве создан первый и пока единственный в мире театр оперы для детей – Детский музыкальный театр? Конечно, нет. Композитор Игорь Морозов написал комическую оперу на этот сюжет. Привольный человек был его создатель – Алексей Николаевич Толстой. Злата Прага и ее дочь Мила Мелланова В 30-х годах печень стала жить совершенно отдельной от меня жизнью. Она не только забыла, что вложена в меня для того, чтобы мне служить, но стала мне себя противопоставлять, срывать очень многие мои планы. В конце концов она превратилась в опасного внутреннего врага и на борьбу с ней было брошено все – лекарства, врачи, Кремлевская больница. Печень продолжала отравлять мне жизнь, осталось попробовать последнее – Карлсбад, Карловы Вары. И вот три раза в день с градуированной кружкой, стеклянной длинной трубкой, чтобы крошечными глотками вкушать «святую воду», хожу среди колоннады целительных источников. Источников много, а верующих, что эти источники победят все строптивые печени и желудки, – несметное число. Вкушение воды и дозированные прогулки по колоннаде – занятие однообразно-унылое, но печень становится более воспитанной, и когда две дамы и мужчина из Общества друзей Советского Союза в Чехословакии просят на обратном проезде в Москву через Прагу там задержаться и выступить с докладом, – соглашаюсь. Я была совсем больна, когда ехала в Карловы Вары, Прага мелькнула в тумане. А теперь я увидела, как она прекрасна. Какое искусство, наивность и величие в башенных часах на ратуше. Какая редкая архитектура домов и церквей, полноводная река, гармония самобытно-славянского и элегантно-европейского! Очень хочется подольше, поглубже вглядеться в черты замечательного города, но задержаться могу только на три дня – в Москве ждут меня. В нашем полпредстве меня почти никто не знает. Выгляжу несолидно. Больше молчу. Волнуюсь. Однако друзья из Чехословакии оказались действительно друзьями, а председатель этого Общества знаменитый профессор Зденек Неедлы сам председательствует на моем докладе. Он говорит вступительное слово на чешском языке, и как жаль, что я его не понимаю. А людей собралось много, советник по делам культуры нашего полпредства тов. Туманов шепчет мне на ухо: «Министр финансов доктор Крофта, первый переводчик на чешский язык Маяковского доктор Йозеф Трегер, знаменитый режиссер Буриан, Великий Коппелиус – профессор Скупа». Зачем он все это мне говорит? Волнуюсь еще больше. После профессора Зденека Неедлы надо выступать мне… Описать свой доклад невозможно. Мне кажется, он прошел хорошо. Доказательство – не только аплодисменты, не только единство ощущения себя и своей аудитории, но и просьба советника полпредства повторить доклад, многие приглашения от Общества дружбы, многочисленные отклики чехословацкой печати… Они были хорошими даже в тех газетах, которым было куда приятнее ругать все советское. Вот впечатление одного из таких критиков [22] : «На эстраде переполненного слушателями зала (сплошь – чехи, русских почти нет) миловидная, очень стройная молодая женщина в изящном модном костюме – Наталия Сац, руководительница и первый организатор детского театра. Она – дочь известного композитора Московского Художественного театра, покойного Ильи Саца. Сразу же видно, что говорит артистка: обработанный голос, прекрасная дикция, легкая, свободно льющаяся речь.– …Мы не сторонимся сказок и мечтаний. Но мы хотим, – говорит докладчица, – чтобы в мечтах рисовался новый мир, который нужно и можно создать, чтобы семимильные сапоги или ковер-самолет преобразились в сказках и мечтах в полет аэропланов и захватывающий бег автомобилей… Мы хотим создать новую психологию детей и людей – для новых сказочных завоеваний реального мира…
Я удивляюсь, – говорит Сац, – сообразительности советских почтальонов: пишут невероятные адреса. Например: «Москва, Децкий театр, тете Наташе». Или: «Москва, театр, страусу». Приносят! Именно к нам, в Детский театр: «Скажите, страус, вы настоящий страус или сделаны из человека?» Есть письма трагические: «Тетя Наташа! Приезжай в больницу и покажи нам, детям туберкулезным, свой театр. Мы, тетя Наташа, никогда не выздоровеем и не сможем сами прийти в твой театр». И театр везет свои постановки в санатории и больницы, где смотрят представления дети, быть может, уже никогда не могущие «строить новый мир». Симфонические утра и вечера даются этим театром для слепых детей… Много интересного рассказывает г-жа Наталия Сац из области техники театра, психологии детей, из своих наблюдений над ходом развития этого нового дела… Но где же тут советизм? – спросит читатель. Ведь такое дело, нужное и интересное, может развиваться при каждом строе? Г-жа Сац с этим не согласна. Вот записка, ей поданная: «Содействует ли Советская власть развитию этого дела?»– Странный вопрос! – живо и насмешливо отвечает докладчица. – Только на почве Октябрьской революции может развиться детский театр. Ее корнями он питается и на ней процветает. Как может развиться такое дело в буржуазном строе? Судите сами: театр для детей и его педагогические учреждения стоят огромных денег. Их дает Советская власть. Она дает средства и писателям, готовым содействовать созданию советских пьес. Мы даем тему. Даем срок – один год. В этот год писатель свободен, обеспечен. Он может обдумать, писать не торопясь. Он может, наконец, поехать, куда захочет, как поехал Ник. Шестаков для написания пьесы из жизни Туркменистана. И далее. Билет в наш театр стоит двадцать копеек, только всего. Разве этой платы хватило бы для содержания театра? В буржуазном строе оплачивали бы богатые дети дорогие места. У нас эти места заняты детьми рабочих, воспитанниками детских домов и школ. Через наш театр уже прошло четыре с половиной миллиона детей трудящихся. Нет, безусловно, в буржуазном строе такой театр существовать не может. Он – дитя Октября…»
Но самым главным показателем успеха доклада был интересный случай, о котором расскажу. Идея детского театра стала реальным делом там, в Чехословакии. А ведь это и есть самый дорогой успех! Но расскажу все по порядку. Когда я уже сделала заключительное слово и публика стала покидать зрительный зал, к трибуне подбежала невысокая девушка с большими блестящими глазами, волосами, зачесанными назад, – сероглазая шатенка. Она посмотрела на меня с восторгом и воскликнула:– О, какой у вас красный живот!
Этого я никак не ожидала и смущенно опустила глаза. Вот так номер! Может, у меня порвалось платье? Но черная шерсть закрывала всю фигуру.– Какой у вас красный живот! – как-то нараспев повторила девушка.
Что она такое говорит? Помог нам советник посольства, вовремя подоспевший на помощь.– Она говорит: «Какая у вас прекрасная жизнь». По-чешски «живот» значит жизнь.
Посмеялись. Через несколько месяцев в Москве на мои репетиции стали приходить и иностранные гости, студенты московских театральных вузов. После одной из репетиций, которая прошла с большим подъемом, я стояла на сцене, довольная, но очень усталая, проверяла новые декорации и вдруг за большим декоративным станком увидела блестящие глаза и зачесанные назад волосы.– Здравствуйте! Я уже пять раз была на ваших репетициях – учусь, буду еще долго учиться. Хочу открыть театр для чешских детей в Праге. Ваш доклад попал в сердце. О другом думать не могу.
Теперь она говорила по-немецки. Я как-то сразу узнала сероглазую девушку из Праги, напугавшую меня «красным животом». Конечно, я дала указание помогать ей всем чем можно: и пьесами, и опытом, и постановочными планами, и материалами по изучению восприятия детей-зрителей. Несколько раз говорила с ней, а на своих репетициях видела ее ежедневно и даже как-то замечать перестала. Зато в 1935 году, когда Мила Мелланова прислала мне из Праги приглашение на открытие первого в Чехословакии театра для детей, чувствовала себя ликующе-счастливой. Доклад мой в Праге, стажировка Милы в Московском театре для детей, открытие пражского театра – все это были звенья одной цепи. Конечно, было приятно и то, что первой постановкой Милы Меллановой в новом театре был «Негритенок и обезьяна» с широким использованием моего постановочного плана. В дружественной Чехословакии по примеру Москвы родился театр для детей. Это было самое главное! Теперь, читатель, возьмите в руки толстенную книгу моей судьбы, быстро перелистайте ее большие, мелко исписанные страницы, найдите год 1961-й, и отправимся по туристической путевке в небольшой город Хрудим (Чехословакия) на Фестиваль самодеятельных кукольных театров. Любят, знают в Чехословакии кукольное дело, растят, берегут его! На одном большом и торжественном совещании кукольников и их гостей, приехавших со всего мира, когда только что объявили перерыв и люди уже поднимались со своих мест, ко мне подбежала женщина с зачесанными назад серебристо-каштановыми волосами и сказала: «Ма мер артистик» (моя мать по искусству). Многие головы повернулись в нашу сторону. Женщина подняла на меня большие уже немолодые серые глаза, и я с трудом узнала Милу Мелланову. Сколько молчаливого и емкого понимания, какая чуткая забота стала окружать меня в Хрудиме! И все благодаря чешской женщине, такой скромной, в черной юбке и белой кофточке, вероятно, единственном своем платье. Она уже не работала в Театре юного зрителя – вернулась к куклам. Но идея детского театра была ей по-прежнему дорога. Как она обрадовалась, когда увидела, что вышла моя книга «Дети приходят в театр», как загорелась желанием перевести ее!– Вот только как бы договориться с издательством?! Это будет трудно. И все-таки начну переводить на чешский сейчас же, отложу все другие работы. Денег мало, но разве они решают. Ну, будет потруднее. Эта книга в Чехословакии обязательно понадобится – ведь уже сейчас шесть тюзов и театр в Братиславе тоже открылся «Негритенком и обезьяной» – вашей пьесой! Да, когда спросят – книга уже будет готова.
Мила Мелланова жила в общежитии, в одном из классов закрытой на лето школы – у меня же был номер в гостинице. Я казалась себе, конечно, лучше устроенной, чем она, и поражалась, как она находила время, чтобы несколько раз в день зайти за мной, отвести на спектакль, проводить домой, поставить в мой стакан скромный букет или поторопиться заплатить в трамвае. Потом мы были в Праге. Мила была гидом мудрым и молчаливым – я поняла, почему этот город называют «Злата Прага», я влюбилась в Прагу. Мила пригласила меня к себе в гости накануне отъезда, настаивала на этом приглашении, а я не знала, как отказаться. Она пришла за мной в гостиницу сама – и делать было нечего. Мила привела меня в роскошный особняк с венецианскими окнами, глядящими на красоты Влтавы. Внутренний сад – туда можно попасть только из дверей дома. Кругом высоченные, из разноцветного кирпича стены, по которым вьются растения, а сколько редких деревьев, цветов, зеленых беседок в саду, посреди которого бассейн. Бассейн, редкий по красоте. За бьющими фонтанами и фонтанчиками, расположенными в два круга, две фигуры в ниспадающих одеждах; чудесное лицо женщины, благословляющей девочку, – кто это?– Святая Анна, мать девы Марии – тут она еще ребенок.
– Кто же автор?
– Отец выписывал знаменитого скульптора из Рима.
Наверное, для строительства этого дома были привлечены многие знаменитые архитекторы и художники: террасы, балконы, их форма, лепная отделка, мозаика на стенах, каждая деталь – произведение искусства. Очевидно, Мила сама работает гидом в этом музее, тут и живет, – мелькнуло в голове. Мы входим в холл – переднюю. Вешалки – оленьи рога, вешалки – слоновые клыки, вешалки в двух инкрустированных шкафах. Налево вход в ванную из розового кафеля с розово-голубым полом – настолько красивым, что и ступать по нему не хочется, застываю у порога. Направо кухня, столь величественно оснащенная техникой и плитами, что лучше пойду дальше. При кухне комната метров двадцать – двадцать пять, на стенах картины старинных итальянских мастеров. С порога комнаты мне протягивает руку пожилая женщина, улыбается мне ласково и скромно – больше глазами, чем губами.– Мой верный друг – Анна.
В небольшой полукруглой столовой – стеклянном фонаре, открывавшем волшебную панораму Праги, Анна угостила нас обедом, клубникой со взбитыми сливками, фруктами – всем тем, на что во время прогулок с Милой я искоса поглядывала на витринах, делая вид, что мне это не так интересно. Перебора ни в чем не было, а внимание огромное. Мила показала мне и свой кабинет, где на столе стоял мой портрет 1935 года, лежала книга «Дети приходят в театр», ее аннотации для издательства «Орбис», начатый перевод. Скромный диван-кровать, большой письменный стол – все это было неожиданно аскетично. Вот только картины старинных итальянских мастеров, выдающихся художников Франции… верно, копии? Мила отвечает, повернувшись к окну:– Это – оригиналы.
Ну и история! Где же моя проницательность? И вообще, чего-то недопонимаю. Хотя она ведь сказала: отец пригласил этого скульптора из Италии… Это как-то не сразу до меня дошло.– Значит… это ваш дом?
– Моих родителей. Я родилась и всю жизнь прожила здесь. Теперь осталась вдвоем с Анной. Муж тоже недавно умер.
– Но… вы живете здесь одна?
– Нет, я попросила поселить две семьи на ту сторону дома, мне пошли навстречу. А все эти ценности пойдут чешскому народу – не продала ничего, все сберегу. Мне самой так мало надо!
Я ушла, наполненная до краев ее благородством, восхищенная ее умением беречь и любить произведения искусства… Наша встреча с замечательным театроведом, киноведом, литературоведом Йозефом Трегером была памятной. Мы еще с 1935 года очень симпатизировали друг другу. Пообедали вместе.– Мила Мелланова? Это одна из самых богатых и самых удивительных женщин Чехословакии. Родители баловали, почти боготворили ее, но уже с пяти лет поняли, что ее влечет к куклам, которые могут двигаться. В ее нарядной детской всю роскошь кружев и дорогих игрушек вскоре вытеснили стеллажи, стальные проволоки, протянутые через всю ее комнату, на которых лежали и висели куклы-марионетки, а сама она в каждую минуту, свободную от школы и университета, который по настоянию родителей тоже кончила, вырезала своим куклам декорации, шила костюмы, устраивала спектакли. Ее муж – знаменитый юрист, любил, но совсем не понимал ее, детей у них не было.
В 1934 году Мелланова услышала ваш доклад в Праге и еще более горячо влюбилась в идею театра для детей. Вы знаете, она добилась поддержки в муниципалитете и в 1935 году открыла этот театр. Но поддержка города была мала. Мила добавила все недостающее из своих собственных денег, и несколько лет все трудности были на ее плечах. Теперь, конечно, у этого театра совсем другая жизнь, как и во всей нашей республике, – театр стал государственным, и желающих стать во главе его вполне достаточно. А Мила работает снова в так любимом чехами кукольном деле, летом на своем велосипеде совершает целые путешествия, она прекрасная пловчиха, хорошо и много пишет о детском театре, знает все выходящие в СССР детские пьесы и с любовью переводит с русского на чешский лучшие из них. Она живет только на этот свой заработок – считает, что сокровища родителей ей не принадлежат, а она только временно сберегает их. Лет ей уже немало!.. Волны московской жизни несли меня вперед, но переписка с Милой продолжалась – она писала регулярно, как-то помнила мои даты, а в день моего шестидесятилетия прислала трогательный подарок – альбом с вырезками из чешских газет, где писали обо мне. Согревало меня ее сердце! Самое главное – она с помощью Йозефа Трегера подписала с чешским издательством «Орбис» договор на перевод моей книги «Дети приходят в театр». Йозеф Трегер согласился написать предисловие, редактировать ее. Мила взялась за это с той же абсолютной собранностью и горением, как делала все. Она крепко верила в чехословацко-советскую дружбу, ценила и берегла творческое взаимодействие наших народов. И вдруг… она заболела. Чем? Она не писала об этом. Я узнала много позже. У нее был рак. Он возник неожиданно и душил ее бурно. В больнице она с удвоенной энергией, несмотря на приступы, продолжала переводить нашу книгу. Когда соседки по палате просили ее поговорить с ними, Мила отвечала:– Не сердитесь, не могу. Я должна спешить, времени осталось мало, я боюсь, что не успею перевести эту дорогую мне книгу.
Когда она умерла, на ее тумбочке, в ее ящиках, на стуле у кровати лежали листы перевода. Она не успела. Но проложила путь этой книге в Чехословакии, и она вышла там под названием «Время, театр, дети», в ее предисловии я пишу о Миле… В 1965 году моя жизнь уже входила в колею – идея создания Детского музыкального театра приближалась к осуществлению. Однажды мне позвонили из Министерства культуры и сообщили, что я приглашена на праздник тридцатилетия театра для детей в Праге. К. Я. Шах-Азизов летел туда как директор Центрального детского театра. В Праге меня встретили представители Театра имени Иржи Волькера и прессы. Но вот и вечер торжества… Мы – в партере, на сцене руководитель театра, местных организаций, министр культуры ЧССР. Он говорит речь. Поздравляет с тридцатилетием театра детей Праги, актеров, говорит о матери чешского детского театра Миле Меллановой. Вот это благородно! Как жаль, что не дожила она до этого дня. И вдруг слышу, министр продолжает:– Но у матери чешского театра была русская мать. Это – Наталия Сац. Она сейчас в нашем зале, и ее место здесь.
В проходе появляются артисты с цветами, меня торжественно ведут на сцену, встают, когда я туда поднимаюсь. Да, театр для детей – дитя Октября. А мы – просто счастливцы, что смогли осуществлять те возможности, которые открыло нам наше Советское государство. На празднике тридцатилетия Детского театра в Праге мне очень хотелось хоть на минутку зайти в квартиру Милы… Но как? Ко мне подошла артистка Швандова – она работала в этом театре с его основания, была приглашена туда еще Милой, играла Добрую Негру на премьере «Негритенка»…– Наталия Сац, – сказала она, словно прочитав мои мысли, – Мила Мелланова, умирая, вспомнила вас. В ее квартире все еще осталось по-старому. Имущество оценено в несколько миллионов крон – оно по ее желанию перейдет в чешские музеи, но портрет для вас лежит у Анны. Вы возьмете его?
Ранним утром следующего дня мы уже были в опустевшем особняке на реке Влтаве. Анна встретила меня, как родную. То, что Мила просила передать мне, – фотографии ее «жилья», ее большой портрет, – было продумано до мелочей. К портрету Милы мне дали художественный горшок для цветка и фарфоровую статуэтку – девушку, держащую за спиной подсвечник. Да, Мила хотела, чтобы теперь ее портрет стоял в моей комнате. И иногда около него горела свеча и стоял живой цветок. Так у меня это все дома и стоит. Такие люди, как Мила, долго живут не только в памяти, но и в своих делах. Просматривая интересные спектакли в Театре для детей имени Иржи Волькера, я обратила внимание на ярко одаренного, горячо трудоспособного артиста Карела Рихтера. Разговорились. Он тоже работает в этом театре тридцать лет.– Мила Мелланова заметила меня в самодеятельности, когда мне было восемь лет. Среди профессиональных артистов в ее первых спектаклях участвовали и дети. Каким-то чудом мне дали главную роль – негритенка Нагуа, и я очень любил ее. Мила Мелланова хотела усыновить меня. Мы очень нуждались, но мне было жаль обижать своих родителей. У нее было несколько усыновленных детей, и нам она всегда помогала как-то совсем незаметно, деликатно, я и театральное образование благодаря ей получил.
Карел Рихтер много раз мог перейти в театр для взрослых, но он верен детям и юношеству, в нем живет дух его артистической матери Милы Меллановой. Прости, читатель! В новелле о Миле Меллановой я вышла из берегов времени, забежала вместе с тобой из тридцатых в шестидесятые годы… О Миле Меллановой написала на одном дыхании и «перемахнула» через поставленные самой себе рубежи времени. Но иначе поступить не могла. По зову сердца должна задержаться в Чехословакии 1935 года, чтобы рассказать тебе, читатель, о человеке, который вошел в мою жизнь неожиданно, перестроил ее течение и сильной волей своей и против своей воли. Это был Израиль Яковлевич Вейцер. О самом дорогом Тридцатые годы. Чехословакия. Карловы Вары. Лечу печенку. Приехала одна – трогательно позаботился Московский комитет партии. Даже назначили мне «опекуна». Это – Глеб Максимилианович Кржижановский, легендарный друг Владимира Ильича Ленина, инженер-электрификатор, укрывавший Ильича от жандармов, автор «Варшавянки». Глеба Максимилиановича вызвали в Москву, и он передал опеку надо мной Вейцеру. Большой, черноволосый Вейцер говорил очень мало. Его зеленые глаза глядели из-под густых черных бровей умно и пристально. В его движениях было что-то медвежье. Он не любил быть на виду, не придавал никакого значения своему внешнему виду. О его фанатизме в работе складывались легенды. Уехать в девять утра и вернуться с работы в четыре утра следующего дня он считал совершенно естественным и сейчас, а в первые годы революции приучил себя к тому же обходиться одним тулупом (и пальто и одеяло). Так было в Вятке, где он был председателем губисполкома, так было в Туле, где он был первым секретарем Тульского комитета партии. Слова «уйти домой» были тогда ему непонятны – он спал на столе своего кабинета. Вещей у него не было никаких. Он сознательно был бессемейным.– Где было тогда взять на это время? – удивлялся он, когда подшучивали над его аскетизмом, укоренившейся привычкой есть только всухомятку.
Это мне рассказал о Вейцере Кржижановский, который очень хорошо к нему относился.– Сейчас Вейцер – народный комиссар внутренней торговли Советского Союза, – добавил он, советуя, если возникнут какие-либо затруднения, прибегнуть к помощи этого надежного старшего товарища.
Откровенно говоря, светло-серый костюм Вейцера, который сидел на нем мешком, хотя и был куплен где-то в Европе, широкополая шляпа со слишком высокой тульей, которую я окрестила «сельскохозяйственный цилиндр», смешили меня, но одной в чужой стране было неуютно, и я ходила с ним три раза в день по колоннадам с целительными источниками. Я любила говорить, он слушать, и тут я вспомнила, что меня с ним знакомят во второй раз. В первый познакомил муж – Николай Васильевич Попов в 1931 году в Берлине, когда я ставила «Фальстафа». Однажды Николай Васильевич предупредил меня:– Если ты не против, завтра к вечернему чаю к нам придут И.Е. Любимов с женой и Вейцер. Я чего-нибудь к чаю сам куплю. Вейцер приехал из Москвы с каким-то важным поручением. Он человек умный, хитрый и злой.
– Зачем же тогда звать его в гости?
– Я точно ведь ничего не знаю, – ответил Николай Васильевич, – но интуитивно… не лежит у меня к нему сердце, а невежливым быть нехорошо, правда?
Вечером пришли наши гости. Я была в чудесном настроении, репетиция прошла замечательно. Я рассказывала, как Фриц Кренн, исполнявший роль Фальстафа, пытался назвать меня «деточкой» и диктовать свои мизансцены, как потихонечку я забрала его в руки, пела фразы из партий, показывала будущие мизансцены. Но Попов и Любимов были явно не в духе и плохо меня слушали, детей увели спать, жена Любимова ушла с ними в детскую. В пылу рассказа я не сразу обнаружила, что у меня остался только один слушатель – этот самый Вейцер. Но с таким интересом он меня слушал, что я не могла остановиться, и он ушел от нас после двенадцати. В тот же вечер я сказала мужу:– А ты сказал неправду. Твой Вейцер совсем не злой и не хитрый. Он хороший и умный…
Да, я этот эпизод вспомнила не сразу, да и… по-своему прав был тогда Николай Васильевич: Вейцер был послан, чтобы заменить Любимова на посту торгпреда, а Попов и Любимов были закадычные друзья, и вообще не мое все это было дело… Ко мне Вейцер относился хорошо. Ему тут было скучно. В девять утра – перед первым водопитием – он уже гулял около ворот дешевого пансиона с громким названием «Вилла Пель», где я жила. Потом доводил меня до ворот – и так три раза в день. Курортный месяц больше годового знакомства в Москве – делать-то нечего. Я к нему привыкла, он, верно, тоже, и когда его вызвали в Москву, помогла ему сделать нужные покупки, купила розу и красные гвоздики, приехала на вокзал. По положению он должен был ехать в отдельном купе. Я вошла туда, поставила часть гвоздик и розу в стакан, одну гвоздику надела «верхом» на вешалку у зеркала, еще запихнула одну ему в верхний кармашек. Он посмотрел в зеркало и обомлел: «Никогда не думал, что это так красиво!» (Он и вообще об этом, верно, никогда не думал.) Но в черном костюме, с черными волосами и бровями, с ярко-красной гвоздикой – он правда как-то сразу похорошел. Я быстро вышла из купе – он за мной. Потом мы несколько минут стояли на платформе, он не отрывал от меня блестящих глаз и, когда проводница сказала: «Отправление», не двинулся с места. Она повторила – он глядел на меня. И уж не знаю, под гипнозом его взгляда, что ли, я полуобняла его одной рукой, чмокнула воздух около его лба, и только тогда он поднялся на ступеньки и так же неотрывно смотрел на меня, пока не исчез вместе с поездом. Я часа два погуляла на горе, на которой, по преданию, из-под копыт оленя впервые забил фонтан знаменитого «Шпруделя», вернулась в свой пансион и, к удивлению, заметила на столе телеграмму со станции «Подмокли». Кто бы это мог быть? Разорвала и прочла: «А ваши цветы не вянут и не завянут накрепко. Вейцер». Я легла отдохнуть и заснула. Знаменитый олень отчаянно бил копытом. Открыла глаза – стучали в мою дверь. Телеграмма: «А гвоздика со мной. Вейцер». На следующее утро, в семь часов, позвали к телефону. Звонил Вейцер – боялся позже не застать дома. В мою жизнь ворвался ураган его воли. Впервые я чувствовала себя какой-то пушинкой, над которой висит большая мужская воля. Но все же потом прошел год моего недопонимания, недомолвок. Он ведь был большой чудак – ни говорить, ни ухаживать тем более совсем не умел, и долгое время сама себе не верила, что Вейцер мне тоже нравится не только как «старший товарищ». Однажды Вейцер позвонил и спросил:– Откуда почта узнает, когда принести письмо, если я послал цветы?
Смешно? Мне было очень смешно. Объяснила:– Приходят в цветочный магазин, берут там бумагу и конверт, втыкают этот конверт в землю, и цветы приходят вместе с письмом.
В ответ я услышала знакомое «ы», перешедшее в молчание. А через полтора часа мне внесли корзину хризантем, где лежала весьма лаконичная записка: «Спасибо, что научили». Когда Вейцер объявил друзьям, что женится, – это была сенсация. Фанатик своей работы, угрюмый человек, заядлый холостяк! В первой корзине полученных мною цветов лежало письмо от Л. М. Хинчука: «Они сошлись: волна и камень, стихи и проза, лед и пламень…» Для отправителя все было ясно: артистка, значит, «поэзия» и «волна», народный комиссар торговли – «проза» и «лед». «Если он – проза, – думала я, – значит, эта проза стоит всей мировой поэзии, а пламень его сердца в работе… разве мне с ним сравниться?!» «Советская торговля есть наше родное, большевистское дело». Да, Вейцер чувствовал его родным. Он был поэтом советской торговли. Наверное, где-то в самом глубинном измерении нас и сближало это полное романтики отношение: у меня – к театру для детей, у него – к торговле. Но фантазии, фанатизма, чтобы быть поэтом торговли, ему нужно было иметь куда больше, чем мне. Как остро он умел видеть, воспринимать, неожиданно и мудро действовать! Его авторитет был непререкаем, справедливым его считали все, кто знал. Работать сердцем – какое это важное качество! Помню наши воскресенья – уже после того, как мы поженились. Он за письменным столом с грудой писем от потребителей, я – на дерматиновом диване напротив него. Передо мной макет – торжественный концерт 6 ноября 1936 года в Большом театре. На будущей неделе перехожу со своей тысячной ватагой на сцену Большого театра – уже сегодня надо сделать разметку мизансцен.– Трудно тебе? – несется голос из-за стола.
– А тебе?
– Давай поменяемся. Я возьму твой картонный театр – ты возьми мои бумажки.
Увы, я ничего не понимаю в этих столбцах цифр под заголовком «Проект выпуска холодильников». Зато Вейцер сосчитал все квадратики, которыми расчерчен пол макета, разделил тысячу сто участников на количество этих квадратов, точно «знает», по скольку детей надо поставить на каждый квадрат, – словом, решил за меня постановочный план. Нам легко и весело друг с другом. Однако времени мало, макет снова у меня, он старается мне не мешать – гордится моей работой. Работаем старательно. И вдруг…– Помоги мне! – судя по тону, это уже не шутка, а всерьез.
Письмо от потребительницы народному комиссару внутренней торговли. «Уважаемый товарищ! Муж оставил нас, живу с двумя мальчиками, работаю машинисткой. Но я еще молодая женщина и еще мечтаю. Может, это Вам покажется смешно, но одной женщине кажется, если она достанет что-то красивое из одежды, скажем, красный берет, – счастье снова ей улыбнется, а я мечтаю давно о меховой шубке, что стали продавать в Мосторге. Несколько месяцев мы с мальчиками во всем подсократились, чтобы купить ее, – и вот наконец я ее купила, пошла на службу, думала, все будут завидовать. А оказалось – беда. Мех на этой шубе лезет: уже в трамвае, где я сидела, остались следы, а на службе бегали от меня товарищи, чтобы не стать волосатыми. Зачем терпеть насмешки? Я просила в Мосторге принять шубу назад – они сказали, что Ваше распоряжение этот товар назад не принимать. Товарищ народный комиссар! Отмените такое распоряжение, для меня эти деньги целое состояние». Вейцер словно увидел эту женщину, ее двух мальчиков, задумался. Потом я должна была звонить знакомым, которые, может быть, тоже покупали такие шубы в Мосторге, потом… словом, все было решено по справедливости. И люди ему верили. Однажды другая женщина написала письмо и через секретаря передала ему «в собственные руки». Она писала, что муж ее завмаг или инкассатор (уже не помню) в крупном магазине, начал играть на бегах, она случайно услышала, как он условился с другим игроком забрать выручку из магазина и поставить «на верную лошадку». По этому письму своевременно были приняты меры, и вынести деньги из магазина ему не удалось. За попытку ограбления муж этот был на некоторое время арестован, а ту, что написала письмо, Вейцер пригласил к себе на прием и поблагодарил ее.– Если у вас есть какие-нибудь просьбы – я их исполню. Вы поступили честно.
Женщина ответила сурово:– Иначе поступить я не могла. Ничего мне от вас не нужно. Только никогда не говорите мужу, что это сделала я – он не поймет и не простит, а я люблю его и у нас дети.
Мужа этого освободили из-под ареста, перевели на далекую от денег работу, и все было хорошо… Любовь к Вейцеру открыла в моей жизни новую творческую страницу – я ее называла «торговая лирика». Мы вместе осматривали витрины магазинов и думали, как поднять художественную культуру этого дела, проектировали детские кафе, я помогала устроить в театре смотр художественной самодеятельности работников торговли. Это был день его ликования. Чисто выбритый, в новом черном костюме, вслед за молодой женой, в сопровождении заместителей, он вошел в ложу. Представители торговли со всего Союза приветствовали его, поднесли мне универмаговского размера букет. Мы сели, потух свет; работники, оторвавшиеся от прилавков и торговых касс, лихо пели и плясали. Вейцер гордо глядел – свои, родные! Но вот выступил коллектив самодеятельности из Гагры. В глазах Вейцера ликование. Ансамбль музыкальных инструментов и певцов – опять Гагра. В глазах Вейцера какие-то чертики. Теперь гагринский коллектив народных танцев. Вейцер вскакивает с места:– Слушайте, а кто же там остался торговать? – восклицает он возмущенно.
Чувство главного он не терял никогда! В большом сердце Вейцера – государственного деятеля любовь к детям занимала немалое место. Это очень объединяло нас. Никогда не смогу забыть детский елочный базар, режиссером-руководителем которого была я по просьбе Вейцера. Зимние каникулы, конец декабря 1936 года. Елки в витринах магазинов, елки в руках раскрасневшихся на морозе прохожих – все готовятся к радостной встрече Нового года. Но особенно весело на Манежной площади, напротив Кремля. Тут на глазах вырастает сказочный город: избушки на курьих ножках, пряничный домик, домик куклы Мальвины, лес из елок, зверинец на открытом воздухе, детский «аэропорт», с которого будут подниматься с маленькими пассажирами воздушные шары – монгольфьеры, огромная двадцатиметровая елка, украшенная необыкновенными игрушками. Вот веселый Буратино в блестящем колпачке, Царевна-Лебедь, Золотая Рыбка, другие сказочные персонажи любимых детских спектаклей. Их нетрудно заметить – эти игрушки сделаны в рост маленького ребенка и выглядят особенно весело среди блестящих украшений и елочных огней удивительно нарядной в зеленом бархате елки. Елка эта, видимо, сама радуется наступлению зимних каникул и без устали кружится в вальсе – она стоит на вращающемся барабане-карусели, тоже очень ярком и красивом. По радио звучат новые елочные песни. Весело на детском елочном базаре! Детский театр помог молодым продавцам почувствовать себя хорошо в сказочных образах – все они в ярких костюмах поверх теплых пальто. Наши писатели сочинили им стихотворные зазывы, комические четверостишия. С наступлением темноты на стене Манежа идут детские мультфильмы. Каких только развлечений нет на этом массовом гулянье! Были также объявлены и различные конкурсы. Например, конкурс с премиями за лучшие елочные игрушки-самоделки, за елочные игры и рассказы, сочиненные самими ребятами. В особом сказочном домике каждый из ребят мог получить и совет и помощь по художественной самодеятельности. Но, конечно, надо было обеспечить порядок и дисциплину на этом гулянье – дежурила там и милиция. Однако, поскольку основным контингентом посетителей елочного базара были ребята, мы установили там дежурства педагогов и не позволяли милиции «действовать» по отношению к провинившемуся, не приведя его предварительно в комнату педагога. Елка на Манежной площади была настолько интересной, что не только ребят, но и взрослых тянуло погулять там снова и снова, ну а я бывала тут по нескольку раз в день, и потому, что была режиссером этого гулянья, и потому, что оно было рядом с театром. Много было там интересных эпизодов, но особенно ярко запомнился один. Как-то вечером милиционер привел к дежурному педагогу двенадцатилетнего парнишку – очень смущенного, с кепкой в руках. Он хотел утянуть елку и был задержан на месте преступления. На вопрос, как он, пионер, мог так поступить, мальчик разревелся и сознался, что это очень гадко, но что он уже целый месяц делает елочные игрушки-самоделки, как мы советуем на плакатах, и мама обещала купить ему елку, а теперь заболела, купить не может: игрушки вышли очень красивыми, а их уже некуда повесить. Мальчик говорит так просто и искренне, с таким раскаянием, что всем захотелось помочь ему.– Привези-ка ты свои игрушки сюда, – сказал народный комиссар торговли И. Я. Вейцер, который был в комнате во время этого разговора. – Ты читал – у нас тут объявлен конкурс.
Мальчик волновался и плохо понимал, что ему говорили. Вейцер взял его за руку, подвел к своей машине и сказал шоферу.– Отвезите мальчика домой и подождите его. Он возьмет свои игрушки, тогда привезете обратно.
Мальчик с восторгом и недоверием посмотрел на машину.– Он тоже со мной поедет? – спросил он, глядя на милиционера.
– Нет, зачем же, мы тебе доверяем.
Через двадцать минут мальчик вернулся с ящиком игрушек, очень изобретательно сделанных из кусочков жести, спичечных и картонных коробок.– Ну что же, – сказал Вейцер, – если товарищи не возражают, мы присудим тебе премию – елку с угощением для тебя и твоих гостей, но, конечно, если ты дашь пионерское слово, что тот твой проступок никогда не повторится.
Когда мальчик с елкой, коробками игрушек, конфет и фруктов снова сел на совнаркомовскую машину, сияние его глаз на несколько минут затмило всю нашу иллюминацию. Вейцер все больше и больше увлекался моим главным – театром для детей. После нашей первой встречи я называла его лучшим моим слушателем. Да, никогда и никому в жизни мне не было так интересно что-нибудь рассказывать, как ему. Мысль моя, когда он слушал, давала неожиданные молнии и радуги. У него была поразительная сила восприятия. Когда мы уже были мужем и женой, я на каждом шагу видела его подлинную скромность, скромность во всем, но однажды стала в тупик. Вадим Рындин для «Сказки о рыбаке и рыбке», детской оперы Половинкина, требовал синий панбархат. Ну где я ему возьму настоящий панбархат, да еще в таком количестве?! А придумал он красиво: золотая из парчи огромная рыбка, чуть апплицированная красным на синем, глубокосинем панбархатном фоне. Все администраторы избегались по «низовым торговым точкам»… Дома я иногда говорила о делах, но вскользь, без просьб. А однажды:– Скажи, к кому из заместителей наркома внутренней торговли лучше обратиться – к Хлоплянкину или Болотину – за этим бархатом? Безвыходное положение.
Вейцер помолчал, потом сказал:– Хлоплянкин сможет помочь, но не захочет. Болотин захочет, но не сможет. А, может быть, тебе обратиться… к народному комиссару?
– Не могу, – сказала я жалобно и добавила. – Он принципиальный, скромный, он мне муж.
– На платье тебе он бы панбархат из фондов никогда не дал, да и ты бы не попросила. А Центральному детскому театру помочь – дело правильное.
На следующий день я звонила в Главтекстиль товарищу Шварцбергеру, и тот, услышав только мою фамилию, буквально закричал:– Когда же вы заберете ваш синий панбархат? Мне нарком еще две недели назад дал указание ждать вашего звонка, бархат дефицитный, лежит без дела, никто его не берет, и я в дурацком положении.
Такой был Вейцер! Однажды я получила письмо из города Электростали. «Дорогая Наталия Сац! Мы организовали драмкружок имени Наталии Сац, поставили много спектаклей и получили премию. Сейчас у сацистов большая радость: мы подготовили вашу пьесу «Фриц Бауэр». В первый раз она пойдет в следующее воскресенье в два часа дня на сцене большого клуба. Сацисты очень просят вас приехать на поезде до Ногинска (завод «Электросталь»)». У меня болела печень, настроение отвратное, а тут еще… «сацисты»! И так фамилия некрасивая, а при производных – кошмар! Но Вейцер был в полном умилении. Не спросив меня, он на то воскресенье заказал и «оснастил» машину, с раннего утра сел в передней на кухонной табуретке, подстелил газету и, напевая странную песню на одной ноте, стал начищать свои ордена мелом. Вообще-то он орденов никогда не носил, тем более странно…– Почему ты не даешь мне спать! И что ты поешь – арию князя Игоря?
– Ну как ты догадалась? – ответил он весело.
– Что ты делаешь?
– Готовлюсь к отъезду вместе с тобой в Ногинск на парадный спектакль.
– Ты меня даже не спросил, как я себя чувствую и хочу ли ехать?
– Не поедешь – я один поеду.
– Что это ты вдруг?
– Уважаю сацистов, потому как, – он понизил голос, – может, я сам «сацист».
Засмеялись. Поехали. Сколько неизжитой нежности и детской наивности было в этом большом человеке! Один восьмилетний товарищ на спектакле в Электростали уселся к нему на колени, одной рукой обхватил его шею, а другой гладил его ордена.– И хороший у тебя этот значок, дядя! Где ты его купил? Похож на орден Ленина.
Дети были славные, кто он такой, понятия не имели – «приехал с Наталией Ильиничной». Спектакль был неплохой, живой, потом мы посидели в «уголке сацистов», очень хорошо побеседовали, остались всем довольны и поздно вечером вернулись домой. Печень мою подрастрясло, но нельзя же предпочесть ее всему остальному! Все же дня на три-четыре она меня в постель загнала. А муж непривычно нервничал. Только в следующую субботу утром я поняла почему: оказывается, он пригласил детей с завода «Электросталь» к себе в Дом правительства «с ответным визитом». Вот чего от него никогда не ожидала! На пяти машинах явились к нам рабочие ребятишки вечером. На столе были сыр, колбасы, ветчина, конфеты, орехи, торты, фрукты. Я диву далась! Это был чудесный вечер. Ребята сияли от восторга – Дом правительства. Народный комиссар! Они доверительно сообщали нам о своих трудностях и секретах, о мечтах и стремлениях. Израиль Яковлевич нашел с ними полное взаимопонимание. Щадить себя в работе Вейцер не умел. Работал по шестнадцать часов. Двенадцать ночи. Завтра в девять утра репетиция, а спать идти не хочется – целый день не виделись, и он еще… не обедал. За обедом этим часа в два-три ночи надо рассказывать о новых постановках, кто будет играть куклу Мальвину, кто лису Алису – иначе он не переключается со своих торговых дел и совсем не будет спать. Вот с двенадцати ночи и начинаешь «взывать» по телефону. Телефонов на его письменном столе четыре, и по всем один ответ:– Работаю, жди, скоро приду.
Вейцер поразительно сочетал молчание, кажущуюся угрюмость с излучением пламени глаз. Сиянию его глаз я удивлялась много раз, но особенно запомнилось 31 декабря 1936 года. Он вернулся с работы поздно, вошел в столовую и… обомлел. Я купила и нарядила ему елочку, зажгла свечи. Какое счастье делать что-то для человека, который так может ценить и радоваться даже маленькому вниманию!– У меня еще никогда не было елки.
Детство он провел в бедности – такими словами об этом никогда не говорил, но два эпизода врезались в память с его слов.– Больше всего я боялся субботы. Мать Хана сажала в одно корыто нас троих – брата Иосифа, брата Наума и меня – и мыла одной мочалкой. Маме было некогда, мы вертелись, мыло попадало в глаза – крик, подзатыльники. Мальчишки были мы грязные – бегали босиком по лужам, а корыто одно. Я один раз сказал: «Бог, если ты есть, сделай, чтобы не было субботы».
Он провел детство в местечке Друя бывшей Виленской губернии, на берегу Западной Двины. Две пароходные фирмы конкурировали друг с другом: «Кавказ и Меркурий» называлась одна из них, «Самолет» – другая. Конкуренция повела к рекламному снижению цен на билеты, и в конце концов одна из фирм в пылу азарта объявила, что будет провозить пассажиров бесплатно и каждый, кто предпочтет именно данную фирму, получит еще бесплатно и булку. Услышав это, мама Хана решила немедленно послать маленького Израиля погостить в город Дисну к Нейме, папиной сестре. Но когда мальчик пожил там несколько дней, рекламная кампания кончилась, цена на пароходные билеты по-прежнему осталась дорогой, и много унижений пережил мальчик, слушая попреки тетки:– Интересно, кто это будет теперь тратить деньги тебе на обратный билет?!
Когда он подрос, в реальное училище не попал из-за процентной нормы, но блестяще сдал за весь курс экстерном [23] . В Казани сдал экзамены и был принят на юридический факультет (из 350 евреев могли поступить только 18 самых лучших – 5 процентов нормы). В 1912 году в Казани был зачитан среди профессоров и студентов его реферат по социальным вопросам, который привлек внимание полиции, и после участия в студенческой демонстрации против Ленского расстрела Вейцер был арестован и выслан из Казани. Это был не единственный арест, трудности нагнетались. Однако И. Я. Вейцер умудрился окончить два факультета в Казанском университете и физико-математический в Политехническом институте в Ленинграде (три высших образования). О периоде жизни в тогдашнем Петербурге Израиль Яковлевич рассказывал мне сам:– Моей главной надеждой на первые дни был новенький учебник – рубль стоил. Так было обидно – букинист дал сорок пять копеек. Почему? Учебник совсем новенький был, а пятьдесят копеек, знаешь, какие для меня были деньги!
Ел в столовой, где прочел надпись: «Покупающий хотя бы на одну копейку гарнира может есть сколько угодно хлеба». Я покупал гарнира ровно на копейку, а хлеб ел со всех столов. Заметили. Вывели… Со мною он был весел и разговорчив, конечно, в меру своего характера. Вообще-то говорила главным образом я, а он был и на всю жизнь остался лучшим, самым вдохновляющим слушателем. О его немногословии ходили не подкрепленные фактами легенды. «Краткость – сестра таланта». А талантлив в своей работе он был по-настоящему. Его докладные записки в Совнарком умещались на одной странице, а то и в несколько строк, но решения всегда были положительные. Ему верили. За этой краткостью была абсолютная продуманность во всем, исчерпывающее знание вопроса.– Когда Израиль Яковлевич готовит материал, с ума сойти можно, – жаловался мне его первый заместитель Михаил Иванович Хлоплянкин. – Он изучает такое количество докладов, фактов, протоколов – точно это не текущий вопрос, а докторская диссертация!
Но как его ценили! Доктор, прикрепленный к нему, наведывался почти ежедневно – здоровым при том образе жизни, который вел Вейцер многие годы, он быть не мог. Вейцер больше всего на свете ценил и берег доверие партии. Когда он уезжал по делам за рубеж и оставлял мне ключи от несгораемого шкафа, между нами неизменно происходил один и тот же разговор.– Я тебе все оставляю.
– А что у тебя есть?
Взгляд строгий и удивленный.– Партийный билет и ордена.
За границей у него был «белый лист» – все его расходы правительство признавало своими. Как дорого это было ему и как дешево обходился государству его белый лист! Он для меня был идеалом большевика-ленинца. Однажды он обратился ко мне как к «знаменитому режиссеру», называя на «Вы»:– Скажите, что вам было труднее делать – праздник в Большом театре или елку на Манежной площади?
– Конечно, в Большом легче.
– Сколько вам заплатил Московский Совет за Большой театр?
– Меня премировали благодарностью, пятью тысячами и машиной М-1.
– Значит, если Московский Совет дал вам пять тысяч, Наркомторг должен заплатить вам по крайней мере шесть?
– Наверное.
– А если вы – жена наркома?..
– Тогда, наверное, не заплатят ничего.
– А если я вас буду любить за это еще больше?
– Тогда мне будет как раз достаточно.
Как трудно найти слова, чтобы написать о том, кто был самым большим счастьем и самым страшным горем моей жизни. Но о горьком не хочу говорить: есть раны, которые не заживают, а причинять боль себе и другим – зачем? Я его потеряла. Но он навсегда со мной в сердце и памяти. Мозаика счастья Уехать в отпуск было мне всегда очень трудно… А как театр без меня – вдруг что-нибудь случится, а меня нет… А как же я без театра? В сердце и мыслях – круговращение неоконченных наших дел и новых планов… Но когда вершина счастья, вершина мечтаний была достигнута – Центральный детский создан, – выяснилось, что силы мои поизрасходовались, врачи решительно потребовали отпуска. И вот меня принимает «Барвиха». Говорят, это один из лучших санаториев мира. Верно, так оно и есть. Огромный сад, река, лес, отличные врачи. Радостно отдыхали и лечились там в тридцать седьмом многие ученые, государственные деятели, выдающиеся артисты, среди которых был и сам Станиславский… Я вдруг почувствовала прилив радости и смущения одновременно. Как давно я не общалась с работниками театров для взрослых, целиком жила в нашем Детском, как говорят, «за деревьями леса не видела». Так захотелось стать поближе к великим современникам! Рубен Николаевич Симонов многими своими чертами напоминал мне Евгения Багратионовича. Наслаждалась прогулками с ним на лодке. И говорить с ним было интересно, и молчать хорошо, и веслами работал он отлично. Порой казалось, снова вернулось детство, и это не Симонов, а Вахтангов, плыву с ним снова на лодке по Днепру… Рубен Николаевич обожал своего учителя – я тоже. Мы оба были молоды, творчески счастливы нашим сегодня, верили в свое чудесное завтра и хохотали по каждому поводу. Прогулки на лодке после утренних процедур вошли в наш быт. Однажды мы чуть не наехали на далеко заплывшую Варвару Осиповну Массалитинову. В родном Малом театре она играла роли властолюбивых старух, и сама была большая, «в теле», с крупными чертами лица, голосом, словно самой природой предназначенным для ролей русских крепостниц, обладала она и чудесным сочным юмором. С ней было хорошо.– Мало тебе Центрального детского, на Малый хочешь наехать! – закричала она мне, неожиданно оказавшись под нашей лодкой и ухватив полными руками весло Рубена Николаевича.
Он, видимо, не сразу понял, в чем дело, поднял весло, отчего наша знаменитая комическая старуха на несколько секунд оказалась под водой, а когда ее голова снова высунулась на поверхность, она крикнула:– Сосчитаюсь с тобой, Корсар Вахтангович, – и поплыла к берегу. Рубен Николаевич как истый джентльмен поплыл вслед за ней, боясь, что после неудачи с веслом Варвара Осиповна может устать, но она повернулась к нам, скорчив комически-злодейскую гримасу, а затем закричала по направлению к берегу:
– Девки, идите меня из воды тащить.
Гревшиеся на берегу в каких-то пестрых размахаях Варвара Николаевна Рыжова и Евдокия Дмитриевна Турчанинова – каждой из них в то время было под шестьдесят – моментально скинули халаты и в подобии купальников забарахтались по реке навстречу той, к повелениям которой за свою театральную жизнь привыкли во многих спектаклях на сцене Малого театра. Михаил Михайлович Климов, тоже артист Малого театра, знал такое количество анекдотов, забавнейших историй из жизни русских актеров, что идти с ним гулять было и заманчиво и опасно – о всех лечебных процедурах забудешь. Он был весь пропитан театром, его сценой и кулисами, жизнью актеров столицы и провинции. Михаил Михайлович рассказывал много об артисте императорского Малого театра Федоре Гореве. Климов всегда умел заметить в артисте среди забавного и подчас скандального и бескорыстно-благородное. Казалось, будут одни анекдоты, а неожиданно возникало доброе, человечное. Так и с Горевым: после ряда трагикомических коллизий по пьянке вдруг ночью в трактире около Страстной площади в Москве за душу берет его музыка юноши-скрипача, черноволосого, невзрачного.– Иди ко мне, выпьем.
– Не пью.
– А сыграть, что попрошу, можешь?
– С удовольствием. Спасибо вам, а то ведь так обидно: тут никто музыку и не слушает.
Скрипач играет много. Горев и пить перестал и вроде даже протрезвел.– Скрипач! Есть хочешь?
– Хочу.
– Хорошо, брат, с душой играешь. Зачем в трактире свой талант убиваешь?
– Приехал в Москву. В консерваторию приняли, но… еврей я. Прописаться нельзя. А от консерватории уехать никак не могу. Днем на некоторые предметы допускают, а всю ночь здесь играю. Без жилья живу.
Утром Федор Горев проспался, а скрипача не забыл. Побрился, приоделся и решил поехать к самому градоначальнику просить «не дать погибнуть большому таланту». Московский градоначальник принял Горева любезно, но в просьбе отказал:– Еврей. Жить в Москве ему не положено. Горев был уже в дверях, когда градоначальник иронически добавил:
– Если найдется русский, который решит усыновить и крестить этого великовозрастного еврейчика – тогда только у него могут быть шансы учиться в Московской консерватории. Но– вы сами понимаете, как это было бы смешно.
Когда Михаил Михаилович Климов об этом рассказывал, я ясно видела этого градоначальника, да и всех действующих лиц этой печальной истории.– Но если в голову Федора Горева крепко заходила какая-нибудь фантазия, остановиться он не мог и не хотел, – продолжал Климов. – Он крестил и усыновил скрипача, которого услышал в трактире, помог ему учиться и закончить консерваторию.
– И тот скрипач стал хорошим музыкантом?
– Ну уж это судите сами, – хохотал Климов, очень довольный наивностью слушателя, – он стал Юрием Федоровичем Файером. Сначала был Горевым, а потом уж его родной отец попросил Юрия в качестве «псевдонима» взять свою настоящую фамилию, а на «Федоровича» навсегда согласился.
Юрий Файер, прославленный дирижер балета Большого театра!.. Утро в «Барвихе» – всегда праздник. Распахнешь окно и дивишься огромным деревьям, продольным, по всей аллее, клумбам с ярко-красными цветами. Солнце тем летом не уставало светить с полным накалом. С кем пойду гулять сегодня? Столько интересных «коллег», каждый из них так давно знает русский театр. Но вот в дверь входит Екатерина Павловна Корчагина-Александровская. До чего же у нее выразительное лицо! Совсем не красавица, нос отчаянно курносый, улыбка озорная, глаза узкие, быстрые, фигурка какая-то карманно-уютная. Сколько в ней обаяния! Екатерине Павловне очень нравятся мои бусы и клипсы – у меня они лежат на столе и на тумбочке. Екатерина Павловна надевает себе украшения на шею, на уши, в волосы – смотрится в зеркало. Довольна.– И где ты столько фидергалок набрала? Что значит слово «фидергалки», я не знаю – она, верно, сама это смешное слово тут же выдумала.
– Что б мне раньше с тобой познакомиться, когда я в оперетте работала? Я бы всех соперниц за пояс заткнула. Гляди – вся переливаюсь.
На стуле висит мой розовый халат, длинный, с оборками. Екатерина Павловна шикарным жестом накидывает его на себя. Она меня ниже – вот-вот запутается и упадет… Ничего подобного, ловко берет нижнюю оборку двумя пальцами, поет куплеты Адели из «Летучей мыши» Штрауса и пританцовывает так, что забываешь и возраст и внешность – столько шику! Видя мой восторг, она поднимает юбки выше и исполняет канкан. Потом, правда, позадохнулась, выпила мой кефир, села и, снимая украшения, сказала невесело:– Я ведь в оперетте в провинции играть начинала на каскадных ролях. Замуж вышла, дочку родила, успеха настоящего не было, муж, герой-любовник «с манерами», вечно без ангажемента. Бывало, в какой-нибудь городишко на сезон контракт подпишет, я немного с долгами распутаюсь, думаю, он приедет, тоже денег привезет, и вдруг муж досрочно возвращается. Конечно, без всякого предупреждения, конечно, пьяный. «Катиш, mа реtitе. Там директор – мерзавец. Порвал. И без тебя – это не жизнь. Мa сherie, я на извозчике приехал, выйди, заплати ему, а то он сюда ввалится. Маuvais ton». Последние свои копейки по карманам соберешь, а вечером… пляши, изображай на голодный желудок какую-нибудь графиню.
Лет двадцати восьми Екатерине Павловне случайно пришлось «выручить театр», сыграть вместо заболевшей актрисы роль старухи.– И поняла я тогда – вот мое дело на сцене. Я недоумеваю:
– И не хотелось вам больше молодые роли играть?
– Ни в жизнь не хотелось. Чужие они мне были – в ролях старух свое нашла. Тут и жизнь другая началась.
В тысяча девятьсот тридцать седьмом Е. П. Корчагина-Александровская гремела на весь Советский Союз и в трагедийных и в комических ролях. Но из всех встреч в «Барвихе» особенно значительными были для меня беседы, живое общение со Станиславским. Казалось, Константин Сергеевич вернул мне все тепло моего детства. Я вспомнила Евпаторию, где проводила лето вместе с артистами МХАТа. Вспомнила, как, еще будучи подростком, сыграла роль Наталии Дмитриевны Горич в «Горе от ума» А. С. Грибоедова и Константин Сергеевич похвалил меня, а это уже могло стать путевкой в театр. Конечно, Художественный. Так уж было положено – дочери Ильи Саца искать театральное свое счастье только на этой сцене. Я занялась созданием нового, Детского театра. То, что встала на свой путь, было, по мнению некоторых моих театральных прародителей, почти дерзостью, и произошло какое-то отчуждение между мною и великими. Первый рывок мой к ним был в конце двадцатых годов на юбилее артиста А. Л. Вишневского. В детстве не раз слышала рассказы родителей, как горячо и наивно любил Вишневский Константина Сергеевича, как одним из первых поверил в совсем новую тогда систему Станиславского, с какой непосредственностью Станиславский говорил, что, когда ставишь пьесу, надо прежде проверить ее восприятие на ком-либо из тех, кто так же прост, как средний человек из публики, и когда Константина Сергеевича спрашивали: «Ну, и кому же вы тогда пьесу читаете?» – Константин Сергеевич отвечал серьезно и убежденно: «Вишневскому, всегда Вишневскому». Запомнила я Александра Леонидовича в роли Блуменшена в спектакле «У жизни в лапах». Мы с Ниной видели этот спектакль раз двадцать. Он был вечерний, все билеты всегда проданы, мы сидели на ступеньках в бельэтаже, как нам велели, очень тихо, и в ожидании пока папа кончит дирижировать, а мама петь в хоре, неизменно засыпали, но в конце спектакля просыпались, когда появлялся негр, и мы его пугались – не понимали, конечно, зачем он вышел на сцену… Теперь, на юбилее Вишневского, я снова смотрела этот спектакль. Вдруг кровно, до боли сильно ощутила, как мне дороги артисты Художественного театра, как много дали они мне прекрасного, что раньше не могла проанализировать, но что прорастало уже давно в сердце. Эта огромная творческая благодарность поднялась со дна души, и когда после спектакля увидела за юбилейным столом на сцене Качалова, Москвина, Книппер-Чехову, Станиславского, Лужского – многих дорогих и любимых, – и мне дали слово для приветствия, я говорила взволнованно о том, что думала и чувствовала: «Разве было бы возможно цветение советского театра «сегодня», если бы такие изумительные энтузиасты русского театра еще «вчера» не подготовили благодатную почву для понимания главного в искусстве – его правды. Разве не такие люди, как Вишневский, научили нас понимать, что нет маленьких ролей – есть маленькие артисты, что уметь все отдавать жизни коллектива, всего себя вкладывать в любую роль – большой трудовой героизм…» Так единодушно, как тогда, мне, кажется, никогда в жизни не аплодировали. Неожиданно получился какой-то мостик времен, и, когда я отдала цветы и ушла, люди все хлопали, даже встали с мест, аплодируя, а Москвин снова вытащил меня на сцену и громко сказал:– Ну и здорова ты, мать, говорить.
В тысяча девятьсот тридцать третьем году Константин Сергеевич прислал мне очень теплое письмо, когда было пятнадцатилетие моей работы в Детском театре, – об этом уже писала. Теперь, в «Барвихе», я получила возможность почти ежедневно видеть Константина Сергеевича на скамейке под тенистым деревом, радоваться его пронесенной через всю жизнь нежности к Марии Петровне Лилиной и ее трогательным заботам. Да, я смотрела на них с благоговением, восхищалась гармонией их любви. Вспоминал Константин Сергеевич Айседору Дункан, ее танцы, ее восхищение музыкой моего отца, вспоминал Крэга, а особенно нежно и весело – Сулержицкого. Но, конечно, мне особенно дороги были его высказывания о Детском театре.– Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание Детского театра с детского возраста? – говорил он. – Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребенка. Эта страсть перевоплощаться у многих детей звучит ярко, талантливо, вызывает подчас недоумение даже у нас, профессиональных артистов. Что-то есть в нашей педагогике, что убивает эту детскую смелость инициативы, и потом, только став взрослыми, некоторые из них начинают искать себя на сцене. А вот если устранить этот разрыв, если объединить талантливых ребят в Детский театр в расцвете их детского творчества и уже с тех пор развивать их естественные стремления – представляете себе, какого праздника творчества можно достигнуть к их зрелым годам, какого единства стремлений!
Что бы Константин Сергеевич ни говорил в то лето, меня все восхищало: я словно грелась у какого-то величественного, вечно полыхающего новыми и новыми огнями камина бесконечно дорогого, но почему-то мною забытого, а теперь Станиславский словно возвращал мне это чувство. Но самыми интересными были вечерние читки у Станиславских. Константин Сергеевич тогда писал книгу «Работа актера над собой», и после ужина мы все собирались в его большой комнате. Я ловила каждое слово, жест, мысль, все подтексты великого учителя. Его книгу «Моя жизнь в искусстве» знала почти наизусть, и вот на наших глазах рождалась новая книга Станиславского. Константин Сергеевич каждый вечер читал нам две-три «почти законченные», как он говорил, главы, просил нас совершенно откровенно высказываться и давать советы. Как сейчас помню большой деревянный стол во второй комнате Станиславских, всех, всех, без исключения, артистов, отдыхавших в то время в «Барвихе». Станиславский был всеобщим кумиром, всесильным магнитом – все развлечения, «личные дела» отходили далеко на задний план. «Красавец-человек» – сказал о нем Горький. И как было дорого, что великий артист советовался с нами, как с равными! Рубен Николаевич Симонов высказывался о прочитанном вдумчиво, почтительно и интересно. Михаил Михайлович Климов, Массалитинова иногда тоже «брали слово». Некоторые артисты Малого были, по существу, далеки от системы Станиславского, но очень польщены его приглашением, наслаждались общением с ним, и их выразительные лица говорили о почтительном восхищении. Мне больше нравилась «Моя жизнь в искусстве» – образы Торцова, Говоркова, Шустова казались мне ненужными, форма, найденная Константином Сергеевичем для новой книги, – несколько нарочитой. Но разве в атом дело?! По существу, «Работа актера над собой» – книга значительная и нужная. Она дает новые и новые творческие импульсы, вновь и вновь будит в том, кто ее читает, воображение, фантазию. «Воображение создает то, что есть, что бывает, что мы знаем, а фантазия – то, чего нет, чего в действительности мы не знаем, чего никогда не было и не будет. А может, и будет! Как знать! Когда народная фантазия создавала сказочный ковер-самолет, кому могло прийти в голову, что люди будут парить в воздухе на аэропланах? Фантазия все знает и все может. Фантазия, как и воображение, необходима художнику». Да! да! Неустанно расширять свой кругозор, острее наблюдать жизнь самых разных людей, общаться с ними, по отдельным черточкам их поведения и слов «довоображать», что движет их поступками, развивать свою фантазию… а слова о ковре-самолете – это уже надо впрямую использовать во вступительных словах перед нашими сказочными спектаклями… После читок М. П. Лилина оставляла нас обязательно пить у них чай. Все мы в «Барвихе» прекрасно питались, но, возбужденные обществом Станиславского, искренне считали сушки и хлебцы с изюмом вкуснейшей едой. Константин Сергеевич очень любил воспоминания старых актеров о прошлом русского театра, интересные случаи из жизни уже ушедших от нас актеров. «Душой» этих разговоров был Климов. Трудно было понять, где кончается правда и начинаются «художественные преувеличения» типа охотничьих рассказов, но мы, слушатели, были очень довольны. Когда Станиславский через несколько дней прочел нам главу, о которой расскажу сейчас, мы искоса посматривали на Михаила Михайловича, а он, как ни в чем не бывало, был польщен нескрываемо. Станиславский читал еще рукописное: «Про гениев, пожалуй, не скажешь, что они лгут. Такие люди смотрят на действительность другими глазами, чем мы. Они иначе, чем мы, смертные, видят жизнь. Можно ли осуждать их за то, что воображение подставляет к их глазам то розовые, то голубые, то серые, то черные стекла? И хорошо ли будет для искусства, если эти люди снимут очки и начнут смотреть как на действительность, так и на художественный вымысел ничем не заслоненными глазами, трезво, видя только то, что дает повседневность». Но вот однажды, развив глубокие мысли о том, как актер должен себя чувствовать, выходя на сцену, как готовить себя к сценически правдивому самочувствию, осознавать задачи и сверхзадачу, Константин Сергеевич, закрывая тетрадь, спросил вдохновенно:– Ну как? Скажите откровенно, согласны вы со мной? Очень хочется слышать мнение Екатерины Павловны.
Действительно, в этот вечер она слушала очень активно – ее голова, глаза, губы все время были в движении. Корчагина-Александровская ответила на той же искренне вдохновенной ноте, на которой ее спросил Станиславский:– Слушала и диву давалась. До чего ты, батюшка, умен, до чего учен!.. Только если бы я обо всем, о чем ты тут понаписывал, когда на сцену выхожу, думала – я б и роль забыла.
Раздался смех, конечно, необидный: уже очень искренне, с какой-то ей одной присущей интонацией Екатерина Павловна это сказала, но Константин Сергеевич постарался развеять некоторую неловкость:– Вот пример самобытного дарования, масштабы которого исключают необходимость в каких бы то ни было теориях. Но большинству актеров…
Почти хором мы все подтвердили, что большинству его система дает золотой ключ – мы действительно так считали. Кроме этого большого мира в «Барвихе» были у меня и милые маленькие мирки, которые всегда появляются на отдыхе. Ела я в своей комнате, потому что печень моя требовала жесточайшей диеты. Так обидно! В меню стояло столько всего вкусного, а мне носили протертый суп и изо дня в день овсяную кашу. Жалела меня только молодая буфетчица Машенька, с дочкой которой я завела большую дружбу.– Когда будет у тебя время, – нередко говорил муж, – заходи посмотреть, как идут дела в моих «театрах», хорошо? – Так в шутку называл Вейцер магазины и «торговые точки».
Поблизости были только ларьки. В одном из них сидел розовый, сероглазый юноша с белозубой улыбкой, и, так как торговлей он отнюдь не был утомлен, иногда я вела с ним такие диалоги:– Здравствуйте, скажите, что хорошего есть у вас в ларьке?
– Ларешник, – отвечал он, высовываясь из деревянного окошка почти до половины.
– А как вас зовут?
– Звали Ванюшей. – Чудесная улыбка, я покупаю какие-то ненужные мне нитки – он очень доволен.
Мне нравилось пошутить с милым ларешником – нередко я покупала у него мелочи, и однажды спрашивала уже не я, а он.– Интересуюсь узнать, вы в девушках или при муже?
– При муже.
– А чем он, если не держите в секрете, занимается?
– Он тоже работник торговли, как и вы.
– Где торгует?
Говорить, какой пост занимает Вейцер, в этой ситуации бестактно. Маленькая пауза.– Муж мой торгует где придется, в общем – везде.
– Значит, вразнос, вручную – ну, мне в ларьке сподручней.
Надо было видеть восторг Вейцера, когда он почувствовал себя «ручным торговцем», торгующим пирожками или пряниками «вразнос», где придется. Он обладал прекрасным чувством юмора, доверие друг к другу у нас с ним было абсолютное, и мы были очень счастливы. Хорошо бы быть всегда такой же счастливой, как тем летом. Но кто-то из великих сказал: «Всегда – это спутник с неверным сердцем». Почему-то очень часто вспоминала эпизод перед закрытием сезона Центрального детского того года. На спектакле «Негритенок и обезьяна» в первом антракте я заметила шестилетнего мальчика в матроске, который горько плакал. Как только началось действие, слезы его высохли, но полились с новой силой во втором антракте. Напрасно старалась его утешить молодая мама, мальчик плакал все горше. Я подошла узнать, почему он плачет:– Ему не нравится наш спектакль?
– Наоборот, очень нравится, – горячо возразила мама мальчика и добавила: – Он потому и плачет – боится, что спектакль скоро кончится.
Милый мальчик, я часто думала о твоих словах… Впрочем, разве это удивительно? Я часто говорила: жизнь – явление полосатое. Может быть, то, что яркая, солнечная полоса сменяется темной, и хорошо – ведь только тогда по-настоящему ценишь возвращение солнца. Жизнь – явление полосатое… Шестипалый Солнце раздвинуло щели моих занавесок раньше, чем обычно. На часах было только семь утра, на календаре, стоявшем на письменном столе рядом, – двадцать первое августа 1937 года и запись о том, что к десяти часам утра вызвана к новому председателю Комитета по делам искусств. После зарядки и душа быстро оделась и села за стол. Надо набросать план ответов, если он спросит о перспективах работы нашего Центрального детского театра в предстоящем сезоне. Конечно, немножко жалко было прерывать отпуск за пять дней до его окончания. Я уже писала, что в санатории «Барвиха» этим летом одновременно со мной отдыхали Константин Сергеевич Станиславский, Мария Петровна Лилина, Екатерина Павловна Корчагина-Александровская, Рубен Николаевич Симонов. Уже с вечера мы готовили друг для друга планы «увеселительных прогулок», состязаний на реке, а вечером все вместе собирались у Станиславских. Константин Сергеевич вслух читал нам главы своей новой книги, называл меня «маленькой Наташей Сац», хотя мне было уже тридцать четыре, и вспоминал мои детские годы, неотрывные от Московского Художественного театра. Каждая встреча с ним была для меня праздником. Зазвонил телефон. Муж был уже на работе, в «Барвиху» он приезжал не раньше десяти часов вечера. Огорчился, что меня вызвали в Москву, и сказал, что сейчас же вышлет за мной машину. Это было совершенно излишне, но как еще один знак его заботы тоже радовало. Мне по службе тоже полагалась машина, но муж называл ее «керосинкой на колесах» и всячески от нее оберегал. В секретариате Председателя Комитета по делам искусств за своим столом сидела секретарь Дина Львовна Богомазова, напротив – скромный шатен, который, как мне показалось, даже не заметил моего появления. Дина Львовна улыбается:– Вы прекрасно выглядите, а взятая вами накануне отпуска новый секретарь, ее фамилия, кажется, Цурюпа, напугала нас слухом, что с вами произошло что-то особенное…
Я пожимаю плечами:– Вы говорите о бывшей жене брата Цурюпы, я ее взяла по чьей-то рекомендации и почти не знаю. Ну, а я – жива, здорова.
Разговор прерывает звонок из кабинета председателя Комитета. Видимо, не хочет меня задерживать. Вызывает. На входной двери его кабинета читаю фамилию «Рабичев». Я с ним прежде не встречалась. Вхожу. Он встречает меня, кивком головы приглашая сесть напротив него. Товарищ Рабичев маленького роста. Он почти тонет в большом, не по росту, кресле. Разговор начинается сугубо официально: начальник просит меня доложить репертуарный план театра. Отвечаю охотно: наши планы продуманны и, как мне кажется, интересны. Перед начальником – блокнот. В правой руке – карандаш. Но он ничего не записывает. Смотрит как-то мимо меня. Безразличным голосом «цедит» еще один-два вопроса. И вдруг я замечаю его левую руку. Она лежит на столе поодаль от правой, маленькая, и на ней… шесть пальцев. Меня вдруг охватывает страх. Не может быть. Да! Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Шесть! Так не бывает. Не иначе, волнение сбило меня с ног и поставило на голову. Начальник больше ничего не спрашивает, прощается:– Продолжайте дальше ваш отпуск…
В сердце вползает беспокойство. Разговор, по-существу, не состоялся. Выходя из кабинета, хочу спросить об этом Дину Львовну, но ее в секретариате уже нет. Один только шатен. Неожиданно он подходит ко мне сам:– Простите, Наталия Ильинична, мы не знакомы. Но кто же вас не знает! Здравствуйте. Я, как и вы, возмущен стремлением опорочить ваше имя. Сейчас много клеветников, но когда в их числе ваш секретарь – следует насторожиться.
Отвечаю с привычным апломбом:– Спасибо! Учту ваш совет.
Неожиданно он отвечает с неменьшим апломбом:– Тем более, что разговоры идут… о вашем аресте… Видно, шесть пальцев Рабичева крепко давят на мою голову.
«Бред… абсурд какой-то… Но если так, я должна буду принять какие-то меры…» – говорю я в состоянии шока.– Если разрешите, я вам помогу…
Шатен неожиданно изменил темп разговора, ловко взял меня под руку и повел к лифту. В голове калейдоскоп мыслей: подобие благодарности посочувствовавшему мне человеку, желание покончить как-то с клеветой, сожаление, что опоздаю к обеду в «Барвиху» и… неотступное чувство страха при воспоминании о шести пальцах Рабичева. Около комитетского подъезда стояло несколько машин. Я хотела подойти к красивой машине мужа, но шатен посоветовал мне сесть с ним в потертый газик и с полуулыбкой пояснил, что дело у нас конфиденциальное и мне не стоит афишировать себя нарядной машиной. Когда мы подъехали к импозантному зданию на Лубянской площади, где я до этого никогда не была, странным показалось то, что мы вошли через низкую железную дверь во дворе. Шатен ввел меня в небольшую комнату, дал мне стул и ушел. Я, уже в состоянии шока, просидела в этой комнате часа два. Потом из стены (да, да – из стены!) выскочил черный человек с железным голосом и закричал:– Вы знаете, зачем вы здесь? Вы арестованы!
–?!
В камере Когда меня ввели в камеру, зазвенел ключ, которым заперли дверь с обратной стороны, я словно окаменела. Полное непонимание происшедшего. В комнате было шесть чисто застеленных железных кроватей, четырехугольный стол, стулья, закрытое железом окно и женщины, которые шарахнулись в сторону при виде меня:– И вы… сюда?
– Да… – без всякой интонации ответила чужим голосом.
Меня о чем-то спрашивали, я отвечала механически, не всегда впопад. Моего «я» в этой комнате еще не было, только черное полосатое платье, пояс с которого сняли, когда вводили в это… пространство. Мысленно продолжала жить по своему календарю. Скоро сын вернется с теннисной площадки – посадить его за математику. Повести дочь к доктору – гланды. Через несколько дней сбор труппы после отпуска в Центральном детском. Приветственное слово сжать и сразу – на сцену репетировать. Но… что-то сломано. Уснула мгновенно, как камень, брошенный в воду. Нет, это по мне ударил неизвестно откуда взявшийся камень. Когда утром подняла голову с подушки, не поняла, где я, а соседка по кровати, взглянув на меня, всплеснула руками и, издавши странный звук, зажала себе рот. Много позже, когда шагала по сибирскому снегу и увидела свое отражение в еще не замерзшей луже, поняла, почему на меня смотрели в тот день с испугом: за одну ночь мои каштановые волосы стали седыми, вернее – белыми, как парик маркизы. Следующий день был еще страшнее. Ввели женщину лет пятидесяти и заперли с той стороны дверь. Она несколько минут стояла неподвижно, с остановившимися зрачками. Понять, что с ней произошло, она, конечно, не могла. Два часа назад она была еще дома. Муж – тоже. Оба – профессора химии. Орденоносцы. К вечеру в камеру ввели сутулую старую женщину, как мы узнали позже, врача-гинеколога. Ее арестовали на улице, по дороге из больницы домой. От нервного потрясения она долго не могла говорить, и в тишине камеры только громко стучали ее зубы. Чужое горе заставляет хоть на несколько минут перестать думать о своем: надо напоить водой, увести от навязчивых мыслей… Вспомнила слова Лессинга о том, что в некоторых случаях, если человек не сходит с ума, значит, ему просто не с чего было сойти… Пусть по ошибке считали меня умной. Может быть, мне просто не с чего было сходить. Но бежать, действовать уже тоже нельзя. «Золотой ключик» от жизни исчез. Мы заперты огромным черным ключом, который спрятан в непонятной нам «яме жизни». Я еще продолжаю лихорадочно обдумывать новые планы нашего нового театра. Наконец-то у нас настоящая огромная сцена, хорошая оркестровая яма, такие авторы, как Евгений Шварц, Алексей Толстой, Валентин Катаев, счастье постановки «Пети и волка» Сергея Прокофьева… Почему я сижу на месте? Бежать туда, работать, планировать… Но… надо помочь жить и им, и себе. Переключиться. Постараться поверить, что это настоящее – далеко не конец, шероховатая случайность… Я совсем не знаю таблицу Менделеева – прошу женщину-профессора завтра рассказать нам об этом. Да и врач-гинеколог – просто находка: ведь если на короткое время попадем в глушь, как важно уметь оказать первую помощь при родах, если потребуется.– Не будем терять, дорогие, веру в жизнь. Давайте сегодня расскажу вам о Детском театре, – говорю я, стараясь взять себя в руки и словами как-то облегчить то, что невыносимо давит на мозг.
Но наладить общение в те дни не удалось: шесть очень разных женщин, никогда прежде не встречавшихся друг с другом на воле… Раз в неделю приходил библиотекарь. Я заставляла себя брать книги – Грибоедов, Пушкин, Мериме… и учить многое наизусть. А соседки смотрели на меня почти с презрением: «зачем врать самой себе», – говорили их глаза. Каждая была насмерть убита своим горем, и, как выяснилось, ни одна из нас не знала, как, зачем, за что она сюда попала. Все были настолько прибиты безысходностью случившегося, что искали спасение в наиболее близкой к смерти мертвой тишине. Ну а я могла только на какое-то время при помощи книг отключаться от самой себя, а значит, от потребности выяснять, действовать, бороться за то, что завоевала всей своей жизнью… Стала требовать вызова к следователю, да, требовать. Ведь мне никто ничего не объяснил, явно хитростью, ложью доставили в тюрьму… Какой-то горячечный бред… Глазок в запертой двери открывается, раздается голос– На букву «С»?
– Сац… (без «Наталии» и, конечно, «Ильиничны»). Выводят из камеры в коридор. Стараюсь шагать в мужественном темпе конвоиров, не сгибая ног. Заряжаю свою волю на встречу с тем, кто меня вызвал… Не согнуться! Выдюжить, чтобы сегодня же вернуться домой, не заблудиться в этих бесконечных коридорах, скорее войти в какую-то светлую комнату, в которой меня ждет кто-то понятливый…
Открывают невысокую дверь. За ней – хмурая комната, темно-серый линолеум пола, окно в длинной серо-суконной шторе, около окна – канцелярский стол, за ним – мужчина с опущенной головой, что-то пишет. Два жестких стула против стола с деревянно-прямыми спинками; наверное, чтобы сидеть навытяжку, – проносится в голове. Стою в двух шагах от двери, конвоиры ушли, тот, что за столом, продолжает писать. Странно! Я делаю полшага к столу, сидящий за столом человек медленно поднимает голову, и… я едва не теряю сознание. Страшный сон! Ведь это же тот самый шатен, который так скромно и вежливо познакомился со мной в Комитете по делам искусств, привез сюда, чтобы заступиться за мой авторитет… Чудовищно! Подлый лжец, актеришка на разнообразные, но одинаково неблаговидные роли в чьем-то дьявольском сценарии… Вдруг я вспоминаю, как недавно в подъезде «дома Правительства» встретила растрепанную Надежду Анатольевну Каминскую, на вопрос, почему не видно уже несколько дней Григория Наумовича, ответившую кратко «исчез», добавив: «…у нас в подъезде арестованы еще двое…». Очевидно, этот, с нагло-непроницаемым лицом взамен недавней улыбчивости, – мой следователь?! Но как я смогу говорить с подлым лжецом?! Налетело головокружение, схватилась за спинку стула, чуть не упала… Он сориентировался быстро, усадил, предложил… закурить. О, как он мне противен! Следователь повторяет:– Закуривайте…
На вытянутой руке, слегка покраснев (стыдно ему, вероятно, все же), держит он напротив меня открытый портсигар. Голос мой дрожит, но отвечаю с достоинством:– Я – режиссер, берегу свой голос… Не курю.
Он выдавливает подобие улыбки:– Вы хотите сказать, что были режиссером… Да, вам высоко было падать, можно было ушибиться…
Я добавляю с горечью:– Можно было и разбиться…
Маска на его лице делается еще более непроницаемой:– Чем скорее вы забудете, что были заслуженной артисткой, директором и главным режиссером театра, тем будет для вас лучше. Вы теперь – никто.
– Я ничего не собираюсь забывать. Я – есть я!
– Вы – изменник Родины, – заявляет он безапелляционно.
Я резко встаю со стула, но должна сесть опять – потемнело в глазах. Но молчать тоже не могу, конечно, не могу:– Как вы смеете говорить мне эти дикие слова? Это все равно что бить крапивой по лицу… Ничего не понимаю…
– Ваше дело не понимать, а отвечать.
Вероятно, его главной задачей было привести меня в такое состояние, которое граничило бы с безумием. Он задавал мне какие-то странные вопросы, вернее, «скакал с вопроса на вопрос», но делал это с явным удовольствием, поглядывая одним глазом на лежавшую рядом «роль обличителя»:– Правда ли, что вы находитесь в родстве с гетманом Скоропадским?
Я чуть не рассмеялась. Ответила, пожимая плечами:– В раннем детстве нас с сестрой на лето отправляли в село Полошки, где рядом с небольшим имением дяди Саши было роскошное имение Скоропадских. Мы иногда играли там с детьми служащих этого имения…
Где он выкопал это «родство», да еще как обвинение?!– Какой национальности ваша мать?
– Ее мамы, моей бабушки, фамилия Иванова, она русская. А дедушка был украинцем, фамилия его Щастный. Дед был из крестьян, но за храбрость, проявленную на войне, ему был присвоен чин генерала и пожаловано дворянство…
– Вы часто бывали за границей, зачем это вам было нужно, если вы отрицаете, что вы – изменник Родины?
– Мой первый муж Николай Васильевич Попов был торгпредом в Польше, и, когда в Варшаве убили нашего посла, мне поручили помочь ему наладить культурные связи с польскими деятелями искусства…
– Назовите, с кем вы там встречались?
– С писателем Юлианом Тувимом, артистками Лодой Халамой, Казимирой Невяровской, Тициан Высоцкой; режиссеру Марии Биллижанке я помогла организовать первый польский театр для детей в Кракове.
– Вы были у них на жалованье?
– У кого «у них»?
– У наших врагов.
– За что они должны были платить мне?
– Изменники Родины знают за что.
– Среди моих знакомых изменников Родины не было. Это были талантливые и прогрессивные деятели культуры.
– Ну, это как сказать. Вы забываете, что за вами черным по белому числится американский посол Буллит. Он не раз бывал в вашем театре. И вообще… Отвечайте без всяких уверток, какие были у вас отношения с Буллитом?
– Первый посол США в СССР Уильям Буллит действительно по приезде в Москву, еще на вокзале, сказал члену коллегии Наркоминдела товарищу Довгалевскому: «Конечно, прежде всего я хотел бы встретиться с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, но меня очень интересует как журналиста встреча и с Константином Сергеевичем Станиславским и с… Наталией Сац».
Прищуренные глаза следователя ничуть не сбили меня с правдивого ответа, и я продолжала:– После смерти Джона Рида, как известно, Буллит женился на его вдове. Она очень восхищалась нашим Московским театром для детей, мечтала стать «американской Наталией Сац» и перед смертью взяла с Уильяма Буллита – ее тогдашнего мужа – слово, что, если когда-нибудь он окажется в Москве, он придет в наш театр с их дочерью, тогда уже семилетней Энн…
Следователь не преминул сделать грязные предположения о моих отношениях с американским послом. Но могла ли я так отплатить его покойной жене за интерес и уважение к своей работе?! Кроме того, вся Москва того времени прекрасно знала фамилию актрисы, с которой Буллит был очень дружен и отнюдь не скрывал их отношений. Следователь был очень разочарован, что у него не появилось никаких оснований «включить» Буллита в мое так называемое «дело». Он решил на некоторое время отдохнуть от беседы со мной и дал мне задание на полтора-два часа, которое, по его словам, «могло улучшить мое положение»:– Подробно напишите все, что знаете об очень подозрительных поездках по всему миру композитора Сергея Прокофьева, вдруг приземлившегося у нас, о подозрительном журналисте Михаиле Кольцове, композиторе Леониде Половинкине и жене писателя Алексея Толстого Людмиле Ильиничне. Пишите все без утаек.
Меня посадили в углу комнаты за маленьким столиком, дали письменные принадлежности, и я не без удовольствия стала писать о людях, с которыми дружила, которых уважала, о радости совместной творческой работы. Создание вместе с Сергеем Прокофьевым первой симфонической сказки для малышей было моей гордостью, возможность исполнять ее с оркестром на разных языках – счастьем. Я рассказала и о балете «Блудный сын» на библейскую тему, в котором танцевал Лифарь в театре Дягилева в Париже, и о дружбе Сергея Сергеевича с композитором Мясковским, и о Кабалевском, с которым вначале он был в натянутых отношениях, а потом помирился, о его любви к приемам у М. М. Литвинова, на которых мы танцевали вместе, но делали это плохо, и о нашем общем восхищении М. Н. Тухачевским, его остроумием и музыкальной культурой, десятками его поклонниц… Михаил Кольцов первый написал о нашем театре статью «Дети смеются», которая укрепила саму идею театра для детей. Рассказала о пылком романе юного Кольцова с артисткой Верой Юреневой, а затем женитьбе на Елизавете, которая гордилась, что она – потомок Пестеля, о его совете молодым писателям: пиши короче, ты не Гоголь… Людмила Ильинична помогла мне уговорить Алексея Николаевича Толстого написать пьесу по сказке «Золотой ключик»… Откровенно рассказала я и о личной жизни, взглядах, спорах моих друзей. Отец Леонида Алексеевича Половинкина до Октябрьской революции был очень богат, и хоть рано умер, но успел дать сыну прекрасное образование. Работа Л. Половинкина в Детском театре заставила забыть все тяжелые переживания их семьи, а песня «Вся страна ликует и смеется» стала детским гимном. Подавая следователю на двадцати двух листах написанное, я вполголоса даже напела слова этой песни, чем привела его в бешенство:– Вы это что, собственно, написали?
– То, что вы хотели иметь.
– А для чего мне это нужно – вы сообразили?
– Для того, чтобы лучше знать правду об этих людях, их деятельности…
– Это – не правда, а материалы для представления их к премиям и орденам. Эти люди ходят в масках, прикрывая свою контрреволюционную деятельность, шпионаж. Наша задача – скорее разоблачить их, и я был уверен, что, желая вернуться к детям, вы мне поможете, поймете, что это в ваших же интересах…
– Ну а если я ничего плохого об этих людях не знаю? По-вашему, я должна была лгать?
– Во имя своих детей, если вы не лжете, что любите их, можно было догадаться о цели моего задания и постараться помочь нам.
– Простите, меня с детства научили уважать правду. Покупать счастье самых близких мне людей ложью я никогда не буду. Я люблю свою Родину, верю в ее чистоту и справедливость. Пусть будет так…
Моя речь не была услышана. Следователь Русинов порвал и швырнул под стол все страницы моего «донесения», а потом вызвал конвой по телефону с так часто слышанными мной потом в тюрьме словами:– Возьмите Сац…
Встречи со следователем были и позже. Вопросы его поразительно нелепы. Язык прилипал к гортани. Однажды он спросил меня, не собирала ли я за границей порнографические открытки, а я в те времена даже не знала, что это такое. Он мне «для примера» показал, вынув из своего ящика, серию этой пошлятины, а я заплакала и отвернулась. Следователь посмотрел на меня и пробормотал:– Подсунули мне вас на горе, детский театр вы несчастный! Носового платка у вас, наверное, нет? Утритесь хоть бумагой.
Мне на минуту показалось, что ему жаль меня, и я спросила тихо:– Ну скажите мне, пожалуйста, честно, зачем вы меня сюда привезли?
Он ответил, как заученный урок:– Вы – изменник Родины…
– Вы говорите неправду и знаете это… – начала было я, как будто это прежнее «я» еще что-нибудь значило…
– Запомните, что сейчас вы – никто. В ваших интересах как можно скорее признаться.
– А если мне не в чем признаваться?
– Этого не бывает. Давайте вместе подыщем вам подходящую статью. Вы анекдотов много знаете?
– Каких?
– Политических, соответствующих КРА [24] , неприличных…
– Совсем не знаю. Они меня не смешат, да и нет у меня на них времени. Театр и детей двое…
Следователю со мной было скучно, но исполнял чужую волю он старательно. Зная обо мне очень мало, он, на всякий случай, наугад листал Уголовный кодекс, попадая пальцем то на одну, то на другую статью и поочередно пытаясь «привязать» ко мне каждую из них. Он печально глядит на мое «дело». Оно лежит девственно-чистое у него на столе. Нет там никаких показаний, только один ответ «нет». У следователя грустно в глазах:– Поймите меня, отпустить вас я все равно не могу, не имею права…
– Почему нельзя отпустить ни в чем не виновного человека, да еще «распяв» его самой страшной статьей «изменник Родины»? Неужели страна, которую я так сильно люблю, не самая лучшая, самая справедливая и родная?!
И вдруг в памяти всплыл ласковый разговор с мужем накануне его отъезда в командировку:– Заренька! Ты мне изменять не будешь?
– Тебе… изменять? Зачем бы я стал это делать? Он меня любил, считал, что лучше меня на свете нет и быть не может…
Зачем бы я стал тебе изменять??? А следователь за эту паузу немного повеселел:– Тогда я дам вам буквенное обозначение… КРД – контрреволюционная деятельность!
– За работу в театре для детей?
– За желание тормозить государственное дело… Кто из нас сумасшедший? Неужели уже я? Однако, если тянуть из человека жилы, лишив его свободы, семьи, мужа, каких-либо известий о жизни на воле, мозг, вероятно, не выдерживает и дает неожиданные трещины. С каждым днем я все больше тупела, боялась думать. Мысль, что из-за моего ареста вдруг перестали доверять мужу, что если поверили моим клеветникам – маме и детям уже никто не поможет и они голодают, – эта мысль, как чудовищная моль, проедала дыры в мозгу и сердце, и я уже ловила себя на желании найти какой-нибудь повод и в чем-то признаться… Кроме того, действовали на психику и соседки по камере. Некоторые из них приходили с допросов с опухшими ногами (их заставляли на допросе по восемь-девять часов стоять), некоторые – со следами побоев… А мой следователь только вдалбливает мне одно и то же и тянет жилы. Один раз даже предложил бутерброд с сыром, но я, конечно, не взяла… Пусть за позорную свою работу ест сам. Так он и делал: в присутствии меня, голодной, сытно завтракал, очевидно, намекая, что за мое «достойное поведение» мог бы дать кусочек и мне… Рядом с ним на столе, как всегда, лежало мое безмолвно-чистое дело с адресом. Кажется, он узнал его в первый раз – ведь на арест он привез меня из Комитета.
Прожевав сыр, он спросил меня:– Вы в Карманицком переулке жили?
И вдруг я почти зримо ощутила нашу милую, уютную квартиру. Я была награждена ею Московским Советом «за заслуги в деле социалистического строительства». В смежных квартирах жили «важные люди»: заместитель председателя Моссовета П. Я. Волков, наркомфин Г. Я. Сокольников, Л. Б. Каменев с женой Т. Н. Глебовой и четырехлетним сыном Воликом. Домами я ни с кем из них не дружила, но моя пятилетняя дочка Ксаночка играла во дворе со своими сверстниками. Я работала в театре с девяти утра до трех, потом на час приезжала домой поесть и отдохнуть, потом снова допоздна уезжала в театр на спектакли. И вдруг сейчас, сидя у следователя, вспомнила, как однажды, приехав отдохнуть домой, заснула и вдруг услышала стук в дверь. Я приподнялась на постели и увидела растрепанную, с глазами, полными отчаяния, Татьяну Николаевну Глебову-Каменеву. Рядом с ней стояла впустившая ее к нам Ксаночка. Глотая слезы, Глебова сказала: «Каменев арестован, сейчас пришли арестовывать и нас с Воликом. У нас нет никаких денег, ни гроша, чтобы несколько дней прокормить Волика, умоляю…» По бесчеловечным законам того времени, если Каменев считался врагом народа, я как жена коммуниста должна была ей отказать, но на моем письменном столе лежала только что полученная мной зарплата, несколько ассигнаций. Я ответила, указывая на стол:– Возьмите, сколько вам надо… Следователь крайне оживился:
– Сколько же она взяла?
– Точно не помню, кажется, сто рублей…
– Ну, и она взяла?
– Да, взяла и исчезла.
Следователь хотел было поблагодарить меня за эту услугу ему, но потом сказал жалобно:– Можно, я напишу хоть двести рублей, сто для серьезного дела уж очень мало…
– Значит, кроме четырехлетнего Волика, дать сто рублей в долг еще и вам?
Мне очень хотелось добавить: «А вам не стыдно?» Муж часто говорил мне: «Натенька! Почему у тебя на лице все видно, что ты думаешь?» Вероятно, это на лице моем прочитал и следователь. Написал на бумажке дутую цифру, но в дело не включил, а сказал мрачно:– Остановимся на «изменнике Родины…» – и почему-то чихнул.
А мне было так горько, что, когда меня уводили, я даже не простилась. Передо мной были глаза пятилетней Ксаночки, такой же голодной сейчас, как, наверное, уже погибший четырехлетний Волик [25] , как и я… Как просто, оказывается, раздавить человека! Седьмой вызов следователя явно сигнализировал, что мозговое равновесие у меня серьезно нарушено. Окон в тюрьме, как известно, не бывает. Но дыхание осени уже чувствовалось и в камере. Впрочем, в нашей камере слово «наша» отсутствовало. Разных женщин приводили сюда и через несколько дней переводили в другие камеры, наверное, чтобы еще больше подчеркнуть, что каждая из нас «никто». Я выучила наизусть все «Горе от ума», сказки Пушкина, но забыть о своей трагедии не могла ни на минуту, и основное – поиск путей выползти на волю – как огромная заноза торчало в сердце. Дикие мысли тревожили неотступно: «Может быть, «пойти навстречу» следователю? В чем угодно покаяться?!?!» И однажды я явилась к нему, шагая нарочито независимо, и заявила:– Я решила признаться. В свободное время я все же шпионила в пользу одной страны…
– Какой? – быстро обмакнув в чернила ручку, спросил следователь.
– Гонолулу! – громко ответила я.
– А где эта страна находится?
– А я почем знаю? Она называется Гонолулу… Хотела и шпионила в пользу Гонолулу…
Теперь это «Гонолулу» звучало как победный клич… Сидеть не могла, поднялась и стала двигать стулом… Около губ появилась кровавая пена– Вызванный доктор ни каплями, ни шприцами успокоить меня не смог. Крик «Гонолулу» продолжал висеть в воздухе… Только пожарная кишка с очень холодной водой отрезвила. Унесли в камеру. Доктор дал справку следователю: «эпилептический припадок». Посмешить тебя, читатель? Много лет спустя, в 1984 году, на торжественной Всемирной Ассамблее детских театров в Москве (АССИТЕЖ), куда съехались представители детских театров почти со всего мира, я как глава этого мероприятия проводила дружественную беседу с Роз-Мари Мудуэс (Франция), Ги де Мизером (Англия), Ильзой Роденберг (ГДР), главным дирижером нашего Детского музыкального театра Виктором Яковлевым и журналистом, моим сыном Адрианом. Вдруг неожиданно кто-то, значительно выше меня ростом, надевает мне на шею роскошную гирлянду из цветущих орхидей… Я поднимаю голову: высокая, смуглая женщина в экзотическом костюме говорит мне: «Я – руководитель Детского театра, который создан по вашему образцу в Гонолулу. Примите орхидеи от театра имени Наталии Сац». Честное слово, это правда. Орхидеи за несколько лет усохли, но все же висят в моей комнате. Эта гирлянда радует меня и сейчас. В Бутырках Как ни странно, но холодная вода из пожарной кишки на несколько дней угомонила меня. Тянуть из меня жилы больше следователь, наверное, не будет. Хотел лжи, выдуманного покаяния – пусть пишет в мое дело «шпионаж». Кстати, вероятно, мне в назидание из нашей камеры перевели за время моего припадка всех. Тишина, как после расстрела. Но через две ночи сна – снова внутренний протест. Погибнуть? Ни за что? Нет! Жить! Жить, во что бы то ни стало. Рядом со мной три книги. Доучить их наизусть, хоть шепотом, найти верные интонации, ритмы, темп… Может быть, потом будет возможность звучать в полный голос – я же артистка, режиссер, и пусть он не лжет, что я – уже не я… И опять «повезло». Меня переводят в Бутырскую тюрьму. Огромная камера, через которую идут деревянные подмостки. Они называются одноэтажные нары. На них лежат какие-то мешочки, платки, пестрые подушки, байковые одеяла… Женщины разного возраста говорят громко, смеются громко, они все время в движении: бегают по нарам в халатах, чулках, трусах, бюстгальтерах… Некоторые что-то зашивают, стирают, но большинство носятся взад и вперед полуодетые по этой причудливой «эстраде». В сравнении с «кельей», из которой привезли меня только что, кажется, что попала в пестрый балаган. Когда я туда вошла – обалдела. Но это длилось недолго. Вскоре к шуму, привычному для этой камеры, добавились крики удивления, радости и даже… ликования. На меня буквально налетели знакомые «по воле». Заговорили сразу несколько женщин:– Неужели сама Наталия Сац?
– Когда же она успела поседеть?
– Еще в августе такая элегантная была, наверное, это – не она.
– Если Наташку тоже свалили – удивляться нечему.
– Здравствуй, наша гордость. Не смотри так угрюмо.
– Голос твой «ермоловский» слышать хотим…
– Не нуди, если Наталия к нам пришла, верю – счастье еще будет.
– Мне тебя больше, чем себя, жалко – что теперь с театром твоим будет?
– На миру и смерть красна…
Просидев в этом огромном помещении уже по три-четыре недели, заключенные в Бутырках жили новостями, почти радовались вновь пришедшим, торопились узнавать и сообщать друг другу новости о жизни на воле. Конечно, пока они не пообвыклись здесь, свой арест переживали так же горько, но сейчас вырывали у жизни последние улыбки свободы: говорить громко, быстро двигаться, спорить, общаться друг с другом. Меня восприняли как сенсацию. Потом человек двадцать уселись вокруг меня на полу и уже тише начали выспрашивать подробности моего ареста. Я от этого вопроса уклонилась и сказала только, что следователь пока мое дело не закончил и статьи мне не сказал. Ольга Третьякова, жена заместителя наркома путей сообщения, залилась смехом:– Мы так и знали, что Наташка придумает себе какое-то свое, особенное «дело»…
Несколько голосов добавили:– А все знают, что она, как и все мы, попросту сидит за своего мужа.
Я спросила удивленно:– Но разве он арестован?! Мне возразили убежденно:
– А кому бы без этого вы были нужны здесь?
– Но ведь утром в день моего ареста он еще был на работе.
– О, святая простота! – закричала вдруг явно чахоточная женщина, профессор университета, старый член партии, которую мы все знали и уважали. – А через несколько дней его вызвали на собрание, заставили покаяться в преступлениях, которых у него никогда не было, арестовали его, всех его заместителей и делопроизводителей…
Ольга Третьякова продолжала:– Знаем это точно, потому что в эту камеру на один день приводили секретаря И. Я. Вейцера Татьяну Тимирязеву. Вы знали ее?
– Конечно. Муж очень ценил ее по работе, и мы помогали ей воспитывать больного сына…
Я замолкла. Застыла. Ведь даже самой себе не говорила, что больше всего боюсь, как бы мой арест не подорвал незыблемый авторитет мужа. Почему следователь задавал мне какие-то дикие вопросы, но никогда о нем ни слова? Голова заходила ходуном – чуть не брякнулась на пол. Мысленно зазвучала страшная папина музыка «Пляс козлоногих». Вперемежку в голове завертелись шерсть, рога, копыта, негодование, ужас… Значит, маму, детей уже все сторонятся. На что они живут? Я сжалась в комок и заплакала… На меня снова налетели любительницы сенсационных новостей, обнимали, целовали, утешали, пока не подошла Соня Прокофьева:– Возьми себя в руки, Наташа. Никто из нас здесь не имеет права плакать. Слезы заразительны. А в горе мы обязаны быть мужественными. Очень жаль, что я была на допросе, когда ты вошла. Одной истерикой в этой камере было бы меньше. А мы, друзья, об этом уже договорились.
С Соней была знакома хорошо; ценила ее простоту, умение оставаться самой собой на любых ступенях жизни. Она сказала теперь уже приветливо:– Ну, здравствуй, Наташа. Тебе повезло. Я здесь староста и устрою тебя рядом со мной. Где твои вещи?
У меня был только красный прорезиненный плащ и замшевые перчатки. Спала я радом с Соней; места было в обрез, но спала крепче, чем в лучших условиях. Дело не только в том, что настоящие женщины умеют создавать подобие уюта где угодно, что у Сони был пушистый плед – больше всего в такие минуты греет тепло дружбы. Даже в этих условиях Соня оставалась организатором-общественником. Утром она внесла предложение «использовать наличие Наталии Сац». «Итак, – продолжала Соня псевдоспокойным голосом, – сегодня мы объявляем твой вечер. Возможностей увести присутствующих в мир искусства у тебя много». И вот я уже восседаю на нескольких узлах с женским тряпьем, сложенных вместе, чтобы всем была видна, под ногами почти метр очищенного пространства – если «по ходу пьесы» понадобится встать, смогу и это сделать. Волнуюсь, как всегда на премьере, начинаю «спектакль одного актера». «Горе от ума» Грибоедова выучила от начала до конца наизусть. Голос звучит хорошо, даже как-то посвежел за это время; в обычные-то дни в театре злоупотребляю им с утра до ночи– Сцена заигрывания Фамусова с Лизой, неожиданного появления Софьи в сопровождении Молчалина виделась мне так ясно, что и на лицах моих слушательниц появилось выражение, какое бывает у зрителей, когда спектакль им нравится. Глазок в двери открылся два или три раза, и наконец появилась дежурная. Она, видимо, не могла понять, почему замолкли многочисленные обитательницы камеры, но, увидев происходящее, осталась по эту сторону двери. Я была почти счастлива, что гений Грибоедова перенес моих слушательниц в обстановку художественного вымысла, на два часа заставил жить жизнью действующих лиц его бессмертной комедии. Меня благодарили, а главное, наутро требовали повторного концерта. Но никто не знал, что я в это время была не одна, а с еще не родившимся ребенком. Еще днем у меня начались странные боли. Пришла докторша и сказала, что поместит в больницу. Когда она ушла. Соня погладила меня по голове:– Тебе все-таки везет, там, говорят, хорошо… Однако мне очень хотелось устроить сегодня вечер Пушкина. Боль утихла. И вот с возвышающих меня узелков читаю «Сказку о мертвой церевне и семи богатырях». Нет, у меня уже ничего не болит. Наслаждаюсь музыкой стихов Пушкина:
«Царь с царицею простился, В путь-дорогу снарядился…» Раскрывается дверь:– Кто здесь на «С»?
Раздается несколько фамилий, в том числе моя.– Сац – в больницу. Собирайтесь.
Ловлю опечаленные взгляды слушательниц, встаю и говорю жалобно: «Можно завтра, мне уж не так больно и – очень хочется дочитать эту сказку…» Слышу возмущенный шепот Прокофьевой:– Ты с ума сошла? Иди сейчас же.
Но, естественно, конвоирша не уговаривает меня. Хмыкнув, привычно запирает дверь с обратной стороны. Разные мысли шевелятся у моих слушательниц, но, спасибо, никто ничего не говорит… И вот уже чувствую себя царевной, которая среди своих странствований все же осталась жива, сумела уговорить Чернавку, встретить добрых богатырей, быть им полезной, где-то в гуще дремучего леса не потеряла себя… Сказка Пушкина захватила всех. Но я волнуюсь еще потому, что приближаются самые дорогие для меня строчки, когда королевич Елисей узнал, что под горой в хрустальном гробу «спит царевна вечным сном». Я очень хорошо знала, что мой Израиль Яковлевич ничуть не похож на королевича Елисея, а я – на царевну, но почему-то происшествия этой сказки самым причудливым образом переплетались в моем представлении с дорогими людьми и надеждой. И не только у меня. У большинства моих слушательниц. Сказка эта стала верой в лучшую правду. «Несчастью верная сестра, надежда» взяла нас под свое крыло. Спасибо, Пушкин! Встреча с гадалкой На следующий день меня перевели в больницу. Настроение было приподнятое после вчерашнего выступления, и теперь старалась вспомнить все мелодии оперы Бизе «Кармен» ну и, конечно, новеллу Мериме. Может быть, когда-нибудь смогу и исполнить любимую новеллу с музыкой. В больничной палате нас было только двое. Вторая женщина сидела за то, что была верующая, и за то, что гадала на картах и по линиям рук. Я вспомнила, что Анатолий Васильевич Луначарский считал хиромантию наукой и серьезно ею увлекался. Однажды он пригласил меня поехать с ним на вечеринку артистов Большого театра и по просьбе артистов в отдельной комнате устроил «сеанс хиромантии». Артистки по очереди заходили в эту комнату, желая узнать свое будущее и одновременно, конечно, повеселиться. Но когда Анатолий Васильевич предложил погадать и мне, я ответила: «Не верю я ни в какие гадания». Однако Анатолий Васильевич все же погадал мне и по правой, и по левой руке. Меня удивило тогда, как серьезно он разглядывал линии моих рук, как опечалился в результате этого гадания. Он сказал: «Должен огорчить вас, Наташа. В расцвете творческих сил вас ждет потрясение, большая трагедия, страшнее смерти». Я на него обиделась и ответила: «Ничему этому, Анатолий Васильевич, я не верю. Вы говорите просто, чтобы подразнить меня…» Но вот… он оказался прав… Может быть, и гадать на всякий случай поучиться? Даже детские игры отвлекают от того, о чем опасно все время думать. Хиромантия – наука трудная. Соседка по тюремной больнице предложила сначала научить меня гадать на картах. И вот со слов гадалки уже зубрю: туз пик – опасность, шестерка пик – поздняя трудная дорога, четыре десятки – хорошо, четыре короля – похуже, бубны и пики – очень плохо; об этом даже в сцене гадания в опере Бизе «Кармен» поется… Фамилия гадалки – Негонова. Она очень добрая. Выпросила у конвоира лист картона и сделала мне из него тридцать шесть крошечных карт. Конечно, буду держать их под рубашкой, в секрете. Кормят здесь не так уж плохо. Но главное – двери не заперты, мы могли ходить по коридору, и голубоглазый конвоир не унижал нас теми интонациями, которые так били по самолюбию, когда находилась в камере, особенно во внутренней тюрьме. А я, честно сказать, только в больнице и почувствовала всем существом своим, как сильно устала. Но как ни странно, дней через восемь поняла, что горечь происшедшего легче выносить там, где и обстоятельства жизни жестче. Хорошие условия вели к праву жалеть себя, унизиться до ожидания жалости других. Нет, это не для меня. Только борьба за справедливость. В этот раз борьба не состоялась. После больницы меня погрузили в единственно доступное мне тогда средство транспорта – «черный ворон», привезли в какое-то еще неведомое мне здание, ввели в маленькую, полутемную комнату, подвели к столу, за которым с мрачным выражением лица сидел хорошо известный мне следователь Русинов. Это был восьмой допрос. Сегодня следователь Русинов уже не устремлялся в дебри уголовного кодекса, не пытался найти мне «подходящую статью». Он был спокоен и важен. Дал мне лист бумаги с громким названием «протокол допроса». Там было четыре вопроса и один ответ – нет. «Подпишите – сказал он. – Следствие закончено». Это было первое и последнее, что я подписала. Из-под тюремного камня выползала надежда. Некоторое время следователь смотрел в окно и молчал. Я тоже робко заглянула в окно. Москва! Не видела тебя уже три месяца. А ты тут – за этим окном. Темно. Спят, наверное, мои ребята… Нет! Не впустить тепло родного в тюремный мрак. Ведь может уже сейчас… Поворачиваюсь к следователю. Он смотрит на мои ноги: облупившиеся лакированные туфли, подвернутые у колен чулки со спущенными петлями.– У вас хоть пальто какое-нибудь есть? – спрашивает меня следователь неожиданно мягко.
– Прорезиненный плащ. Я арестована двадцать первого августа…
Надежда зашевелилась снова. Но лучше пусть он сам скажет: «Не виновна. Идите домой!». Следователь цедит сквозь зубы:– Напишите записку матери, постараюсь помочь получить вам теплые вещи.
Ничего не понимаю, встаю со стула.– В чем поможете? Сяду сейчас на троллейбус номер два, от Лубянской площади до Арбата близко…
Почти вижу тебя, мой троллейбус, – поедем!!! Следователь поворачивает голову в сторону, говорит, не глядя на меня:– В Сибири, или еще дальше – зима. Напишите записку…
Надежда снова под камнем, но я не сдаюсь:– Мне ничего не надо. Вы же знаете, я ни в чем не виновата, я…
О, это уже потерявшее свою силу «я»! Голос следователя неожиданно стал стальным:– Ваш муж арестован. Вы не могли не знать о его преступлениях. Будете изолированы сроком на пять лет.
Пол зашевелился у меня под ногами. Хочу кричать. Почему же ни слова о нем не говорили раньше? Все лжете, человек с мохнатым сердцем, подлец, иезуит!.. Но горло сжато, звучит только его голос в телефонную трубку:– Возьмите Сац…
Берут… ведут… Первый этап Это была самая длинная ночь в моей жизни… От следователя меня повели куда-то вниз. Там объявили срок. В рухляди пересыльной тюрьмы позволили взять старый бушлат цвета хаки, лапти и обмотки. Никогда еще не было в пальцах моих рук такой грязи. Но… закручиваю рваную портянку – страшно боюсь холода. Куда повезут? Пять лет! Пять лет «исправительно-трудовых лагерей». Утро еще спорит с ночью. Москвичи крепко спят. «Черные вороны» слетаются на снежный пустырь… Неужели я знала другие способы передвижения? Вряд ли. Конвоир «тюрьмы на колесах», что сидел рядом с шофером, сошел вниз и с тупым величием отпер тяжелый замок тяжелой двери «черного ворона». Цепляя испуганными ногами крутые ступеньки, одна за другой появляются женщины. Молодая, черноглазая, в белом берете и теннисных тапочках (Маша Перовская была арестована на теннисной площадке дачи Рудзутака)… Пожилая, с остановившимися зрачками, в одеяле поверх летнего платья… Подстриженная «под мальчика», в английском костюме и непомерно больших валенках… Дородная русская красавица – жена заместителя наркома путей сообщения – киноактриса Ольга Третьякова в шерстяном цветастом платке и домашнем ситцевом платье… А вот худенькая, с синими глазами в длинных ресницах красотка в теплых перчатках, ботиках и каракульчовой шубе (проносится в голове: написала, наверное, записку домой)… А вот хромая в мужском пиджаке… Жены «ответственных» вывалились из «гнезда жизни». Ноябрь подполз неожиданно. Счастливые и заключенные плохо ориентируются во времени. Шагаем по пустырю. Нас выстроили около кучи с обломками ржавого железа, сломанных колес, грязных отбросов… Сколько молодых, красивых лиц, пушистых волос, длинных кос, недоцелованных кудрей… «Можно устроить конкурс красоты», – ржаво острит мозг. Молчим, скованные холодом и… неизвестностью. Где-то совсем близко свистят поезда. Нас ведут туда, откуда раздается этот омерзительный свист. Оказывается, бывает и такая Москва, доселе совсем незнакомая. Но я уже не москвичка. Шагаю на собственные похороны… Облезлый товарный вагон с зарешеченным отверстием под крышей. Нас набили туда – сто шестьдесят восемь. Трехэтажные нары, печка, дыра посредине вагона для всех надобностей. Знакомых до боли много. Доносятся фразы, они еще страшнее от строгой сдержанности интонации:– Вы – за мужа?.. А он за что?
– Ничего не знаю.
– Вам какой срок дали?
– Восемь… восемь… десять… пять… десять…
Дали? Нет, взяли! Но… об этом не сметь думать! Рада, что ко мне подходит жена наркома легкой промышленности И. Е. Любимова – она неодобрительно смотрит на мои лапти:– Что же вы не могли сообразить, что и вас возьмут? Нет, я, как только Исидора Евстигнеевича взяли, купила валенки, полушубок, ушанку, сложила все в чемодан и стала ждать… Куда я без него? Всю жизнь вместе. От села, где он учительствовал, до народного комиссара.
А «они», как для издевки, за мной только через две недели пришли. Я оправдывалась:– Еще утром в день моего ареста муж был на свободе. Как могла такое предвидеть?!
Лучше не буду ни с кем разговаривать, вспомню что-нибудь из давнишнего… В прошлом году в рекламных листках в Париже прочитала: «Пущены поезда-сюрпризы. Удивительные приключения. Приятная неизвестность. Вы знаете, когда уедете и когда вернетесь. Все остальное предоставьте нашей необузданной изобретательности…» Дурацкая ассоциация. Но неизвестность, как и там. Пожилая женщина в летней жакетке и зимней шапке пристально смотрит, хочет что-то сказать. Подхожу к ней.– Я жила на пятом этаже в вашем подъезде. Вы меня, наверное, и не замечали, а мои дети дружили с вашими. Арестовали меня несколько часов назад. Иду на этап без всяких допросов… Надела, что под руку попало… Самое главное: когда вели по нашей лестнице, видела, как на подоконнике между этажами сидела ваша Ксаночка, прижав к себе больного котенка. Поздоровалась со мной печально так и сказала: «Животные добрее людей».
Я молча пожала руку этой женщины. В наш «сюрпризный» поезд вносят бак с супом из воды и рыбьих костей. Он называется «кандёр». Кандёр… странное название. Что это? В нашем «курятнике» звучит низкий мужской голос– Выбирайте старосту. Принимайте хлеб, миски… Начинаем организовываться. Старостой будет Людмила Шапошникова.
Совсем недавно она была первой женщиной нашей Родины – членом Президиума ВЦИК. Вместе с Жемчужиной [26] ездила в Америку. «Последняя любовь Сергея Мироновича Кирова, – шепчет мне синеглазая Инна и добавляет:– Только совсем непонятно, как это она сюда попала?!»– А как я, как ты – понятно? Сейчас главное – ничего не пытаться понимать. Уцепиться за жизнь, хоть как-то уцепиться. Соня Прокофьева дрожащими руками пересчитывает миски. Людмила делит места на нарах. Я и Фаина Цылько взяли веники, подметаем, вернее, пылим.
Иосиф бултыхается в моем животе. Ему уже, наверное, пять месяцев. Но бушлат с мужского плеча делает его незаметным. Сумею ли дать ему жизнь?! Муж так ждал Иосифа. Обманули тебя, муж мой родной. Ты сам «выдумал» Сталина. Не разглядел вовремя. Думал, он сродни Ленину… Хватит, мети лучше. К соседней теплушке, наверное, подвели группу уголовных. Им все понятно. Попались. Они – громкие. Кто ругается, кто поет: Позабыт, позаброшен, на заре юных лет Я остался сиротою, счастья в жизни мне нет… В нашей теплушке кто-то беззвучно падает в обморок. Конвоир приводит медсестру. Она похожа на необструганную доску. Угловатым движением достает из деревянного ящика нашатырный спирт, подносит его к носу потерявшей сознание, на лице – выражение брезгливости. Она – вольная, мы – заключенные. Высокий пьедестал для мещанки. Наша теплушка медленно отделяется от стоянки, поползла. Раздается отчаянный визг медсестры:– Остановите! Я еду в одном вагоне с преступницами… Караул!
Кто-то догоняет поезд, протягивает ей руку, медсестра неловко соскакивает на ходу. На пороге вырастает Людмила Шапошникова – высокая, статная, с величественной косой вокруг головы, черные брови разлетелись в стороны:– Она нас презирает?! Мы – преступницы? Да если бы три месяца тому назад…
Она, видимо, задохнулась, замолчала. Государственный деятель вчера, сегодня она прибита к столбу позора. Но вспышка прошла. Лицо, словно выточенное из слоновой кости, неподвижно. Кто-то крепко двинул дверь-ворота нашей теплушки, судя по доносящимся звукам, наверное, повесили с той стороны замок. Слышно, как заперли на ключ. Теперь поехали быстрее. Напрочь оторвались от всего родного. Устраиваемся. Я буду на второй полке – рядом с Людмилой. Лечь придется поперек – ведь надо уместить шестнадцать женщин. Спать будем все на одном боку и поворачиваться только по команде Людмилы. Будем, как кильки, но они в жестяной банке уложены целиком, а из нас те, кто повыше, уместятся только до колен, ноги повиснут в воздухе. Людмила раскладывает нас по справедливости: синеглазую в каракульче Инну и в теплом кожаном одеянии девятнадцатилетнюю Киру кладут по краям. Кира не возражает. Она год была замужем за знаменитым Филиным. Красива, молода и мужественна. Инна робко возражает:– Холодно, примерзну к стенке.
– Нас много – отдерем, – отрезает Людмила. Ближе к середине кладут полуголых и босых, вроде меня. Никто, конечно, не раздевается. Спать, спать, спать!
Засыпаем как убитые. Но мы живые. Через два часа начинается шевеление, разговоры, стоны. Наташа Горяинова где-то достала градусник. Она воспитывалась в Смольном, потом вышла замуж за «могучего пролетария». Муж обожал ее. Восемнадцатилетний сын – тоже. Она к этому привыкла.– Я могу умереть, – говорит она жалобно.
В ответ – молчание. Потом раздается голос Сони:– И будет одной заключенной меньше – вот и всё… Фаина Цылько, очевидно, не потеряла жизнелюбия:
– На наших нарах оказалось две Наташи. Давайте определим их различие. Горяинову будем называть «голубая Наташа», а другую – просто Наташа…
Это про меня. Первая улыбка. Сколько сейчас времени? День, вечер? Нет – это длится та же, потушенная вчера моим следователем самая черная и длинная ночь. Холодно. Несколько женщин сошли с наших нар вниз: кто возится с печкой, кто делит хлеб. Остались мы вдвоем с Людмилой. Хоть немного могу полежать на спине. Людмиле душно. Она сняла бушлат, юбку, осталась в одной рубашке, вытащила из волос шпильки, и волосы рассыпались, закрыв ее до самых ног… Я еще никогда не видела таких красивых и длинных волос. Потом, расчесывая эти сказочно прекрасные волосы, она села рядом со мной и, заломив руки за голову, заговорила тихо, медленно, словно разговаривая только с самой собой:– Никогда не забуду, как не так еще давно Сергей пришел ко мне среди дня – обычно работал допоздна. А тут прямо свалился на тахту. Я, как сейчас, разбирала волосы, а он на них смотрит и говорит: «Людмила, я чего-то боюсь. Ты знаешь, я – не трус. А сейчас – боюсь. Начинается что-то страшное, непонятное…» И замолчал. Странно мне это было. Такого от него никогда не слышала. Богатырь русский, как ясный день. А глаза глубокие, неспокойные. «Людмила, – говорит, – расплети свои косы, закрой меня своими волосами, много их, всего закрой, спрячь…»
Людмила то заплетала, то расплетала волосы, то вставала, то садилась на нары. Удивительные потоки «золотого руна» то закрывали ее до самых ног, то снова превращались в косы, а у меня сердце забилось, заколотилось в страхе:– Людмила! Прости, что спрашиваю. Когда же тебе сказал эти слова Сергей Миронович?
Людмила ответила медленно, очень тихо:– За два дня до того, как его не стало… как убили… И вдруг у меня возникает страшное подозрение, что она совсем не случайно едет в вагоне с нами… А она уже совсем тихо добавляет:
– Ты, может быть, еще когда-нибудь и вернешься… А я уже – никогда… Слишком много знала… [27]
Людмила вдруг берет какой-то шнурок, крепко стягивает золотые россыпи своих волос и решительно переключается на раздачу хлеба. «Молодец… Завязала…» – думаю я. Но думы о страшном перебивает Фаина Цылько. Она блондинка, молодая и, в противовес всем остальным, всегда находит причину быть в хорошем настроении. Вот и сейчас она устраивается рядом со мной и щебечет:– Я очень довольна, что получила место на этих нарах, близко от «элиты»…
Она даже о своем аресте рассказывает до жути весело:– Я лежала дома в розовой пижаме, уже дремала под пушистым пледом, и вдруг – звонок. Входит высокий блондин редкой красоты и говорит: «Простите, что потревожил так поздно. Я приехал вас арестовать…» Я вскакиваю, плед падает, он смотрит на меня, не отрываясь: все-таки мужчина… А я только что из ванны, вся розовая… Он даже вздрогнул. Потом помог мне сложить вещи, взял мой чемодан, посоветовал прихватить вот этот мой любимый розово-голубой шарф…
Я смотрю на Фаину как на редкое ископаемое: при каких угодно обстоятельствах она обязательно должна была чувствовать, что продолжает очаровывать, хотя бы это были… встречные товарные поезда, голодные собаки и верстовые столбы. Вот и сейчас она опять перезавязала свой розово-голубой шарфик, опять улыбается. Спасибо ей. Ползет подобие улыбки и по моему лицу хоть на минуту-две. Поезд пополз медленнее и остановился. Печка погасла. Темно и холодно.– Гражданин начальник, солдатик дорогой, – журчит голос Фаины. Она каким-то чудом вскарабкалась к решетчатому окну под крышей. – Подойдите, пожалуйста, к окошечку…
Цветастый шарф подействовал. Слышно угрюмое, мужское:– Что надо?
Фаина ликует и продолжает:– Нам бы огарочек свечки, а то с непривычки в темном вагоне страшно нам.
Тишина. Шаги. Прошел мимо. Вторичный всплеск Фаины с уменьшительно-унизительными словечками… Тоже мимо. И вдруг хриплый мужской голос:– Девушка, или кто ты есть, это женский, особый вагон?
– Жены мы. За мужей, – отвечает Фаина. Хриплый голос переходит на шепот:
– А жена маршала Тухачевского среди вас есть? Очень желательно увидеть.
Тухачевская лежит у стенки на нижних нарах, нюхает нашатырный спирт. Стальные глаза широко открыты, губы сцеплены. С трудом уступает она коллективным уговорам, и множество рук поднимают, подсаживают ее, держат у решетчатого окошка. Мы слышим прерывающийся от восторга мужской голос– Ты самого Тухачевского видела?
– Да.
– И за руку его держала?
– Да.
– И целовала его?
– Да-а-а, – стонет заключенная.
Хриплый голос говорит как фанатик, без тени пошлости. Но ответы все тише, пока в наших руках не оказывается опущенная голова сразу сникшей женщины. Ее кладут на нары с полуоткрытым ртом, беззвучно повторяющим это страшное «да». Из отверстия окна на наш пол летит большая, еще непочатая огнем свеча, два куска с маслом в газетной бумаге, пачка махорки. Наверное, он отдал все, что у него было.– Съешь сама, – шепчет хриплый голос. – Великий он был воин, гордость наша солдатская. Значит, и его взяли?
– Да-а-а!..
Поезд ржаво трогается. Глубокое молчание. Горит свеча памяти Михаила Николаевича Тухачевского, красавца-человека, великого полководца, героя многих наших побед, человека, который умел сам делать скрипки, замечательного музыканта… По-прежнему горько, но уже не так страшно. Вспоминается восточная мудрость – даже маленькая свеча может раздвинуть тьму. Куда все-таки нас везет этот жестоко стучащий по голове и сердцу поезд? Кто-то говорит:– Когда нас в Нарым ссылали, казалось, даль жуткая. А сейчас – хоть бы в Нарым.
– На Крайний Север? Бр-р-р… Соня говорит неуверенно, больше по привычке агитмассового работника:
– Лагеря все же лучше, чем тюрьма. Воздух… Работать будем.
Были в жизни дни, были ночи. Эта ночь проглотила день и длилась несколько ночей. Спасибо свече – все-таки горит. Но глядя на нее, наверное, каждая из нас думает о своем самом близком человеке. Нет, тоска, мы не поддадимся. Не загрызешь. Сочиним песню. Нашу. Сколько раньше звучало во мне музыки. А сейчас, как зубная боль, ноет в ушах только «Позабыт, позаброшен…». Мотив урок. Сравнялись. Другая музыка погасла, ушла от меня. Впрочем, поняла я это гораздо позже. Тогда, наверное, и не могло быть иначе. Какая-то песня все-таки родилась: Это мы – ваши жены-подруги, Это мы нашу песню поем. Из Москвы по сибирской дороженьке Вслед за вами в Нарым мы идем. Мы не плачем, хоть нам и не можется. С верой твердой мы всюду пойдем, И в любой край страны необъятной Мы свой пламенный труд принесем… Моя песня понравилась и быстро наполнила теплушку многоголосием. «Хорошо, – сказала Людмила. – Но нужен третий куплет. А конец такой: Знамя Ленина–Сталина будет, Как и прежде, нам жизнь освещать… Гробовое молчание. Стиснутые зубы. Распред Много дней и ночей под скрежет медлительных колес двигались мы неизвестно куда и зачем. Петь уже не могли. То, что именно Людмила, которая действительно знала больше нас, предложила закончить песню словом «Сталин», – вероятно, в порядке партийной дисциплины, – заставило меня все острее вычеркивать покорность, звучащую в нашей песне. Надо было попытаться поразмыслить, кто же виновник происходившего с нами и с сотнями тысяч нам подобных. Неужели тот, кому мы так свято верили в то время, был страшнее Ивана Грозного? А мы – жалкие жертвы чудовищного гипноза, когда перестаешь не только говорить, но и думать. И все-таки нас утешало хотя бы то, что все мы, сто шестьдесят восемь обитательниц этого товарного вагона, венчанные общей катастрофой, находим в себе силы молчать о самом страшном, что за гранями мозга и сердца рвалось к страшной правде. Только одно произошло в первом этапе: оторвался от меня недоношенный сын, мой неродившийся Иосиф. Так хотел назвать его муж. Но нет! Я этого страшного имени, если бы он родился, никогда бы ему не дала. Мысленно я спорила с мужем, который фанатично был предан Сталину. «Посуди сам, почему сотни тысяч людей называли и называют своих детей Володями в честь Ленина, но никто – Иосифом. Бедный ты мой, обманутый, Заря. А я уже не верю, не прощаю пыток ни твоих, ни своих», – проносится в голове. Сама же, конечно, молчу. Вероятно, все боюсь всесильного «Змея Горыныча». Две из моих попутчиц оказались медицинскими работниками. Они помогли мне перенести то, из-за чего еще совсем недавно лежала бы в больнице и стонала бы от боли. Они же помогли застирать кровь на моих портянках, на полу и одежде. На редких стоянках из соседних вагонов несется мат, крики тех, кого бьют более сильные попутчики, а мы – тихие, совсем тихие. Как-то приросли друг к другу и благодарны судьбе хотя бы за то, что все вместе хороним свое огромное горе, и этим друг другу помогаем. Однако оказалось, что и это утешение было у нас кратковременным. После одного из страшных снов однажды ворвалось в сознание что-то жуткое, огромное, серое… Поезд остановился. Надо выходить из вагона туда, где столпились люди, вытряхнутые из всех вагонов, в большинстве своем уголовники, в бушлатах, рванине, громко сквернословившие, по каждому поводу готовые драться… Никого из своих бывших товарок больше не вижу, по разным человеческим кучам нас разгребли конвоиры. После всего перенесенного и от непривычки ходить в лаптях шагаю по снегу с трудом вместе с другими «слабосилками». Рядом со мной – одноглазая женщина. Из второго ее глаза катится подмороженная слеза. Она делится со мной своим страшным горем: на предыдущем этапе она отморозила себе несколько пальцев на левой ноге, лекпом-самоучка из переученных на звание хирурга «скорой помощи», по основной профессии – уголовник, ампутировал ей отмороженные пальцы; она идет, опираясь только на пятку. Я очень боюсь мороза. И старательно напоминаю себе, что родилась ведь в Иркутске, в Сибири, молю Бога, чтобы хотя бы поэтому мороз пощадил меня… Пощадил. Подошли к бараку, на котором написано: «Мариинский распред». Открываем дверь. Пол земляной. Под низким потолком вдоль трех стен идут двухэтажные нары. Тусклый свет и крик, как на пожаре. Это размещаются на нарах дотоле мне неведомые люди: воровки, бандитки, наводчицы, пьяницы… Они похожи на земляных червей. Ругаясь самыми страшными словами и дерясь, они проползают на эти нары и выискивают себе местечко, чтобы как-то зацепиться за душное тепло этой землянки, конуры, не знаю, как еще назвать это помещение. Какое-то время стою, прижавшись к двери, боясь, что получу пощечину наряду с другими. Я ведь никогда раньше не видела такой страшной свалки действительно страшных людей. Но ведь я жива. Значит, надо что-то осмыслить, придумать себе зацепку для того, чтобы наблюдать, познавать этот новый мир. В черепной коробке откуда-то выползает даже юмор: если и здесь выживешь, пополнишь свою любимую науку – человековедение. Ты же была режиссером! А может быть и будешь?!? Вспоминаю виденный мной раз пять в Московском Художественном театре спектакль «На дне». Декорации мне там показались страшноватыми. Но если говорить о чувстве правды, в сравнении с тем, что вижу здесь, то декорации спектакля очень идеализированы. А сколько для создания этого спектакля К.С.Станиславскому, В.И.Качалову, Н.Г.Александрову, И.М.Москвину пришлось походить по ночлежкам, общаться с такими же людьми, что окружают меня сейчас. И сколько правды сумели они почерпнуть именно там. Ну вот, пожалуйста, смотри, общайся! Твоя профессия требует побывать не только на спектаклях с названием «На дне», а на этом, подлинном, дне жизни. Все – под рукой. На верхних нарах в углу заметила молодую девушку. Она была неплохо одета, с приветливым выражением лица. Я вежливо поздоровалась с ней, получила в ответ легкий поклон и постаралась найти верную интонацию для начала разговора:– Простите, пожалуйста, вы такая молодая… за что вас?
– Не такая я уж и молодая. Девятнадцать стукнула. Третий раз сижу (это сказано с чувством собственного достоинства: уголовные любят подчеркивать свой «стаж»).
– А за что сюда попали? Простите, если не секрет…
– Какой же в этом месте секрет может быть?? Наводчица я. Шапочка, сумочка, манеры приличные… очень меня в нашей шайке уважали. Сам Колечка – Москва ценил. Вы из Москвы?
– Да.
– С Колечкой-Москвой не встречались?
Мысль, что знакомство с Колечкой, к счастью, миновало меня в Москве, показалась мне настолько забавной, что я едва не нарушила подобия контакта со своей новой знакомой. Но я взяла себя в руки и вежливо ответила:– Не приходилось.
– Ну, а я в нем души не чаяла. Одевался только в заграничное. Духи употреблял французские. Красивый мужчина. И походочка завлекательная. В ресторане «Метрополь» дамы им очень восхищались. Манеры такие в танцах употреблял, что дамы просто завлекательно улыбались, чтобы он с ними танцевал. Знаете, некоторые придут с мужем зажиточным, закуска, выпивка – все в порядке, а танцевать не с кем. А Колечка замечает, подходит, приглашает, чистый носовой платочек из кармашка накрахмаленный, галстук самый модный… Завидный для всех красавец!
Жену и детей своих он на даче, подальше от Москвы, держал. Жена в уверенности была, что этими танцами он их и обеспечивает. Да, да… Глаза у нее заблестели, и она на мгновение замолкла. Но мне все же удалось продолжить «сеанс человековедения»:– Ну, а вы, значит, наводчицей…
– Моя работа такая. Узнала, доктор, скажем, денег, драгоценностей поднакопил, в квартире держит. Я звоню скромно так, шапочка, сумочка, жакетик на мне, волосы, в косу заплетенные, прилично так причесаны. «Простите, доктор на дому не принимает?» «Нет, – отвечают, – Но может, вам адрес больницы дать?» «Сделайте такую милость – я не московская. И как туда проехать опишите». Пока она пишет, мое дело – запомнить, сколько дверей, как комнаты расположены, куда окна выходят, какие на парадном запорчики, цепочка значение имеет, есть ли собачка – тоже вопрос важный, какие люди проживают. Иной раз заплачешь. Есть время получше оглядеться. Или забудешь что, еще раз вернешься: «Простите, платочек, дорогой по воспоминаниям, у вас потеряла, не находили?»
Да… четыре года уж я… опыт имею. Она говорила без малейшего замешательства и вышивала цветочек на чем-то, напоминающем носовой платок. Рассказ о преступлениях уродливо перемежался уменьшительными «платочек», «собачка»… Чем дольше она говорила, тем труднее мне было сохранять выражение лица любезной слушательницы. А моя собеседница так увлеклась воспоминаниями о Колечке, что рассказала мне и о том, как ловко он вставлял «свою финочку» между шестым и седьмым ребрами в сердце спящего старичка, которого хозяева квартиры решили в эту ночь не брать на дачу, оставить для охраны квартиры… как беззвучно приходила к старичку смерть… «Почему, Натенька, у тебя на лице видно все, что ты думаешь?» – я часто вспоминала слова мужа. Увы, и здесь мое лицо меня предало. Заметила это и наводчица, и придвинувшаяся к нам толстая, курносая деваха, жадно жующая кем-то выброшенную ножку недоваренного поросенка, и женщина с отекшим лицом лет пятидесяти с распущенными волосами, в которых ползали кучи вшей. На лице моем – нескрываемый ужас. Это вызывает громкий смех трех соседок, почуявших во мне своего врага. Пусть с виду из-за бушлата и лаптей вначале я показалась им почти «своей», теперь перерешили – «штымпиха», может быть, и доносчица – неспроста подсела к той, что помоложе, из шайки знаменитого уркагана Колечки… Та, что с поросячьей ножкой, размахивая ею, как дирижерской палочкой, кричит:– Галча-чума! А ну подбрось этой московской барыньке горстку из своего стада!
Под общее улюлюканье я неловко стараюсь сползти с верхних нар на земляной пол, чуть не сломав себе ногу: вши Чумы уже почти рядом с моими волосами, мне кажется, что они уже ползут по мне, что я погибла… И вдруг раздается низкий, властный голос– Чума – на место! Шалман, молчать!
С другого конца верхних нар ловко спрыгнула красивая, крепко сбитая девушка, и стало тихо. Еле слышен шепот той, что быстрее всех улепетнула, опустив поросячью ножку:– Наша староста – Мария Дунина, позвище – «Овчарка»… С ней шутки плохи…
Словно по волшебству, стало совсем тихо, такое впечатление, что весь этот шалман отодвинулся далеко на задний план. Или совсем исчез. Сейчас на расстоянии двух шагов друг от друга стоят две молодые женщины (кажется, что это крупный план в кино). Одна – в бушлате и шапке-буденовке, из-под которой видны давно не стриженные, но все еще пушистые волосы, совсем седые волосы, которые все еще вьются вокруг опаленного морозом лица и глаз, недоумевающих и несдающихся. Другая – самоуверенная, со светлыми, гладко зачесанными назад волосами, в модных меховых сапожках, в почти новом мужском пиджаке, с зелеными, пронзительно глядящими глазами. Ей, как и первой, приблизительно тридцать лет, она чувствует себя здесь хозяйкой. Хозяйкой над всеми в этом бараке, кроме той, в бушлате, вызывающей у нее недоумение. Не веря самой себе, что такое бывает, с интонацией почти горестной она говорит тихо и почтительно:– Неужели… Вы… это… та самая?
– Да, – отвечаю я со стыдом и болью, подавившись тем, моим прежним голосом.
И вдруг в смраде этого похожего на мусорную яму помещения почти одновременно в глазах этой страшной красивой женщины и моих возникает ликующе-прекрасная Москва, ее многоцветные огни… Манежная площадь с огромной елкой, так талантливо украшенной Вадимом Рындиным словно ожившими персонажами любимых сказок, сказочными домиками, вокруг которых толпятся счастливые дети и… Я вижу себя, ту, что считает себя самой счастливой, влюбленных в меня и в мои выдумки спутников… «Овчарка»… А она ведь тоже была молодой женщиной и тоже мечтала о счастье. Позже я узнала подробности жизни Марии Дуниной. Москвичка. По «роду своей работы» хорошо знает артистов Москвы. Основное место «работы» – Московский Художественный театр. Она работала там с юных лет и билетершей, и пожарником, может быть, мечтала и о том, чтобы быть ближе к сцене. А потом, по ее же выражению, «споткнулась»:– Одного любила – Давидом звали… Хотела разлюбить – не вышло… Все другие, казалось, и говорят не то, и целуют не так… А Давид оказался человеком страшным. Заставил использовать и физическую силу, и сообразительность, и память мою, даже любовь к Художественному театру так, чтобы он мог жить припеваючи…
Она занималась «работой» там же, около Художественного театра. Постыдной работой. На все спектакли в Художественном театре все билеты, как правило, были проданы. У входа – толпа желающих попасть на спектакль. У «Овчарки» «случайно» оказывается лишний билетик. Она выбирает из жаждущих хорошо одетого приезжего. Приезжий ликует: попал в МХАТ и вдобавок будет сидеть рядом с красивой, умной собеседницей, москвичкой. Да, она много может рассказать и об этом театре, и о жизни московских знаменитостей. После спектакля, если этот приезжий – «пылкая натура», происходит многое. А утром он ничего не помнит, просыпается где-то в подвале «в чем мама родила». Конечно, она была преступницей. Но то ли то, что Маша иногда рассказывала своим бывшим собеседникам обо мне как о дочери Ильи Саца, портрет которого всегда висел и висит в Художественном театре, то ли сочеталась в ней ее преступная деятельность с интересом к людям искусства и сожалением, что преступления преградили ей путь к другой жизни, то ли особое отношение, граничащее с восторгом, к некоторым артистам – все это делало ее непохожей на тех, кто окружал меня в этом «шалмане». Что-то слышала она и о Сталине, о его арестах лучших людей, инстинктивно ненавидела его. И мой арест восприняла как личную, кровную обиду.– Такую, как вы, спихнуть в нашу мусорную яму… Гады!!!
Главным для меня в тот момент было, что какая бы она ни была, тогда она буквально спасла меня. Избивать случайно попавших в среду уголовников – «штампов», то есть приличных, но слишком похожих друг на друга людей – было любимым занятием в этом «распреде». По-своему, может быть, они были и правы: я ведь, как знатная путешественница, изучала нравы таких, как уркаган Колечка, кривила губы, слушая об их «подвигах»… Убить бы они меня не убили, а изуродовать– с превеликим удовольствием. Все-таки развлечение. Мария Дунина заняла по отношению ко мне очень добрую позицию. Я была водворена в другой, так сказать, привилегированный конец верхних нар. Она познакомила меня с двумя своими приближенными. Одна была в кружевной, явно краденой комбинации, другая – почему-то, несмотря на духотищу и жару, в меховой горжетке поверх бюстгальтера. На этапе ведь кроме горячей воды два раза в день и кандёра ничего не дают. По приказанию Дуниной мне налили настоящего горячего чая, дали булку, кусок сахара. Эти «сокровища» я взяла уже успевшими подмерзнуть красными пальцами, бережно положила сахар в чай… и вдруг заметила, как та, в горжетке, уперлась глазами в мои руки и закричала с восторгом:– Ну и пальцы у нее – красотища! Стыдливо поджимая пальцы от неожиданного здесь комплимента, бормочу:
– Я с детства на рояле играла… Другая, в комбинации, с распущенными волосами, перебивает меня:
– Какой там рояль! С твоими пальцами… только по карманам ходить…
Первая – карманница, но пальцы у нее короткие, показывает, как важно в нагрудном кармане сразу до дна достать, деньги, часы там… подцепить…– Когда с двух раз – засыпешься враз… – разъясняет она.
К счастью, Дунина одной из моих новых «поклонниц» дает подзатыльник, другую – тянет за волосы и бурчит под нос,– Не из той она жизни… Королева!
А я, согретая чаем, сразу заснула. Я видела во сне саму себя и улыбалась. В мозгу моем, издерганном самыми разными впечатлениями, вдруг возникла… Прага, где еще недавно выступала с докладом о детском театре и где на следующий день после этого доклада в одном из журналов, появилась статья «Руки Наталии Сац». На шести чудесных фотоиллюстрациях были зафиксированы различные жесты моих рук. Только руки… Я очень гордилась пражской статьей, но никогда не думала, что заглавие «Руки Наталии Сац» будет произнесено вторично, но с совсем другим подтекстом. Смеялась еще и потому (о, тщеславие, даже в той ситуации), что Маша Дунина назвала меня «королевой». Кстати, это прозвище за мной в те суровые времена так и осталось, уж не знаю почему… Встречаю Новый год Однако жуть знакомства с воровским миром далеко уступала тому, что я пережила в бараке, где содержали контрреволюционерок, яростных, убежденных (меня перебросили в этот барак на следующее утро из распреда). Что это были именно они, стало ясно с первого взгляда, с первых реплик; они точно знали, за что сидели. В неугасающей ненависти своей находили даже какую-то радость, не стеснялись громких, жестяно-циничных слов о всех событиях жизни. Я была встречена улюлюканьем, фразами, превосходившими все прежде слышанное.– И вы туда же, милости просим в нашу выгребную яму…
– Нет, мы «да здравствует» не кричали, с красными флагами не ходили…
– Расскажите нам о ваших идейных постановочках… посмеемся…
Я еле стояла на ногах, но меня тут же назначили дежурить, дали грязное ведро и тряпку, от которой шел одуряющий запах. Вероятно, вид у меня был очень растерянный… На нарах раздался утробный смех: бывшая петербургская барыня, как она себя называла, по которой ползала кошка ангорской породы, особенно веселилась.– Я – титулованная, но вот научилась убирать за моей кошечкой, мужайтесь, советская героиня.
И как бы случайно бросила на меня кошкину подстилку. Ржавое, кособокое ведро с грязной водой было все же менее страшным, чем люди, которых я тоже ненавидела еще больше, чем они меня, и с которыми оказалась так близко…– Смотрите, – закричала «резвушка» с верхних нар. – Она до ведра даже дотронуться боится, эта наркомша…
– Боюсь?
Я рванула ведро кверху, на кого-то плеснула грязной водой, кто-то ударил меня по голове, дальше не помню… Все-таки мне в жизни чертовски везло: я потеряла сознание и лежала в глубоком обмороке, когда мимо барака проходил конвоир, и меня уволокли. Как я попала в больницу деревни Ново-Иваново, не помню. Где-то отдельно от меня в мозгу торчала мысль: приближается 31 декабря 1937 года. Того года, который так счастливо начинался. Новогодняя ночь в кругу своей семьи, артистов Центрального Детского, нежно любящих меня людей обещала исполнение всех моих желаний. Могла ли я тогда думать, что через восемь месяцев окажусь в преисподней. Неужели следующий год продолжит эту пытку?! Железная кровать. Рубленая изба. За окнами – лютый мороз. Я совсем одна на всем белом свете. Боюсь этого Нового года, своего полного одиночества. Никто из близких не знает, где я: а что знаю я о маме, детях, муже, о будущей своей судьбе? И вдруг (о, это драгоценное в том моем положении слово «вдруг»!) оказывается, докторша, у которой через день заканчивается срок, – а пока она работает в этой больнице и даже имеет там отдельную комнату, знает обо мне столько хорошего, знает, как жестоко встретили меня в бараке по соседству, – решила пригласить меня встречать Новый год у нее. Мы даже чокнулись с ней, разделив пополам ее единственную конфету. Главное, что восхитило меня в ее комнате, – книги. На полке стояли пять огромных томов Шекспира в издании Брокгауза и Эфрона (!). Когда часовая стрелка приблизилась к двенадцати, я обратилась к своему самому любимому драматургу с просьбой ответить мне, что ждет меня в новом году, и, раскрыв наугад страницу тяжелой серой, с черным корешком книги, прочла ответ Шекспира: Кто настежь жить привык, Сидит пусть под замком… Я была поражена. Ну и, конечно, огорчилась. Только, в каком из его произведений есть такие строчки? Ах да, в наименее известной мне его драме «Тимон Афинский». Ну что ж! Шекспир, как всегда, прав… Да, я жила «настежь». Перед глазами мелькнули тысяча сто детей – участников детской самодеятельности на сцене Большого театра… Они выступят после торжественного заседания в концерте по моему сценарию и в моей постановке для руководителей партии и правительства, дипломатического корпуса… В белых матросках, белых носках и туфлях… Маленький, такого же роста, как его скрипка, Исаак Мейстер, мальчик с гениальными способностями, будет солировать с большим оркестром Большого театра. Дирижировать вначале будет сам Василий Небольсин, а потом за пульт встанет восьмилетний Толя Шалаев; композиторы Л.Половинкин, М.Раухвергер, И.Дунаевский написали на мои слова новые песни… Сколько интересного надо и хочется придумать! А ведь одновременно репетировать и «Золотой ключик», который превратил в пьесу по моей просьбе А. Н. Толстой… Надо встретиться и с теми, кто меня любит… Выбрать время для своих детей… Позаботиться о здоровье мамы… И хотя бы четыре-пять часов поспать ночью… Я жила «настежь»! Но неужели «золотой ключик» не откроет мне двери, чтобы вырваться из страны лютого мороза, лютой жестокости, страшного унижения?! Просветы в моей жизни в те суровые времена были очень короткими. Добрая докторша уже покинула нашу больницу. Вместо нее в больницу назначили маленького горбатого человека, который «заработал» свой горб «на деле». Его профессия была «домушник» – узкая специализация квартирного вора. В лагерях Сиблага за несколько месяцев полуграмотных уголовников «натаскивали» на азы медицины, а потом обрекали заключенных на лечение у таких горе-специалистов. Четырнадцать больных в нашей больнице могли надеяться только на медицинскую помощь этого горбатого лекпома. Я вспоминала одноглазую попутчицу с ампутированными пальцами ног, «Галчу-чуму» с ее шевелящимися волосами, мне казалось, что и моя тяжелая голова превращается в приют для «шевелящихся». Не хотелось ни есть, ни пить. Но больше всего я боялась, что меня начнет лечить горбатый лекпом, и я была счастлива, что в первые дни он не подходил к моей койке. Но когда однажды он надумал поставить мне градусник и ртуть, словно сорвавшись с цепи, прыгнула на самый верх, лекпом даже крякнул от удовольствия. У лекпома были свои твердые принципы лечения: не желая запутаться в сложностях медицинской науки, он был упорен в своих диагнозах. В этом месяце он всем больным ставил диагноз «воспаление легких». И не могла же я быть исключением! Он приказал мне ставить горчичники и банки. Не знаю, сколько дней это «лечение» продолжалось… Я была почти все время без сознания. Меня не кормили, не переворачивали. Но чтобы вовремя заметить, если я умру от чудовищной температуры, подложили на мою кровать еще молодую урку… Поразительна материнская интуиция! Поразительна и необъяснима. Все знакомые отвернулись от «остатков моей семьи»; все те, кто клялись мне в любви до гроба, при виде моих родных поспешно переходили на другую сторону тротуара. А мама, у которой (это выяснили при вскрытии) был тяжелейший склероз мозга, как сказал один доктор, «ее мозг был весь в крошечных отверстиях, словно изрешеченный молью», так вот, мама с раннего утра до поздней ночи обходила власть имущих, утверждая, что сейчас смерть подобралась к ее ни в чем не повинной Наташе совсем близко и что она умоляет сделать запрос, где Наташа сейчас находится и что с ней происходит. Я ничего точно не знаю, но еще раз убедилась, что свет не без добрых людей. Неожиданно из больницы города Мариинска были присланы два доктора, которые с возмущением констатировали, что я больна… сыпным тифом и уже успела заразить мою напарницу по железной кровати. Не удивляйся, дорогой читатель. Это значит, что мне опять… повезло. Сыпной тиф – единственная болезнь, за которую в лагерях строго отвечают. Пришлось лечить всерьез, выделить еще одну избу для сыпнотифозных (их число росло) и вызвать профессиональных врачей из городской больницы. Для лечения глубокого пролежня на спине был прислан хирург. Он проводил свою работу без наркоза (сердце было предельно ослаблено)… Но что вспоминать о чудовищных болях, когда все же удалось спасти позвоночник… Сыпной тиф оставил и другое осложнение – гемипарез д'экстра, а по-русски – паралич всей правой половины туловища. Бездействие правой ноги и правой руки. Я терпеть не могу говорить о болезнях, стараюсь их не замечать или забывать. Но прошло уже пятьдесят три года, и вот как-то во время приступа мозговых спазм я вспомнила свое стихотворение, которое я отношу не к поэзии, а к сыпнотифозным осложнениям. Я вспоминаю его потому, что в нем забавно переплетаются впечатления от первого этапа в товарном вагоне, впечатления от виденного перед арестом спектакля «Анна Каренина», «торговая сеть», которой, как известно, руководил мой муж, нарком внутренней торговли… Мне показалось смешным, что моя активная память, по-видимому, посмеивалась надо мной даже во время болезни. Вот они, эти стишки: «Что с этой? Очень страдает?» – «Нет, вряд ли – все время в бреду… Сыпной тиф – она умирает…» «А, вот что! Ну, завтра зайду…» Тише, тише, я слышу, Слышу, тише, все. Машина в уши дышит, Мне страшно, страшно… За что? Зачем запихнули в картонку? Мне тесно, душно там, Зачем по ушной перепонке Вы бьете, как в барабан? Кто здесь кричит, лахудры? Что это, дом или брешь? Да, были у жизни кудри, А это – жизни плешь… Запихнута я в картонку, Картонка – между колес. Кому, поезд, мчишься вдогонку, Зачем из Москвы увез? Под поездом душно и страшно, В картонке – очень темно… Когда-то ведь было не больно… Да, было… Давно, давно. Мама, ты мне дала жизнь дважды Меня перевели за реку в инвалидный дом. Сознание вернулось полностью, и надо куда-то его запрятать. Зима еще спорит с весной. Тут есть курсы медсестер. А что? Запишусь и я. Местная докторша дала мне толстенную книгу – «Пособие для среднего медицинского персонала». Зубрю ее прилежно. Записываю левой рукой – надо приучаться, неизвестно, как будет с правой. Но хотя книга и ее латынь – прекрасный наркоз, спрятаться от мыслей о маме, о детях, о Заре, о Москве, о театре, уйти совсем от себя – очень трудно. С кем отвести душу? Сторож дядя Влас почти ничего не слышит. Седая знахарка на кровати рядом знает все приметы и любит гадать. Больше ее ничего не интересует. Однажды проснулась в блаженном состоянии. Приснилось, что я ем свежие теплые булки, их было много, сколько хочешь, вкусные. Соседка-знахарка сказала мне авторитетно:– Сон к счастью.
Я надела выданный мне бумазейный халат, посмотрела в осколок знахаркиного зеркала на свою обритую голову, взяла костыль и пошла к умывальнику. С видом заговорщика меня поманил пальцем дядя Влас– Мамаша к тебе приехала. Держись, не переживай. Свиданки добивается.
Ма-ма? При-е-ха-ла? Костыль упал, я села на подоконник и уставилась глазами в окно. Не может быть! Дядя Влас подал мне костыль. Неужели такое счастье возможно? Но нет. Как она могла узнать адрес? Но тут открылась дверь, и на пороге больницы, двумя руками обняв чемодан, появилась моя мама. Увидев меня, бритую, с короткими ростками совсем седых волос, с костылем, она в ужасе сделала шаг назад, но потом сразу взяла себя в руки, шире возможного улыбнулась и красивым сочным своим голосом сказала почти спокойно: «Здравствуй, родная!» Мама была одета в мою обезьянью жакетку, шапочку с мехом. Она была такая молодая, родная и… вольная. Я не смела плакать и смотрела на нее, как на чудо. Тогда мама поставила на деревянную лавку чемодан и открыла его: там были мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко и кофе, апельсины и жареные фисташки, все, что я когда-то любила и о чем сейчас даже не мечтала. Я стала целовать мамины руки, снявшие с меня ужас одиночества. Потом я прижалась к ней крепко, и мы сидели на деревянной скамейке молча. Не плакали – я берегла ее, она – меня. Много позже узнала, с каким трудом мама установила, что я в Сиблаге, как «шестым чувством» поняла, что я больна, как по недосказанному и намекам решила направить путь к этой больнице, как пошла для сокращения пути со своим чемоданом, обхваченным обеими руками, прямо через реку по начавшему таять льду, а льдина с ней и чемоданом оторвалась и поплыла в другую сторону; как двое суток то пешком, то на попутных лошаденках мама двигалась к нашей лагерной больнице. А сколько рассказов о моей работе в Детском театре, о моем недавнем прошлом, прежде чем начальник этого участка рискнул ее пустить ко мне. Мама была у меня два часа утром и два часа вечером. Какое счастье! Как она поддержала меня. Кто б думать мог, что старость Такой опорой молодости будет… Это Шиллер. «Двое Фоскари». Да, я была в тот момент дряхлой – ее вера в молодость зажгла во мне желание жить, жить во что бы то ни стало. После встречи с мамой появился мостик, соединивший меня с родной Москвой. Ее письма, посылочки согрели, подняли дух, волю к борьбе за свое здоровье. Мама, ты мне дала жизнь дважды! Мариинский театр Когда меня перевели в лагерь центрального участка близ Мариинска, вдруг почувствовала прилив жизнерадостности. Помню, как в привезенном мне мамой розовом платье с уже отросшими бело-серебряными волосами, с неожиданно помолодевшим лицом сидела я на траве около клуба и радовалась всему: солнцу, деревьям, раннему утру, возможности хоть немного шевелить обеими руками, большому участку, когда о колючей проволоке подчас забываешь… Вдруг на горизонте показалась мощная фигура в брюках-клеш: не иначе какой-нибудь урка. Он, было, прошел мимо, но несоответствие молодого лица и седых волос вызвало у него желание остановиться. Указав вторым пальцем правой руки на мои седые волосы, он спросил:– Под «вышкой» сидели?
– Нет…
– Какой срок имеете?
– Пять лет.
Урка презрительно улыбнулся:– Из-за этого седеть? Какие вы мизерные!
Высоко подняв голову, он удалился. А я смеялась долго, весело. «Под вышкой» я не сидела, к высшей мере меня не приговаривали и вдруг… поседела! У этого урки, наверное, пять раз по десять лет сроки были, а потом амнистия, туда-сюда, подумаешь, мелочи жизни. А такая, как я, просто мелочь, совсем мизерная… В этом лагере много заключенных, в большинстве своем двадцати – тридцатипятилетних. Есть клуб, несколько жилых бараков, мастерские. Так называемые «политические» – только женщины, все в одном бараке, не имеют статей, только «буквенные обозначения». Например, «ПШД» – подозрение в шпионской деятельности и тому подобные фабрикации образца 37-38 годов. Подозрения, на которых как бы никто не настаивает, но и не отменяет. Удобная форма для безответственности обвинителей и жестокая для невинно наказуемых. Да, по виду эти женщины были интеллигентны и трудолюбивы, барак содержали в идеальной чистоте. Загипнотизированные величием Сталина, они, вероятно, считали, что восьмилетняя изоляция «ни за что» еще лучше, чем другие виды расправы того времени со скромными родственниками неугодных. В других бараках жили уголовные преступники. Их было много. Хорошо зная, за что они сидят, здесь они вели себя дисциплинированно. Я только что из «больницы за рекой» и в первую очередь направлена к врачу. Он тоже заключенный, но настоящий квалифицированный специалист, добился хорошего оборудования лечебного пункта. Меня встречает приветливо и говорит «под строжайшим секретом», что мной «интересовались», была телеграмма за очень важной подписью «спасать во что бы то ни стало». Я этому не особенно верю. Знаю, что начатая мной эпидемия сыпного тифа насмерть скосила пять человек, и полагаю, что «для статистики» еще и мои увечья сейчас были бы «неудобны». Еще понимаю, что доктор этот изображает из себя человека, приближенного к начальству, и надо быть от него подальше. Но знания его, конечно, использовать вовсю. Моя воля к жизни, борьба за здоровье на первых порах в этом лагере – самое главное. Ежедневная гимнастика плюс массаж, ванны, прогревания делают свое дело, и через месяц хожу уже без костыля, стараюсь преодолеть и хромоту. Надо начинать работать. На общие работы (земляные) меня сейчас не пошлют, но когда не болен, более или менее сыт и не работаешь, снова начинают напирать безответные мысли. В голове добавляются четыре строчки к «сыпнотифозному стихотворению»: Тик-так… это капает «жизня». Сегодня просили опять Прийти в хоркружок, на рояле Под пение поиграть… Впрочем, надо быть честной до конца: никто меня об этом не просил. Но проходя мимо клуба, услышала хоровое пение и обратилась к культмассовому инструктору с просьбой разрешить мне этому хору аккомпанировать. Похожая на осу инструкторша вначале поморщилась (я же «врагиня», стоит ли меня подпускать к «народу»?). Но потом решила, «поскольку играть на рояле – дело не идеологическое, а техническое, временно разрешить». Оказывается, в хоровом кружке заключенные собирались сами, руководителя не было, пианиста – тоже. Пели «на один голос» известные им всем песни хором. В клубе свободных комнат было достаточно. Было пианино и ноты – «Песни Дунаевского». Я поделила двенадцать поющих по голосам, расставила их вокруг пианино, сама села за него. «Широка страна моя родная…» прозвучало неплохо, но с оттенками повозились – привыкли петь все громко. «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер…» знали далеко не все, и, может быть, поэтому ее исполнение внесло «свежий ветер» в наш хоровой кружок. Удалось достигнуть и легкости, и подвижности, правда, к концу третьего часа занятий. Но время прошло совсем незаметно. В кружок этот ходили по собственной инициативе только мужчины – любители «спивать писни», главным образом украинцы. Один энтузиаст был особенно старателен. Большие карие глаза ярко блестели, красивые тонкие губы улыбались, а когда он вслед за мной повторял незнакомые слова песни и видны были его зубы, невольно думалось: «В Париже ему дорого бы заплатили за согласие рекламировать какую-нибудь зубную пасту…» Он был одет в коричневую бархатную толстовку, по цвету и фактуре очень схожую с его каштановыми волосами. Смуглый, бритый, прекрасно сложен. Его нельзя было не заметить. Нельзя было не заметить и хорошего тенора Ваню Гробова – нервного, маленького роста и очень музыкального, Ивана Южду – баса, и Сергея Голуба. Сергей был красив, высок и властолюбив. Это звучало даже в его пении и… в его убежденности, что мужа сестры, который над ней издевался, он убил не зря – несправедливости никогда не потерпит! Хоркружковцы остались нашей встречей довольны и попросили меня завтра опять прийти. Молодой мужчина в коричневой толстовке на спевки приходил одним из первых, был одним из лучших солистов. Держался с большим достоинством, на замечания реагировал изящным наклоном головы, говорил очень мало. Кто он мог быть? Я спросила у пожилого мужчины-бухгалтера (сидел за растрату), который тоже посещал наши занятия. Он дал неожиданную, но исчерпывающую справку: «Бандит, статья «пятьдесят девять – три», шестая судимость, украинец, двадцать восемь лет, имя и фамилия – Григорий Малоштан». Значит, наукой человековедения не владею?! Однажды после четвертого урока, когда я засиделась со своими певцами почти до отбоя и торопливо направлялась к своему бараку, от стены клуба отделилась мужская фигура и пошла вслед за мной. Григорий…– Поздно одной ходить не годится… Обидеть можут… Это было благородно с его стороны.
– Кажется, в клубе будет вечер самодеятельности, и мы выступим тогда с песнями, – оживилась я.
Но Гриша вдруг вобрал голову в плечи и посмотрел по сторонам быстрыми, острыми глазами:– Что это вы как громко разговариваете? А что особенного? На репетициях и собраниях я действительно приучилась говорить громко, в жизни – тоже. А он… вор. Поняла и почему он много молчит: тогда он кажется куда культурней. А то скажет «можут», и все понятно.
Каким-то шестым чувством он угадал мои мысли и сказал тоном опекуна:– Лагерь – не воля. Посвободней, чем в тюрьме, да не в кандее. Заметят, что с вами идем, будем штрафные…
– Почему?
– Потому что лагерь! – ответил он авторитетно.
Потом я узнала, что уже после первой нашей репетиции он каждый раз, как я уходила, выходил следом за мной, перебегая от стены одного барака к другому, «чтобы меня кто не обидел…» Несмотря ни на что, это было приятно. Через несколько дней я выступала в самодеятельном концерте. Радовалась очень. Было тепло, человек полтораста зрителей сидели на скамейках у открытой эстрады-раковины… Сначала участвовала как аккомпаниатор хора – спели три песни, а потом, после куплетиста, объявили меня, и я прочла стихи Агнии Барто «Болтунья» и «Ку-ку». Может быть, я до глупости наивный человек, но, честное слово, была рада, что стою «на сцене» и передо мной сидят зрители… После концерта (он длился всего пятьдесят минут) ко мне подошел Михаил Зоров. Я его немного знала года три назад, когда он работал в Театре имени Мейерхольда. Он поцеловал мне руку, и рука моя стала мокрой от его слез.– Как горько и страшно видеть Наталию Сац на эстраде убогой самодеятельности, среди этой шпаны. Я попал сюда на один день, случайно и, когда услышал, что вы здесь – даже не поверил. А сейчас готов рыдать, увидев вашу выдержку… Так держаться среди этой публики – героизм!
Из его сбивчивых слов поняла, что любимые мной детские стихи здесь совсем не к месту, надо подумать о другом репертуаре. Ну, а как я держалась? Наверное, как всегда. К счастью, я себя со стороны не видела… Зато инструкторша, похожая на осу, оказывается, следила за мной уже давно и очень бдительно. Очевидно, она донесла, или, как там говорили, «стукнула» во всесильную «третью часть», что эта «пятьдесят восьмая» – так величала она меня для краткости – стала слишком общаться с массами. Занятия с хором были прерваны, выступления на «эстраде», конечно, тоже. Через несколько дней меня вызвали в канцелярию лагеря. Заведующая, некто Нонна Павловна, посмотрела на меня как удав на кролика и сказала:– Если у вас нет возражений, вам придется исполнять работу картотетчицы. Я ответила:
– Дело есть дело. Работы этой пока исполнять мне не приходилось, но постараюсь справиться…
Реакция на мой ответ была весьма неоднозначной. Видимо, многие из сотрудников канцелярии ждали проявлений моего ущемленного самолюбия, но я совершенно спокойно подошла к своему рабочему месту – столу, на котором стояли восемь длинных, узких деревянных коробок с карточками на каждого жителя лагеря, на каждого заключенного, кому пришел «с воли» денежный перевод. Эти карточки должны лежать строго в алфавитном порядке: «Аахов», «Абакин», «Абишев», «Абурин» и так далее. Я обнаружила большую неразбериху в этих ящиках. Прежний картотетчик плохо переписывал фамилии с бланков денежных переводов, часто путал буквы. До того как я стала картотетчицей, почерк у меня тоже был плохой. А теперь я писала, старательно выводя каждую букву – ведь от этого зависело так много, может быть, даже жизнь некоторых таких же, как я. Прошло немало времени, пока я свои карточки привела в полный порядок. И радовалась, когда, обнаружив ошибку, могла немедленно вызывать для получения денег тех, на чье имя они давно пришли, но кто их до сих пор не получил по вине безразличного человека, не видевшего за своей малограмотной писаниной живых людей. Помню Белкина, карточка которого за два месяца до моего прихода лежала в ящике на букву «В», а ему показывали все на «Б», и он уходил, чуть не плача; Вялова, которого впихнули на букву «Я», и нашу общую радость, когда недоразумение прояснилось… Да, деньги, пришедшие от родных, для заключенного играли огромную роль не только как возможность хоть как-то улучшить свое питание, но прежде всего как моральная поддержка, сознание, что тебя не забыли. Одиночество нигде так не страшно, как в тюрьме или лагере… Конечно, работа картотетчицей по десять часов в сутки была утомительной, но спасали меня… ассоциации. Мысленно я переносилась в давно прошедшие времена и вспоминала… Отто Юльевича Шмидта, героя-полярника, который очень хорошо относился ко мне как режиссеру и человеку, баловал своим вниманием. Помню, как после челюскинской эпопеи попросила его рассказать подробности моим детям – Адриану и Роксане. О том, как страшно было так долго находиться на оторвавшейся льдине, как, вероятно, боялись они, что кончатся продукты. Помню его прекрасное иконописное лицо, большую четырехугольную бороду, пышные волосы, зеленые глаза и… слова о том, что, когда попадаешь в беду, самое страшное – одиночество. Когда меня очень утомляла эта работа, вспоминала Отто Юльевича и старалась хоть чем-то помогать обездоленным. «Бесприданница» Однако «популярность» моя в этом лагере росла. По праву получив свои деньги, заключенные восхищались моей «обязательностью». Хористы чуть не ежедневно собирались в клубе и нарочито громко пели разученные со мной песни, писали просьбы лагерному начальству возвратить меня на клубную работу. Около моего рабочего места в канцелярии нередко собирались «представители Сиблага» для «созерцания» недавно еще «знаменитого человека», а ныне согбенную преступницу, превращенную в «канцелярскую крысу». Быть экспонатом паноптикума было противно, но в конечном счете и это помогло. Руководящей нашей «третьей части», видимо, надоело одновременно слушать разговоры о моей кротости и читать фантастические доносы, и мне была разрешена «по совместительству клубная работа». Очень мне неприятная заведующая канцелярией Нонна Павловна с черными глазами, подернутыми синим, словно угарным, дымом, и злыми тонкими губами взялась мной руководить, намекая, что она связана с «третьей частью» (а попросту была штатной доносчицей). Она меня терпела с трудом, так как мое поведение лишало ее всякой активности. Я же была счастлива. Уже давно мечтала поставить с этими ребятами «Бесприданницу» А. Н. Островского и высмотрела себе исполнителей на все роли. Нонна Павловна попыталась отговорить меня от этого безумия, но когда мы в первый раз собрались и я познакомила ребят с пьесой и А.Н.Островским, она быстро улепетнула в свой барак, а ребята ликовали. В роли Огудаловой я увидела Шуру Савельеву. Она была красива, ростом невысока, склонна к полноте. Волевая, неожиданная, эгоцентричная. В роли Огудаловой она прозвучала сочно и колоритно. У нее была какая-то «вкусная» русская речь: до сих пор помню, как она произносила «Мокий Парменыч»… Сидела она за убийство мужа. «Он старше меня был. Любила, как святому, верила… Была у меня лучшая подруга Ольга. Один раз прихожу с работы раньше времени – они вдвоем в кровати лежат, меня и не видят. Помутилось в глазах. Схватила топор – в углу стоял – обоих враз и зарубила… В милицию после убийства прибежала сама…» Щупленький, небольшого роста вор-неудачник Ваня Гробов был нервным и обидчивым. «Меня некому правильно оценить, – нередко говорил он нам заносчиво и добавлял: – Гроб мое дело, потому и фамилию такую себе заявил…» Большой красивый блондин Сергей Голуб был очень требователен к другим и… уверен в себе. В роли Паратова он был обаятелен и жесток. В роли Кнурова интересен был Гриша Малоштан. Когда он с Вожеватовым играл на Ларису, бросал монету и жадно нагибался, чтобы увидеть, орел или решка, правды в его движении было больше, чем у многих профессиональных артистов. Азартные игры были, вероятно, его страстью. Игорь Антонович очень старался понять и раскрыть образ Робинзона, но роль эта трудная. Я не могу сказать, что была довольна собой, играя роль Ларисы, и если меня очень хвалили, то это за режиссерскую волю, умение создать ансамбль, расшевелить мысли и эмоции участников спектакля, действуя одновременно с ними. Конечно, за последние два года лучших дней у меня не было. Радость переключиться в мир Островского, нести его слова, жить в его гениальной пьесе, забывая о колючей проволоке… Это была райская отдушина в той моей жизни. Нонна Павловна делала все, чтобы затруднить нашу работу, доказать, что из этой затеи ничего не выйдет. То она запирала раньше начала репетиции канцелярию, то оказывался «на профилактическом ремонте» клуб… А между тем пришла уже суровая осень. Я в привезенных мамочкой еще в больницу за рекой туфлях «чапала» с мокрыми ногами. Но радость, что мы «делаем театр», так всех нас объединяла, что ни разу на нашу встречу никто не опоздал, не получил ни одного замечания. Конечно, вера в свой «театр» кое-кого и раздражала. Злоязычные иронические реплики слышали мы часто:– Ну где же ваш театр?
Григорий, сверкая глазами, отвечал;– А у нас, где Наталия Ильинична встала – там и театр… Месяца два странная моя «труппа» ходила за мной следом, и в их обществе я выглядела почти девочкой. Рослые, видные, физически сильные… страшноватые, конечно. Но меня слушались, как маленькие. Несмотря на свое прошлое, тянулись к культуре, театру, ценили наш спектакль, вдохнувший в них свежий воздух. Кто-то в «третьей части» проявил гуманность: последний месяц репетировали в клубе, получили материалы для декораций и костюмов. Ну а мастеров на все руки у нас хватало…
Спектакль состоялся. И какой это был успех! Особенно гордился лагерный доктор, громко сообщая, что это он вернул мне жизнь. Двигалась я опять полноценно, это правда. Но когда лили дожди, могла бы и заболеть, если бы… однажды Гриша не принес мне нечто, завернутое в пеструю ситцевую наволочку, и не передал это в строжайшей тайне. Это оказались точно по моей ноге хромовые сапоги. Право же, ни до, ни после – за всю жизнь – такой роскошной, а главное – спасающей обуви я никогда не имела. Помогли мне эти чудо-сапоги, но и взволновали меня… Гриша дал слово, что объяснит. Я знала: денег с воли он не получал. А если краденые? Поговорить вдвоем женщине с мужчиной, особенно вечером, в лагере было невозможно. Встречи всей группой участников спектакля разрешались только, когда должна была состояться репетиция. Но вскоре Гриша мне все же устроил «свиданку»… видел, что происхождение сапог не давало мне покоя. Я подошла в назначенное им время, когда стемнело, к небольшому сараю для лошади, с продолговатым овальным отверстием вроде большого незастекленного окна. Григорий стоял с ключом около полуоткрытой двери. Вошли. Он запер сарайчик изнутри.– Куда это ты меня привел?
– Здесь окуривают чесоточных лошадей. В отверстие лошадь морду высовывает, чтобы скотина не задохлась, а ветеринар здесь внутри окуривает…
– Чудесное место для свидания, – засмеялась я. А он был предельно серьезен:
– Не смейтесь, Наталия Ильинична! Голос ваш везде слышен… Ключ этот я еле раздобыл – вижу, переживаете… Сапоги самые лучшие в лагере я давно вам справить хотел, да знал – краденые вы все равно носить не станете. А тут случай вышел: сапожник, что сюда с воли приходит, дочку свою замуж выдает. Попросил ей этажерку резную сделать. Я ножки ваши срисовал в точности, ему дал… А он мне эти сапоги сточал, да еще спасибо сказал, как порядочному.
Я крепко пожала его руку – он задержал ее и, не отводя от меня глаз, сказал:– Хотите, клятву дам – воровать не стану, драться не буду, что вам не нравится – завяжу… Только помните вы одна пропадете. Зависти на вас отовсюду много ползет… Такой, как вы – нигде нет…
Когда Гриша начинал «полыхать огнем», мне всегда делалось страшно. В его красивых глазах статью «пятьдесят девять – три» читала ясно… Без руля и без ветрил… Взяла нарочито педагогический тон:– Я очень рада, Гриша, что ты хочешь исправиться накрепко. Ты – одаренный человек, у тебя золотые руки… Он отнял свою руку от моей и сказал сурово:
– А где их смысл сейчас? Мои руки на вас работать хочут! Освободимся – я вам такую избу срублю, зверя набью всякого, такие вам столы, скамейки, кровать резную сделаю – завидовать будут!..
Я как-то сжалась и отодвинулась в угол. Бандит Гриша делал мне предложение, как будто я – холостая. А я с момента ареста старательно скрывала, как горько корю себя за то, что недостаточно берегла любовь мужа, Зареньки моего единственного. Вечно надеялась, что опять буду вместе с ним, прижмусь к нему навечно, не отдам никому нашего счастья. Никто не знал, что главным в этом лагере была для меня… тюрьма. Стандартно-красная, из кирпича, большая, недоступная – она была в десяти шагах от колючей проволоки. Говорили, что там сидит Карел Радек, кто-то еще «из знатных», с подпольным стажем, коммунистов… Сколько до боли ясных фантазий, каждый день новых, криком только что вылупившихся мыслей-птиц гнездилось в моей голове, и как трудно было жить повседневной жизнью, когда другая, самая главная, жила со мной в этой тюрьме за забором. Чаще всего фантазировала, что я под видом медсестры пробираюсь туда, а он (мой Заря!) даже ослеп от ожидания и вдруг слышит: «Заренька, это я, твоя Натенька… Все-таки нашла тебя…» «Значит, ты меня… любишь?» – говорит он. И ему уже не больно, а я ночью и днем про себя твержу: «Да, да, не сомневайся в этом… Люблю… Найду тебя, Заренька!» Гриша жил своей жизнью отдельно от меня. Его руки были сильны, красивы и предназначены для того, чтобы брать, безотказно брать все, что и кого он хотел. Я жалась в угол. Он понял все и сказал гордо;– Не можете понять человека! Штымпы вы, все одним миром и скукой мазаны. Для меня… да вот за эту минуту, что я с вами рядом, и жизнь отдать не жалко, а вы… не поймешь, где… Комиссара вашего народного давно в живых нет, а если и есть… что он сам-то делать может… бумаги писать!? Для меня вы знаете кто? А вы и подойти ко мне не хотите… Завтра, да через месяц – так жизнь и пройдет…
Мимо овального окна прошло какое-то начальство. Гриша закрыл мне своей рукой рот, выждал минуты две, потом бесшумно открыл дверь, и мы разошлись в разные стороны. А между тем наша «Бесприданница» сплачивала коллектив все больше и больше. Мои «артисты» научились прежде думать, потом произносить слова, гораздо лучше слушать друг друга. Мы удачно ввели цыганские танцы и песни в действие спектакля… В благодарность за «Бесприданницу» и «интересную жизнь» кружковцы стали перевыполнять рабочие нормы, и когда слухи об успехе нашего спектакля пошли уже по другим лагерям, «по всему Сиблагу» – гордости нашей не было конца. Была уже зима. Для выезда в другой лагерь со спектаклем нужны розвальни… Трое розвальней, значит, и… шесть конвоиров. Кто-то из начальства решил отказать: конвоя не хватает, ехать через лес, могут и сбежать. Но не известный мне по фамилии и внешнему виду какой-то большой начальник перерешил, спросив:– А Наталья-то сама с ними поедет? Точно?.. Тогда я спокоен. Не убежит никто. Конвой вообще не нужен. Это было «чудное мгновенье» в той моей жизни. Неужели мне опять доверяют?
Да, выехать со всем своим коллективом за зону, катить на розвальнях по лесу, на спектакль, наш спектакль! Я и сейчас не забыла запах соснового сибирского леса, снега, радость «воли», когда она приходит ненадолго и неожиданно! В клубе чужого лагеря нас встречают, как будто мы и не заключенные. По большому фойе, посредине, идем с вещами. По бокам стоят вольные и заключенные, здороваются приветливо, ждут нашего спектакля с нетерпением. Шура, Гриша и я идем впереди. Кто-то шепчет:– Смотри, смотри, кто идет?!
Я скромно опускаю глаза. Уверена, что сейчас назовут мое имя и фамилию. И вдруг раздается:– Вот этот, высокий, красивый, – это же первый краснодеревец всего Сиблага! Знаменитый Григорий Малоштан. Гриша бросает на них уничтожающий взгляд:
– Дуры! Главную нашу Наталию Ильиничну не заметили… – говорит он беззвучно.
– Замолчи, – прерываю я его весело. – Я рада, что в Сиблаге я менее знаменита, чем ты.
Нас ведут в соседнюю комнату, где накрыты столы, стоят чайники, кувшины с молоком, хлеб, сыр, колбаса.– Может, закусите после дороги перед спектаклем? – спрашивает добродушная женщина из местного начальства.
Пауза. Не поворачивая головы, все смотрят на меня. Кто-то мямлит неуверенно:– Нет, спасибо, мы уже…
Дисциплина! Их трудно подчинить, но завоевать можно. И если они в тебя поверят, то и им можно поверить.– Ну, что ж, ребята, давайте закусим, раз приглашают. Как вы думаете, а? – говорю я весело. И в ответ – улыбки, ликование.
– Конечно, спасибо, раз Наталия Ильинична сказала, чего тут…
Пьем горячее молоко, даже едим горячие котлеты – красота! Один мой взгляд (правда, за моей спиной Гришин взгляд впридачу) – и начинаем ставить декорации, одеваться: публика давно заняла места, ждет. А после спектакля? Успех – нет, это не то слово. Буря… Длительные овации. За кулисами меня окружают новые поклонницы и поклонники.– У нас в лагере библиотека есть неплохая, книжки берут, но маловато. Читать самим нужно, да ведь с живым словом не сравнишь. Читать все умеют, а представить себе всю эту жизнь многим из нас, ой, трудно. Зато теперь – только держись, наш библиотекарь.
Еще два раза выезжали мы в соседние лагеря с «Бесприданницей». Как радовались мы, каким живительным был наш успех для зрителей-заключенных! К сожалению, того, кто разрешал нам выезды, вероятно, переместили на другую работу. Нашу «Бесприданницу» все труднее было показывать в других лагерях и из-за отсутствия конвоя, и по другим причинам. Но все же успех был настолько велик, что искупал и трудности, и неприятности. Увлеченные своей работой и способностью увлекать изолированных от культуры людей, мы мечтали уже делать новую постановку и были очень благодарны моей маме, которая прислала нам большой том пьес Островского, новые песни и одноактные пьесы. Мы были уверены, что наша работа себя оправдала, и ее поддержат. Однако кривые дороги решений Сиблага были непредсказуемы. Однажды в четыре часа утра в наш женский барак пришли за мной два конвоира со страшными словами: «Собирайтесь с вещами». За что? Куда ведут? Разве я в чем-нибудь провинилась? Я же доказала, что могу быть полезной! Снова неизвестность, потеря даже этого известного моей маме адреса, снова полное одиночество! И когда мы приблизились к выходу у колючей проволоки, вдруг от столярной мастерской отделилась статная фигура Гриши. Волосы на голове были спутаны – он, видимо, только что вскочил с койки; неотрывно смотрел на конвоиров, на мои вещи, смотрел, как я ухожу все дальше… А когда я вышла за зону, мы посмотрели друг на друга последний раз, и он закрыл лицо руками. Спасибо ему. А когда я снова зашагала по белому снегу за воротами лагеря, родились строчки: Прощай, Сибирь, Прощай, буран и вьюга, Безоблачного неба бирюза, Прощай, жиган, Хорошим ты был другом, В последний раз гляжу в твои глаза… Второй этап Весна тысяча девятьсот тридцать девятого. Снова этап. Из того лагеря, где все-таки удалось сделать что-то хорошее, зашвыривают, как футбольный мяч ногой, куда-то. Зачем? Там я все-таки добилась какого-то признания, ощущения, что не только существую – живу. Мама знала тот адрес. Ей рассказали об успехе «Бесприданницы», и во время второго свидания она сказала мне:– Неси культуру повсюду, доченька… Я привезла тебе кое-какие вещи для выступлений, даже длинное платье.
Дорогая моя, она не рассчитала, что моя правая рука была все еще слаба и с трудом могла держать этот легкий для других чемодан, который в этом этапе казался мне непомерно тяжелым. Ранним утром с поезда ведут меня и других заключенных, которых совсем не знаю, в Свердловскую пересыльную тюрьму. На улицах еще пусто. Только двое горластых мальчишек, неизвестно откуда взявшиеся, заметили наше печальное шествие.– Воров ведут, – кричит один.
Другой бросил камень. Камень пролетел мимо, тела не задел, но почувствовала его где-то глубже. Если бы два года тому назад я приехала в Свердловск, сколько вот таких бы мальчиков и девочек встречали бы свой театр, меня, и как! При входе в тюрьму проверяют фамилию, статью, срок… Меня ввели в большую камеру. Женщины с разными статьями из разных городов. Среди них многие видели мои постановки или читали о них в газетах. Кое-кто слышал, когда я читала Пушкина в Бутырской тюрьме и, подначивая других, попросил устроить им… концерт. Организовались вокруг меня моментально: кто – на нарах, кто – под нарами, кто – просто на полу. Главное, поближе к «мастеру тюремного художественного слова». Каждое слово, как в голодное время хлеб, глотали, и я это чувствовала. И опять, словами Пушкина, «несчастью верная сестра – надежда» вползала в наше воображение, переносила нас в другие миры, рождала другие образы. Помню, читала «Цыганы», сказки, стихи. Исполняя «Я помню чудное мгновенье», не смогла обойтись без Глинки… Утром снова в путь. В поезде продолжала читать стихи самой себе… И вдруг замечаю пристальные глаза своей соседки – жены заместителя наркомвоенмора Я.Б.Гамарника. Кажется, ее муж успел застрелиться сам. Одета она тщательно, как будто ее только вчера арестовали, причесана, как будто ничего и не случилось, с волосами, заколотыми шпильками. И только перепуганные, как после только что полученного неожиданно подзатыльника, глаза говорят о ее внутреннем самочувствии. Ей странно, что я все время молчу, и она начинает разговор первая:– Вы, конечно, понимаете, товарищ Вейцер, после всех тех встреч, которые устраивали около этих же железнодорожных платформ совсем недавно моему мужу, ч т о я сейчас переживаю… Единственное мое утешение, что наша дочь, пионерка, отличница, Веточка моя ненаглядная, продолжает учиться, в то время как меня по существу уже нет…
Она не успевает докончить фразы, как со второго этажа, где возлежит здоровенная урка, на нее сыплется шелуха от грецких орехов: урка то и дело меняет положение на своих нарах для того, чтобы плевать прямо в лицо жены прославленного военачальника, особенно когда та торжественно употребляет слово «товарищ»:– Поговори, поговори, штымпиха из самых порядочных! Только не подавись моей шелухой-то…
И вдруг я вскакиваю и громким своим голосом все когда-либо слышанные и еще никогда ранее не произнесенные слова отборного мата пулеметной очередью запускаю в урку… Она перестала жевать орехи, восхищена, что «нижняя штымпиха», так может… Но жена Гамарника, за которую я заступилась от чистого сердца, закрывает лицо чистым носовым платком и тихо плачет:– Никогда не ожидала от вас…
– Добавьте «товарищ Вейцер»… – говорю я, так как только сейчас понимаю, как разнороден состав этого вагона и как в общем-то смешна вся эта ситуация, в которой я, к своей неожиданности, страстно любя иностранные языки, помимо своей воли овладела и этим.
Правда, на ближайшей остановке конвоир заменил мне «общество»… Ввели большую компанию малолетних преступников, которые лихо пели песню о сереньком козлике… В мое сердце чуть было не закралось умиление, когда они запели «Жил-был у бабушки…», после чего я надеялась услышать знакомые слова, а вместо этого услышала «…твою мать», а после этого «Серенький козлик» и опять «…твою мать». Грязные слова повторялись до бесконечности. Но тут случилось неожиданное: моя теперешняя соседка – худенькая девочка лет четырнадцати – начала гладить меня по плечу, прижалась ко мне, как моя Ксаночка в детстве, когда хотела о чем-нибудь попросить:– Знаешь, – сказала девочка тихо и доверительно, – у тебя из чемодана выглядывает железная банка из-под мясных консервов… Может, она не совсем пустая?
К сожалению, она была почти пустая, но я охотно отдала ее девочке. Наверное, я никогда не забуду больших серых глаз девочки с косичкой, когда она указательным пальчиком нашла остатки жира в этой жестяной банке и со счастливой улыбкой очистила ее до самой жести.– Вот ведь говорят, что сны не сбываются… Я больше года ничего, кроме хлеба, не ела, и вдруг сегодня у меня праздник. Спасибо вам!
Я обняла эту девочку, поделилась с ней всеми остатками от маминой посылочки, и она рассказала мне о своем горе:– Мама у меня давно умерла… Мы с папой на железной дороге жили – он там начальником был. Когда его арестовали, взяли и меня, статью дали – диверсантка… Потом объяснили, что это про тех, кто нарочно крушения поездов устраивает. Только мы с папой ничего этого никогда не устраивали. А как им это объяснить, я же не знаю. Вот и возят меня уже два года с места на место.
Конечно, я ничего не могла сделать для нее. Но как ненавидела я тех, кто в своей жестокости не пощадил и эту четырнадцатилетнюю девочку. В Темлаге Везли нас на поезде долго. Москву, увы, проехали. Но вот я и на новом месте. Лагерь абсолютно закрытый, для «жен самых ответственных врагов народа». Он не похож на обычный лагерь, где жизнь была пестрой, шумливой, скорее – на женский монастырь: чистота, порядок в бараке, на немногих аккуратных клумбах растут аккуратные цветы, тишина… могильная. Кроме конвоя и начальника – никаких мужчин. Знакомых полным-полно: жена председателя Госбанка Нонна Марьясина (прежде, в Москве, видеть ее без шлейфа поклонников было невозможно); жена Сени Урицкого, такая же трудолюбивая и скромная, держалась сейчас так же, как и тогда; жена председателя ЦК Рабис (работников искусств) Славинского Зинаида Светланова – примадонна Московской оперетты, и тут держится, зная себе цену. Помню ее чудный голос. Спрашиваю, поет ли она здесь. Она презрительно кривит губы:– Птица в клетке не поет…
Но работают здесь все. Организовали швейную мастерскую, бригаду садовниц… Меня вызывает к себе начальник лагеря капитан Шапочкин. Милейший человек…– Жена Вейцера? Знал его… Его в Туле называли «красивый Вейцер». Борода у него длинная была. Большим пользовался уважением – секретарь губкома!
Давно ни один «вольный» так о нем не говорил, спасибо! Он говорит со мной доверительно, рассказывает о своем лагере:– Для нас, начальства, это не лагерь, а санаторий: никаких недовольств, антисоветских разговоров… Мужскую работу тоже выполняют. У нас тут пожар начался. Они так организованно его остановили, что прямо на удивление…
Я рада, что это так. Но зачем он мне все это говорит? А он приуныл:– Только живой жизни у нас тут нет никакой… Права переписки – тоже. Живут воспоминаниями о прошлом, потухли…
Да, как ни странно, здесь мне будет еще труднее дотянуть свой срок (еще три с половиной года!) и вернуться (будет ли это?), не потеряв себя. Я не такая гордая и правильная, как Светланова, не могу без творчества. Капитан Шапочкин продолжает:– Начальник «третьей части» из Мариинска пишет о вас…
У Шапочкина на столе мое чахлое «дело». Он что-то листает, потом говорит очень радостно:– У вас сыпной тиф с осложнениями был? Вот это дельно – основание для долечивания…
Шапочкин продолжает:– Значит, «Бесприданницу» с уголовниками? Вы – молодец. В вашем деле еще сказано, что вы фельдшерские курсы окончили… Пошлю-ка я вас на наш больничный участок, глядишь, и еще что-нибудь поставите.
Я была ему благодарна. Здесь несколько лагерей. Они соединены между собой железной дорогой. Общее название – «Темлаг». Климат – намного теплее. Больничный участок, куда я попала, небольшой, с отдельными домиками для врачей разных специальностей, несколькими клумбами и деревьями. Многие из женщин-докторов – жены ответственных работников, меня знают, хотят поддержать. Конечно, я еще не совсем здорова. Последняя мамина посылка давно съедена, а сможет ли мама найти меня теперь, поддержать – неизвестно. Я как-то и сама не заметила, что на теле пять огромных фурункулов, трудно поднимать и опускать руки… Наблюдательный капитан Шапочкин, вероятно, заметил, что физически я не очень-то… и послал на обследование. Ну что ж, пусть обследуют… Скорее приблизиться к твоей единственной цели – свободе. В комнате нас трое: жизнерадостная старушка в повойнике на голове; рядом с ней девушка, молодая, красивая и… глухонемая и я. Старушка наблюдательная, верно замечает, что молчу, потому что на душе кошки скребут. С простонародной мудростью она пытается поднять мое упадочное настроение:– Самое главное, запомни слова той, что постарше тебя, – не сойти с реек. Как человек соскочил с них, так и пропал. Не такие вагоны машина губит, как с реек сойдет…
Она попадает в самое больное мое место… Главное, не сойти со своих реек, жизненных принципов… Не метаться, верить.– Эх, бабуля, – говорю я грустно, – как трудно верить, когда ни в чем не виновен, а вот… Старушка отрицательно машет головой:
– Все про саму себя ты знать не можешь и про ближних – тоже. Лошадь о четырех ногах, и та спотыкается.
Не поймем до конца мы с ней друг друга. Поговорим лучше о глухонемой девушке с розовыми щеками, спокойным лицом и… большим животом. Бабуля охотно переходит на эту тему:– Наша глухонемая на сохранении, вот-вот разродится. А ребенок у нее будет особенный: в какого отца ни попадет, все человеком будет. Она с бухгалтером гуляла – немыслимо был умный старичок. А еще у ей в это время офицер был – красавец, загляденье. Ну, и тот, что на железной дороге раньше работал, – не хуже. Статный такой… Да, уж это дитя в кого ни попадет, на славу вырастет…
Конечно, рассмешила она меня своими рассуждениями. Ловок же должен был быть ребенок, которому еще до рождения необходимо было найти столько попаданий! Пожалуй, эта старушка на больничном участке вылечила меня больше всех. В то время как милые и внимательные доктора лечили меня мазями и каплями, старушка напекла мне пять луковиц и, очистив их от верхней корочки, прибинтовала их к больным местам. Через несколько дней мучившие меня фурункулы прошли, и тело стало гладким. А тут еще моя изумительная мама каким-то образом разыскала меня, разослав в разные лагеря «пробные посылочки», и одна из этих «пробных посылочек» нашла меня. Очень смешно, но среди докторов поднялся и мой фельдшерский авторитет: доктор Верочка, которая в прошлом была хорошо знакома с моим мужем, вспомнила, как муж считал меня лучшей на свете сестрой милосердия и за глаза говорил с гордостью: «У меня жена не дохтур, а самоучка – профессор медицины…» Руки, ноги, все пришло у меня в относительную норму. Значит, надо было работать, приглядываться к будущим исполнителям в будущем спектакле. А я сейчас была особенно увлечена пьесами А. Н. Островского… На больничном участке жил подолгу невысокий мужчина, казавшийся почти юношей, с вкрадчивым голосом и такой же походкой. Одет хорошо, галстук, волосы гладкие, нафиксатуаренные, на косой пробор. Перевязывала ему то руку, то ногу – они были поранены, а может, и надрезаны. Он оказался братом известного актера, признался в этом, как бы извиняясь, улыбнулся чарующе и… разоткровенничался.– Я был студентом Московского университета, когда в первый раз засыпался. С детства очень любил срисовывать, и так точно это мне удавалось – хвалили. Потом сосед показал, как из старых калош штампы делать. Увлекся. Жил в свое удовольствие. Потом специализировался на подделке денежных ассигнаций. Погорел, арестовали. Он опустил свою аккуратную головку и вздохнул:
– Тоска. Сейчас уже в третий раз попался. Я смотрела на него недоуменно: никогда еще не видела фальшивомонетчика. В какой-то момент ему, верно, показалось, что я отвернулась; он быстрым движением вытащил из кармашка хрустальный флакон и… посыпал чем-то на заживающую уже рану, отчего рука вздулась.
– Что вы делаете? – ужаснулась я. С видом милого шалуна он приложил здоровый палец к губам:
– Надеюсь, вы не дадите повода разочароваться в вас. Моя цель – задержаться на больничном участке как можно дольше. Кстати, поговаривают, что вы будете ставить «Без вины виноватые». Миловзоров – перед вами.
Противно было даже отвечать этому «типажу». Промолчала. Меня то и дело просили «оживить» работу местного клуба, сыграть одну из моих любимых ролей – Кручинину. И вот снова с утра до ночи пытаюсь ставить А. Н. Островского. Начальство одобряет, но, ох, трудно! Исполнители такие разношерстные… Никогда не забуду, как в последнем акте в диалоге с Дудукиным я – Кручинина – сама себя спрашивала и сама отвечала за него. Исполнитель роли Дудукина только мычал нечто невнятное, хотя и был совершенно трезв в этот вечер. Память отшибло! На одной из первых репетиций мне показалось, что какие-то способности я открыла у возчика Петра. Этот молодой алкоголик наказание отбывал за хулиганство. По внешним данным лучшего исполнителя роли Незнамова у нас не было. Что-то хорошее, какая-то искренность в его интонациях проглядывалась. Однако и с ним было много неожиданных трудностей… Однажды он спросил меня почти нежно:– Говорят, в мамашиной посылочке у вас даже одеколончик водится?
Так как я этого круга людей в то время совсем не знала, я по наивности подумала: «Устал, наверное, на конном дворе от лошадиных запахов, все же тянет к какой-то культуре – пусть надушится…» Каков же был мой ужас, когда Петр, откупорив мамин одеколон, тут же жадно вылил его весь… в свою глотку! С горечью рассказывала я доктору Верочке о своем разочаровании в Незнамове с конного двора. Краснодеревщиков в нашем коллективе не было, декорации, мебель – не удались. Но так как участок, на котором шел наш спектакль, был больничным, нас обеспечили марлей и бинтами в неограниченном количестве: из них делали все «художественное оформление». Лекарствами заменили красители. Женские платья, ярко-желтые – риванолевые, костюм Галчихи, выкупанный в марганцовке, ярко-зеленые оборочки Коринкиной, крашенные «зеленкой», были эффектны. Фальшивомонетчики, алкоголики, шулера играли в «Без вины виноватых», но ни ярко-желтый риванол, ни «изумрудная зеленка», ни моя режиссерская воля не помогли скрыть духовную пустоту этого «коллектива». Ни малейшей радости не испытала. Хотя доктор Верочка и другие говорили, что плакали от моей игры… Неудача последнего спектакля хорошо меня встряхнула. Теперь внутри бурлило только одно: добиться пересмотра моего «дела», понять, в чем дело в этом «деле» и доказать, что мне в этих лагерях нечего делать, потому что я ни в чем не виновата. В то, что может быть какое-то злодеяние у моего мужа, не верила ни одной секунды: он был коммунист-ленинец, фанатик Октябрьской революции. Бороться, бороться за справедливость, которая не может не восторжествовать. Не желая загромождать свою книгу «пыльным гербарием фактов», скажу о самом дорогом: мама снова приезжала ко мне – вполне официально. Главное, она сказала:– Пишу многим, как и ты. Надеюсь…
На пересмотре И вот однажды меня известили, что я буду направлена в Москву. Утром повезли на железнодорожную станцию. Несколько женщин утирали слезы. Пришел конвоир. Повел. Куда везут – не ведала. Но как страстно хотела в Москву, на пересмотр своего дела, как верила… На станции Потьма что-то вроде сторожевой будки. В первой от входа комнатенке койка конвоира. Высокий блондин, образцовый служака: ни одного лишнего жеста и слова. Из его комнатенки дверь в одиночную камеру. Устраиваюсь. За три дня этой вынужденной «близости» немного его расшевелила. Одно его высказывание привело меня в незабываемый восторг:– Перед вами одну тут содержал – ничего не скажешь, красавица! Звать Чарна. Никогда прежде имени такого не слышал. Плакала все время. Говорит, ни в чем не виновна. Межлаук Чарна, может, знаете? Разговорилась. Оказывается, она непростая была, образование среднее имела. Муж – враг народа, а она, вроде, ничего не знала. Со своим образованием должна была знать! Муж с работы приходит, что же, значит, сразу в постель?! Она должна была так спросить: «Здравствуй, муженек, где был, почему две зарплаты принес?»
О, перворожденная наивность! Как ему все это образцово-просто рисовалось. Приготовительный класс жизни! Значит, по его мнению, входит муж с двумя конвертами: на одном надпись «Из Совнаркома», на другом – «От благодарных вредительских организаций». Ей бы со своим средним образованием прочесть надписи на конвертах и… страна была бы спасена от врагов!!! Спасибо ему. Насмешил. Аксиома русого конвоира, как и первая из узнанных мною аксиом о том, что прямая – кратчайшее расстояние между двумя точками, поразила меня своей труднодоказуемостью. Что могла знать эта хорошо известная мне Чарна Межлаук о делах своего мужа?! В тот день все меня смешило, радовало, особенно когда поезд двинулся в Москву. Приехали поздно ночью. Когда я поняла, что меня привезли снова в Москву, на площадь Дзержинского, я испытала такую жгучую радость, которая удивила даже непроницаемых сотрудников внутренней тюрьмы. Нечасто они видели такой сияющий энтузиазм от подтверждения: да, это Москва, внутренняя тюрьма… Откуда они могли знать, что во мне все пело: Москва… пересмотр… Берия… И сейчас пустая комната, в которой стоит только стул и стол, кажется мне землей обетованной, о которой мечтала столько дней и ночей. Мою дверь, как и тогда, заперли с обратной стороны. Но сейчас сердце сжимает мечта: войдет следователь и скажет: «Во всем разобрались. Идите домой». Как страшно было, когда с черного двора меня ввели сюда в тот августовский день и какое счастье войти сюда сейчас за долгожданной правдой… Прижавшись к стулу, просидела, верно, всю ночь. Но утро оказалось страшным: меня перевезли в больницу при Бутырской тюрьме. Зачем? Какие новые испытания уготованы мне вместо единственно необходимого мне пересмотра моего так называемого «дела»?! Когда меня привезли в Бутырку, конвоир отворил мне высокую незапертую дверь, указал на пустую койку и удалился. Некоторое время я была в полной прострации, которую прервал смех девчонки в бумазейном халате; видно, из начинающих урок:– Чего молчишь-то? Рассказывай… Какой срок имеешь, за что сюда попала? В этой палате сейчас четыре человека: двое больных, а мы с Агрехой больше придуриваемся – в камеру ей назад неохота… Видно, с прогулки пришли и остальные трое. Агреха куда-то побежала, а потом вернулась с солидной женщиной в белом халате и, показывая на меня, покрутила указательным пальцем у виска: дескать, привели ненормальную. Доктор отстранила назойливую Агреху и обратилась ко мне, стараясь придать своему малоприятному лицу максимум приветливости и интеллигентности:
– Раздевайтесь, умойтесь, ложитесь на свою кровать и успокойтесь. Тяжелые болезни давно от вас ушли, но подкрепить нервную систему никогда не мешает…
Я ей почему-то не поверила. Всегда боялась горечи сахарина. Условия в больнице этой были неплохие. Я уже давно отвыкла от нормального питания, больших окон, ежедневного осмотра и повторяющихся, в общем-то, совершенно ненужных вопросов доктора. Я была здорова. Добилась вызова в Москву по самому важному для меня делу в то время, когда арестовавший тысячи людей Ежов сам находился в тюрьме. И так хотелось верить в справедливость, по существу, никому еще неведомого Берии. А дни уходят попусту, разговаривать в палате ни с кем не хочется. Где же справедливость? Почему я должна слушать рассказ о «работе» в бактериологической лаборатории девчонки, которая всех обманывала, когда была на воле, и продолжает водить за нос врачей в тюремной больнице, придумывая себе различные болезни, чтобы подольше задержаться в «больничном раю»? Снова начала писать заявления с просьбой о пересмотре моего дела, вызова на какие угодно допросы, только не держать меня в этой больнице. Когда я чего-нибудь хотела, то всецело отдавалась поставленной цели. И вдруг, попав в Москву, почувствовала себя связанной по рукам и ногам бесцельностью существования. Радоваться хорошему супу и жирным котлетам я никогда не умела. А когда теряла ощущение близкой цели, теряла свое «я», боялась самой себя. Доктор была со мной очень любезна, но предупредила заранее, что она может со мной говорить только на тему о моем физическом самочувствии, а всякие другие вопросы моего существования ее совершенно не касаются. Я вела себя нормально, вежливо, молчаливо и больше всего боялась, как бы мне не приписали какой-нибудь болезни, чтобы продержать в этой больнице подольше. Увы, предчувствие меня не обмануло… Через несколько дней доктор начала обстреливать меня своими взглядами и вдруг заявила:– Должна вас огорчить: осложнения после сыпного тифа у вас продолжаются. Если вы ничего не имеете против, мы сделаем вам… пункцию, и тогда все станет на свои места.
До того дня я не слышала слова «пункция» и возразила только, что чувствую себя абсолютно нормально и хотела бы избежать болезненных ощущений, которых на мою долю и без того выпало предостаточно. Доктор пожала плечами и сказала с явным раздражением:– Если вы не доверяете даже дипломированному врачу, вам будет трудно жить. Конечно, как хотите, никто вас не будет заставлять, но пункцию делают даже маленьким детям. Это совершенно безболезненный анализ.
Короче, через два дня меня повели на пункцию, выкачивали жидкость из спинного мозга долго и мучительно. Я кусала губы, чтобы не кричать, но и сейчас при воспоминании об этой боли сжимается сердце. К концу этой «процедуры» доктор вдруг исчезла, а незнакомая медсестра каким-то ядовитым голосом приказала мне в течение двадцати четырех часов, не шевелясь, продолжать лежать на животе. Не помню, как я оказалась снова на койке в палате. Острая боль вперемешку с жаждой, я повторяла только одно слово – «пить». Но никто не отзывался – все больные и сиделка были выведены из палаты… И вдруг, как в кошмарном сне, передо мной возник бородатый мужчина в военной форме и прокричал:– На допрос соберитесь!
Я хотела объяснить ему, что мне нельзя шевелиться, что… Но он тупо повторял:– На допрос соберитесь.
Заключенные не спорят. Они готовы ползти на животе, вынося любую боль, когда слышат «на допрос соберитесь». Хотя в моем положении эти слова были бесчеловечны. Дальше помню только грязный пол «черного ворона», на котором лежала на животе в одной рубашке… Меня доставили снова во внутреннюю тюрьму. Теперь она уже не радовала меня, хотя где-то подспудно и мелькала мысль: если наберусь сил, смогу говорить о главном… Несчастью верная сестра – надежда… На полу грузового лифта нечленораздельно умоляла сопровождавшую меня женщину надеть на меня что-нибудь… Озноб… Зуб на зуб не попадал… И вот я на каком-то высоком этаже. За столом – два следователя. Стул для меня. Я напрягаю всю свою волю, чтобы запрокинутая назад голова не перевесила меня на пол, чтобы казаться нормальной и здоровой…– Мы вызвали вас по вашей просьбе, – говорит один из следователей. – Действительно, произошло какое-то недоразумение… Надежда! Не уходи от меня… Второй следователь поспешно дает мне ручку и говорит почти ласково:
– Во время допроса вы забыли подписать несколько строчек о враге народа Вейцере.
Вейцер… враг народа??? Первый следователь добавляет:– Вы, кажется, неважно себя чувствуете? Но нам нужна, для порядка, только ваша подпись, чтобы поставить точку на деле Вейцера и освободить вас…
Он пододвигает ко мне лист бумаги, на котором очень похожим на мой почерком было написано как бы мною: «Меня удивило, когда поздно вечером, вернувшись из театра, я застала у мужа Вегера из Одессы, Гринько и Полоза, кажется, из Киева, говоривших тихо, в то время как все телефонные трубки на письменном столе были сняты…» Я подумала, что все это результат перенесенной пункции и закричала:– От ваших уколов еще и бред… Ничего я не писала, этих людей никогда не видела, спросите у моего му…
Но вдруг я потеряла способность говорить. Слишком тяжелая голова опрокинула спинку стула, я упала на пол и потеряла сознание… А потом оказалась где-то вне этого кабинета лежащей на подушке в постели. Около меня стояла очень красивая блондинка, молодая, в белом халате, наверное, врач, и делала мне какой-то укол. На какое-то время радость, что я жива, что рядом со мной стоит кто-то и хочет мне помочь, дала мне возможность выдавить последнюю фразу:– Скажите, вы – ангел?
Но глаза у «ангела» были злые. Вероятно, в то время и она верила, что мы с Зарей были врагами народа… Неисповедимы были пути моей судьбы. Способность говорить я потеряла недели на две. Но то ли опять последовал какой-то запрос, то ли не время было еще отправлять меня на тот свет, но я была переведена в самые роскошные апартаменты, которые, как это ни странно, наличествовали в той же внутренней тюрьме. Помню, как лежала по всем правилам на животе на пушистом ковре, как бесшумно входил в комнату дородный мужчина в форме с хорошо сделанной приятной улыбкой и заботливо кормил меня то очень вкусно приготовленной рыбой, то слоеными пирожками… Но в то время я уже ничего не понимала и не хотела понимать. Меня вылечили и снова перевели в одну из камер внутренней тюрьмы. Излишества и вежливость короткого пребывания в комнате с пушистыми коврами сменила обычная строгость. Ведь для заключенных, оказывается, существуют специально выработанные слугами тюрьмы интонации. Помню, как я спросила на медицинском осмотре у «нормального тюремного доктора»:– Скажите, пожалуйста, у меня все-таки хорошее сердце?
И услышала в ответ:– Что вы чушь мелете? Как после всего… сами знаете… у вас может быть хорошее сердце?
Но потом, подумав, добавил почти мечтательно:– Да… меня интересует, что же у вас было за бычье сердце, если… вы до сих пор живы?!!
А это мое «бычье сердце» как только не умирало, опять находило поводы чему-то радоваться, что-то делать… Ну что ж, все-таки я опять в Москве, со мной еще три женщины. Запомнилась Эльга Кактынь, выросшая на спектаклях Московского театра для детей. Она любила меня как «тетю Наташу», знала мои постановки. Но сейчас все ее мысли были о молодом муже Артуре, с которым она рассталась около года тому назад. Она заливала всю нашу камеру слезами оттого, что ей исполняется через несколько дней тридцать два года, но какой же это может быть праздник, когда Артура не будет рядом?! Женщины из нашей камеры постарше, желая ее утешить, стали горячо целовать ее, но она закричала: «Не то, не то, совсем не то!» – чем всех нас очень насмешила. Нам очень хотелось поддержать ее, обнадежить, что к следующему дню рождения в ее жизни все изменится к лучшему. Мы все трое написали ей стихи – единственно доступный нам тогда подарок к ее дню рождения. Мои – звучали так: Тридцать третий день рожденья Я желаю вам встречать, Где лазурно, где артурно, Где он будет целовать… То ли из-за шума, который мы подняли в день рождения, то ли потому, что таскать меня из камеры в камеру было любимым занятием тюремного начальства, но я вдруг оказалась в другой камере рядом с очень красивой, совсем еще молодой женой Николая Ивановича Бухарина Аней Лариной. Об этой встрече позвольте мне привести слова самой Ани, теперь уже напечатанные в ее книге «Незабываемое»: «Рядом со мной оказалась Наталия Сац. Ее, «жену изменника Родины», так же как и меня, привезли на переследствие. Переболевшая в лагере тифом, истощенная до предела, она походила на щупленькую девочку, но уже с седой головой. Ее мучила тоска по созданному ею детскому театру, которому она отдала много сил и таланта. Любовь к театру была страстной и ревностной. Ей больно было сознавать, что кто-то иной, посторонний человек вторгся в ее театр, словно отобрал рожденное ею дитя. Стремление вернуться в театр было настолько сильно, что, казалось, очутись Наталия Ильинична снова в нем, даже под конвоем, это до известной степени ослабило бы чувство несвободы и принесло бы ей удовлетворение. Наряду с этим она так же, как и мы все, была озабочена судьбой своей матери и детей. Своего мужа, наркома внутренней торговли Вейцера, впоследствии расстрелянного, она вспоминала с большой любовью и теплотой: «Где мой Вейцер, неужто погиб мой Вейцер?» Как часто, разговаривая со мной и тяжело вздыхая, повторяла она эти слова. И вместе с тем, несмотря на тяжкие обстоятельства, Наталия Ильинична (для меня Наташа) сохранила творческую энергию, юмор, любила шутку, меня называла Ларкина–Бухаркина…» Я вспоминаю Аню горячо и нежно и тоже благодарна ей за умение даже в тюрьме расширять свой мир, наполнять его поэзией и стремлением не терять времени зря даже в этих обстоятельствах. Но, конечно, главное, за что я ей благодарна, это за погружение в тот мир, в котором она была рядом с Лениным и Бухариным. Для меня эти самоотверженные, горячие борцы за счастье и свободу народа, поэты Октябрьской революции и одновременно такие простые и родные «человеколюбы» были волшебниками. Они открыли мне с ранних лет счастье создавать первые театры для детей, осуществлять еще с детства зароненные отцом мечты о праве творить, мечтать, осуществлять. Аня была влюблена в Бухарина с того момента, как увидела его, и, хотя он был намного ее старше, называла его на «ты» и «Николаша» с детства. Он очень дружил с ее отцом – интереснейшим человеком, большевиком яркой индивидуальности Ю. Лариным. Кроме того, Ларины и Бухарины жили на разных этажах одного и того же дома. Аня видела его очень часто, а ей все равно этих встреч было мало. Если хоть день Бухарин не был у Лариных – Аня бежала его искать где угодно. И право же, в его улыбке было столько обаяния, жизненной силы, даже озорства! Он чудесно рисовал, обожал природу, в его квартире было полно животных… Он знал и придумывал такие интересные истории и сказки, поразительно увлекательно рассказывал о «самом дорогом». Владимир Ильич Ленин называл его «золотое дитя Революции», а Аня (Бухарин ее звал Анютка) была тоже «своеволия полна» и бормотала: «Неправда. Он не золотой, он – настоящий…» Владимир Ильич понял ребенка и ответил: «Я это сказал потому, что он рыжий, волосы, как золото». Конечно, детское обожание Ани она сама долго не понимала как любовь. Но однажды, это было после того, как мама повела ее в Художественный театр на «Синюю птицу»… (я передаю тут ее слова из книги «Незабываемое»): «..когда легла спать, увидела во сне Хлеб и Молоко, сказочный мир, слышалась мелодичная музыка Ильи Саца «Мы длинной вереницей идем за синей птицей…» И как раз в тот момент, когда мне привиделся Кот, кто-то дернул меня за нос. Я испугалась, ведь Кот на сцене был большой и человеческий. Я крикнула «Уходи, Кот!», но от своего крика проснулась и сквозь кошачью морду все отчетливее стало вырисовываться лицо Бухарина. В тот момент я и поймала свою «синюю птицу» – не сказочно-фантастическую, а земную, за которую заплатила дорогой ценой». Да, очень, очень дорогой. Но никогда она не считала, что ее счастье – три года замужества, счастье с раннего детства быть около него, родить сына, вырасти в большого мудрого человека, остаться жизнелюбом и поэтом и в конце концов победить в борьбе за его огромную правду – можно считать трагедией, а не самым большим счастьем в мире. Это все-таки счастье! А натура у Ани оказалась сверхбогатырская. Меньше всего она говорила, с какой изощренной жестокостью, как долго ее пытали, чтобы она такого, как Бухарин, назвала «врагом народа». Подлость сверхподлая! Одно смешное (как и у меня) она рассказала со смехом: «Меня арестовали еще до процесса, который был много позже. О готовящейся судьбе Николая Ивановича мало кто знал. Его популярность как главного редактора газеты «Известия» была еще свежа. Вдруг из Москвы ночью меня привезли в Астрахань и сказали, что я арестована. Произошел допрос– Фамилия?
– Ларина. (Фамилию мужа не сказала, боясь ему навредить.)
– Замужем?
– Да, имею ребенка.
– Где работает муж?
– В «Известиях».
– В «Известиях» есть разные сотрудники: от Бухарина до курьера.
– Он и есть…
– Кто – курьер?
– Нет – Бухарин…
Аня рассмеялась. Я – тоже. Любовалась я ею, не скрывая. Она была так молода – юная девушка. И так красива! Когда в нашу камеру привели жену бывшего секретаря ЦК Компартии Грузии Софью Лазаревну Кавтарадзе, мы считали, что выиграли сто тысяч. Она блестяще знала французский язык, и то время, что мы занимались с ней, казались нам восхитительным. Софья Лазаревна увлекала нас элегантными рассказами на французском о некоем Пьере, «который в своем роскошном сером костюме любил сидеть возле камина и мечтать»… И мы мечтали вместе с ним… У Софьи Лазаревны был прекрасный выговор и удивительно элегантная манера держать себя. А ведь она просидела без допроса целый год! К Анечке она относилась особенно ласково, восхищалась ее стихами. Аня, эта умная, удивительно красивая женщина, почти девушка, столько рассказывала нам интересного о совершенно изумительном человеке, который так горячо любил ее… И идя на расстрел, ни в чем не виновный, повторял: «Простишь ли, что я погубил твою жизнь?!» Нет! Софья Лазаревна! Давайте говорить только о Пьере, о его роскошном костюме, о чем угодно, только не о той ужасной правде, когда невольно вспоминаешь пытку пункцией продавшей свою душу черту докторши, верной помощницы палачей… И я придумывала себе все новые и новые занятия. Была безмерно благодарна знахарке-гадалке, с которой познакомилась в Бутырской тюрьме, которая выучила меня в тот момент еще большему умению, чем стихотворчество и иностранные языки, – гаданию. Потихоньку от всех из листа белой бумаги я сделала себе пятьдесят две крошечные карты и нет-нет да и раскладывала их, повернувшись на своей койке к стене. Но Софья Лазаревна была очень наблюдательна. И однажды она обратилась ко мне:– Погадайте мне, Наташа. В Бутырках год назад мне кто-то рассказывал, что у вас новый талант открылся. Больше года без допроса сижу, осточертело. Может быть, хоть вы обнадежите?
Я разложила «карты» и ахнула:– Вы же совсем скоро будете опять с мужем, с дочерью… У вас будет огромное неожиданное счастье… Полное исполнение всех желаний… Даже удивительно, что карты…
В эту минуту дверь камеры отворилась, и женщина-конвоир объявила:– Кто на букву «К»?
Ответ:– Кавтарадзе.
– Имя, отчество?
– Софья Лазаревна.
– С вещами соберитесь.
Вся наша камера застыла от недоумения. Только через несколько лет узнали мы, что в ту же ночь семья Кавтарадзе вышла на свободу. Наутро Сталин приехал навестить «друзей», которым была приготовлена роскошная квартира… И тут, как из рога изобилия, посыпались «великие почести» самого страшного изувера всех времен и народов: новое назначение Серго Кавтарадзе, машины, дачи… Пожалуй, я бы даже этому не поверила, если бы однажды, отбыв назначенный мне срок заключения и оказавшись на несколько дней в Москве, я случайно не увидела, как Софья Лазаревна подъехала на концерт в Большом зале Московской консерватории в сопровождении услужливой женщины на роскошной машине… О, Пьер, как любезно, что вы поделились с Софьей Лазаревной роскошью вашего серого костюма – на ее плечах был наброшен серый палантин из шиншиллы… Я могла тогда приехать в Москву с ограниченной пропиской не больше чем на семь дней. А Софья Лазаревна в своих драгоценных мехах уже полновластно ступала по Москве… В море крови не повинных ни в чем жертв своих тиран иногда подбрасывал один грамм «великодушия»… Вот вам и карты! Камерная кладовая культуры Я пишу просьбу о приеме на имя заместителя Берии Кобулова, и он через несколько дней меня вызывает. Он ничего не обещает, но рекомендует понять, сколько у них сейчас просьб о пересмотре «дел» и советует запастись терпением. Однако не показывает после этого на дверь, а немногословно дает понять, что ему небезынтересно знать, много ли и почему я уже не раз бывала за границей и на каких языках говорю. Во время моего рассказа Кобулов доброжелательно молчал, и сладкие сны моего прошлого на какое-то время унесли меня далеко за стены здания Внутренней тюрьмы… Никакого конкретного результата по существу моего «дела» после приема меня Кобуловым не произошло. Но внутри меня зажегся какой-то фитилек веры, и как это было важно! После приема у наркома Кобулова я оказалась в одной камере с племянницей Дзержинского, Ядвигой, и пожилой спекулянткой, которая выплакала мне, сколько золотых монет и драгоценных камней хранили они с мужем в ржавых бидонах своего подвала. Нет. Хватит всей этой грязной шелухи, засоряющей мозги. Прикинулась глухой с нарушенной речью. Отстали. Меня осенила и горячо увлекла мысль использовать здесь каждый день и час, чтобы учиться, не терять дорогого времени, которого так не хватало прежде. Сколько необходимого не успела я еще прочесть, познать! Я была с рождения окружена выдающимися людьми, с ранних лет жизнь дала мне право на творчество, огромное счастье действовать, строить новое. Но ведь в анкете, в графе «образование», я могла писать только «неоконченное среднее», и если современную драматургию знала хорошо и русскую классику неплохо, то иностранную литературу – недостаточно. Значит, надо взять себя в руки, использовать и эту ситуацию. Пишу заявление на имя замнаркома внутренних дел: «Ввиду того, что здесь у меня очень много свободного времени, я ни в чем не виновата и хочу еще быть полезной моей Родине, прошу вашего распоряжения выдавать мне одновременно до двадцати книг по моим заявкам, а также разрешить вести письменные работы». Представьте себе, разрешили. Писать в камере было запрещено. В девять утра после чая меня выводили в крошечную комнату-кладовку. Там стоял стул, столик, книги, лежали толстые тетради, чернила, ручка… Красота! Работала до двух часов. Потом обед, двадцать минут – прогулка на крыше. Потом опять вели до восьми часов вечера в мой «камерный кабинет»… Да, я ушла в глубины прошлого, тщательно составляла себе планы занятий по различным разделам. Все мои восемь мелко исписанных толстых тетрадей и сейчас со мной. Шекспира прочла во всех переводах на всех известных мне языках, со словарем и в подлиннике. Моя работа о Шекспире с разделами «Природа», «Женщины», «Дети» в произведениях Шекспира, «Великие – о Шекспире»… О нем написала целую книгу. Но хроники его без знания истории Англии не поймешь. Сколько надо постичь, выучить. Историю Англии теперь знаю очень хорошо – почти как русскую, ту, что с гимназических времен так любила. Заинтересовали меня и книги философов: Аристотель, Гегель, Фейербах, Кант, Маркс, Энгельс, Ленин… Отдельный раздел в моем «камерном университете» занимали великие драматурги: русские классики, Тирсо де Молина, Мольер, Ибсен, Кнут Гамсун, Диккенс, Метерлинк… Как впоследствии помогла мне моя «камерная кладовая» защитить диссертацию на звание кандидата искусствоведения! Фаворит своего времени Однако, сколько бы я ни читала, ни писала, ни философствовала, строчить настойчивые заявления о необходимости пересмотреть бессмысленное мое дело не переставала. Отдавала себе отчет, что «бытие в тюрьме» очень далеко от понятия «Жизнь». И вот добилась вызова ко второму следователю, в сравнении с которым первый, Русинов, выглядел как серый простачок, просто букашка. Представьте себе, об этом, втором, слышу и до сих пор как о «явлении высшего класса». Вероятно, не случайно он был «фаворитом самого Берии». Но начну с того момента, когда после долгой абсолютной изоляции в своей камере и «учебной кладовке» была, наконец, снова вызвана на допрос. Откровенно говоря, к этому времени я как-то одичала. И когда конвоир повел меня снова по бесконечным серым коридорам с тусклым освещением, бесконечными дверями и холодным камнем лестничных ступеней, боялась, что уже разучилась разговаривать. Но вот конвоир отворяет высокую дверь, удаляется, и я недоумевающе останавливаюсь на пороге. Неужели в этом огромном здании, переполненном такими же бездомными заключенными, как я, может таиться комната, похожая на уютную гостиную?.. В глубине ее, скрадывая острый угол, – полукруглый диван, ковры, несколько торшеров, излучавших мягкий свет, мягкие стулья, привольно стоящие в разных местах комнаты, и… высокие окна. Да, окна! Они-то и поразили меня больше всего. Ведь в камерах отверстия, за которыми находились окна, закрыты непроницаемым железом. А тут – роскошные окна… Как давно я их не видела!.. Особенно поразило меня первое – в двух шагах от входной двери. Оно было… полуоткрытое. Французская шторка закрывала его только до половины. Веселые огни Лубянской площади, приглушенный шум любимого города, отдыхающего вечером, звал туда, где я уже не была давно, звал всех, кроме… меня… Я застыла около этого окна. Даже на какое-то время забыла, как и зачем попала в это помещение. Мечта стольких месяцев жизни – троллейбус номер два, который за несколько минут вернул бы меня домой… Красивый, элегантный мужчина, стоявший за столом напротив и которого я даже не заметила прежде, прервал мои несбыточные мечты:– Садитесь на любой стул, – сказал он улыбаясь, – свежий воздух в хорошую погоду всегда приятен. Конечно, если вы не боитесь простудиться.
Но вдруг я поняла, что выгляжу наивно и глупо. Может быть, он даже смеется надо мной, знает, конечно, что слова о погоде, о простуде уже забыла. Почувствовала себя неловко. Медленно подошла к столу следователя и попросила разрешения сесть на стул напротив него. Он, видимо, был доволен моим смущением, любезно подвинул ко мне его и начал разговор в салонно-приветливом тоне:– Начнем со знакомства: капитан Леонид Райхман. Он положил перед собой мое «дело», откровенно любуясь своими холеными руками. Впрочем, строение ногтей напоминало… коготки. С их остротой кто-то явно перестарался.
Даже не могу понять, чем он так раздражал меня. Вероятно, тем откровенным самолюбованием, которое сквозило в каждом его движении. Сейчас он заговорил снова, и я отметила изысканные обороты его речи, красивый бархатный голос– Наслышан о вашей эрудиции, незаурядном знании немецкого языка. Как бы вы перевели мою фамилию? Может быть, вы не дослышали – моя фамилия – Райхман (это он произнес величественно).
Отвечаю буднично:– Райхман – богатый человек… Он капризно полуулыбнулся:
– В моем переводе Райхман – государственный человек…
Видя, что он недоволен, я решила не умалять его желания быть «государственным» и добавила:– За три года пребывания в изоляции я, может быть, кое-что и забыла. Простите.
Вероятно, он несколько смягчился и сказал снова нарочито приветливо:– Вы повидали много стран на Западе, а Восток никогда не вызывал вашего интереса?
Что за странная шутка?! Неужели он не понимает, что я готова выть, как собака, повторяя одни и те же слова: до-мой, до-мой, хочу до-мой… Но взяла себя в руки и ответила как можно спокойнее:– Восток сейчас очень далек от моих желаний. Он привстал, явно щеголяя своей мужественностью в сочетании с тонкой талией, и спросил деловито:
– А что бы вы сказали, если бы мы послали вас в Алма-Ату?
Я почему-то почувствовала себя усохшей, старой мышью, которую ангорский кот то и дело вытягивает из норы за хвост своими острыми коготками, а потом, тоже для развлечения, запихивает ее обратно. Но, как ни странно, точно помню, что ответила с достоинством:– В ответ на ваше предложение отправить меня в Алма-Ату, отвечаю: в Москве взяли, в Москву и верните…
Он рассмеялся. Потом сел поудобнее в свое кресло и сказал почти игриво:– Вы – забавный собеседник. Хотя подчас забываете о необходимой в вашем положении дистанции. Однако я и стремился к доверительной беседе. Как я понял, вы, кажется, намекнули на возвращение в Москву?
Я угрюмо промолчала. Это вам будет трудно заработать, но попробуйте. Говорят, вы не лишены чувства риска?! Мне вдруг стало страшно: я поняла, что Рейнике-лис в сравнении с ним – жалкий недоносок. Это был сложный человек, и я сказала себе: стой, смотри и удивляйся. Видя, что я растеряна, с высоты своего величия он вдруг вонзил свои когти в то, что его действительно интересовало:– Ваша единственная надежда на свободу – абсолютно доверительно сообщить нам все известные вам факты об опасном преступнике Вейцере…
У меня все перевернулось внутри: он предлагал мне свободу за клевету?! Его мое состояние, видимо, вполне устраивало, и он продолжал:– Вы ближе всех других могли долгое время наблюдать его. Надеюсь на вашу откровенность и помощь…
У меня чуть не отнялся язык. Я уже писала, что мой первый следователь Русинов со мной о Вейцере никогда не разговаривал. Не разговаривал и Кобулов. Случайная болтовня в Бутырках о том, что Вейцер арестован, никак не приживалась в моем сознании. Во мне он жил как всеми уважаемый, горячий патриот… Я вспомнила… когда он лежал на операции, и я еще не смела поехать в больницу, зазвонила правительственная «вертушка»:– Слушаю…
– Кто говорит?
– Наталия Сац.
– Супруга товарища Вейцера?
– Да.
– Товарищ Вейцер на операции?
– Да.
– Говорит Сталин. Когда товарищ Вейцер откроет глаза после наркоза, передайте ему от меня привет…
Карусель аналогичных воспоминаний бешено закрутилась в моем мозгу. Вихрем пронеслось воспоминание о спектакле «Сережа Стрельцов» в Детском театре. Вейцер сидел среди детей в партере. В правительственной ложе – Н. С. Хрущев и Н. А. Булганин. Булганин в перерыве пожурил меня, заметив среди детей Вейцера, за то, что я не пригласила его в правительственную ложу:– Вы что, не узнали любимца партии товарища Вейцера? Ему не положено тесниться в толпе ребят.
Тогда я еще не была замужем за Вейцером, но уже крепко с ним дружила, и, конечно, его интерес к детям особенно располагал меня к нему. Но прочь, прочь воспоминания! Бороться! Как он посмел назвать его опасным преступником?!?? Я была так возбуждена, что вскочила с места, рискуя приговорить себя к еще более тяжелым испытаниям. Но тут, к счастью, раздался телефонный звонок. Райхман поднял телефонную трубку, и лицо его моментально преобразилось:– Я бесконечно счастлив, что ты сама позвонила, дорогая детка. Спектакль уже кончился? В грандиозном успехе ни на секунду не сомневался. Устала выходить на поклоны? Крошка моя! Поздравляю тысячу раз. Обнимаю нежно. Умоляю, скорей ложись отдыхать, детка. Умоляю… Скоро приеду…
Жестом Ромео, уже чувствующего приближение скорой встречи со своей Джульеттой, следователь бережно положил трубку, затем достал белоснежный носовой платок из кармана и поправил им упавший на лоб завиток светлых волос. Некоторое время он молчал, испытывая двойную радость, с одной стороны, он находился еще под впечатлением разговора со своей возлюбленной в ее сверкающем балетном одеянии, со стройными ножками… а с другой – напротив него его жертва с жалким подобием лица, как будто кто-то наступил на это лицо грязной ногой. Допрос начат. Хорошо продуманная прелюдия удалась. Удачно сработал и телефонный разговор. Ведь я тоже еще совсем недавно знала и счастье творчества, и успех, и аплодисменты, и любовь… Да, конечно, это он придумал приоткрыть окно, приподнять французскую шторку, вызвав меня поздно вечером. Может быть, и этот телефонный разговор?.. Сколько жестокости, коварства! Иезуит. Пауза длится недолго.– Итак, расскажите все, что вы знаете о Вейцере. Неужели я все еще надеюсь на что-то?! Говорю приглушенным голосом, но так, как будто не все еще потеряно:
– Он рано уезжал на работу, приезжал поздно, так поздно, что было даже специальное решение ЦК следить за тем, чтобы он не заканчивал работу позже часа ночи… Он требовал, чтобы все письма, обращенные к нему, подавались ему не в перечне, а в оригиналах, часто сам отвечал на эти письма, радовался моим успехам…
Райхман с трудом выдержал этот рассказ и резко прервал меня:– Вы говорите о государственном преступнике тоном читающей молитву… Ваши идиллические интонации неуместны… Много ли у вас бывало в доме людей? Назовите фамилии…
– У нас почти никто не бывал. Он очень любил разговаривать со мной. Даже когда в выходной день я хотела поехать за город с ним и моими детьми, он говорил смешную фразу: «Не сердись, что я на тебя такой жадный. Мы так редко бываем вместе…»
– Вы хотите сказать, что вы жили отшельниками?
– Я хочу сказать, что он очень любит свою работу, свою Родину, что ничего, кроме хорошего, я о нем не знаю…
– Вы даже позволяете себе говорить о нем в настоящем времени?
– Да, потому что я часто с ним мысленно разговариваю. Поймите, ведь я о нем и сейчас ничего не знаю…
– Его «сейчас» нам достаточно хорошо известно. Но юриспруденция требует более глубокого изучения прошлого разоблаченного врага. Заметьте… только прошлого…
– Значит, он…
Вскочила с места, что именно он – не досказала…– Мне кажется, вы забыли, кто здесь следователь, и зачем вы вызваны на допрос.
– Неужели он…
– Что мы с преступниками не церемонимся, вы должны знать. Странно, что вас считали талантливой и наблюдательной, а вы так плохо разглядели маску, которой так умело пользовался преступник, скрывая свое истинное лицо. Вероятно, и его псевдороман с вами, ваша невинная работа в Детском театре были удобны ему как ширма для его истинных намерений и гнусных дел. Признайтесь, даже и эстетически он… впрочем, вы почему-то не хотите быть откровенной…
Нет, я уже не могу вспомнить все пассажи его следовательского «гения». Этот одетый с иголочки красивый барин-следователь бесстыдно делал бездну грязных предположений, от которых мне казалось, что я покрываюсь какой-то липкой сыпью. Кричать «караул!», «спасите!» не могла. Бежать от него – тоже. Приучал ли муж меня к роскоши? Покупал ли он мое расположение подарками? Да нет же, нет! Сейчас, когда бывает голодно в тюрьме, с глупой тоской вспоминаю буфет в нашей квартире, заваленный образцами вин, дорогих консервов, кондитерских изделий… Они так и остались почти неприкосновенными. В то время мы обычно питались принесенным из столовой обедом, яичницей или макаронами, да и то, если наши соседи Косаревы были дома, и можно было у них на полчаса взять терку для сыра… Так называемые представительские деньги муж считал узаконенным воровством; от постройки себе дачи наотрез отказался; даже за статьи в «Правде», «Экономической газете» и «Советской торговле» причитающиеся ему гонорары требовал переводить в партийную кассу. Зато когда я посылала из его зарплаты деньги на подарки семьям двух его шоферов, секретарей и машинистки, он это приветствовал и говорил: «И как это я до женитьбы на тебе не делал этого сам?!» До нашей женитьбы он укрывался не одеялом, а своим единственным пальто… Ему вечно не хватало времени для работы… Не получилось у меня контакта с Леонидом Федоровичем Райхманом. Я, как в бреду, торопливо бормотала что-то в защиту мужа… Он прерывал и упрекал меня, что с такой «ничтожной преступницей» он теряет столько драгоценного времени. А я больше всего боялась недосказанного им, но висевшего в воздухе слова «расстрелян»… Спасибо, что он все-таки не произнес этого слова. Пощадил меня. Я бы сошла с ума. Минут через сорок следователь вытер уже знакомым платочком свой усталый и красивый лоб и с нескрываемой радостью повелел в телефонную трубку:– Возьмите Сац…
Встречалась я с Райхманом четыре раза. Между ними случилось и небольшое, но очень важное для меня событие. Однажды, проснувшись, увидела на полу своей камеры тоненькую брошюру с желтыми листами, без обложки. С интересом прочла «важные сообщения о некоторых преступниках». Так, из этой брошюры я узнала, что доктор Левин «желая подорвать настроение великого писателя М.Горького, заведомо вредительски лечил его сына Максима. Он давал сыну Горького слишком сильно действующие лекарства, что и ускорило его смерть». На другой странице прочла, что нарком внутренней торговли Вейцер рассылал по всем ресторанам указы об изготовлении мясных блюд из несвежих продуктов в целях ослабления блока членов партии и беспартийных в преддверии выборов в Верховный Совет. Наконец-то, кроме ругани, хоть один «факт» вины моего мужа! Жаль, конвоирка быстро зашла в камеру и, сделав вид, что это чья-то промашка, лишила меня этой «литературы для дефективных». Кто такой бред мог придумать? Думаю, все-таки не Райхман. Он все же был «интеллигентен». Иногда Райхман «разбавлял» свое присутствие приходом тоже очень интеллигентного высокого мужчины по фамилии Канер. Канер играл свою роль в этом спектакле, рассказывая, как уважают моего следователя, какой он чудесный человек, как хорошо ко мне относится как к работнику искусства, как он жалеет, что мой норовистый характер и какое-то детское упрямство мешают мне найти необходимый контакт с лучшим следователем… Что мне было делать?! После «обличительных речей» Райхмана, кстати, без единого факта вины Вейцера, мне все дороже и роднее был мой муж, лишенный всякой позы, витиеватости, ненавидевший карьеризм. А Райхман даже смешил меня своим «процветанием» в «бериевские времена». Его шпалы красноречиво говорили об этом. На втором допросе – уже майор, на третьем – полковник, а в последний раз, когда он уж очень на меня гневался, превратился в… генерала! Совсем недавно одна очень почтенная женщина, казавшаяся мне симпатичной, спросила меня:– Неужели вас допрашивал сам Райхман? Услышав мое «да», улыбнулась:
– Сознайтесь, вы все же были немножко влюблены в него? Он был так очарователен…
Я широко раскрыла глаза и спросила, почему она так щедро восхищается этим человеком.– Красавец, манеры джентльмена… Я знала его дочь от первого брака. Она по секрету показывала мне комнату подарков, которые Райхман дарил знаменитой артистке, из-за которой бросил первую семью. Чудо! Какой хрусталь, драгоценные сервизы, палантин из горностая, шубка из соболя, валенсийские кружева, колье из рубинов, мастерски сделанная золотая чаша… Да, в наше время не умеют так любить!
Я посмотрела на эту женщину, как на ископаемое. Неужели она не могла догадаться, ценой жизни скольких невинных людей были добыты эти подарки?! Я почти физически ощущала кровь, которой были залиты эти меха, драгоценности, кровь, которая хлестала из хрустальных ваз и золотой чаши. Да, по контрасту с моим мужем и моим пониманием слова «честный человек» Райхман был «миловидным хищником», «элегантным иезуитом». В Зоологическом саду Берлина я видела розовый водяной цветок, напоминающий розу, шевелящий своими червоподобными лепестками, чтобы заглатывать мелких рыбешек. Его попытки «очаровать» своим бархатным голосом, изяществом Дориана Грея бесили меня. А мое выражение лица приводило в негодование его. Да, ему было скучно со мной, а мне – ненавистно с ним. Не понимаю, как я в те дни не сошла с ума. Вероятно, меня спасало то, что в этом страшном спектакле я оставалась больше режиссером, оценивающим как бы со стороны события, происходящие со мной как вынужденной участницей большой трагедии… Даже и сейчас, когда прошло столько лет, очень трудно писать об этом палаче в надушенных белых перчатках. На допросе у Берии и после… Но… вернемся во Внутреннюю тюрьму, в 1941 год. За пятнадцать месяцев пребывания в Москве меня вызывали к следователям пять раз: четыре раза – к Райхману, и один – после пытки. Правда, за это же время в «ученической кладовке» исписала мелко и шесть толстых тетрадей, приблизивших меня к культуре, тетрадей с записями о далеком и прекрасном, но… чужом. А мое «я» уходит, уходит все дальше. Может быть, и нет уже этого «я». А Москва сейчас от меня еще дальше, чем была в Сиблаге. Неужели Сиблаг стал для меня эталоном лучшего из пережитого за последние годы? Почему строго заперла, упрятала в глубину воспоминания о самой себе в прежние годы? Мне уже идет тридцать седьмой год… Только тридцать седьмой, когда могли бы распускаться лепестки творчества, счастья… А я – в зарослях лжи, подлости, коварства, рядом с «моргом», куда тысячами сбрасывают расстрелянных, уходящих в небытие по чьему-то грозному велению без вины, без права на борьбу и самозащиту! Неужели и мой муж?.. Перед глазами все время залитый кровью подвал, нижнее белье, большие зеленые глаза, черные волосы… Неужели, родной, ты уже был там?! Райхман усиленно величает себя юристом. Служителем мудрой науки о справедливости! Да, я всегда верила, что есть на свете священные профессии – учитель, врач и юрист – люди, давшие клятву быть справедливыми, до конца честными. Но ведь Райхман не смог назвать мне ни одного факта вины моего мужа, бессовестно «хлестал» его дурацкими прилагательными, площадной бранью, вымогая несуществующие факты у меня. Есть ли у этого «юриста» совесть? Конечно, нет. Карьера с лихвой ее заменяет. За это я ненавижу еще больше всю его лощеную внешность и благополучие. И вот такие, как он, покупают слабых. Тюрьма уже кишит лжесвидетелями, завербованными из числа бывших честных людей, попавших в беду. Клеветники в чести, им идут навстречу. Совесть, где ты? Как посмела дать подлый крен? Уйти от самой себя ни в книги, ни в воспоминания уже не могу. Ржавые тормоза, я вас боюсь, боюсь мертвого молчания своей одиночки… Неужели и тридцать седьмой год моей жизни уйдет впустую? Надо же за что-то зацепиться. Надежда, приди ко мне! И вдруг уже поздно вечером около моей камеры раздаются непривычные шорохи. Ключ с той стороны камеры поворачивается, на пороге – начальник тюрьмы полковник Миронов. За ним – четыре (!) осанистых конвоира. Они ведут меня к широкой лестнице, ведущей куда-то вверх. По дороге встречаются еще несколько начальников в форме с блестящими погонами, при всех регалиях. Они идут, как на парад, с другой стороны этой широкой лестницы. Но я стараюсь не отставать от них. В большом кабинете с открытыми дверями сидит и еще рассаживается большое начальство. Оно – за двумя столами вдоль зала. Я – еще у порога. Зеркало при входе криво отразило мои спустившиеся почти до нечищенных туфель рваные чулки (все резинки в тюрьмах снимают), старое платье, лохматые волосы. Пусть сердце бьет барабанную дробь, пусть я смешна среди торжественно собравшихся… Собрать всю волю!!! Может быть, именно сейчас решится главное! Меня ведут в глубину зала, где поперек стоит «главный» стол с роскошной бархатной скатертью с золотой бахромой, а за ним – высокое, похожее на трон кресло. Неужели в двух шагах от меня сидит сам народный комиссар Лаврентий Павлович Берия?! Счастье пришло! Надо поздороваться, поблагодарить за внимание… или как? Конечно, в те минуты я хотела ему верить, чувствовала благодарность, что он лично вызвал меня, но… не успела сказать всего этого – кто-то слегка толкнул меня в правое плечо, и я оказалась на стуле прямо перед наркомом внутренних дел. Руль разговора в сногсшибательном темпе и с совершенно неожиданными модуляциями целиком взял в свои руки Берия. Он заговорил уничтожающе громко, тоном всевластного обвинителя. Левый глаз за четырехугольным пенсне был презрительно прищурен:– По заданию какой разведки вы завербовали Вейцера? Конечно, ничего подобного ожидать я не могла. Следователи задавали мне вопросы хоть в каких-то, но все-таки рамках приличия. Берия хлестнул меня жаргоном, узаконенным для матерых шпионов, цинично причислив меня к их числу. Это был не вопрос, а плевок. Не понимаю, как я смогла тогда совершенно проигнорировать все это, не вскипеть, не взорваться от возмущения, а ответить просто и точно:
– С Израилем Яковлевичем Вейцером меня познакомил
Глеб Максимилианович Кржижановский, друг Ленина. Одновременно со мной Кржижановские лечились в Карловых Варах. У меня было приглашение выступить с докладами о детском театре в Праге. Я была молода, и Никита Сергеевич Хрущев попросил Кржижановского шефствовать надо мной там, в Чехословакии. Когда Кржижановского вызвали в Москву, он передоверил эту опеку товарищу Вейцеру…– У вас уже тогда были особые задания? Он, видимо, опять забрасывает меня в «шпионские» дебри.
– Мое главное задание было вылечить печень; она мешала мне работать…
– Вы сошлись с Вейцером в тот же день, как с ним познакомились?
(Он хочет опять унизить меня. Но это же мерзкая ложь! Но… Не трепыхаться. Правда со мной.)– Мы почти ежедневно встречались с ним около источников. Иногда вместе по рекомендации врачей совершали небольшие прогулки по городу. Перед моим выездом в Прагу товарищ Вейцер помог мне откорректировать мой доклад. Доклад имел успех…
– Что было потом?
– Хорошие отношения, возникшие в Карловых Варах, продолжились в Москве. Мы подружились. Ему нравились постановки Детского театра, мне – его большая эрудиция, горячий патриотизм. Однако мы оба с ним – люди сложные. Прошло полтора года, прежде чем мы поняли, что любим друг друга и поженились…
– Вы не могли полюбить Вейцера, он был старше вас…
– Я не могла не полюбить Вейцера – он был лучше меня.
– Вы знаете, что Вейцер оказался большим мерзавцем?
– Нет, не знаю.
Возникла такая тишина, что, казалось, все присутствующие перестали дышать.– Что же, вы не знаете, что он арестован?
– Что он арестован, я знаю. Но для того, чтобы поверить, что человек, в кристальной честности которого вы уверены, «оказался большим мерзавцем», надо знать состав его преступления…
– Значит, вы нам не верите?
– Его допрашивал Ежов; сейчас он тоже в тюрьме.
– Мы говорим не о людях, а об организации, которой вы позволяете себе не верить?!
Грозная интонация. Берия зашевелил пальцами правой руки, резко переставил чернильницу. Я отвечаю, убежденная в своей правоте:– Муж тоже считал НКВД организацией всеведущей и непогрешимой. Но ведь я – в заключении уже больше трех лет, хотя следователь не предъявил мне ни одного факта обвинения. Моя вера поколеблена…
– Вы что же, равняете себя с Вейцером, который был признанным любимцем партии?
Этот «акробатический скачок» после «мерзавца» на «любимца партии» потряс меня.– Нет, я ни с кем себя не равняю, тем более с Вейцером, которого за всеотдачу порученному ему делу и преданность Родине считала легендарным. Но логика одна для всех. Я верю в ее силу…
И вдруг Берия после секундной паузы на высокой ноте закричал к удивлению всех присутствующих:– А она умна!..
И сейчас же низким, всевластным голосом повелел в телефонную трубку:– Возьмите Сац!
Взяли. Увели вниз по большой лестнице в прежнюю камеру… Пятьдесят две минуты личного общения с Берией, даже через пятьдесят лет вызывают во мне такую боль и омерзение, которые пугают меня и сейчас… Я вернулась в камеру опустошенная. Страшный вихрь из комков грязи и сломанных веток, казалось, уничтожил и тело, и душу. Ноги еще как-то передвигались, но тело «сидело» на них нетвердо. Как лезвие кинжала страшные губы Берия высосали и сплюнули мое человеческое достоинство. Когда конвоир запер дверь, плюхнулась на койку. «Орел, – мысленно сказала я. – Орел-стервятник…» С этими словами я вдруг заснула крепко как никогда. Не знаю, сколько часов или минут это длилось. Но, проснувшись, я почувствовала, что голова у меня ясная: неожиданно для самой себя я открыла то, что так долго оставалось для меня тайной. Ведь вся история с моим арестом была не чем иным, как средством скомпрометировать и арестовать Вейцера. Я была для них червяком-наживкой, насаженным на крючок… Все встало на свои места: на первом допросе следователь Русинов совсем не спрашивал меня о муже. Допрашивал он меня уныло: понимая, что тычет пальцем в небо, настойчиво просил меня помочь ему найти какую-нибудь статью для меня в уголовном кодексе. Ересь? Нет. Было именно так. Он попросту не знал, в чем же все-таки обвинить меня, чтобы удержать в тюрьме. Русинов по неосторожности даже обмолвился однажды, что он все равно не сможет выпустить меня, даже если бы и захотел. Очевидно, Вейцер не был тогда еще арестован. Отправляя же меня в первый этап, следователь Русинов держался уже иначе, объявив мне, что Вейцер тоже арестован, а я арестована за «недонесение на мужа». Как выяснилось гораздо позже, он был тогда не только арестован, но и расстрелян. Они смогли убить моего мужа, но его безупречная репутация осталась незапятнанной. Много лет спустя в Москве у Полины Левитиной [28] я узнала точно, что через несколько дней после моего ареста на открытом партийном собрании в Наркомторге Вейцер был обвинен в том, что он женился на уже арестованной «изменнице Родины». Изобретать преступления арестованным тогда некоторые считали признаком патриотической доблести. Вейцер, призванный ответить собранию по существу предъявленных ему обвинений, очень долго молчал, а потом сказал только одну фразу: «Я думал, что она хорошая…» Через день после этого его арестовали… И еще один факт. На реабилитации Вейцера мне сообщили, что Вейцер, как только был арестован, не глядя подписал весь тот бред, который ему подсунул следователь. Сам факт ареста был уже для его самолюбия смертным приговором, исключал его желание продолжать жизнь… Кончено все. Только эти два слова сверлили мой мозг после допроса у Берии. Узнав, что муж арестован еще три года назад и не допуская мысли о расстреле, я все время искала его: а вдруг мы встретимся с ним в коридоре, когда меня поведут на допрос, устроят с ним очную ставку, как бывало у некоторых заключенных… Вейцер был расстрелян где-то рядом со мной, в подвалах этой же тюрьмы. Может быть, сейчас моя камера находится неподалеку от его останков. Или их уже нет нигде?! И все-таки сварганить из меня «шпионку» даже этому палачу оказалось не под силу: слишком хорошо знали меня люди по Детскому театру, да и за границей уважали. Оказывается, некоторые западные газеты время от времени напоминали об абсурде моего «исчезновения», печатая статьи с моими фотографиями… Через два дня после разговора с этим «орлом-стервятником» меня вызвал следователь Райхман, уже… генерал. Едва завидев меня на пороге, забыв о «манерах», он почти закричал:– Скажите, вы кого-нибудь в жизни боялись?
– Нет, такого человека еще не выдумали.
– Я этому верю. Как вы себя вели позавчера?! Народный комиссар уделяет вам пятьдесят две минуты своего драгоценного времени, а вы, ничего не боясь…
– Бояться может только виновный, а я ни в чем не виновна…
– Два мужа у нее арестованы, а она все не виновна, нос кверху!
– Мне кажется, я держалась нормально. Не понимаю, в чем вы меня обвиняете. В том, что я говорила правду, а не униженно поддакивала? Может быть, я просто глупа…
– О, нет! Вы – умны, вы – очень умны, это сам Лаврентий Павлович во всеуслышанье сказал…
Он на секунду остановился, прищурился и добавил медленно:– Но к чему вам этот ум?
По его мнению, из ума нужно извлекать выгоду. Это главное. Райхман, не дав мне ответить, продолжал:– За это время я старался делать все в вашу пользу. Просил вас освободить, утверждал, что вы представитель богемы, артистическая натура, что связь с Вейцером была в вашей жизни мелкой случайностью, что вы никогда и не вспомните об этом, уже давно безразличном вам мерзавце, если мы вас об этом попросим… А вы, наперекор своей же выгоде, утверждаете, что его любили…
– Глубокоуважаемый гражданин следователь! Вейцер был моим вторым мужем. Разойтись с моим первым мужем, кстати сказать, тоже честнейшим человеком, Николаем Васильевичем Поповым, которого, быть может, арестовали тоже за то, что он когда-то был мужем арестованной Наталии Сац, мне было очень больно. Если я все-таки, полюбив Вейцера, ушла от него, значит, полюбила настолько сильно, что не могла поступить иначе. Вейцера я не только любила, но люблю и сейчас. Очень люблю.
– Тогда пеняйте на себя. Поедете снова в лагерь до конца срока.
– Если я скажу «нет», от этого ведь ничего не изменится…
– Она еще острит. – Он сделал своими холеными руками неопределенный жест. – Теперь ничем помочь уже не смогу. Но надеюсь, что наши встречи все же не пройдут для вас бесследно. Прошу вас – не унывайте. Вы – умны. Это сам народный комиссар сказал. Буду надеяться, что с годами одумаетесь…
«Ангорский кот» скрестил на груди свои руки, спрятав коготки, выдавил подобие улыбки и слегка поклонился. Финита ла комедиа. Снова, уже набивший оскомину, приказ по телефону: «Возьмите Сац»… Взяли. Увели. Отправили. Снова этап… После заключительного (если можно так выразиться) допроса у Райхмана прошло два дня, и меня снова везут неизвестно куда и зачем. Я – какая-то пустая, ни на что больше не надеюсь. Следую за конвоирами. Их – целых четыре. К чему тебе, господин Берия, было нагонять столько импозантных генералов-статистов на мой допрос, а сейчас приставлять к такой «ничтожной преступнице», как я, столько статных молодцев… Бежать-то мне некуда. Впрочем, это – твой принцип. Ведь когда-то ты, почти убив Аню Ларину беседой о расстреле Н. И. Бухарина, вслед за этим «пожалел» ее и послал ящик винограда. Пассажирский поезд. Мне предоставляют отдельное купе второго класса, в соседнем располагается моя «свита», причем один из них неотступно стоит около моей стеклянной двери в коридоре, и проходящие через наш вагон пассажиры не имеют права задерживаться ни на секунду около моей двери. Ну, а я все-таки артистка: знаю, что от перенесенных болезней стала еще худее, еще больше стала похожа на подростка, и слегка улыбаюсь проходящим: «Вот, дескать, друзья, посмотрите, какие бывают таинственные врагини. Очень опасные». Положили спать на мягкую полку, на чистые простыни, подушку, как обычного пассажира мягкого вагона. Интонация конвоиров более вежливая, чем прежде: все же я удостоилась быть принятой самим народным комиссаром! Врагиня «люкс». К вечеру сошли на остановке, причем мои конвоиры поделили присланные мне в разное время мамины чемоданы между собой, а я иду налегке. Вводят в здание вокзала. В зале ожидания – множество деревянных скамеек, на которых впритык друг к другу теснятся люди. Начальник моего конвоя (звучит-то как!) делает повелительный знак, и одна скамейка мгновенно освобождается для меня. Во избежание лишних разглядываний моей особы конвоиры беспрерывно фланируют мимо того места, где сижу я. «Какой-то дешевый театр!» – думаю я, но юмор не может пересилить стыд и непонимание, что же будет дальше. Однако вскоре, когда в зале ожидания не остается ни одного человека, четыре конвоира с моими вещами выводят меня на улицу, и мы неторопливо приближаемся к колючей проволоке Рыбинского лагеря. Как давно уже я не имела возможности ходить пешком, дышать свежим воздухом и как давно лишилась права понимать, что со мной происходит. Вот и ворота Рыблага. Несколько людей, явно москвичей, узнали меня, и раздались приветственные возгласы: «Наркомша приехала…» Оказалось, что это были лагеря для так называемых «указников»: продавщиц магазинов, которые обвешивали покупателей, других комбинаторов торговой сети, а также нарушителей дисциплины. Меня поселили в комнате с «примадонной» этого лагеря по имени Нелли, хорошенькой, но изрядно потрепанной жизнью девицей, предпочитавшей на свободе жить без прописки. Вскоре зашел ко мне и начальник этого лагеря капитан Задоркин. Был со мной даже приветлив, заверил, что я буду отбывать срок, работая только по специальности. Вообще, я поняла, что поступило распоряжение об ослаблении для меня лагерного режима. Первые дни, уткнувшись в подушку, горько плакала, но потом потребность приносить хоть какую-то пользу взяла верх. На вечере самодеятельности я убедилась, что Нелли музыкальна, хорошо двигается, неплохо подражает Рине Зеленой и даже Клавдии Шульженко, выяснила, что есть хорошие чечеточники… и когда попросили выступить меня, исполнила стихи Пушкина, увы… без всякого успеха. Руководителя художественной самодеятельности у них не было. Я хотела рискнуть снова поставить «Без вины виноватые», так как роль Кручининой была моей мечтой с юных лет. Но кроме той же Нелли, очень подходившей к роли Коринкиной, и исполнителя «Лезгинки» Сережи Айрапетова, которого с большой натяжкой видела в роли Миловзорова, мало-мальски достойных исполнителей других ролей не нашла. Больше всех для нашей постановки старался заведующий швейной мастерской Вася Евстигнеев, в прошлом – работник милиции, ставший моим горячим помощником в дальнейшей работе. Но создать какое-либо подобие именно кружка, коллектива единомышленников не удалось. А освежить привычный строй этой их самодеятельности было необходимо. Поняла, что начинать надо с юмора. Среди «службистов» высмотрела высокого немногословного Жору Фолкина. Он работал бухгалтером и обратил мое внимание своей застенчивостью, трепетным отношением к слову «театральная самодеятельность». Мама присылала мне сборники пьес, ноты, скетчи. И вот целый месяц по два раза в день в бухгалтерии Рыблага мы репетируем с Жорой Фолкиным скетч Виктора Ардова «Муха». Сногсшибательному успеху наше выступление было обязано прежде всего остроумию автора, но и нам с Жорой, сумевшим создать на сцене атмосферу настоящего веселья. Даже начальник лагеря сказал:– То, что вы артистка, мы из вашего дела знали, а вот что вы из Жоры Фолкина артиста Художественного театра сделаете – не ожидали. Мы-то его рохлей считали.
Бурный, но кратковременый успех нашего скетча и не состоявшаяся премьера «Без вины виноватые» взбудоражили мое желание приносить пользу людям, оправдать доверие начальника лагеря, возложившего на меня обязанности руководителя художественной самодеятельности. Я должна была бороться с той пустотой, которая страшно угнетала меня при неотвязной мысли о том, что муж расстрелян, что нет больше ни семьи, ни любимого театра, ни будущего. Ведь уныние – самый большой грех для того, кто верует. Мама научила меня никогда не терять надежды и оптимизма. Что бы ни случилось. В долгих ночных беседах с ней я обещала, что буду стараться даже сейчас сохранять верность ее заветам, не унывать и продолжать искать талантливых людей и в лагере… Джаз за колючей проволокой Однажды, к удивлению своему, я обнаружила, что в одном из доселе не замеченных мною бараков раздаются звуки различных музыкальных инструментов. Подошла к полуоткрытым дверям и увидела в разных углах большой и смежной с ней комнат музыкантов, игравших свои ежедневные упражнения. У меня даже дух захватило: настоящие профессиональные музыканты! Немедленно напросилась на прием к начальнику лагеря. Он сразу понял, куда я клоню:– Конечно, хорошо было бы создать из них оркестр, да не знаю, удастся ли вам. У них нет ни статьи, ни срока: это нарушители границы. Мы к ним присматриваемся, они нас дичатся. Психология у них другая, контакт пока не получается, да и ненадолго они здесь.
Оказалось, что во время нападения фашистов на Польшу эти музыканты в панике бросились в бегство, не взяв ни документов, ни вещей, не зная толком русского языка. Теперь узнали о них некоторые подробности.– Толстый такой, рыжий, обратили внимание? Это Гарри Фуксман, он считался одним из лучших ударников в Польше. При приближении фашистов схватил свой большой барабан, накинул пальто и прямо из ресторана, где играл, бросился в бегство. Бежал недолго. Начался ливень. Он снял пальто, накрыл им барабан и все бежал, пока не потерял сознание. Очнулся уже в нашей пограничной больнице, на градуснике – сорок: крупозное воспаление легких. Доктор хотел было спросить о самочувствии, но Фуксман перебил его вопросом на ломаном русском: «Скажите мне, как он есть, как он чувствует?» – «Кто он?» – удивился доктор. – «Мой барабан», – удивился его непониманию Фуксман.
Да, барабан, которому он, не задумываясь, уступил свое пальто, был ему важнее всего, – с восхищением подумала я.– Для него барабан – орудие производства, средство к существованию. Каждый из них умеет это ценить, – постарался охладить мой восторг начальник лагеря, но не смог. Музыкант – это слово было для меня священным с детства.
Я направилась к бараку, целиком предоставленному польским музыкантам. Стали знакомиться. Борис Шамшелевич, небольшого роста, с непропорционально большой головой, по первой просьбе сыграл мне на итальянской скрипке с темпераментом настоящего мастера «Венгерский танец» Брамса и «Радость любви» Крейслера. Теперь он казался мне даже красивым: вот что значит профессиональное мастерство. Мне удалось организовать из семи человек музыкальный ансамбль. Они выбрали дирижером скрипача, который управлял ими, играя одновременно на своем инструменте. Неприятный он был человек и музыкант средний. Эти музыканты были профессионалами, но как трудно было объединить в одно целое даже семь человек! Чисто ресторанный репертуар устраивал некоторых из них значительно больше, чем меня. Фуксман и Шамшелевич привыкли быть «премьерами». Кое-кто даже мысли не допускал об увеличении ансамбля за счет других музыкантов, претендуя на полную обособленность. С большим трудом удалось подключить к ним Михаила Панкрухина вместо недостающего аккордеониста. Этот баянист был тоже не так прост: сидел за пьянство и дебоши, но и в условиях лагеря стремился подчеркнуть свою действительно высокую музыкальную квалификацию.– Слушай, Наталия Ильинична, я в твоем оркестре работать согласен, только если ты меня будешь возвышать над другими.
Как видите, настроения у музыкантов были далеко не «ансамблевые». Но складывать оружие я не собиралась. Добилась настройки рояля в клубе, получила ключ от него и этой комнаты, договорилась об освобождении от общих работ всех музыкантов за счет ежедневных пятичасовых занятий музыкой. Задумали первый концерт в Рыблаге. Да, настоящий концерт, а не вечер самодеятельности. Последние полтора года я не дотрагивалась до рояля, и сейчас возможность приходить в музыкальную комнату раньше всех и систематически музицировать подняла и мое настроение, и авторитет. Кое-какие ноты мы нашли в лагерной библиотеке, друг у друга, что-то смогли подобрать по слуху. Аккомпанировала «Менуэт» Падеревского и «Радость любви» Крейслера Борису Шамшелевичу, игравшему на скрипке. Исполняла стихи Некрасова «Огородник» и «Тройка». Мы много и с любовью репетировали эти стихи с Мишей Панкрухиным. Аккомпанировал он с душой, даже сам потом утирал слезы. Гарри Фуксман замечательно исполнял в сопровождении рояля и контрабаса «Любимый город». Он так артистично и музыкально произносил слова любимой песни, что его постоянно вызывали на бис. Имел успех и музыкальный октет, но ему явно не хватало чувства ансамбля, дирижерской воли, полноты звучания. И все же хорошее дело было начато. С разрешения начальника лагеря в сопровождении молодого конвоира Васи отправилась я по другим лагерям выискивать музыкантов. Так пополнили оркестр трубач Женя Тимошенко, скрипач Николай Басенко, кларнетисты Сережа Фетисов и Виктор Ефимов. Прекрасный музыкант и незаурядный человек был этот Виктор. Отца его убили в гражданскую войну, рано потерял и мать, жил у тетки-учительницы. Маленького роста, ладно скроенный, с огромными карими глазами, он был очень самолюбив. «Тетя кормит меня только из жалости, я ей чужой», – решил он в свои семь лет от роду и, сделав из толстой веревки петлю, прикрепил ее на потолке сарая, подставил табуретку, всунул голову в петлю, оттолкнул ногой табуретку… Случайно кто-то вошел в сарай, жизнь ему удалось вернуть с трудом. Тетя его была совсем не злым человеком, ничем его не попрекала, выходила. Он пошел в школу. Учился хорошо, особую ловкость проявлял на физкультуре, в борьбе, в прыжках, но навязчивая мысль, что он сирота и тетя не должна его кормить, продолжала мучить. Однажды, когда Виктор, уже не впервые убежал из дома и бродил по окраине города, его выследила воровская шайка «краснушников» – тех, кто грабит товарные вагоны. Для них Виктор был находкой. Они забрасывали веревку в маленькое высокое окно товарного вагона, Виктор взбирался по этой веревке через окно в вагон, выбрасывал им ценные свертки. Шайка не зевала, а верхолаз по той же веревке на ходу выскакивал на землю. Ему было лет пятнадцать, когда эта «работа» опротивела еще больше, чем пребывание в доме тетки. Он убежал в другой город и однажды замер от восторга, увидев, как шагает военный духовой оркестр, оглашая город звуками торжественной музыки. Как и многие мальчишки, он зашагал в ногу за этим оркестром, а потом, как немногие, сумел уговорить дирижера попробовать его «на музыку». Оказалось, у Виктора абсолютный слух. Он овладел тромбоном, потом кларнетом, стал «сыном полка», квалифицированным музыкантом. Но однажды на него снова «накатило»: получив увольнительную на двое суток, он отправился в ресторан, пропил все свои деньги и обмундирование, вернулся в часть почти голым, на трое суток позже, а так как, вероятно, это было уже не в первый раз, получил два года исправительно-трудовых работ. Переведенный по моей просьбе в наш лагерь, Виктор Ефимов вел себя идеально: хорошо играл на своем инструменте, а все свободное время тратил на овладение саксофоном. Музыканты его уважали. Он обращал на себя внимание огромной волей, которая светилась в его карих глазах даже тогда, когда он неподвижно сидел на верхних нарах, подобно Будде, скрестив ноги, в то время как другие музыканты исполняли любую его просьбу, почтительно произнося: «Виктор». Впрочем, тут, вероятно, имели значение еще его ловкость и сила: не дай бог было чем-нибудь обидеть его. Виктор Ефимов уважал меня как артистку, однако чуждался. Наша дружба возникла, так сказать, на медицинской почве. Когда мне сообщили, что Ефимов заболел и на завтрашнем концерте выступать не может, я велела немедленно отправить его в санчасть. Он заявил, что не признает врачей, наотрез отказался идти туда. Тогда со своей санитарной сумкой явилась в барак я. Ефимов сидел на верхних нарах с блестящими воспаленными глазами и перевязанным горлом. Я вскарабкалась на нары и оказалась рядом с Виктором. Смерила ему температуру, посмотрела горло – все честь по чести, как и полагается фельдшеру, и вдруг услышала:– Как, оказывается, приятно, когда вы лечите. Спасибо. Улыбку Ефимова я тогда увидела в первый раз. Мой больной выздоровел на следующий день и рьяно принялся помогать мне во всем: в налаживании дисциплины, которую он поднял в оркестре, в замене очень капризного польского скрипача. Виктор научился делать прекрасные оркестровки для нашего, тогда уже большого, джаза, помог мне пополнить репертуар произведениями Чайковского, Дунаевского, Хренникова, Крейслера, Сарасате, по праву стал дирижером.
В сопровождении нашего оркестра выступала Нелли, с которой мне удалось сделать интересную театрализацию песен из кинофильма «Петер». Русские народные песни с успехом исполняла Рая. Очень музыкальным оказался попавший в наши лагеря артист-комик Саша Жуков. Наш ансамбль был переименован в «Драмджаз под руководством Наталии Сац». Когда я отправлялась на поиски новых дарований в смежные лагеря, не все понимали, что сопровождавший меня Вася – мой конвоир. Вася был горд своей причастностью к руководству прославленного драмджаза и, скорее, напоминал теперь усердного помрежа при главном режиссере. Помню, как на четвертом участке разыскала далеко не молодого цыгана, дядю Михая. Небольшого роста, с пленительными, типично цыганскими глазами, он слушал меня, наклонив голову набок.– Драмджаз на центральном участке организовали. Слыхали?
– Разговор идет. Хвалят.
– А вы, простите, по какой статье в лагере?
– По цыганской.
– Разве такая есть?
– А как же! Конокрадство. Цыган и есть цыган. Как коня без хозяина увижу – верхом и угоняю. Такая природа наша. Я уж не в первый раз за это сижу. Небольшая пауза.
– Прежде танцевали, говорят, лихо?
– Так это я и сейчас. Свое, родное, до смерти плясать буду. Было время – большую деньгу зашибал.
Кто-то садится за рояль. Дядя Михай скидывает пиджак, двумя ладонями оправляет рубаху и все еще могучую растительность на голове и лице и начинает «ходить» под музыку. Походочка у него пленительная, и весь он какой-то стеснительно юный, когда танцует. Чем быстрее и громче звучит музыка, тем стремительнее его «выходка», и вот уже рвется наружу подлинно цыганский темперамент. Какое-то время дядя Михай блеснул новой искоркой в нашем джазе, поднял дух и у старшего поколения, но исчерпал себя одним танцем. А вскоре мы проводили его на волю. Он благодарил всех нас за хорошее общество, улыбался, а потом, подняв плечико, со своей застенчивой улыбкой изрек:– Крепко не прощаюсь. Ненадолго провожаете. Во сне вижу, как на неоседланном жеребце скачу… Эх, кони, жизнь моя! За них и отсидеть не жалко.
С цыганскими дарованиями нашему джазу везло. Ярким эпизодом, подобно дяде Михаю, мелькнула у нас Катя X. Пришла некрасивая, старообразная в свои восемнадцать лет на наш концерт, потом стояла в кулисе, не двигаясь с места, концертов восемь подряд. Долго молчала, и вот призналась, что хочет у нас петь. Спросила ее, что она может спеть, попросила нашего пианиста найти для нее подходящую тональность – тогда у нас уже и хороший пианист был. Зазвучали вступительные аккорды. Катя запела: Живет моя отрада В высоком терему, А в терем тот высокий Нет хода никому… Как это получается? Выйдет такая вот избитая жизнью девчонка, которая за секунду до этого и рот раскрыть боялась, и вдруг властно переносит вас в другой мир, другую жизнь, и видите вы только этот терем, эту «отраду», того, кто ее любит, и начинаете волноваться за него, добьется ли свидания… Приду я к милой в гости И брошусь в ноги к ней, Была бы только ночка, Да ночка потемней, Была бы только тройка, Да тройка порезвей… Вот и помчались мы на этой тройке, забыли, где находимся. Что там слова! То, как Катя пела «Приду я к милой в гости и брошусь в ноги к ней…», словами все равно не передашь. Мир чужой любви на мгновение стал нашим, и музыканты удивленно переглянулись. Катя, как и Михай, пятнадцать-двадцать концертов потрясала нас и публику, но так и осталась «звездой» одной песни. Потом Катя вернулась в мир большой жизни и стала хорошим трудовым человеком. Много позже я встретила ее в Москве, обняла она меня, сказала, что работает шофером, дочку свою Наташей назвала. Кстати, она сейчас у нас в театре помрежем работает. Наш драмджаз помог многим. Позвольте вспомнить еще только одного – Васю. Драмджазу были отведены в клубе три репетиционные комнаты. Все время мы работали над новым репертуаром. Я часто вела репетиции за пианино, сама аккомпанировала, заменяя подчас пояснения музыкой. Помню, однажды мы репетировали с Нелли П. Я сидела за роялем. Время шло к вечернему отбою, Нелли требовала более быстрого темпа и твердила: «Главное, играйте быстрее». На что я ей строго ответила: «Главное, пойте чище». Произошла небольшая пауза, вдруг дверь отворилась, и на пороге появился незнакомый парень высокого роста, в бушлате второго срока, с лицом, вымазанным сажей:– Вы… главная здесь Наталья? – спросил парень.
– Боже мой, не дают сосредоточиться, – пискнула Нелли.
– Что вы хотите, товарищ? – строго перебила ее я.
– Хочу… до джазу.
– Вы музыкант?
– Ни…
– На каком-нибудь музыкальном инструменте научились сами играть?
– На трубе.
– Хорошо играете?
– Ни, плохо.
С язвительностью признанного дарования Нелли произнесла:– Завидная откровенность.
Я очень не любила этих ее выходок и продолжала разговаривать с парнем, который вызывал у меня жалость: явно попал сюда недавно и чувствует себя плохо.– У нас хорошие музыканты, их много, принять вас в джаз, если вы не музыкант, невозможно. Или вы еще что-нибудь умеете делать?
– Спивать могу.
– Хорошо поете?
– Ни, плохо, – признался парень, готовый расплакаться.
Чтобы как-то его утешить, я спросила, какие песни он поет. Он назвал несколько, в том числе русскую народную «Метелицу», ноты которой стояли у меня на пюпитре.– Ну что ж, если вам так хочется «до джазу», попробуйте мне спеть. Идите сюда ближе, я вам проаккомпанирую.
Пока парень застенчиво подходил к пианино, Нелли шептала мне в ухо, что ее удивляет мое стремление собрать всех «подонков» в наш уже зарекомендовавший себя джаз. Я заиграла вступление, Нелли демонстративно пошла к дверям, парень запел: Вдоль по улице метелица метет, За метелицей мой миленький идет… Уже с первых нот было ясно, что у него сильный красивый голос с той особой украинской сочностью, которая с детства была мне так близка в пении моей мамы и народных певцов, которых отец собирал в селе Полошки. Во время пения стало понятно и то, что парень музыкальный. Но когда он спел по второму разу «Дозволь наглядеться, радость, на тебя…» и легко и просто взял заключительные верхние ноты, даже «до» третьей октавы, у меня все дрогнуло внутри. Голос-самоцвет, настоящий драматический тенор! Нелли, которая уже вышла было за дверь, услышав эти верхние ноты, мгновенно вернулась, и когда ее злое личико возникло снова в дверях, я получила еще одно подтверждение: с парнем нашему джазу повезло.– Как вас зовут, сколько вам лет? Расскажите мне все о себе, садитесь на стул рядом.
– Лет мени двадцать один, звать Василий, фамилия Гура, деревенский, из-под Одессы. Учился в железнодорожном, потом был призван. Маты верно говорила: «Будешь лениться – счастья не увидишь».
– Баловали вас очень?
– Эге, баловной я. (Вздох, пауза.) На два года сюда угодил.
Произношу строгие слова, делаю «педагогическое» лицо, а в сердце – радость и ликование. Но сердце скрыто за теплой курткой, а наставления мои вызывают горькие и обильные слезы парня, из-за чего лицо его делается чище и открываются «карие очи».– Значит, до джазу не возьмете? – спрашивает он горестно.
– Решим завтра. Может, и возьмем. Идите сейчас в свой барак спать, завтра на работу, как положено, потом вымойтесь хорошенько и в обеденный перерыв приходите сюда ко мне.
Лицо парня озаряется белозубой улыбкой, и он исчезает. Стоит ли говорить, что на следующий день он был снят с земляных работ, переведен в домик к нашим музыкантам, переодет, словом, «пришел до джазу». Музыке он нигде не учился, поэтому, как говорили остряки, «Наталия Ильинична открыла для Василия Гуры индивидуальную консерваторию». Да, открыла. Он этого стоил. Кроме моих помощников, которые учили его музыкальной грамоте, учили хорошо говорить по-русски и читать стихи, я занималась с ним два раза в день пением. Первый концерт, в котором Василий Гура в сопровождении нашего оркестра исполнял «Метелицу» и ариозо Ферфакса из «Гейши», произвел фурор. Но так как репертуар певца рос, а популярность – еще быстрее, поползли фантастические слухи: «Он – итальянец, она (это я) его там обнаружила, завезла в Москву, а теперь попросила его сюда выслать, чтобы после окончания своего срока всю Италию удивить, разработав его голос для первых партий в итальянской опере». Нелли попросила меня сделать ей с Васей опереточный дуэт, но ее поверхностные способности (немного пения, больше танцев и пикантность) не выдерживали сравнения с настоящим оперным голосом Василия. Так этот дуэт и не получился. А Вася был к тому же и красивым хлопцем. Когда он пел украинские, русские, итальянские (!) песни, женщины лагеря толпились за сценой, чтобы хотя бы сказать ему «здравствуй, Вася» и посмотреть на него вблизи. На свой успех у женщин он не обращал никакого внимания, ему важно было «научиться хорошо спиваты». Тяга к музыке была у него огромная. За год работы мы приблизили его даже и к оперным ариям. В лагерь близ Рыбинска два раза приезжала моя дорогая мама, приезжала дочка, приезжал сын Адриан. Одет он был в свитер-коротышку и хорошую курточку, из которой давно вырос… Почему?– Как ты не поняла, мамочка, я надел все то, что ты сама мне прежде дарила. Это же важнее всяких там мерок. Все у меня есть, ты не волнуйся, а сейчас захотелось… поближе к тебе мыслями, понимаешь?
Мои родные были довольны, даже горды, что и здесь я что-то придумываю, что у меня горят глаза. Вытаскивать из недр человеческих «хорошее», глубоко спрятанное даже от них самих, нести радость слушателям и зрителям после их работы на «Волгострое» – все это давало ощущение, что какую-то пользу я здесь приношу. 22 июня 1941 года радио принесло страшное известие: гитлеровские войска напали на Советский Союз. Война… Что-то будет с родной землей нашей? Сердце сжимается от страха за всех, за самое себя… Но не зря говорят: «Пришла беда, отворяй ворота. Через некоторое время умерла моя мама. Я ощутила почти физически, как мостик, незримо построенный мамой между Москвой и мною, между моим настоящим и будущим, сломан. Прочитав известие о смерти мамы, рухнула на пол, долго не могла прийти в сознание. Всенародное горе – война – еще больше сплотило наш коллектив, дало ощущение нашей возросшей нужности. Теперь нас ждали не только в других лагерях, но и в госпиталях. Нас направляли выступать и в воинские части. Нет, не знаешь ты, Гитлер, славянской породы, Не понять палачу душу вольных людей. Не согнутся славянские наши народы И не будут лежать под пятою твоей… Когда мы с Сашей Шитовым и оркестром исполняли эти стихи, почему-то сразу объявляли воздушную тревогу. Некоторые наши музыканты даже просили меня:– Наталия Ильинична, пожалуйста, не пугайте сегодня Гитлера. Опять бомбить будет.
Но мы и «пугать» продолжали, и об утверждении радости жизни и ее конечной справедливости в своих выступлениях не забывали. Организовав непривычное – драмджазоркестр, я все же больше всего любила в нашем репертуаре то, что имело отношение к главному в моей жизни, – стихи «Отец и сын» А. Твардовского и «Девочка». Виктор Ефимов откопал эту «Девочку» в воинской многотиражке, а может, и сам сочинил, не знаю. Почувствовав к себе доверие, увлекшись такой неожиданной для него большой работой, как руководство нашим оркестром, он обнаружил редкую музыкальную одаренность. Написанная им музыка к «Девочке» покоряла силой темперамента, ритмической стремительностью; у меня было ощущение, что этими стихами – знаю, зачем и кому, – хочу сказать что-то самое сокровенное, что можно бы выразить словами: «Ребята! Сейчас, в эти тяжелые годы, я сердцем с вами». А стихи, о которых пишу, вот они: Дорога желтая струится, А в небе жаворонков звон. На запад на рысях стремится Кавалерийский эскадрон. Бежит дорога метр за метром, Мелькнула церковь, дом, амбар, Несутся кони легче ветра, На самом быстром – комиссар. В нем битвы жар не угасает, Он вновь отряд с собой увлек. Вдруг видит – девочка босая На перекрестке двух дорог. Стоит, в ручонках хворостинка, Убог и неказист наряд, На бледных щечках – ни кровинки, И губы тонкие дрожат. Дорога желтая струится Между холмов, между полей, А он глядит и не стыдится Внезапной нежности своей. Сошел с коня – стоит под елью Пред этой девочкой чужой… Он гладит русую головку, И хочется ему обнять, Поцеловать сынишку Вовку И дочь Марину приласкать. Охваченный мечтой отцовской, Он поднял девочку в седло, И снова русую головку Он гладит нежно и тепло. И девочка уже не плачет На перекрестке двух дорог, А кони боевые скачут К крыльцу у крашеных ворот… Не сердитесь, что я задержала ваше внимание, приведя половину этого нехитрого стихотворения. Меня оно волнует и сейчас, когда я вспоминаю, как слушали «Девочку» в те годы, требуя повторить, и как я грустила среди этих людей, этого джаза по ребятам Москвы и театру для детей… Конечно, из всех трех лагерей, которые врезались в мою жизнь, жизнь заключенной, в Рыбинском лагере мне удалось сделать больше полезного для многих по-настоящему талантливых людей, больше внести режиссерской инициативы, быть ближе к театрализовано-концертным программам, к искусству, в ту пору совершенно для меня новому, но особенно важному, когда над страной висела грозовая туча угрозы фашизма. Наш «джаз за колючей проволокой» выступал не только во всех лагерях Рыблага, но и для вольнонаемных, делал прекрасные сборы по инициативе начальника строительства в Угличе Николая Исааковича Новицкого в пользу семей погибших. Хочется вспомнить и о том, что многие начальники лагерей, в которых мы выступали, по-настоящему ценили наш коллектив, старались по возможности облегчать нашу жизнь, но им это плохо удавалось. На «гастролях» по разным лагерям спали мы все вместе, постелив бушлаты на полу, питались впроголодь, но я уже радовалась и тому, когда доставала, наравне с вольными, махорку для заключенных-музыкантов. По ночам особенно мучила тоска по Москве, по настоящему театру и, конечно, по близким. Все же старалась уснуть, чтобы на следующий день выступать, потому что выступления, успех были для меня в то время своего рода наркозом. Но длилось это недолго. Заболела тропической малярией, так называемой трехдневной. Могла выступать только один раз в три дня, потому что если сегодня температура была выше сорока градусов, назавтра – ниже тридцати пяти, и только один третий день был, так сказать, «выходной». В конце концов и этот третий день куда-то исчез, выступления прекратились, меня переправили в больницу на том участке, на котором жила. Там, лежа на железной койке, все время думала о смерти мамы. Сулержицкие написали мне, как до последней минуты жизни она старалась поддерживать меня своими письмами, собирая на последние деньги пусть совсем маленькие, но такие дорогие для меня в то время посылочки, и больше всего волновалась тогда, когда ноги уже стали отказывать ей. Больница в нашем лагере была очень плохая. Суп из рыбьих костей – кандер, горячий чай с куском сахара и триста граммов хлеба… Никого не винила. Война! Но мысль, что ко мне подкрадывается смерть, что я обречена от нервного и физического истощения на самое страшное, была неотступна. И вдруг (о, это благословенное «вдруг») я начала получать настоящий горячий суп, а иногда и кусок мяса. Кто же мог спасти меня в это время?! Человек, которого я совершенно не знала, но который, оказывается, не пропустил ни одного моего выступления в сопровождении нашего, тогда уже по-настоящему хорошего джаза из сорока человек. Это заведующий аптекой Вячеслав Ильич Магидович, человек большой культуры. Магидович относился ко мне, как истый рыцарь. Он считал за счастье «продлевать мою жизнь». Но когда начальник лагеря Егоров узнал, что Сац между репетициями стала забегать на полчаса в аптеку, где ее кормят «даже свежей рыбой», он вызвал меня к себе и строго спросил, так ли это. Я ответила: «Да, он меня уважает за работу и, зная, что мама умерла, а я работаю выше сил своих, считает, что поступает хорошо. Он не прав?» Егоров очень ценил меня, поддерживал «моих ребят» махоркой по моим просьбам, а однажды как «лучшую женщину Рыблага» даже премировал меня яловыми сапогами и костюмом хлопчатобумажным. Но на этом его чуткость и исчерпывалась. А я его спросила еще раз, плохо ли я поступила, съев вареную рыбу… Он ответил не сердито, но строго:– Весь вопрос в том – честные ли глаза у этой рыбы? Разговор на этом кончился, но после очередного концерта я рассказала все Виктору Ефимову и спросила, как мне поступить. Он ответил убежденно:
– Скажите ему, что у этой рыбы самые честные глаза,
потому что только она заметила, как вы сейчас слабы, и хочет поддержать вас не только для нас, а для всей Москвы, которая скоро, я уверен в этом, как и прежде, будет говорить о вас с уважением и восторгом… Да, были и там люди, которые в меня верили… А я отдавала работе все, что могла. Старалась зажечь в людях чувство патриотизма – ведь страна наша изнемогала от фашистского гнета. Любить Родину и не сметь считать себя ее равноправным гражданином – что может быть страшнее этого?!! Наш драмджаз был буквально засыпан приглашениями в другие лагеря, госпитали, к вольнонаемным, и ни о какой усталости не могло быть и речи, даже если выступать сверх сил, по три-четыре раза в день. Вблизи нашего лагеря находился аэродром одной из частей авиации дальнего действия. Мы всегда были желанными гостями и очень ценили каждое их приглашение. Помню, как-то начальник лагеря сообщил нам, что звонил комиссар аэродрома полковник Смирнов и очень просил выступить именно сегодня. Отвечаем радостно: «Мы всегда в боевой готовности, гражданин начальник». Уточняем программу, с азартом репетируем и грузимся в автобус. Конвоир Вася радуется вместе с нами. Это уже третий концерт за сегодняшний день. И вот наш джаз – на сцене залитого огнями Дворца культуры. Открывается занавес. Среди зрителей – первые Герои Советского Союза, люди беспредельной храбрости, награжденные боевыми орденами и медалями. Оркестр играет фантазию на темы песен Матвея Блантера… Все номера – на бис. Исполняем «В лесу прифронтовом», «Катюшу»… Наш драмотдел вместе с джазом бисирует новый музыкальный скетч, под джаз танцуем «Молдаванеску». Большой, разнообразный у нас репертуар, по-настоящему талантливые исполнители. В заключение одетая в шинель и барашковую папаху исполняю с оркестром стихи Семена Кирсанова и по просьбе зрителей – «Отца и сына» Александра Твардовского в музыкальной аранжировке Виктора Ефимова: Страна моя! Земля моя! Одна родня! Одна семья! В суровый час судьбы своей Ты стала мне в сто крат милей. В сто крат сильней тебя любя, Встаем с оружьем за тебя. Встают отцы и сыновья, Страна моя, семья моя! Концерт длился больше трех часов. Буря аплодисментов, летчики аплодируют нам стоя. На сцену выходит комиссар аэродрома полковник Павел Николаевич Смирнов. Напротив него стоим мы все, участники «джаза за колючей проволокой». Голос у комиссара Смирнова дрожит, а мы кусаем губы, чтобы не заплакать.– Сейчас – больше часа ночи. Вы приехали к нам на ваш третий концерт, потому что вы любите нас так же, как мы любим вас. У вас замечательный коллектив, созданный Наталией Сац, коллектив, который мы полюбили с первого раза. Через несколько часов мы полетим бомбить врагов нашей Родины. Но в нашей памяти и сердцах будет звучать ваша музыка, ваши песни. Они придадут нам новые силы…
Я отвечаю от имени всех участников концерта:– Нет большего счастья для советского музыканта, чем сознание того, что наша музыка, наше вдохновение и пение хотя бы в самой малой степени, но помогают горению вашего патриотизма, вашим подвигам, которыми мы все гордимся. Наш труд в сравнении с вашим ничтожен, но в ответ на вашу, такую щедрую, благодарность мы повторяли и повторяем: «Служим Советскому Союзу!»
Потом… Да, потом летчики покидают зал, мы покидаем сцену, нас вводят в отдельную комнату, просят скорее собрать наши костюмы и бутафорию, инструменты и ноты, на некоторое время зачем-то нашу комнату закрывают на замок, и только тогда, когда летчики разошлись, мы слышим команду «Левой… левой… левой…» Нас грузят уже не в аэродромный автобус, а в обычный «черный ворон» и везут обратно в лагерь. Уже совсем темно: и на проезжей дороге, и в сердце… После такого успеха… За что? Куда? И неотвязное: «Кто же сошел с ума?! Почему после успеха у летчиков, слов уважения – конвоиры?!» «На свое место» в исправительно-трудовой лагерь… Кто сошел с ума?.. Я долго не могу заснуть, но, как ни странно, на сердце становится радостнее: меня не лишили самого для меня главного – права на творчество, ощущения, что нужна, гордости за людей, ставших и в этих ужасных условиях единым творческим коллективом. Они еще будут нужны своей Родине… Виктор Ефимов, Василий Гура, Александр Жуков вскоре обратились к командованию лагеря с просьбой разрешить им отправиться добровольцами на фронт. Примерно в это же время кончился срок и у меня. Но меня, вероятно, за недостаточно почтительный разговор с народным комиссаром внутренних дел оставили «вольнонаемным режиссером» в Центральном клубе МВД в Переборах. Ну что же, я была рада и этому: зато я получила возможность попрощаться перед отправкой на фронт с моими товарищами, с теми, кто был гордостью нашего «джаза за колючей проволокой». На расставание нам отпустили целых полчаса, и впервые я видела слезы на глазах моих ребят и заплакала сама. Пожалуй, сейчас я чувствовала себя еще более одинокой, чем в лагерях. Полезла в свой мешок за носовым платком и, к удивлению своему, нашла в нем весь «военный паек», выданный на дорогу к фронту Виктору Ефимову: две пачки супа, килограмм хлеба и несколько кусочков сахара, бережно завернутых в записку от Виктора: «У этого сахара «честные глаза». Крепко верю, что вы снова, совсем скоро, опять будете горячо любимы Москвой. Спасибо вам за все. Ваш Виктор». Пароход «Ленин» Двадцать первого августа тысяча девятьсот сорок второго года я снова стала вольной, но еще без крыльев. Предложили остаться режиссером Центрального клуба в Переборах, около Рыбинска. Здание новое – дворец культуры. Сцена большая, удобная. Но… самодеятельность! На страницах «Ленинградской правды» 8 марта 1967 года поэтесса Нина Королева вспомнила, как она играла… Вторую елку в маленьком детском театре, который я там организовала. Да, да! В том детском спектакле был целый лес из детей. В пьесе, которую тогда я написала, помню, как «елки русской земли» помогали советским воинам бороться с врагами. Помню остроконечные их зеленые шапочки и маленькие еловые ветки на них, зеленую марлю, закрывавшую лица и переходившую в балахоны со все увеличивающимися зелеными ветками. Самые большие густые еловые ветки опускались, когда надо было прятать партизан, поднимались, когда под ними прятались враги, – содержание пьесы помню смутно. Успех был грандиозный, потому что по моей просьбе среди действующих лиц появлялся настоящий пограничник в полной форме со служебной собакой. Умная красавица была эта собака! Нюхая землю, она приводила пограничника в то место, где под ветвями елок в этот момент укрывались враги. В то время как другие елки незаметно окружали их (они же были живые елки, в зеленых тапочках!), собака подводила пограничника к месту укрытия врагов, елки поднимали ветки кверху, собака радостно лаяла, а затем «разоблаченные», подняв руки кверху, шли вслед за знаменитой собакой и пограничником. А замыкали это торжественное шествие «елки русской земли». В моих спектаклях всегда была музыка – целый самодеятельный оркестр авиации дальнего действия, с которым я тоже была в творческом контакте, гремел победу, и юные зрители были нашим спектаклем очень довольны. Неподалеку находилась в то время и воинская часть артиллеристов-зенитчиков. Капитан Алесин попросил меня «поднять» там культработу. Поставила отрывки из «Свадьбы в Малиновке» Бориса Александрова, инсценированные песни и обнаружила много красивых, звучных голосов. Отобрали восемьдесят человек и создали мужской хор зенитчиков, хороший хор! Работали мы каждый вечер, горячо, с любовью. Были там и школа зенитчиков и лазарет для получивших ранение и только-только выздоравливающих. Всем им хотелось петь. Репертуар у нас был большой. Двух-трехголосные хоры, хоры с солистами пели, радуя участников и публику. Я была там «за всех»: подбирала репертуар, переписывала ноты, репетировала. Во время репетиций слушались меня свято. Что я еще не совсем вольная, было забыто полностью. Авторитет непререкаемый. Да! Интересно у нас получалось. В своем деле я была прежней… На концертах нашего хора на большой сцене – посередине рояль «Блютнер», за ним – выстроившиеся по голосам зенитчики. Затем появлялась я в длинном платье, садилась за рояль и дирижировала хором, одновременно ему аккомпанируя. Однажды после дневного концерта я чуть было сознание не потеряла: узнала, в зале сидел Александр Васильевич Александров, прослушал весь концерт и ушел, не сказав мне ни слова. Оказывается, он вместе со своим всемирно знаменитым Красноармейским ансамблем песни приехал в тот день в Переборы. Афиш не было, потому что Александр Васильевич дал согласие только на два вечерних концерта, билеты уже распределены, а узнали бы заранее об этих концертах – ажиотаж поднялся бы страшный. Огромной любовью и популярностью пользовался хор под управлением Александрова. Вечером я как штатный режиссер этого клуба помогала в технических делах. Помню, стояла в правой кулисе, когда огромный хор и оркестр – все в военной форме – вышли на сцену. Потом слева, в военной форме, появился Александр Васильевич Александров. Все в зрительном зале встали, бурные аплодисменты. Два молодых летчика вдвоем еле держат огромный букет красных, белых и чайных роз; Александров берет охапку роз из этого букета, кого-то ищет глазами и, увидев меня в правой кулисе, идет через всю сцену ко мне… Не может быть?! Но вот он уже почти рядом, кто-то выпихивает меня вперед, Александров протягивает мне розы, говорит громко:– Слышал сегодня хор зенитчиков под вашим управлением, Наталия Ильинична. Это замечательно! Спасибо.
Я ошалела, розы плохо держатся в руках, кто-то мне их поднимает, мертвая тишина, как в те моменты, когда под куполом цирка проделываются «опасные номера»… Год, что прожила в Переборах, был какой-то чудной. Жила в двухэтажном доме с весьма пестрым населением. В длинном коридоре много было дверей… У меня в комнате – рукомойник, кровать, стол, стулья и печка. С ней у меня отношения никак не налаживались. В искусстве театра и музыки многое умела, начатое горячо доводила до радостного конца, но топить печку было для меня мукой: то мерзла, то угорала, «взаимопонимание» не устанавливалось. Каждый, кто жил в нашем доме, получал и землю для огорода. Но если преодолевать моральные тяжести кое-как удавалось, то физические – ни в какую. Сделав с помощью своих питомцев по самодеятельности грядки (почему-то они получились косые), посадив картошку, морковь, капусту, я надрывалась, притаскивая одно-два ведра для поливки. Правду сказать, плохо я чувствовала себя в том году, но веры не теряла. Писала, просила, доказывала, что могу и должна приносить пользу в профессиональном театре. А значит, надеялась… На кого подействовало мое письмо? Кто отозвался? Так и не знаю, но спасибо ему! Однажды самый важный в Переборах начальник вызвал меня и объявил, что мне разрешено поехать в Москву, увидеть дочь и, если я захочу, взять ее в то место, куда получу назначение для работы по специальности, в профессиональном театре. Начальник дал мне пропуск на въезд в Москву и недельное там пребывание. Не верила глазам своим, захлебывалась от счастья, садилась, вставала, читала и гладила волшебный пропуск… Москва… Театр… Дочь… Москва… В Переборах не существовало тайн. Здесь знали о каждом все и даже больше того. Когда я с сияющими глазами бежала от начальника домой, всем уже было известно: уезжает в Москву. Прибежала, поцеловала свой пропуск, завернула в белую бумагу, заперла в ящик, посмотрела в окно на чахлые ростки картошки, на мой незадачливый огород и стала в голос хохотать от радости, что скоро не увижу этой комнаты, не буду зависеть от своего жалкого «урожая», от печного дыма и холода. Как сельскохозяйственный работник я себя явно не оправдала и смеялась над своей неумелостью на этом поприще, мысленно повторяя слова: «Работать по специальности, работать по специальности…» Неужели это сбудется? Да, надо забежать к Анне Егоровне, молочнице, подарить ей что-то на память. Ведь только она брала меня «четвертой» в свою семейную кровать, когда было невмоготу страшно и одиноко. Схватила какие-то бусы, рубашку и пошла к двери, но она сама открылась: меня вызывали в клуб для получения премии за работу. Да, мне сегодня везет! Через два часа рядом с заветным пропуском в Москву лежал билет на пароход «Ленин» в каюте «люкс». Осталось мало денег? Ерунда. Пусть стоит сколько угодно, а поехать в «люксе» мне необходимо. Позади больше двух тысяч дней – шесть лет – этапных теплушек, бараков, жизни под конвоем. Пароход «Ленин» вернет меня в Москву, любимую, единственную. Пароход «Ленин» вернет меня в настоящий театр. И – к дочке. Какие там деньги! Нужны, важны, драгоценны только пропуск и билет. Провожать меня некому, да и зачем? Вдруг что не так скажут, не так посмотрят и вспугнут мое ликование. Вещей у меня нет – то немногое, что было, раздарила. Есть билет и пропуск! Пристань. Волга. Пароход! «Ах ты, Волга, ждать не долго…» Ждала долго. Ну и роскошная у меня каюта – из двух комнат: спальня и гостиная. Мы отчаливаем. Прощай, Рыблаг, скорее «полный вперед», к Москве. Не могу сидеть на месте, ложусь то на одну, то на другую кровать, скачу на кресле. Бегаю по своим комнатам, по палубе, лестницам, бегаю от счастья, что могу бегать, что сняты загородки тюрьмы, лагерей, зон. Все, что можно другим, можно и мне. И даже… снова ходить по Москве! Мастер Мейерхольд Пароход причалил, и вместе с другими пассажирами я оказалась на речном вокзале, потом на улице Москвы. Меня никто не мог встретить; мама умерла, дочь в детском доме, сын ушел добровольцем на фронт, муж… Нет, я не думала о ранах. Это была первая, еще так недавно казавшаяся несбыточной и сбывшаяся сегодня мечта. Я снова в родной Москве. Вот! Подошвы соприкасаются с московским асфальтом. Этого не было уже шесть лет, и каких лет! Рядом шагают москвичи. Хочется улыбнуться каждому из них, сказать что-то сердечное. Вот Белорусский вокзал, вот началась улица Горького… Почему Москва стала такой тихой? Многие в эвакуации. Война. Куда идти? Куда? Конечно, на площадь Свердлова. Вот он. Центральный детский театр. Что может быть важнее этого даже и сейчас? С трепетом вхожу в дверь… Как часто из разных мест, где была в эти годы, мысленно переносилась сюда. Сюда! Подхожу к желтой стенке в раздевалке, глажу ее рукой. Стеночка! Помнишь, как раньше тут было красиво? Басни Крылова многокрасочно жили здесь, родились они, помнишь, под кистью Рындина. И был чудесный шум детских голосов! Театр, ты не скучаешь без меня, как я без тебя? Надо идти дальше. Куда? В дверном стекле вижу что-то тощее и лохматое. Это я? Куда? В парикмахерскую. Я в Москве. Это праздник, и зачем вызывать своим видом жалость? Свернуть в Копьевский и по Пушкинской вверх, там много парикмахерских. Иду, и мелькают обрывки далекого… «Капустник» в Центральном доме работников искусств, милая карикатура «Шествие московских театров». Впереди – Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, потом Таиров, Симонов, Попов, Завадский, а в конце с игрушечным автомобилем на веревочке – я, и подпись: «Детский Сац»… Как много приходилось здороваться раньше, когда шла по этой улице, а сейчас– никто не помнит. Кузнецкий мост. Парикмахерская. Уже включили электричество. Как тускло оно сейчас горит. Посетителей немного, можно сразу сесть на тот вон пустой стул. Какое у меня стало изможденное лицо и грустные глаза! Московские зеркала правдивы. Я чужая всем и даже… себе самой. Хорошо, что там, откуда приехала, не было зеркал, – такую себя не знаю. Кто-то подошел к стулу. Поворачиваюсь. Позади меня высокий, худой мастер в коротком белом балахоне. В его облике что-то верблюжье. Большой тонкий нос, большие губы, какой-то знакомый профиль. Кого он мне напоминает? Впрочем, свет горит так тускло, любая гофманиада приходит на ум. Слышу голос мастера из-за моей спины:– Что будем делать?
– Подстригите и завейте меня, пожалуйста. Из-под больших ножниц летят клочья волос.
– Вас постричь, как вы носили в тридцать седьмом году, Наталия Ильинична? – вдруг раздается над моим ухом.
Не может быть. Откуда он меня знает. Галлюцинация слуха. От волнения. Так давно не была в Москве.– Постригите, пожалуйста, как сейчас носят. Как хотите…
Конечно, все это показалось. Уже начал завивать. Щипцы пышут паром, стучат и лязгают.– Давно в Москве, Наталия Ильинична?
Ну что за черт, неужели действительно знакомый? И вдруг голос из кассы:– Тут недоразумение. Мейерхольд, подойдите на минуту.
– Простите, – говорит мой парикмахер, кладет щипцы и идет к кассе.
Что она сказала? Фамилию точно не расслышала, но по ассоциации… Ну, конечно, он похож на Всеволода Эмильевича. Лицом, манерой, походкой. Но много моложе! Парикмахер возвращается и, орудуя щипцами, говорит мне тихо в ухо:– Я – родной племянник Всеволода Эмильевича. Он – в заключении, подробности неизвестны. Великий был человек – не потому, что я в родстве… Нам тоже помогал.
Пауза. Когда он замолкает, кажется, что и не говорил. Странный какой-то. Он переходит завивать на другую сторону, говорит в другое ухо:– Хорошо, у меня ремесло в руках. Существую. – Снова пауза. – Пожалуйста, Наталия Иьинична.
Привычным жестом он смахивает с моих плеч и шеи обрезки волос длинной щеточкой. Зеркало отражает аккуратно завитые волосы и мои большие встревоженные глаза. Все же это не на самом деле. Мистика из сказок Гофмана. Мейерхольд и… парикмахерская. Расплатиться и скорей выбежать на свежий воздух. С карточкой в руках я иду к кассе и читаю: «Стрижка – два рубля, завивка – пять рублей», а наверху: «Мастер – Мейерхольд». Помните? Всеволод Эмильевич подписывал свои постановки именно так: «Мастер Мейерхольд». Новеллы поджидали меня за каждым углом, прямо-таки прыгали на меня. Что тот парикмахер был Мейерхольд – сомнений не могло быть. Тот же удивительный, как на изображениях египетских фараонов, разрез глаз, что-то верблюжье в посадке откинутой назад головы… И вот однажды, уже в 1969 году, в Детский музыкальный театр ко мне пришла девушка. Высокая, с тем же разрезом глаз и «верблюжинкой» в посадке головы.– Очень хотела бы работать в этом театре парикмахером.
– Ваша фамилия?
– Мейерхольд Людмила. Мой папа говорил, что однажды вас причесывал.
Людмила Мейерхольд работала у нас. Заведовала гримерным цехом. Мамины коробочки Шагаю по Москве радостно, шагаю к своему детству. Вот Зоологический сад, теперь кверху по Красной Пресне… Вот здесь, если свернуть направо, – Малая Грузинская, где мы жили вчетвером: мама, папа, Ниночка и я, так долго, так хорошо – все вместе. Налево переулками выхожу к Большому Предтеченскому, где жила с Ниночкой и мамой. На втором этаже серого домика, рядом с Обсерваторией. Мама жила там и потом, когда папы и Ниночки не стало, а я была далеко… Вот уже я в родном переулочке, миновала возвышающуюся простотой своей церковь Иоанна Предтечи; прохожу мимо одноэтажного серого домика, где был Комитет партии большевиков еще в Февральскую революцию, вхожу во двор, где стоит деревянный двухэтажный флигель, звоню в квартиру номер четыре. Мамины соседи, их фамилия Решетовы, встретили меня радушно. В маминой комнате уже живут другие, но у них стоит мамин диван золотисто-облезлый, с турецким рисунком, любимый диван моего детства. Именно там, под сиденьем, хранились мамины коробочки-реликвии, дневники… сейчас она поговорит со мной! С замиранием сердца попросила Решетову поднять сиденье, но под ним – пусто. Только маленькая мышь испуганно заметалась от света. Я закрыла диван и вопросительно посмотрела на соседку. Она виновато замигала глазами и залепетала:– Вы насчет коробочек… Знаете, в войну были такие переживания… Дров нет, а если есть, то сырые… Спасибо Анне Михайловне – эти ее бумаги, письма, фанерки всякие так выручали на подтопку. Жгли, сознаюсь, жгли. Время-то какое было, думали, конец света…
Несколько мгновений молчали, я – от боли, Решетова от чувства неловкости. Потом она заспешила на кухню – «собрать пообедать Наталии Ильиничне». Я осталась одна у заветного дивана. Как я надеялась, что уцелели ее дневники, последние слова любви, – сколько у нее было их для меня… Анна Михайловна была и женой-другом, и вдохновенным почитателем таланта своего мужа, собирателем всех его реликвий. По молодости лет и недомыслию я нередко смеялась, глядя на выражение лица матери, когда она трепетными пальцами доставала коробку номер один с письмами к отцу Станиславского и Немировича-Данченко.– Пойми, – говорила она мне горячо, – тут первые наметки будущих постановок «Тентажиля», «Синей птицы», «Мiserere», «Гамлета», почти всех спектаклей, ознаменовавших новую эпоху в театре.
В других коробках и ящичках, больших и глубоких, как и коробка номер один, лежали письма, полученные папой от режиссеров К.А.Марджанова, Н.Н.Евреинова, Л.А.Сулержицкого, В.Э.Мейерхольда, Гордона Крэга, Макса Рейнгардта, писателей Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, В.Г.Короленко, Леонида Андреева, композиторов С.И.Танеева, Р.М.Глиэра, С.В.Рахманинова, многих еще! В те годы я настолько была захвачена созданием детского театра, радостью своего творчества, что до конца понять маму не могла, но бесконечно уважала ее за то, что она так свято хранит письма замечательных людей, никогда не опубликованные. Наступил 1933 год. Отец давно умер. Казалось, что мамина «сокровищница» уже не может пополниться. И вдруг в день пятнадцатилетия моей работы в Детском театре я получила письмо от К.С.Станиславского. Помню, с какой гордостью и радостью я принесла это письмо к маме и положила в ее заветную коробочку. Ведь главными там были слова: «…когда замечательный талант вашего отца вносил столько свежести и остроты в наши спектакли…» В августе 1937 года, перед концом отдыха в «Барвихе», я заехала к маме на Пресню. Комната у нее была небольшая, но такая уютная! Папино пианино, папин стол, диван, ковер – все эти старые-престарые вещи я полюбила еще с раннего детства. А со стен маминой комнаты из красивых рамок, как из окон в прошлое, на меня смотрели, улыбаясь, отец, его замечательные сподвижники, наши умершие родственники. Казалось, их чувства и мысли продолжали жить в маминой комнате… Мама сидела в своем единственном кресле и кусочком бархата стирала пыль с заветных коробочек. Бархат оставался чистым – обряд обтирания проводился чуть ли не ежедневно. Но я уже была старше, не иронизировала. Мама сказала:– Обещай мне, если я не доживу до такой возможности, позаботиться об издании этих писем.
Я обещала. Не знаю, почему в тот августовский день 1937 года мне было как-то не по себе: душно и тягостно. Казалось бы: создан Центральный детский, поставила «Золотой ключик»; вдохновила Сергея Прокофьева и всемерно помогла ему в создании первой в мире симфонии для малышей «Петя и волк»; молода, счастлива, а ныло где-то внутри без причины и смысла. «Смысл» поняла через неделю, когда потеряла все – театр, семью, родной город, потеряла внезапно и непонятно… Но сейчас я снова дома, у меня есть «завтра». Решетова собирает на стол. Этой заботой обо мне она как бы хочет сказать:– Добро пожаловать в родную Москву!
В «большом доме» Держись, Наталия! Ты снова в Москве. Глухие тропинки перепутья жизни позади. Кажется, выходишь на широкую дорогу, свою дорогу… Комитет по делам искусств! Сегодня меня принимает сам председатель, Михаил Борисович Храпченко. За моей спиной воркующий голос секретарши в чем-то светло-сером, с белыми кружевами: «Проходите, пожалуйста, Наталия Ильинична!» Берусь за медное кольцо и вхожу в кабинет. Михаил Борисович поднялся из кресла и, вежливо улыбаясь, идет мне навстречу. Я поспешно семеню ногами, но его шаги больше, солиднее, и рукопожатие – посередине этого похожего на зал кабинета. Садимся за стол.– Я хотела поблагодарить вас за доверие: меня направляют в Театр оперы и балета в Алма-Ату, но мне бы больше хотелось работать снова в театре для детей…
– Как вы, конечно, знате, в Казахстане нет тюзов…
– Тем важнее, мне кажется, создать такой театр…
– Ощущаю симметричную композицию вашего замысла: вы создавали первый Детский в Москве и теперь хотите, так сказать, завершающий аккорд далеко от Москвы…
– Очень хочу! Простите, я вас перебила.
– Должен огорчить вас. Там это будет сделать нелегко, почти невозможно. Восток. Несколько иной уклад семьи, пережитки во взглядах. Не забывайте и главное: война – плохой помощник в вашей затее. Вы прежде всего режиссер. Театр оперы – огромный плацдарм для вашей творческой работы, и вы сейчас там нужнее.
Он встает – я тоже, хотя и в несколько замедленном темпе. Он жмет мою руку и добавляет:– Ну а если сверх работы в Опере вы еще проявите инициативу и в художественном воспитании детей, – конечно, поддержим…
Высокая дверь за мной закрыта, я замешкалась около секретарши. Сама еще до конца не понимаю своего состояния. В общем, конечно, довольна. Снова профессиональный театр, самое дорогое для человека право – право на творчество.– Михаил Борисович – человек удивительной культуры, – уютно воркует секретарша. Она, конечно, права. Благодарю. Быстро семеню к лестнице.
Иду пешком, свернула влево. Столешников, улица Горького, а сейчас мимо дома, где жил Алексей Дикий, по переулку вниз. Из раскрытых дверей церкви неожиданно раздается бархатный баритон диакона: «Аллилуйя, аллилуйя, господу помолимся…» Иду к друзьям детства на улицу Огарева. Снова была в Комитете. Кажется, начинаю творческую жизнь по второму разу. «Аллилуйя, аллилуйя…» Это значит, снова и снова… Дорогой читатель, ты уже нашатался вместе со мной по дремучим тропинкам моей жизни. Не устал? А теперь раздели со мной радость того момента, когда в моих руках было командировочное удостоверение, в котором меня снова называли режиссером, снова командировали… Сулержицкие– Митя, здравствуй, дорогой! Седой, хромой человек с поразительно доброй улыбкой открыл мне входную дверь, заключил в объятия и повторяет;
– Ну как ты, Наташенька? Ты же молодец, молодец. А вот и Муся – та самая, что в белых рейтузах, с голубыми бантами изображала принца в моей самой первой постановке еще в Евпатории, когда нам обеим было по десять лет. У нее такие же умные и дерзкие голубые глаза, как тогда, много лет назад. Но теперь за ее спиной стоят двое детей: Лева – на голову выше ее, ладный парень с открытым лицом, и Марьяна. Почему-то вспоминаю «Потонувший колокол» Гауптмана, Раутенделейн, любимую сказку сестры Нины «Русалочку» Андерсена. Она – удивительная, эта Марьяна, с двумя длинными платиновыми косами и какими-то нездешними глазами. Тоже голубыми, как у Муси, и… совсем другими. Море, небо, сказка…
Меня тащат в столовую. Огромный портрет Станиславского, подаренный Леопольду Антоновичу Сулержицкому с длиннющей надписью; его давно уже нет в живых, но любовь к нему самых великих звучит в надписях на портретах со всех стен. Шаляпин, Толстой, Качалов… Мне кажется, все и всё мне тут улыбаются: пожелтевшая афиша Московского Художественного театра 1910 года с летящей чайкой, портрет Сулержицкого в костюме матроса и фотографии перевезенных им в Канаду духоборов, кастрюлька, которую мне дают вместо глубокой тарелки (вчера Лева разбил последнюю!). Кормят меня чем-то удивительно теплым – я попала снова в жизненный Гольфстрим. Пусть у дивана выскочила пружина и он покрыт чем-то потертым, вроде старой попоны, пусть с бесконечных полок, где хранятся бесценные реликвии, не всегда поспевают стирать пыль, а кресло, которое подтолкнуло когда-то Гордона Крэга на решение трона в «Гамлете», кривится, стоя на одной ноге, пусть, – как же мне хорошо тут, в родном доме, где порванные нити жизни снова тянутся к детству, Художественному театру, папе.– А… мама? Когда вы видели ее… в последний раз? Митя отвечает, понимая мою боль, вполголоса:
– Она пришла к нам совсем больная. Когда бомбили обсерваторию, выбежала из дома с твоими концертными платьями, дневниками. Ее задело осколком. Упала без сознания. Потом почти чудом добралась до нас. Судорожно к себе прижимала, потом отдала нам, что успела захватить во время бомбежки. Сказала: «Я знаю, Наташе это все еще пригодится». И уже не вставала. Здесь, на этом диване и умерла. Врачи, когда вскрывали ее череп, говорили: «Это чудо. Склероз источил ее мозг, он словно целиком съеден молью. И вы говорите, что она до последнего мгновения была в сознании? Писала, посылала посылки? Где жили ее мысли, воля? Непостижимо».
Меня положили спать на тот же диван, и во сне мама мне улыбалась:– Как хорошо, что я проучилась на медицинском в Монпелье только три года, доченька, и потом стала певицей. Пой, несмотря ни на что, пой, Наташа, в жизни столько интересного.
Утром я поднялась чуть свет, обегала всю Москву. Шагать по Москве, когда долго ее не видел и не ощущал под своей ногой, это ли не радость! Но вдруг ноги застыли, глаза заспорили с головой. Навстречу мне с рюкзаком за плечами шла беленькая девочка… Или мальчик? Она была такая стройная, худенькая, лет пятнадцати, без каких-либо женских признаков. Бесконечно милая и родная… моя доченька Ксаночка! Оказывается, добрые Сулержицкие вызвали ее телеграммой в Москву, ничего не сказав мне. Я бы это сделала завтра. Доченька! Я оставила ее восьмилетней, теперь она почти с меня ростом.– Здравствуй, мамочка, – прерывая себя от желания сказать очень многое, сразу защебетала она. – Когда началась война, детей первых эвакуировали. Жили в Энгельсе. Детский дом очень хороший. Я участвовала в спектаклях, играла роли гостей, училась хорошо. Здравствуй, мамочка, мы теперь всегда будем вместе, да, мамочка?
В горах Ала-Тау Мне дали «подъемные» и два билета в Алма-Ату в мягком вагоне. Чемодан набила платьями разных лет, сбереженными мамочкой, взяла с собой галеты, консервы, у нас с дочкой и конфеты нашлись. Настроение чудесное. И я и она забыли слово «одиночество». Дочь – подруга, притом всему заразительно рада. Кроме нас в купе оказался красивый шатен лет сорока – прокурор, как сказал он сам. Мы ему понравились, и на второй день пути он с нами заговорил приветливо, угостил рыбой, да, жаль, в Куйбышеве сошел. Зато к нам стал заходить товарищ Жумин – директор Казахской филармонии. Ему сказали в Москве, что я поеду в Алма-Ату, и он проявлял по отношению к нам гостеприимство еще до прибытия туда. Честно говоря, мне хотелось быть поближе к Москве и не тянуло снова вдаль, тем более что в Казахстане прежде я никогда не была, но Ксаночке все новое было так интересно, что наш семидневный путь до Алма-Аты я навсегда окрестила «медовой неделей». В Алма-Ату мы приехали не по расписанию, поздно ночью, и меня никто из Оперы не встретил. Как хорошо, что Жумин довел нас до здания Филармонии и заспанная сторожиха помогла нам разместиться на диване в его кабинете. На следующий день проснулись поздно и, взявшись за руки, пошли по городу. Много деревьев – каштаны, дубы, акации. Хорошие дома, большие улицы, но много и типично казахских строений. Встречаем людей – смуглых, черноволосых, с восточным разрезом глаз. Самое удивительное – горы со снежными вершинами. Они кругом, везде, куда ни погляди, словно город расположен в огромной воронке. Здание Театра оперы поразило меня своим великолепием. Его строители, видно, хорошо знали итальянское зодчество, но, влюбившись в орнаменты Востока, дали «зазвучать» этому зданию в удивительном сложном аккорде. Было часа четыре дня, время между репетицией и спектаклем, когда в театрах остается только охрана. Как было интересно увидеть зрительный зал с расписным потолком, огромное углубление для оркестра, большую сцену. Не знаю, сколько бы мы еще разглядывали люстры и роспись стен, если бы над ухом не раздался раздраженный голос молодого администратора:– Мы ее ищем по всему городу, а она разглядывает наш театр!
Ксаночке это показалось более смешным, чем мне, но исполняющий обязанности директора Владимир Васильевич Стебловский, к которому меня провел администратор, сгладил шероховатости:– Вчера встречали несколько раз, но в военное время железная дорога не дает точных справок. Сегодня Жумин сообщил, где вы, но не хотели рано будить… У нас две оперные труппы: русская и казахская, прекрасный оркестр, балет, есть очень хорошие певцы, а с режиссурой плохо, рады вашему приезду. Две литерные продуктовые карточки получите сейчас, а с жильем в Алма-Ате катастрофа: масса эвакуированных! Придется вам жить здесь. Пока вас с дочкой поселим в комнате администратора.
И вот мы перетаскиваем наш чемодан в комнату рядом с кассой. Вход к нам из вестибюля налево, и хотя по привычке туда стучат то контрамарочники, то еще кто-то, Ксана в восторге. После репетиционного шума, среди дня, часа в четыре, ложимся отдыхать, а когда собирается публика – уже за час до начала спектакля, – дочка тянет меня в зрительный зал, что напротив нашего жилья – только нижнее фойе перейти. Хороших певцов много, особенно эвакуированных с Украины и из больших городов России. Но трафарет мизансцен, архаичность декораций, так называемые «массовые сцены»… Дочка играла в детском доме «гостей» – всех сразу, так как другие девочки хотели играть главные роли, а безропотных на роли безмолвных не хватало. Но в опере хор – решающая сила… Где же он? Голоса у некоторых хористов звучат, а о действии и говорить нечего – смотреть на эти неподвижно застывшие лица даже как-то страшно. Есть среди них и живое лицо, выразительное. Как фамилия? Померанцев. Запомню. Нина Куклина хороша в «Травиате», Колтон – в «Риголетто», но самих спектаклей как таковых нет – ни единого художественного замысла, ни ансамбля. «Русалка» вызвала беспросветную тоску и уныние. Казахская опера «Кыз-Жибек» понравилась свежестью исполнения, мелодичностью использованных здесь народных напевов, новизной (для моего глаза) костюмов и образов. Некоторые казахские артисты держались по отношению ко мне надменно. Русские – теплее (многие из них слышали обо мне), даже пытались выражать соболезнование, чего я не переносила с детства и никогда не допускала. Стебловский побаивался «казахского соловья» – народную артистку СССР Куляш Байсеитову, и особенно ее мужа Канабека, братьев-близнецов Ришата и Муслима Абдуллиных… Я артистов бояться не умела. Что среди казахских артистов много одаренных – с радостью заметила, но сближение наше шло небыстро… Что мне дадут ставить и в какой труппе? Тревожное ожидание в чужом городе… А в казахской труппе недоумевали:– Зачем тут эта Наталия Сац? Мы сами себе режиссеры!
Я словно из своей норы глядела на тех, кто был осторожно приветлив со мной или искал контакта. А в «норе» нас было только двое – Ксана и я. Но именно дочь старалась вытянуть меня «в свет», и ей это удавалось. В Казахском театре драмы было много интереснейших индивидуальностей. Замечательной была постановка «Укрощение строптивой» Шекспира (режиссеры О.Пыжова и Б.Бибиков), в которой темпераментно играли Хадиша Букеева и Шакен Айманов. Как-то артисты-москвичи завели нас в помещение бывшего кинотеатра «Ала-Тау». Импозантный фасад этого здания посмотрел на нас как-то косо: уж очень давно его не ремонтировали! А внутри! Эвакуированные сотрудники киностудии «Ленфильм» разместились в полуразрушенном бывшем кино – «в тесноте и в обиде». Отгородившись друг от друга шкафом или протянутой веревкой, на которой висели простыни, юбки и брюки здесь жили многочисленные семьи киноработников. Пережидали тягостные месяцы войны, принося посильную пользу на съемках «Ивана Грозного». Но какие кинофильмы могли бы сравниться с этим фойе, вместившим столько жизней и столько судеб? Постепенно, медленно я приобщалась к эмоциональному восприятию Алма-Аты. Когда слышишь незнакомый язык – все слова кажутся похожими, потому что не понимаешь ни одного. Ярко выраженная национальность в лицах в первое время тоже как бы сливает их восприятие в одно. Начальник управления по делам искусств Казахской ССР принял меня любезно, отсутствие мимики на его лице не помешало мне понять, что имею дело с весьма культурным человеком. Но, казалось, я еще не вышла из поезда «Москва–Алма-Ата» и все еще смотрю в окно на проплывающие мимо картины жизни. Ксана, комочек мой родной. Светлячок с родной земли! Как хорошо, что здесь, так далеко от Москвы, мы вместе. Скоро ли буду опять в любимом городе?! Как хорошо, что живая горсточка его тепла здесь, рядом, что могу помочь ее задержавшемуся цветению. Ксана пережила больше, чем вмещало ее худенькое тельце, хотя никогда не жаловалась на детский дом в Энгельсе. Сейчас она была со своей мамой, на каждый вопрос получала ответ: «можно».– Все, что есть у нас, все, что хочешь, – можно.
Ее радовали люди, деревья, горы, восхищал Театр оперы и балета, «где мы с мамой живем», гордо сообщала она всем. Смех, который вдали от меня, вероятно, застревал в ее худеньком горле, теперь звучал часто, заливисто, и я тоже смеялась. Больше смеялась, чем радовалась, – нелегко найти свою правду в чужом театре. Единственно родным я все еще считала Центральный детский театр. Непрерывно тосковала по нему. Да, если бы не живой родник – дочка, совладать со своим «я» было бы трудно. На киносъемках «Ивана Грозного» Вспоминаю, как К.С.Станиславский спросил С.М.Михоэлса в санатории «Барвиха» в 1937 году:– Как вы думаете с чего начинается полет птицы? Михоэлс ответил, что птица сначала расправляет крылья.
Станиславский возразил:– Ничего подобного, птице для полета прежде всего необходимо свободное дыхание, птица набирает воздух в грудную клетку, становится гордой и начинает летать.
И какое право я имею терять дни, недели, не думая о главном, своем: театр, музыка – детям? Директор Филармонии Жумин еще по дороге в Алма-Ату в поезде на мой вопрос, бывают ли у них концерты для детей, посмотрел на меня удивленно и ответил:– Нет, никогда не было.
Уговорю его начать воскресные утренники в Филармонии! В Алма-Ате мне была предоставлена полная инициатива. Значит – вперед! Подобрать репертуар лучшим из артистов оперы, драмы, балета – мое дело. Концерт будет обращен к школьникам, но исполнительски должен быть очень сильным, чтобы папы, мамы и другие взрослые, которые придут, конечно, на этот концерт, через мастерство занятых в нем артистов по-настоящему ощутили, зауважали детскую радость. При мысли, что снова, как прежде, выйду на эстраду перед детьми, и буду вести этот концерт, погружаюсь в ту атмосферу, которая робко, но существовала в мыслях моих везде и всегда. Музыку, не только домбру, которую здесь любят слушать, а музыку классическую дети должны услышать в исполнении сверстника. Найти его надо, этого талантливого чудо-ребенка, в музыкальной школе. Оказывается, это нелегко. У одного из музыкантов нашего оперного театра есть сын… Направляюсь туда. Мальчику лет пять, он такого же роста, как его скрипка. Еще никогда, конечно, не выступал публично, но он такой серьезный в своем решении стать музыкантом, такой одаренный и собранный – конечно, приглашаю его, бесконечно рада. Однако первым на афише должен быть назван большой авторитет, кто и для взрослых нечасто выступает. В Алма-Ате сейчас Николай Константинович Черкасов. Этим здесь все гордятся. Все дети знают и любят кинофильм «Дети капитана Гранта». И вдруг перед ними на сцене, на их собственном концерте, появится живой Паганель. Хорошо! Вот только добиться участия Черкасова, наверное, будет трудно, может быть, и невозможно. Знаменит! Но человек, говорят, хороший, простой, веселый. Жаль, я с ним, кажется, не была знакома. Да и кто я сейчас, чтобы обращаться к Черкасову, который и депутат, и лауреат, и все вообще? Черкасов огромного роста. Ночью мне снится, как я, глядя на него снизу вверх, говорю с ним, а он и голову-то ко мне не нагибает… Значит, я трушу? Значит, прежняя смелость, умение убеждать других в правоте мною задуманного уступили место… чему? Ну и откажет, все равно должна уговаривать. Ведь ясно – первый детский концерт Казахстана правильно, здорово и интересно начать с Черкасова, значит – не сметь думать о трудностях, тем более о себе. Черкасова я видела в первый раз в Ленинградском ТЮЗе в юности, он работал там – еще одно «за». Он играл Дон Кихота, и как играл! Помню, я обняла Брянцева: «За вашего талантливого молодого актера». Потом в концерте я видела изумительный номер «Пат, Паташон и Чарли Чаплин». На фоне эстрадного трафарета и середнячества вдруг – фейерверк выдумки, юмора, мастерства. Зал захлебывался от восторга. Кто бы мог подумать, что этот длиннющий, с руками и ногами, словно сложенными из сухих веток, Пат, какое-то чудо гротеска, – тот же виденный в ТЮЗе Черкасов! Много позже – Полежаев в фильме «Депутат Балтики». Полежаев – одно из крупнейших созданий советского киноискусства. Сила и принципиальность гения науки в сочетании с почти детской застенчивостью, простотой, сердечностью – как живо, тепло и правдиво раскрыл нам образ Полежаева Черкасов! Сейчас он снимается в Алма-Ате в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный». Живет, верно, в «люксе» лучшей гостиницы. Оказалось, нет: в двухэтажном домике, прозванном остряками «лауреатником». Вспоминаю, как отправилась туда. Он был похож на курятник, этот дом. Низкие потолки, коридорная система, у каждого лауреата по комнате с одним окном. Вход со двора. Там на веревке сохли чьи-то рубашки. Война. Эвакуация. Здесь у каждого своя кровать – и это роскошь. Только дом пуст: съемки идут днем и ночью. Сейчас я вспоминаю этот «лауреатник» с улыбкой, но тогда созерцала эту обитель, как дворец, – снизу вверх. Вошла в незапертую дверь и застыла. По этому полу, этим половикам ходят Черкасов и Эйзенштейн! Как это сложно – душа человека. Впервые после ареста месяцы я как-то не верила ничему, происшедшему со мной, и, как Ричард II у Шекспира, в мыслях своих оставалась на «пьедестале завоеванного признания». Теперь, в Алма-Ате, мне снова дали право жить, «как все», но пережитое подавило меня так, что я словно ползу, а не иду по коридору двухэтажного домишки. Говорю со сторожихой так опасливо, словно пришла утащить с веревки рубашку. Впрочем, вижу себя со стороны и, значит, беру руль в руки: надо написать записку Черкасову, а если он не ответит, не переживать и уж, конечно, не обижаться. «Уважаемый Николай Константинович! Простите за беспокойство. Знаю, Вы крайне заняты, но тут у детей еще нет тюза… Задумала первый в Казахстане детский концерт. Филармония согласна. Если бы Вы приняли участие – очень помогли бы всему этому делу. Мой телефон… Пусть мне позвонит кто-либо от Вас и скажет, надеяться или нет на Ваше участие. Может быть, Вы меня помните – я раньше тоже работала в театре для детей. С уважением Наталия Сац». Я отдала сторожихе листок без конверта и, кажется, без знаков препинания (о них в волнении часто забываю) и медленно пошла на улицу. Но спала хорошо. Несколько дней назад нас с дочкой перевезли из администраторской Театра оперы в гостиницу «Дом делегатов», дали большую комнату с диваном, креслами, хорошими кроватями, роялем и даже… пальмой. Утро началось необычно. Руся (я по-разному звала дочку) одной рукой теребит меня, пытаясь разбудить, а другой – держит телефонную трубку. Ее серые глаза стали совсем круглыми:– Может, мне показалось… Тебя зовет к телефону Черкасов…
О посещении «лауреатника» я ей ничего не говорила. Сейчас Руся похожа на человека, только что обнаружившего выигрыш в двести тысяч.– Я слушаю.
– Простите, пожалуйста, Наталия Ильинична, сейчас очень рано, но я… только что кончил съемку, вернулся домой, получил вашу записку и… не мог… ни минуты… – что-то прервалось, хлюпнуло в трубке, у меня свело подбородок и челюсть.
– Мамочка, ну что такое он говорит, мне же интересно, – вернула меня к реальности дочка, подставив рядом с моим ухом к телефонной трубке свое.
– Простите, Наталия Ильинична, я так нескладно… Вообще-то в концертах… я не люблю, но если нужно – конечно, только договоримся: может быть, вы зайдете сегодня на съемку в киностудию часов в десять вечера?
– Спасибо… Да… Большое вам спасибо. – Появились слова, но и слезы, а Руся гладила меня и повторяла:
– Ой, мамочка, какая ты у меня… Сам Черкасов! Вечером мы отправились на киностудию вместе с Роксаной. Там шли съемки «Ивана Грозного» и был «выстроен»
Успенский собор. Пропуск мне был оставлен. Проникли туда откуда-то сбоку и замерли. Огромные юпитеры ярче, чем полуденное солнце, светили там, где у сверкающего драгоценными камнями алтаря возносил молитвы артист Мгебров – патриарх. Съемки то и дело прерывал голос «с небес», мощный и нетерпеливый, он звучал через рупор. Подняла голову: на железном стульчике, приделанном к железной лестнице, нет, целому сооружению, двигался Сергей Эйзенштейн и, как бог-отец, с недосягаемой высоты давал свои руководящие указания. Коллективное солнце киноюпитеров то зажигалось, то гасло, пока не объявили перерыв. Росинку удержать около себя было невозможно. Ей хотелось все осмотреть, «самой потрогать». Было уже десять с минутами – то время, что Николай Константинович мне назначил. Но где он и как сейчас выглядит? Верно, пожилой, лет сорока пяти, солидный, ходит как плывет: депутат, делегат, лауреат – само собой! В потухшем Успенском соборе Мгебров снял облачение и положил на алтарь бутерброд с колбасой. Из-за колонны выглянул какой-то юноша в шапке Мономаха, посмотрел в мою сторону, махнул рукой и снова скрылся за колонной. Двое рабочих проносили мимо меня тяжелую гробницу с лепными украшениями.– Простите, что, Черкасов здесь? – спросила я. Один из рабочих показал в сторону колонны, но оттуда снова выглядывал только парень в парчовой шубе и шапке. Рядом с ним жевал колбасу еще более «разоблачившийся» Мгебров.
Никому до меня не было никакого дела: кто отдыхал, кто готовился к дальнейшей съемке, только юноша делал несколько шагов по направлению ко мне, вроде бы смущался, махал рукой и снова исчезал за колонной. Съемка должна была уже начаться снова, когда мимо меня прошел оператор Эдуард Тиссэ, за которым помощники несли большие лампы.– Простите, пожалуйста, вы не видели Николая Константиновича Черкасова?
– Дорогая, – сказал он иронически и с акцентом, – он же против вас. – И показал мне на колонну, из-за которой снова выглядывал юноша.
Ясно. Тут все надо мной насмехаются. Черкасов играет Ивана Грозного – мрачного, худого, старого. Зазвонил звонок. Мгебров снова стал надевать облачение. Но когда Тиссэ подошел к колонне, царственный юноша, видимо, задал ему вопрос, не видел ли он Наталию Сац. Я этого не слышала, пространства там были большие, но как-то поняла по мимике Тиссэ, который взял юношу за руку и, улыбаясь, повел ко мне. Я, еще мало понимая, двинулась вперед, а Тиссэ закричал.– Так вы – Наташа Сац? Что же вы молчите? Дайте я вас поцелую. А теперь… не ищите друг друга. Вот он – Черкасов.
Ко мне шел с нетвердо протянутой рукой юноша, что выглядывал из-за колонны, ему было лет девятнадцать… Моя рука не была протянута: «Как он может быть Черкасовым?» Я в молодости видела его только в острохарактерных гримах, а сейчас ему и в жизни… много лет. Юноша в шапке Мономаха был смущен еще больше, чем я:– Вы простите, что я к вам не подошел раньше, но думал – переживания, годы… вы совсем другая. В первый раз видел вас лет двадцать назад. Вы были такая знаменитая, столичная, в леопардовой шубе, а сейчас… как девушка – худенькая, молодая… никак не думал…
– А я тоже никак не думала, что вы можете быть таким. Вам больше девятнадцати и не дашь.
– Так и должно быть. Иван IV короновался девятнадцати лет. Эйзенштейн проводит три серии своего фильма по всей жизни Ивана Грозного. Сейчас будем снимать коронацию.
Смущение прошло, на сердце стало даже светлее от все же приятного недоразумения неузнавания друг друга. Когда подошла Русенька, мы разговаривали с Николаем Константиновичем дружески просто. Он очень не любил выступать в концертах, говорил, что для этого надо иметь специальный концертный репертуар, но я убедила его спеть детям песенку «Отважный капитан», которую они полюбили. Ребятам будет так интересно услышать и увидеть киноартиста живым на сцене. Было радостно. Мы оба с Черкасовым 1903 года рождения – он всего на несколько месяцев меня старше, и оба не узнали друг друга из-за «слишком молодого» вида. Он-то под гримом, а я – какая есть. И значит – я еще есть! Дружеская деликатность, искренность и тепло Черкасова открыли мне в тот период жизни что-то очень важное во мне самой. Проснувшись на следующее утро, я в первый раз не огорчилась, что так много гор кругом, сказала себе:– Ну и пусть будут горы. Очень красивые горы!
«Капитан, капитан, улыбнитесь» Ах, милый читатель, есть ли на свете что-нибудь более замечательное, чем дети, сидящие в зрительном зале, детские лица, ожидающие выступление артиста? Для меня – нет. Семь лет я была лишена этого счастья и вот выхожу на сцену, здороваюсь с ребятами, они отвечают мне дружно, как будто и не прерывался наш любимый разговор о театре и музыке, как будто это – мое привычное в Москве, а не первое в Алма-Ате… И здесь ребята меня мгновенно ощутили «своей»: затихают, когда говорю я, отвечают, когда я их спрашиваю, смеются – все смеются, когда шучу. В зале полно детей, есть и взрослые: секретари республиканского ЦК комсомола, руководители народного образования и искусства. За кулисами уже собрались все объявленные в афише артисты. Скверно только, что Николая Константиновича вызывают на важное выступление по радио, и он просит его выпустить первым. Конечно, лучше бы Черкасовым завершалась наша программа, но раз надо – выпущу его первым. Пришел он на концерт за час до начала и волнуется даже больше меня. А может быть, за меня? Сейчас, когда я говорю с детьми, уже начала концерт, он стоит в кулисе и, верно, больше всех понимает, что я сейчас чувствую. Надо кончать вступление и объявлять Черкасова, а то опоздает на радио.– Дорогие ребята! Сегодня на первом детском концерте в Казахстане выступит ваш большой друг Николай Константинович Черкасов. Когда он был совсем юным, он играл в Ленинградском театре юного зрителя, очень любит ребят.
Все хлопают. Николай Константинович выходит к рампе и поднимает руку, наверное, сам хочет объявить, что будет исполнять, хотя мы условились, что объявлю я. Передумал?– Дорогие ребята, – говорит Николай Константинович, и голос его дрожит, – дорогие ребята, я сегодня вместе с вами переживаю огромную радость. Наталия Сац снова вышла на сцену. (Неужели… разревусь?) Вот я приехал в ваш город и удивился – у вас нет детского театра. Я пошел к руководству и сказал: это неправильно, детям обязательно нужен свой театр. А сейчас, дети, к вам приехала Наталия Сац, и я верю, у вас будет театр, дети. (Ну что он делает, этого же нельзя говорить на концерте, который я сама организовала!)
Включаюсь в его речь твердо, может быть, даже сурово:– Конечно, мы все вместе постараемся организовать театр для детей в Алма-Ате. А сейчас начнем первый детский концерт: Николай Константинович забыл, что через полчаса он уже должен выступать по радио и у него нет больше времени. А сейчас… – почти кричу, как присяжный конферансье перед «козырным» номером, – песенки из кинофильма «Дети капитана Гранта», слова Лебедева-Кумача, музыка Дунаевского, исполняет сам Паганель – Николай Константинович Черкасов. (Ой, какой он нервный! Аж белый весь стал! Вот она – подлинная душа артиста – все за всех переживает.)
Пианист лихо играет вступительные такты, Николай Константинович начинает: Жил отважный капитан, Он объездил много стран И не раз он бороздил океан… Черкасов вдруг останавливается, берется правой рукой за голову, смотрит в кулису по-детски растерянно:– Я… забыл. Простите… забыл. Можно сначала? Снова вступительные такты и снова после «бороздил океан» остановка, растерянность, пауза.
«Неужели завалится мой концерт? – мелькает внутри. И как рукой сняло эмоции воспоминаний, всякие вообще. – Я на своем посту, должна вывозить». Выскакиваю вперед, говорю весело:– Вы прекрасно понимаете, ребята, что Николай Константинович ничего не забыл, а просто хочет проверить, знаете ли вы эту веселую песню наизусть и хорошие ли вы товарищи, поможете ли, если нужно, другу в беде. Так вот, если Николай Константинович опять запнется, – подпоем ему все вместе, хорошо? Я остаюсь тут за дирижера (Черкасов смотрит на меня как на волшебницу, и начинается вокальный диалог со зрительным залом). Черкасов.
Жил отважный капитан Он объездил много стран И не раз он бороздил океан (снова заскок). Дети (громко, ликующе). Раз пятнадцать он тонул… Черкасов (с восторгом). Погибал среди акул, Но… (это очаровательное черкасовское «но»– маслом по сердцу, а жест длинных пальцев так ироничен и выразителен). Ни разу даже глазом не моргнул… Дети. И в беде… Черкасов (показывая рукой – «правильно»). И в бою Напевал он всюду песенку свою… Черкасов и все зрители (лихо, хором, а я дирижирую). Ка-пи-тан, ка-пи-тан, Улыбнитесь, Ведь улыбка – это флаг корабля, Ка-пи-тан, ка-пи-тан, Подтянитесь! Только смелым покоряются моря. Весело начался наш концерт… Дети дружно зааплодировали, я ушла в кулису, Черкасов несколько раз выходил кланяться, посматривал на меня благодарными глазами, про- шептал: «Поразительно», – положил левую руку мне на плечо, но, вдруг заметив, как далеко ушла стрелка его ручных часов, огромными шагами бросился к двери. «Царь» Моим родным городом была и на всю жизнь осталась Москва. Мне кажется, абсолютно родной, свой город у каждого человека в жизни бывает только один. Любовь к переездам, интерес к новым местам тоже всегда со мной. Но поехать, зная, что вернешься в родной город, что он останется твоим, иметь эту свою любимую пристань, знать, что и она ждет тебя, когда уехала только на время, – этого, конечно, у меня в то время не было. Сердечность и уважительная простота Черкасова в тот момент были мне нужны, как кислородная подушка больному, которому не хватает воздуха. Он лучше всех понимал или, вернее, чувствовал, как много я потеряла, как трудно мне начинать жизнь снова после пережитого. Он искренне оценил мое стремление во что бы то ни стало и здесь приблизить искусство к детям, отдаться работе с казахскими певцами. Он нашел подлинно товарищескую интонацию равного. С любым собеседником Черкасов разговаривал уважительно, с интересом. От Черкасова тянулись к людям теплые лучики. Его все любили, называли «царь». И это был царь из какой-то очень доброй сказки, вроде Берендея в «Снегурочке», царь, добровольно выбранный людьми искусства, как самый сердечный и справедливый из их гущи. Видела я его редко и больше издалека: его всегда выбирали в президиум, он был на вершине признания и славы. Но даже пожав его большую руку, когда он семимильными шагами куда-то устремлялся, чувствовала себя сильнее, чему-то радовалась. Прошло дня три-четыре. Приступ печени. Когда боли утихли, чувствовала исчерпанность всех сил, слабость. Встать с постели не могла, и настроение плаксивое. Но Руся посмотрела на меня хитро: через час все будет хорошо. Меня пришел навестить Николай Константинович в военной форме. Он держался соответственно – эдаким бравым гвардейцем. Засмеялась. Черкасов тоже. Заговорил первый:– В войну был в ополчении, решил навестить вас форме ополченца. Росинка сказала мне по телефону, что вы хандрите.
– Нет, мама уже опять смеется и, верно, думает по Грибоедову:
«К военным людям так и льнут…»– «А потому что – патриотки».
Черкасов был бесхитростным по натуре, нам с Русей поверил и стал глубинно прост, доверителен. Николай Константинович был однолюб, слова «моя Нина» звучали для него песней. Он рассказал про их больную девочку, которая долго мучилась, а когда умерла, стало еще горше; он с восторгом говорил о своей теще, которой «поклонялись и академики», о ее превосходном знании английского языка. Рождение сына Андрея, его здоровье и хорошее настроение приводило его в восторг, и фразы из писем Нины Николаевны о сыне он мог повторять без конца. С детской непосредственностью он говорил:– Надо просмотреть, что проходил в средней школе, вспомнить математику, а то если потом Андрей спросит меня и я не смогу ответить – будет скандал.
Андрею тогда было года три-четыре… Мысль, что горе венчает людей еще больше, чем радость, была мне очень близка. Прошло больше семи лет, как я не видела своего мужа, а в сердце жил только он, и чем дальше, тем он становился ближе. Черкасова утомляло положение «души общества», пристальное внимание, всеобщее поклонение. Он говорил искренне:– А банкетов всяких я сейчас просто даже и побаиваюсь. «Иван Грозный» – три серии, от юноши до старца – это надо понять! Мне только об этом сейчас и думать, а «заведут»… и разъедусь по сторонам. Никак нельзя.
У нас его никто не «заводил». Поэтому нет-нет да и появлялся этот большой человек на пороге нашей комнаты. Руся поступила в школу, стала там начальником штаба (наша общая гордость). Училась отлично, дома вечно сидела с книгами и тетрадями. Но как только появлялся Николай Константинович, учебники откладывались в сторону, и она говорила мне голосом Буратино из моей постановки в Центральном детском:– Школа же от меня никуда не уйдет. – А потом добавляла с проникновенным серьезом: – А на Черкасова так близко смотреть, понимаешь, не в кино, не в театре, а у нас, совсем рядом – этого в жизни больше никогда не будет…
Вероятно, ее восхищенные глаза все же «заводили» Николая Константиновича. Как он ни уставал на съемках, вдруг начиналась импровизация. Однажды мы с Русей обнаружили в нашем номере чей-то чемодан с допотопными шляпами и палками. Хотели отдать дежурной, но Николай Константинович попросил этого сегодня не делать. Он вытащил сложенный шапокляк, превратил его в цилиндр; взял тросточку с металлическим набалдашником, и глаза его сузились: манеры стали высокомерно-элегантными. Он сказал сквозь зубы что-то по-английски, уже не замечая нас, прошелся по комнате, сел за стол, заложив нога на ногу, авторитетно отказал каким-то просителям, которые, хотя и не были нам видны, но, судя по его мимике, явно толпились вокруг стола. Английский лорд взглянул на часы, еще что-то изрек, как сплюнул, и, подняв голову, увенчанную цилиндром, удалился за наш платяной шкаф. Оттуда он появился веселым парнем в фетровой шляпе набекрень, с палкой, которую игриво вращал левой рукой, подмигнул Роксане и, «ощутив» нашу комнату как большой бульвар Парижа, стал фланировать в поисках приключений, напевая игривую французскую песенку. Снова исчез за шкафом и превратился в старика – итальянского певца, собирающего в дырявую шляпу подаяние за свое хриплое пение. Кем только не был Черкасов в этот вечер: и немецким псевдоученым, и Максом Линдером, и Глупышкиным. Только шляпа, иногда и палка помогали ему создавать этот каскад кинематографических образов с неповторимо индивидуальной походкой, рисовать образы самых разных людей. Минут двадцать длился этот импровизированный фейерверк – кто же из нас мог в этот момент что-нибудь делать другое, как только поражаться его таланту, многообразию мгновенных превращений. Кстати, Черкасов не знал ни одного языка, кроме русского, но неповторимое «чувство образа» и прекрасный слух делали его англо-французско-итальяно-немецкие эскизы такими верными по общему звучанию, что я, неплохо знающая языки, ловила себя на том, что он просто говорит лучше меня и я не все понимаю. Вообще «тихо отдыхать в тихой семье» Николай Константинович не очень-то умел. В нем бурлило творчество. Поставишь перед ним чай – начинается этюд: «а если бы это был не чай». И дальше – десятки вариантов на «вкушение разных напитков», на разные характеры, разное количество выпитых рюмок. Снова целый спектакль! Особенно радовало Николая Константиновича, что в нашем номере стоял хороший рояль. В пении и музыке он был свой. Не зря начинал в хоре рядом с Шаляпиным. Шаляпин был его кумиром. Он пел нам «под Шаляпина» Мефистофеля, Варлаама, Бартоло, романс «Во сне я горько плакал». Я не слышала, как пел этот романс сам Шаляпин, а Черкасова слышу внутренним слухом и сейчас. Звучание каждой согласной было подчинено целому, помогало обострению эмоционального, благороднейшей выразительности. Оказывается, Николай Константинович играл на рояле, и хорошо играл. Медленные вальсы Шопена по раскрытию музыкальной мысли звучали под его пальцами даже интереснее, чем у ряда пианистов; там, где нужна была техника, Черкасов пытался создать лишь «общее впечатление», как сам он, смеясь, говорил. Но не всегда, далеко не всегда Черкасов мог смеяться. Он был очень разный. Однажды он пришел к нам весь в пыли и извести, с серо-желтым лицом, поджатыми губами, странно заостренным подбородком, глазами, не вбирающими окружающее. Пришел ни свет ни заря – Руся только начинала собираться в школу.– Вы простите, я прямо с ночной съемки. Эйзенштейн изведет себя и всех нас. Я так больше не могу.
Когда он начинал нервничать, мы с Русей сразу брали особый, спокойный материнский тон:– Просто вы устали, а у нас как раз очень вкусный завтрак. Ванна в конце нашего коридора. Рекомендую, умойтесь холодной водой – и за стол.
– Какой мне сейчас, простите, завтрак? Я готов в это окно выброситься.
– Не лучше ли прежде рассказать, в чем дело?
– Он (Эйзенштейн) видит только то, что он где-то дома у себя начертил, мы для него – ожившие его рисунки.
Геометрия! Схемы его мизансцен нужны ему! А я – человек, понимаете, человек, и хочу воплотить Ивана IV сложнейшей души человеком. Он требует, чтобы я стоял на коленях под прямым углом у противоположной стены и думал о тяжести моих злодеяний, вот так. (Николай Константинович подбежал к входной двери, встал на колени, прополз метров шесть к противоположной стене у окна и принял противоестественную позу.) Когда я стою так, как изогнутое дерево, как саксаул, я ни о каких злодеяниях думать не могу, думаю одно: как бы не упасть на пол, не потерять равновесие. (Он опять пополз к стене у двери, прильнул теперь к ней виском и закричал так, что соседи постучали нам в стену.) Стучите! Сколько хотите стучите, а я в этой позе теряю все задачи и плевал я на кадр, который он где-то у себя в кабинете увидел. Чем я могу оправдать эту позу? Вы – режиссер. Не заступайтесь за него или скажите, чем? Не знаю, откуда у меня взялось тогда ледяное спокойствие. Верно, уж очень было жаль, что после ночи съемок он не может остановить своего возбуждения, надрывается, ползает на коленях, никак не войдет в свои «берега».– Чем можете оправдать? – переспросила я. – Епитимьей. Может, Иван на себя такую епитимью наложил, – сказала я строго.
Вдруг Николай Константинович встал с пола и спросил с доверчивостью ребенка:– Епитимьей? Возможно. Иван в это время на почве религии уже не в себе был.
Через десять минут вымытый Черкасов мирно завтракал вместе с нами и только раз еще пожаловался уже не мне, а Роксане:– Понимаешь, он говорит мне: «Здесь играет ваш узкий глаз, большой нос, торчащая борода – острый профиль. Уберите спину». А я ему отвечаю: «Я не могу убрать спину, она ко мне приделана».
Эту обиду он проглотил вместе с горячим молоком, потом взглянул на часы и снова заторопился… к Эйзенштейну. Как-то вечером Николай Константинович пришел к нам в прекрасном расположении духа:– Эйзенштейн – это какое-то чудо. В нем уживаются все противоположности. Мудрец, эрудит, гениальный режиссер, художник и… как деревенская баба суеверен. Он говорит: «Моряки, летчики и артисты должны быть суеверны. Ведь как ни старайся репетировать, результат нашей работы – всегда неизвестность». И вот мудрец Эйзенштейн, как баба, старая баба, верит во все, понимаете, во все приметы. Поразительно! Сегодня была съемка «Крестного хода» на натуре. Выехали мы в одной легковой машине. Эйзенштейн набрал тарелок, положил тарелки рядом с собой на сиденье и вдруг начал… как-то странно ерзать. Наконец, одна из тарелок этого «не выдержала», упала, разбилась. Вы бы видели его радость! Он поднял черепки, сложил их себе в карман, закричал: «Поздравляю вас всех, наш фильм будет иметь большой успех. Тарелка разбилась».
Эдуард Тиссэ с латышским акцентом подыграл ему. «По-еврейски это называется мазлтов. Удача». Но помощник Тиссэ, наивный парень, сказал: «Так ведь серий три, а разбилась только одна тарелка». И вдруг Эйзенштейн сник, насупился, и съемка прошла хуже, чем обычно. Да, Эйзенштейн – чудо: Спиноза и новорожденный в одной личине. Черкасов не просто любил – обожал Эйзенштейна, несмотря на многие неизбежные в искусстве споры и взаимонедопонимания. Как-то в Алма-Ате было плохо с электричеством, и Черкасов явился спасать нас от темноты и «связанного с ней упадочного настроения» (рассказал ему кто-то, что накануне у меня была неприятность в театре). Вместе с ним были Сергей Михайлович Эйзенштейн, Эдуард Казимирович Тиссэ и Михаил Михаилович Названов. Все держали в каждой руке по толстенной церковной свече – престольной, с золотыми прожилками. Конечно, свечи эти прихватили с собой после какой-то «церковной» съемки. Черкасов, Эйзенштейн, Тиссэ и Названов уселись на наш коврик, зажгли свечи и очень смешно «колдовали», чтобы не принес мне здесь вреда «злой черный глаз». В те годы была очень популярна песня Кабалевского «Четверка дружная ребят». Часто в несъемочный вечер к нам с Русей стала приходить эта «великая четверка», Черкасов и Названов чудесно пели на два голоса, я им аккомпанировала, они подначивали друг друга на импровизации, комические рассказы, парные танцы. Я – у рояля, Руся – помрежем. Весь наш «гардероб» оказывался перевернутым вверх ногами после этих импровизированных представлений. Эйзенштейн и Тиссэ изредка вставляли свои замечания, такие меткие, что хохот еще более усиливался. Присутствие Эйзенштейна, его всепроникающий взгляд, умение мгновенно отбрасывать лишнее и вбирать подлинно талантливое действовало на всех нас гипнотически. Сажали мы его в особое кресло «в красный угол», и хотя он не много говорил – его присутствие было всем нам очень дорого. Однажды он совершенно неожиданно спросил меня иронически:– Правду говорят, что вы будете в Казахской опере «Чего-Чего-Сан» ставить?
Николай Константинович, как самый добрый, заволновался:– А что особенного? Может хороший спектакль получится, Наталия Ильинична – режиссер. Это для нее главное. Вы ее, Сергей Михайлович, пожалуйста, не разочаровывайте.
Эйзенштейн помолчал немного, потом добавил:– Представляю, сколько вы на это сил потратите. Впрочем, я казахского театра совсем не знаю. Ни разу на их опере не был.
Тиссэ сделал модуляцию в мило комедийное, добавив:– Этого нельзя сказать о балете, например, «Жизель». Сергей Михайлович ответил строго:
– Да, Уланова бывает раз в человеческой жизни, да и не во всякой жизни. Если земля рождает такое чудо даже раз в тысячу лет – спасибо ей за это.
На пороге большого события «Радость жизни дает убеждение, что ты – нужное ее звено». Не помню, кто это сказал, но очень верно сказал. Детские концерты в Филармонии шли теперь каждое воскресенье. Программы придумывали новые и новые, приблизила маленьких алмаатинцев и к симфонической музыке. Мои верные друзья, «Петя и волк» С.С.Прокофьева, познакомили ребят с инструментами симфонического оркестра, они зазвучали для детей на сцене Алма-Атинского театра оперы и балета. Концерт имел успех, я как лектор и исполнительница текста сказки – тоже. Много работала над словом и для вечерних концертов. Главы романа «Анна Каренина» Л. Толстого, рассказ дона Хосе («Кармен» Проспера Мериме) продумала, прочувствовала, нашла лаконичную, с элементами театрализации форму для их интерпретации на концертной эстраде. Заставила себя работать над немецким и итальянским, чтобы сделать новый русский перевод «Фальстафа» Дж. Верди. Редактором попросила быть дирижера Богуслава Врана (как и я, он был в штате театра Алма-Атинской оперы), он следил, чтобы звучание и ритмы русского перевода были наиболее близки музыке. Газета «Казахстанская правда» часто печатала мои статьи о театральных постановках. Без дела я не сидела. Но птице нужно летать, рыбе – плавать, а режиссер не может жить без новых своих постановок. Уже несколько месяцев я получаю заработную плату в Опере и недоумеваю. Ставить-то не дают! И вдруг повестка, официальный вызов к директору театра В. Стебловскому на завтра, в десять утра. Волнение в таких случаях неминуемо. Ночью – не до сна, нетерпеливо ждешь этого «завтра». Наконец, вхожу в директорский кабинет. Стебловский указывает на стул, запирает дверь. Обычно он улыбался при разговоре со мной, сейчас стал непривычно серьезен:– Дирекция решила поручить вам поставить в казахской труппе «Чио-Чио-Сан» Пуччини. На эту постановку будут отпущены все необходимые средства. Она здесь никогда не шла: о подборе из старых декораций и костюмов нет речи. Все заново. Первая европейская опера в исполнении казахской труппы на казахском языке. Все – по вашему усмотрению. Только одна просьба – займите Куляш Байсеитову в главной роли.
– А… дирижер, художник?
– Если вы не против, дирижер Владимир Иосифович Пирадов.
– Ну что вы! Замечательный музыкант!
– Он так же говорит о вас как о режиссере. Художники наши: Анатолий Ненашев очень талантлив, но труден в работе; главный наш художник – Петр Злочевский. Если поймете друг друга – хорошо. Мы вам ничего не навязываем. Во всем будем помогать.
– Тогда позвольте на главную роль назначить не Куляш Байсеитову, а Ольгу Хан. Она, кажется, кореянка и так молода, обаятельна, высокий голос…
У Стебловского прорывается нервозность:– Решите по ходу репетиций, но не наживайте себе сразу открытых врагов.
Вышла из кабинета по-хорошему взволнованная. В ушах звучало: «Вам будет нелегко». А когда мне было легко? Никогда и ничего легко не давалось! Как режиссера в казахской труппе меня совсем не знают. Даже наиболее кроткие занимают наблюдательски-выжидательную позицию. Это, конечно, давит. Да за последние годы и отвыкла я от решения больших творческих задач, которые всегда связаны с борьбой. Внешне держусь весело и независимо. Подкрутить в себе какие-то внутренние винтики (подзаржавели!) иногда помогает внешнее. «Поздравляю тебя, Наташа! С сегодняшнего дня ты снова режиссер. Солидный человек. А на чем спишь? На покрывалах из «Риголетто» и «Паяцев», списанных за ветхостью из оперного реквизита?» Уже кое-что сделать тут успела. А пойти в казахский наркомторг все некогда? Выхожу из парадной двери розового в лучах солнца здания Оперы. Навстречу мне с тетрадями и книжками, прямо из школы, бежит Руся:– Ну как, ну что, мамочка?
– Все хорошо, – отвечаю я торжественно, – расскажу по дороге, а сейчас пойдем просить ордера на простыни и наволочки.
Война. Сейчас все на учете. Наш с Русей поход в наркомторг Казахстана неожиданно вернул меня к мыслям о моем незабвенном муже, бывшем наркоме торговли СССР. Первый же человек, к которому мы обратились, был полон благородства. Он выписал нам распоряжение на получение ордеров на все, что нам было нужно, а за последней подписью направил в кабинет наркома, товарища Омарова. Я поговорила с Ильясом Омаровичем Омаровым пятнадцать минут и после этого… полюбила сразу всех казахов. Какая культура, такт, уважение к собеседнику, вера, что мой приезд в Казахстан принесет здесь большую творческую пользу! Он знал о моих постановках в Москве и за границей, он верил в мою будущую «Чио-Чио-Сан». А мы-то с Русей побаивались идти в казахский наркомторг! Теперь и у меня и у дочки будет по простому, но модному и совершенно новому платью! «Отоварились» хорошо. Мужа часто огорчало, что я «вся наружу», даже когда надо быть «дипломатом». Он нередко укоризненно качал головой:– Натенька, почему у тебя на лице видно все, что ты думаешь?
Наверное, он прав, на моем лице все видно. А вот на застольных встречах с артистами по «Чио-Чио-Сан», которые уже начались, меня угнетало обратное: по непроницаемым лицам моих артистов я совершенно не могла прочитать, доходят до них мои объяснения или нет. Молчали они, и, как мне казалось, молчало все в них. Когда я ставила в Москве «Японские сказки», занималась японоведением с профессором О.В.Плетнером, увлекалась картинками японских художников. В Алма-Ате хотела бы продолжить свои занятия с японоведом, профессором Н.В.Кюнером… Нельзя же ставить «Чио-Чио-Сан», не «почувствовав» Японию, ее природу, искусство, не ощутив особенности отношений, обычаи… Нередко оперные артисты считают достаточным получить от режиссера простую разводку на сцене – указание, где встать, откуда войти, когда выйти… Участники моей «Чио-Чио-Саи» были молчаливы не только когда я погружала их в атмосферу будущего спектакля, говорила о своих творческих прицелах. Часто после спектаклей в фойе, когда уже тускло горел свет, братья-близнецы Ришат и Муслим Абдуллины сидели на деревянном диване рядом, недвижно глядели в разные стороны и молчали, молчали, молчали. Очень похожие друг на друга, они казались еще никем не прочитанной сказкой Гофмана. На репетициях Муслим, тенор, был более подвижен и коварен. Он всячески старался меня чем-нибудь задеть, вывести из себя. Но у меня уже шел творческий процесс как все это пригодится для роли Горо! Мне дали такой же, как солистам оперы, паек. При получении продуктов часто встречались с будущими воплотителями образов «Чио-Чио-Сан». Ришат и Муслим, получив паек, шли гордые, с руками за спину, с высоко поднятыми головами. За ними их жены несли мешки, бутылки, банки, согнувшись под непосильной тяжестью. Восток! Женщина – существо «вспомогательное», пусть скажет спасибо мужчине-владыке за то, что он так тяжко и сладко «отоварил» ее! Все это причудливо перекликалось с японоведением и даже… радовало меня под этим углом зрения! Подделка под «японское» в виденных мной прежде постановках всегда казалась мне слащавой и фальшивой. Для моих артистов Восток и восточное было органично, их лица, фигуры, движения, манеры… Мысли теснятся в моей голове ночью, одолевают днем. И все – только о нашей будущей постановке! Знаю: прежде, пока не дали постановку, как сама с собой ни хитрила, – жила в полнакала. Теперь ровно в девять утра, обхватив двумя руками клавир, пробегаю мимо доски объявлений, где уже вывешен приказ дирекции: «Приступить к репетициям оперы Пуччини «Чио-Чио-Сан». Постановку поручить режиссеру Сац Наталии Ильиничне».– В искусстве ничего наперед неизвестно. Вдруг туман или шторм, кто знает? Артисты, моряки и летчики не могут не быть суеверными, – говорит Сергей Михайлович Эйзенштейн.
Ну а мне тем более простительно: у меня, говорят, одна бабка цыганкой была. В поисках единомышленников За сценой в маленьком музыкальном классе мы вдвоем с концертмейстером Евгенией Сергеевной Павловой. Когда собираюсь начать постановку, всегда слушаю знакомое с огромным любопытством, как в первый раз. До боли люблю увертюру Пуччини! Она с первых же нот начинает звучать горем, трагедией нашей пятнадцатилетней девочки-бабочки Чо-Чо. Еще не рассказав нам все по порядку, Пуччини страстно, взволнованно говорит своей музыкой о печальном исходе этой первой, трепетно верной любви! Репетиции с Е.С.Павловой утром в театре, а дома – я одна за роялем в своей комнате. Играю эту свою оперу еще и еще раз, вслушиваясь в ее звуки, которые рождают видение будущего спектакля. Слышимое становится видимым далеко не сразу. Кроме Евгении Сергеевны, которая помогает мне вживаться в музыку, заходит и Пирадов. Почтительно спрашиваю его, а как он хотел бы трактовать те или иные эпизоды оперы, их звучания, темпы? Его умиляет мое отношение к нашей работе, мой энтузиазм. Из прошлого, со сцен многих театров на меня смотрят перезрелые сопрано в роли полудевочки Чио-Чио-Сан, поднятые кверху указательные пальцы их рук, а кругом – пышные декорации…– Умоляю, забудем все, прежде виденное! Это будет совсем новая, первозданная, наша Чио-Чио-Сан, Владимир Иосифович! Я так люблю, когда Женечка играет, мы молчим и вы дирижируете. Ваши руки так хорошо ведут музыку, делают ее такой выразительной…
Снова и снова погружаюсь в волны музыки Джакомо Пуччини. С Пирадовым мне повезло: дирижер высокого класса. Стебловский однажды заходит в класс:– Мы с Росинкой (он очень нежно относился к дочке) волнуемся. Я вчера вечером звонил а она отвечает: «Мамочка куда-то от меня улетучилась. За завтраком и обедом молчит, а на лице непонятное – словно с кем-то, кого я не вижу, разговаривает. Вечером приходит, я уже сплю. Она здорова, да?»
Я, конечно, засмеялась и ответила:– Утешьте Росинку. Я здоровее, чем когда бы то ни было. Готовлюсь к началу репетиций точно в назначенный вами день, а он совсем не за горами. Но до начала работы с художником прошу вас пойти на непредвиденный расход. Мне нужно десять-пятнадцать занятий с профессором Кюнером. Блестящий японовед. Ну а постановочные замыслы, пока не созреют, никто из меня не вытащит.
Стебловский улыбнулся с обаятельной хитрецой.– Даже дирекция?
– Первая репетиция уже так скоро… Главный художник Оперы Петр Злочевский жил над сценой театра. «Высоко забрался», – острили артисты. Мастерские художников часто расположены в мансарде, к которой ведут крутые лесенки. Помню, как чуть не ежедневно взбирались туда с риском загреметь вниз. Эскизы Злочевского к предыдущим постановкам говорили об увлечении театром с его задниками и кулисами, об умении нарядно одеть действующих лиц и о любви к орнаменту. Он и сам был колоритной фигурой: большой, русый, румяный, в сером пиджаке, под которым всегда белоснежная рубашка, вышитая крестиком, и помпошки на крученых шелковых шнурках вместо галстука.
Вначале Злочевский спорил со мной неожиданно высоким при его габаритах голосом, но он был добродушен, ему хотелось со мной работать. А режиссер должен, почувствовав существо будущего своего спектакля, ставить конкретные задачи, заражать ощущением той атмосферы, где могут зажить живой жизнью действующие лица, атмосферой, что надолго останется в эмоциональной памяти зрителей. Конечно, не сразу залихватское с украинским «г» смирилось с моим предложением заново подумать об опере Пуччини.– Господи, боже мой, я этих Чио-Санов столько на своем веку наготовил, шо для меня и без разговору…
Но надо было как-то «зацепить» Злочевского… Он без конца делал эскизы костюмов разным ансамблям, помню, даже для молдавского коллектива танцев сделал нечто сногсшибательное и подписался «Петру Злочану». «Заслуженным молдаванином» он не стал, но я поняла: надо меньше шутить, больше хвалить и строже требовать. Он, как и многие, уехав из своего города в войну, был растерян, числился в этом театре главным художником, но, по существу, кроме подмалевки старых чужих декораций, ничего не делал.– С вашим талантом наша «Чио-Сан» может стать новым словом. Только кончайте свои молдованески направо и налево.
Понимаю, что без комплиментов в данном случае не обойтись. Но нужно же как-то встряхнуть, заинтересовать его! Я плохо рисую, но спектакль вижу заранее. Страна землетрясений. Вулкан Фудзияма. Домик Чо-Чо легкий, почти игрушечный. Ширмы, его образующие, целиком подвижны. Домик на станке (метра полтора его высота), мостики и лесенки по бокам ведут в садик. Он – перед домом. Крошечные деревья. Еще один выгнутый мостик посредине. Под ним ручей, забавные растения, ирисы. Справа, у домика, низкая ограда, калитка. Ее так легко открыть! Все здесь такое наивное. И по контрасту огромная ель и безбрежный океан за домиком – от этого он кажется еще кукольней. Профессор Кюнер так пронизал меня любовью ко всему этому, что, кажется, уже сама сумею построить домик из ширм. Световая партитура должна быть в абсолютной гармонии с партитурой Пуччини, жить ее вечным движением.– Вы мне уже нарисовали чудесные костюмы? Да, да.
Изумительно. Потом в Одессе или Киеве они покроют вас славой. Но пока – спрячьте их подальше. Наша Чо-Чо, мой дорогой друг, в первом акте в белом, только белом кимоно. Когда поднимает руки, широкие рукава станут как крылья бабочки. Пинкертон – тоже в белом, чисто белом кителе. Сегодня ночью она станет его женой на всю жизнь. Она чувствует себя невестой. Как боязно и сладко! А сейчас они счастливы кануном того, что случится: шутят, бегают по нашему мостику между деревцами. Как ловкий озорной мальчик. Пинкертон гоняется за своей бабочкой, а она убегает, хотя и хочет как можно скорее быть пойманной. Злочевский рад, что, кажется, поймал меня:– Фантазии у вас – вагон. Но вы забыли, что это опера, сложнейший дуэт. В таких мизансценах они его не споют.
– Споют как миленькие. Это же не костюмированный концерт, а театр музыки в действии. Опера! Новая опера! Злочевский замолкает, слушает внимательно.
– А в последнем акте Чо-Чо оденет своего сына в белый костюм, похожий на морской папин китель, и он, как некогда его папа, бегает за большой белой бабочкой с сачком в руках, когда настоящая Чо-Чо уже задвинула ширму и хочет, чтобы навсегда умолкло ее сердце.
И на том же мостике, что в первом акте, появится Пинкертон с новой женой, элегантной американкой с самоуверенной поступью. Да, только то, что уже конкретно «прицелено» режиссером, дает запал для театрального художника. Первая встреча с артистами К сожалению, к первой встрече со всеми исполнителями макет еще не был готов. А, как говорится, «лучше один раз увидеть, чем много раз услышать». Меня собравшиеся слушали молча, с неподвижными лицами. Пришла вся небольшая, но чувствовавшая себя крепко в седле казахская труппа. С милой, не лишенной лукавства улыбкой посматривал то на меня, то на будущих моих артистов Стебловский. Жандарбеков (он тоже заявлял, что хочет ставить «Чио-Чио-Сан») и особенно Байсеитов держались величественно, Куляш поглядывала то на мужа, то на Ольгу Хан, Муслим изображал насморк, позевывал, хихикал, делал под столом какие-то движения, как озорник из младшего класса. Хоть я и вижу все это, волны музыки, поглотившие меня целиком, проносят мимо всего внешнего. Стремление к отображению внутреннего мира человека помогает мне видеть нашу будущую постановку абсолютно лишенной пышности, бархата, ненужного украшательства, которыми так часто злоупотребляют в опере. Массовых сцен у нас не будет. В конце второго акта – хор за сценой – это как бы поющий океан, к которому обращены все чувства и помыслы Чио-Чио-Сан. Она стоит спиной к публике, смотрит – впилась глазами в этот океан, который – она твердо верит – вернет ей корабль любимого. Любовь для наивной, чистой Чио-Сан – вся жизнь. Для Пинкертона – очаровательная игра. Пусть наши будущие слушатели презирают, ненавидят «пинкертоновское» в других и в самих себе, пусть трагедия Чио-Сан очистит их души, заразит желанием свято беречь любовь. Музыка была органично вкомпонована в мое выступление, которым хотела расшевелить эмоции исполнителей. Помню, говорила и о женщинах Востока, о счастье силами совсем молодого Казахского театра по-новому раскрыть оперу Пуччини, получившую признание во всем мире; о том, что эта опера очень трудна вокально, требует развития итальянского бельканто, но затраченные певцами усилия обогатят их для всех дальнейших работ и, к счастью, им помогут и такой мастер вокальной педагогики, как находящаяся сейчас в Алма-Ате Вера Алексеевна Смысловская, и Е.С.Павлова, сам В.И.Пирадов… После этой встречи на вопрос, хорошо ли я говорила, Стебловский отвечает:– Продуманно, по-деловому ясно, увлекательно. Но это мое мнение и мнение моих друзей. А артисты… Вы видели их непроницаемые лица, напряженность. Как говорится, «народ безмолвствует». Я вас предупредил, потом не ропщите, борьба будет. Одно мне показалось: кое-кто из них начал понимать. Поняли они это уже сейчас или начнут понимать позже, у нас один выход – надеяться.
Меня сегодняшнее безразличие труппы не привело в уныние. Во-первых, неожиданно почувствовала большую правду, которая может возникнуть при воплощении этой оперы именно в казахской труппе. Их лица я впервые увидел так близко и ощутила, как поразительно органичны они тому, что мне будет нужно в постановке. Смуглые лица близки Стране Восходящего Солнца, ее природе. Нашим артистам будет легче «влезть» в такую схожую с их собственной «кожу действующих лиц». Но главное не во внешнем. За скупостью мимики чувствовала будущие страсти – от правды, от земли. Мое самолюбие отходит на задний план, когда уже живу будущим спектаклем.– Поймите вы и артистов, Владимир Васильевич! Не все хорошо понимают по-русски, терминология моей речи им трудна. Я должна была говорить не только для них, но и для Пирадова, для Павловой, даже для самой себя. Многие оперные артисты читают только тексты своих партий, и то больше думая о нотах, чем о смысле. А идеи, образы, книги о композиторе, первоисточники – будут ли они этим «забивать голову». Пусть сегодня они и не все восприняли, но интеллектуально-эмоциональное зацепило кое-кого, я это видела. Главная же причина равнодушия в том, что мы еще не распределили роли.
Распределение ролей мы с Пирадовым под разными предлогами подзадержали. Пока приглашали в класс по одному – по двое наших певцов и пробовали их в звучании различных партий. Они ведь до сих пор пели только свой национальный репертуар, больше музыкально-драматический, чем оперный. Тесситура, диапазон, колорит звучания, сможет ли голос прорезать оркестр «большой оперы»? Утверждаюсь в мысли: Муслим Абдуллин для роли Горо – клад. И комплекция, и руки для быстрых дел-делишек. Вспомните, что он творил во время первой встречи… Муслим, почувствовав, что он намечен на роль Горо, немного приутих, на классных репетициях был собран, но по вечерам вился ужом около недовольных моим назначением, кого-то передразнивал – не иначе, меня… Да, да, с ними работать надо индивидуально, вдвоем-втроем, тогда увлекаются, загораются. Еще вот что: с ними внутреннее надо сразу или почти сразу искать в пластическом выражении, а потом снова продолжать застольный период, уточнение задачи; искать глубинное после того, как они уже ощутили жест, взаимодействие – как с большими детьми. «Дитя думает мускулами», – сказал английский педагог Лай. А муж Куляш – Канабек? Идея! Экспериментально поработать и с ним над образом Горо. Это сильно утешит «незаменимые» интонации Муслима и, главное, может быть интересно. Да, это будет Горо не такой хитрый и пронырливый, а Горо – хозяин, умный и злой, уже скопивший на своем грязном деле капиталец. Канабек польщен: для Горо у него голоса хватало, а артист он одаренный. Как только Муслим почувствовал рядом сильного соперника, он перестал паясничать и занялся всерьез делом. Благородство звука, красивый баритон Ришата Абдуллина, его спокойное достоинство «старшего» (он, кажется, на один час опередил брата-близнеца) сразу «легли» на образ и партию Шарплеса. Анварбек Умбетбаев, обладатель прекрасного драматического тенора, знал себе цену, держался в труппе особняком. Он был выше, стройнее других и был зафиксирован нашей «рабочей тройкой» [29] как единственно возможный Пинкертон. На роль Сузуки по голосовым данным подходила только Урия Турдукулова, уже немолодая, несколько громоздкая женщина. Тут выбирать не пришлось. Решал голос и… эмоциональность. Но главное – сама Чио-Чио-Сан. (Кстати, это ошибка, ставшая привычкой: надо говорить Чо-Чо-Сан, а не Чио-Чио-Сан – «и» перед «о» в итальянском не произносят. Чо-Чо – бабочка. Но менять сейчас? Вызывать лишние вопросы? Станиславский говорил, что в таких случаях пусть сохранится привычное – вопросы отвлекут от существа.) Итак, кто у меня будет Чио-Чио-Сан? Ольга Хан кажется рожденной для этой роли, но она – вторая. Первая – народная артистка СССР Куляш Байсеитова. Она уже не очень молода, фигура не «ах», но на репетициях держится умно, своего премьерства не подчеркивает, раньше всех начала слушать и как-то реагировать на мои реплики. То и дело мне шепчут: «Сделайте, чтобы Ольга пела эту партию первой, разве их сравнишь?!» А мне начинает казаться (неужели ошибаюсь?), что все «три измерения» у Куляш значительнее: и понимание задач шире, и мечта любви выше, и трагедийное глубже… Ждала обратного, а от репетиции к репетиции все больше влюбляюсь в ее возможности. По отношению ко мне Куляш держалась выжидательно. Ее многочисленные дочери были постоянными посетительницами моих детских утренников. Я часто присутствовала на индивидуальных занятиях солистов с концертмейстерами, вслушиваясь в их голоса, приглядываясь к ним ближе, мысленно сопоставляла их творческую природу и возможности с тем, что нужно для образа. Эти наблюдения дали мне немало. Я поняла, что Куляш гораздо любопытнее к новому, чем Ольга; заметила, что и многие артисты увлекались все больше и больше нашей «Чио-Чио-Сан». Когда мы снова собрались все вместе, я не говорила ни слова. Исполнители вчерне пропели всю оперу с начала до конца. Злочевский показал ювелирно сделанный макет и очаровавшие всех эскизы костюмов. Обычно прищуренный глаз Стебловского стал удивленно большим.– Слышал, как вы носитесь по лестницам от Злочевского в фойе, скачете с колосников в оркестровую яму и оказываетесь вдруг сразу в двух музыкальных классах, но что сумеете мхатовскую атмосферу создать – этого не ждал. Поздравляю.
– Еще рано. А репетируем дружно и, кажется… Впрочем, работа на сцене еще впереди!
Иногда заходили к нам вечером Черкасов, Эйзенштейн, Названов и Тиссэ. Роксана срочно бежала раздобыть что-нибудь вкусненькое (обычно это было повидло). Вернувшись, дочка сразу же садилась вырисовывать роскошную монограмму «Н.Ч.». Черкасов был ее кумиром. Как сейчас вижу сидящего у окна в нашем единственном кресле Сергея Михайловича. Европейский Будда! Сколько знаний, мысли, спокойствия, превосходства в чуть улыбающихся глазах. Эдуард Казимирович садился поближе к пальме и неизменно здоровался с ней:– Еще не нашли времени тебя выбросить из этой комнаты? Привет, сирота трактира!
Видимо, знаменитый кинооператор не мог поместить «в один кадр» нас с дочкой и эту пальму… Николай Константинович был весь в движении. Все подмеченное вчера и сегодня как-то незаметно «переливалось» в рассказы, действия, заготовки для будущих ролей. Помню, говорил, что недопонимал в юности Дон Кихота и мечтает совсем по-другому сыграть его сейчас. Говорил о природе и… Мичурине. Его жизнелюбие было неразрывно с его творчеством, театром, кино, только ему доступным многообразием самовыражения в искусстве и жизни. И Черкасов и Названов хорошо играли на рояле, пели соло и дуэты, танцевали «классические па-де-де», пародийные танцы… «Чио-Чио-Сан» Первые репетиции вела поочередно с Куляш и Ольгой. Ольга прекрасно знает партию, она уже пела Чио-Чио-Сан и в концертах арии из второго акта неизменно исполняет на «бис». Но как жаль, что она так спокойна на репетициях, что не интересуется ничем, кроме голоса. А сколько в сердце Чо-Чо искренности, неожиданных тревог, горя! Куляш иногда пасует перед верхней нотой:– Знаешь, я тебе потом эту «си» спою, завтра, хорошо? Давай сейчас много репетировать, петь тихо, и рассказывай про нее, много рассказывай, хорошо?
Вот вам и «звезда»! Вот и зазнайство, которым меня так пугали! Куляш на репетиции отдает все силы, волю, она – дочь народа, для которой быть артисткой – счастье, она умеет вбирать в себя жадно, горячо все новое, и работать с ней для меня радость. Бог с ней, с Ольгой. Введу после премьеры «по исхоженным тропам». Мне с ней неинтересно. Ей тоже все новое ни к чему: «Зачем стараться? Все равно премьеру Куляш будет петь». Беда, когда артист любит не творчество, а покой. Помню, в «Японских сказках» московские актеры с ужасом относились к необходимости сидеть на полу, хотя бы и на подушках, как принято в Японии.– Встаньте на оба колена, теперь сядьте на свои пятки. Артисты были молодые, но роптали:
– Колени затекают – хуже, чем на корточках… Байсеитова и Турдукулова исполняли эти мизансцены без всякого труда – сидеть на полу для них было привычно и удобно.
В Куляш я влюблялась все больше и больше. Самые трудные мизансцены в сочетании с вокальными трудностями были ей по силам.– Сейчас не вышло, не сердись. Завтра с учительница пения заниматься буду, с Женечка, раньше репетиций приду, буду петь и делать, что сказала. Выйдет.
Поразительно несла она любовь к Пинкертону, как перочинный ножичек складывалась, слушая его. А когда он дарил ей хоть маленькое внимание, хотел погладить ее волосы, она сразу оказывалась сидящей у его ног теплым комочком, замирая от счастья, почти недвижимая. Два мира! Самоуверенный стройный американец и взирающая на него снизу доверчивая и наивная дочь Востока! Дуэт любви в конце первого акта, когда Чо-Чо целиком поверила в свое счастье, звучал у Умбетаева и Куляш превосходно. Добившись хорошего звучания верхних нот, Куляш согревала эту сцену трепетом беспредельной любви. Николай Константинович заходил иногда к нам с Русей, видимо, все же несколько взволнованный иронией Эйзенштейна насчет «Чего-Чего-Сан». Не было на свете такого доброго и человечного «царя», как он, такого деликатного товарища. Помню, когда я садилась за рояль, он помогал мне, выполняя задуманные мной мизансцены первого акта, превращаясь то в Горо, то в Пинкертона… Как известно, в опере есть очень важная роль – маленького сына. Я долго искала исполнителя или исполнительницу для этой роли. Тамара Жукова, дочка одной из артисток хора, оказалась для меня кладом. Пожалуй, чуть велика, но партитура действий в моей постановке была нелегка, и ребенок моложе четырех-пяти лет и не мог бы ее усвоить. Японки носят своих детей на спине. Там поясом прикреплен деревянный ящик для ног ребенка. Почерпнула это из занятий японоведением. Предложила Куляш петь эту арию, держа Тамару на спине и придерживая левой рукой, а правая вытянута для подаяния. Петь эту трудную арию, согнувшись да еще держа на себе довольно тяжелую девочку и ящичек, сами понимаете… Куляш вздохнула, но безропотно исполнила мое предложение. Спела, сыграла так, что последние аккорды Евгения Сергеевна взяла нечетко: у нее лились из глаз слезы, и поэтому она уже не видела нот. Дорогая моя, незабываемая Куляш! Как жаль, что нет ее больше на свете! Как благодарна я ей за то счастье взаимопонимания, которое в общем-то так редко бывает у режиссера и оперного артиста. Забегая вперед скажу, что во время исполнения этой арии Куляш плакали не только зрители, но и защищенные своими медными трубами артисты оркестра, дирижер да и весь технический персонал, жавшийся в кулисах… Иногда Куляш робко просила:– Наташа, можно я ребенка сегодня не буду сажать на спину?
Я смотрела на нее с такой горечью, что ребенок всегда оказывался на ее спине. О, режиссерский деспотизм! Куда от него бежать и… нужно ли это делать? Вспоминается Николай Константинович, когда он вошел после киносъемки, – взлохмаченный, взволнованный, и сказал:– Я преклоняюсь перед Эйзенштейном, он – режиссер, он – художник. Но я ведь тоже не саксаул, не набор линий, а живой человек.
В голове стучало: «Вот ведь, все мы, режиссеры, такие. Понесемся на крыльях задуманного и во имя реализации его ни с чем не желаем считаться. Только надо же понять. Это – не из жестокости, не из каприза. Поза, в которой Черкасов действительно напоминал саксаул, сухое извилистое дерево (в Алма-Ате тех лет им отапливали дома), поразительно выражала трагические сомнения Ивана Грозного… Как-то после вчерашней репетиции чувствует себя Куляш, придет ли?» Пришла. Невеселая, раз, два провела рукой по спине (побаливает), а потом… готовая ко всему, репетировала в полную силу. А как поразительно играла Куляш сцену с консулом Шарплесом во втором акте! Он пришел, чтобы возможно мягче подготовить ее к удару: Пинкертон к ней никогда не вернется, он женился на американке! Но Чио-Сан так счастлива приходу Шарплеса, ожидая от него только радостных вестей, так гостеприимна, мила. Она подхватывает каждое из его «подготавливающих к удару» слов как подарок судьбы и не подозревает о конечной цели его слов. Уравновешенный, «видавший виды» консул чуть не плачет – Чио-Сан все время прерывает его восторженными восклицаниями. Не забыть, как Шарплес с горечью говорит по-казахски «Баллалек!» («Наивность!») Куляш не играла наивность – она была пятнадцатилетней. Поразительной силой перевоплощения обладала эта актриса! Время шло. Пора было мне чаще заглядывать в декорационную, костюмерную, реквизиторскую мастерские. Художник сдал эскизы и полагает, что все будет в порядке. Мой Злочевский опять что-то на стороне варганит! О, боже! Нашел время… И вот мы с Русей по вечерам в реквизиторской. Какое счастье, что знаю «тайны» кроя костюмов, аппликаций, умею многое делать сама, например, цветы. Хризантемы и ирисы в картине, когда Чо-Чо ждет возвращения Пинкертона, все были сделаны нашими руками, да и кто бы стал так долго возиться с этими цветами? Зато, когда спектакль уже пошел, многие зрители утверждали, что цветы в нашей опере пахнут. Шли уже репетиции с оркестром. Пуччини захлестывал своим могуществом. Теперь я жила всеми красками партитуры. Есть «страшный момент» на пути к премьере. Найденное у рояля в классе, ночных сновидениях, в уютных комнатах надо переносить на сцену. Очень боялась, что «нажитое» лирическое тепло расплескается на большой сцене, под звуки оркестра: увы, оперные дирижеры редко умеют соразмерять звучание оркестра с голосами певцов. А когда звучание голоса перестает зависеть от эмоциональной правды и единственным желанием певца остается во что бы то ни стало «прорезать» своим голосом оркестр – все пропало. Пирадов чувствовал возможности певцов, в длительной совместной работе полюбил каждый найденный нами вместе, по-своему раскрытый эпизод. Он умел вдохновить оркестр на мощь звучания, но в то же время владел секретом внезапной тишины. Если бы Пирадов не был таким же великолепным аккомпаниатором, как и симфоническим дирижером, мы бы потеряли атмосферу правды. На прогоне спектакля ко мне первыми подошли рабочие сцены:– Такого не ожидали. За душу хватает. Насчет успеха не сомневайтесь.
На генеральной никто уже не смотрел на меня как на «обломок старины и роскоши», который, если и достоин уважения, то лишь за свое прошлое. Ну а мне все это было неважно: только получив право заниматься своим делом, право на режиссерскую работу со всеми ее сложностями и треволнениями, стала по-настоящему спокойной, выползла из норы отчужденности, ходила по земле и по сцене уверенно. Баловала меня жизнь разнообразием, баловала и большими успехами. Но тот праздник, который познала на премьере «Чио-Чио-Сан» в Казахстане 14 мая 1944 года, был едва ли не самым дорогим в моей жизни. Творческие радости режиссерских работ в Московском театре для детей и Центральном детском театре, «завоевание» Берлина, как в шутку называли друзья мою постановку «Фальстафа» в Кролль-опере, «Свадьба Фигаро» в Аргентине все же не были для меня такими всеобъемлюще значительными. Счастье становится привычкой счастливого человека. За время постановки здесь я прошла большой путь к самой себе: возродилась вера в право чувствовать себя равной с товарищами по искусству. Я отдала этой постановке все накопленные силы. Меня не отвлекали ни посторонние мысли, ни административные дела, ни быт, и сейчас, когда, притаившись в последнем ряду партера, я смотрела на сцену, чувствовала удовлетворение и блаженство. Хотелось обнять всех артистов на сцене и в оркестре, в первую очередь Куляш Байсеитову за ее талант, за ее бережное несение в себе мною найденного, не расплеснутого – приумноженного. Какое счастье, что это была первая европейская опера в репертуаре казахского театра, что актеры не обросли еще оперными штампами, не требовали успеха лично себе – они верили всему, что пели и делали на сцене, как дети, которые сами получают радость от игры. За минуту до антракта я убежала в кладовую, потом вернулась в зал, когда было уже темно: мне хотелось молчать и быть наедине со своим творческим счастьем. Кроме того, у режиссеров очень глупый вид, когда они смотрят свои спектакли: на лице – мимика всех действующих на сцене! После конца была минута тишины, а потом буря аплодисментов, бесконечные вызовы, поцелуи всех без исключения дорогих мне солистов Казахской оперы, а потом поздравления, цветы, наломанные неизвестной рукой горные ирисы. За кулисами появился во весь свой гигантский рост Николай Константинович Черкасов и взял мою руку двумя своими ручищами:– Никогда не думал, что получится такое… Это замечательно! Что – я! Даже Эйзенштейн слезу пустил, потом смутился: «Кажется, насморк подхватил» – сказал, и никто этому не поверил…
Он подошел к Куляш:– Я ждал, когда разойдется публика… Мы не знакомы, но… не имеет значения. Такой Чио-Сан, как вы, я никогда не видел и не увижу. Вы не только певица, вы – артистка непостижимая. Многие ваши мизансцены я знал, Наталия Ильинична, так сказать, на мне их опробовала, оперу Пуччини с юности почти наизусть знаю, а когда вы сегодня играли, я забывал о режиссере, композиторе, либреттисте – верил, что есть только вы, что вы поете то, что вот сейчас, сию минуту на моих глазах родилось в вас самой, делаете движения только те, которые вы сами сейчас почувствовали необходимым сделать. Я был весь в вашей власти и переживаниях. Знал прекрасно все ваши мизансцены, которые вы выполняли с ювелирной точностью, и забывал обо всем – такой первозданной своей правдой вы их наполняете… я больше всех хотел видеть сейчас вас. Переживал все вместе с вами, как мальчишка переживал! Спасибо!
Общественное мнение вознесло всех нас выше гор Ала-Тау. Появились лестные приказы, был устроен для всего коллектива загородный банкет… Но самое удивительное было перед вторым спектаклем. Кассирша уверяла, что сам Сергей Эйзенштейн подошел к кассе и за деньги – это особенно ее потрясло (дали бы ему бесплатный пропуск!) – попросил билет на «Чио-Чио-Сац». Слетевшее с губ Эйзенштейна прозвище этой оперы «Чио-Чио-Сац» мгновенно облетело всю Алма-Ату и окончательно решило мой успех. Начали появляться рецензии: длинные, восхищенные, ученые. Но самая большая и неожиданная радость пришла, когда на страницах «Казахстанской правды» появились статьи С. Эйзенштейна, К. Зелинского, С. Бирман и Н. Черкасова. Не каждому режиссеру случается читать о своей работе строки, написанные столь авторитетными критиками. В 1957 году скоропостижно скончалась народная артистка СССР Куляш Байсеитова – та, которую я поняла не сразу, но, узнав, полюбила на всю жизнь. Перед ее талантом преклоняюсь. Прошло много лет. Я вернулась в Москву. Николая Константиновича видела только на премьерах, заседаниях, в спешке. И всегда мы улыбались друг другу и собирались встретиться, вспомнить Алма-Ату, но никогда нам это не удавалось. В 1964-м, когда я была в Ленинграде, редактор издательства «Хеншель» из Берлина Хорст Вандрей пожаловался мне, что задумал издать на немецком языке книгу о Черкасове, но никак не может встретиться с Николаем Константиновичем. Я как-то стеснялась тревожить Черкасова, но все же однажды позвонила ему домой и попала прямо на него. Николай Константинович с удовольствием, как он сам сказал, назначил мне встречу в ВТО. Мы встретились просто, дружески, как будто и не прошло уже двадцать – целых двадцать лет. Николай Константинович рассказывал о своих заграничных поездках, о том, как будет играть в «Анне Карениной» Каренина – о его характере, об особом строении его ушей, – с таким же неуемным творческим горением, как когда-то об Иване Грозном. Я смотрела на удивительные, длинные его руки и пальцы. Указательный палец Полежаева на трибуне, руки Пата, руки Грозного… Кто из драматических артистов обладал таким разнообразием жеста?! И сколько добра людям сделали большие заботливые руки Черкасова! Поразительной правды в искусстве и жизни человек – как он помог мне в свое время! И одной ли мне? Человек из народа, на всю жизнь остался верен народу, его выдвинувшему. Депутат, «царь», добровольно и единодушно выбранный работниками искусства. И какое счастье, что навсегда сохраню его карточку с надписью – итогом нашей дружбы: «Дорогой и милой Наташе Сац на добрую память об Алма-Ате, ее волшебной Чио-Чио-Сан, а также первом детском концерте в Алма-Ате в ожидании правды и справедливости на добрую память с любовью. Н. Черкасов 24. V – 1964 г. Ленинград». Дорогой читатель! Вероятно, и ты относишься к Николаю Константиновичу Черкасову как к великому артисту, видел его если не в театре, то хотя бы на телевизионном экране. Прости меня, читатель, что, увлеченная воспоминаниями о нем, я перескочила на двадцать лет вперед после нашей премьеры в Алма-Атинском театре оперы. А было много интересного и важного. Воля идти своим путем в искусстве крепла. Вера, что нет непреодолимых трудностей для того, кто точно знает, чего хочет, снова зажигала огонь в сердце. Главная тема жизни «Каждая удавшаяся работа тянет другую за собой». Эти слова Гете я часто вспоминаю. После успеха в Алма-Атинском театре оперы и балета я начала получать много самых разных предложений. Особенно боролась за меня русская труппа, артисты добивались, чтобы меня назначили к ним главным режиссером. Но там уже был главный режиссер, культурный человек и, что называется, сросшийся с Алма-Атой. Мне не хотелось обижать ни его, ни… себя. Возникла мысль сделать меня руководителем и русской и казахской труппы. Это была и честь и возможность получения многих материальных благ. Но может ли корысть быть целью художника? Думаю, нет. Мне и так хорошо жилось сейчас в Алма-Ате, успех постановки сделал это. Я искренне полюбила высокую одаренность казахского народа, чувствовала доброжелательность в их лицах. И с новой силой захотела ставить спектакли для детей. У каждого человека есть главная тема в жизни. Моей – с первых дней юности и на всю жизнь – осталась любовь к детям, любовь к искусству, к ним обращенному. Да, это было для меня самым дорогим, хотя, казалось, так мало соответствовало духу военного времени. Было это безумием, неумением понимать истинное положение вещей или… Твердой верой в грядущую победу, абсолютной убежденностью, что в тяжелые годы театры детской радости нужны еще более, чем всегда? Но я верила в это твердо и горячо. Письма о том, что в Алма-Ате должен быть создан первый театр для детей и юношества Казахстана, я начала писать уже после первого моего утренника. «Замолкла» на некоторое время из-за работы над «Чио-Чио-Сан». Но, замолкнув из-за нее тогда, почувствовала право говорить с утроенной силой теперь: нужен, необходим театр алма-атинской детворе! Проверив свои силы как художника сегодня, должна вернуться к главной теме своей жизни завтра. А что М.Б.Храпченко сомневался в возможности осуществления задуманного мной, только больше подхлестывало волю. И вот на одно из моих писем приходит ответ. Мне назначен прием у товарища Шаяхметова! В приемной второго секретаря ЦК КП (б) Казахстана меня встретил его помощник и точно в назначенное время подвел к дверям большого кабинета. За столом, отягощенным множеством бумаг и телефонов, я увидела маленького человека, с круглым лицом и острыми глазами. Несколько его коротких приветливых слов о «Чио-Чио-Сан», мои ответные – о творческой радости работы с казахской труппой, о таланте Байсеитовой дали мне возможность перейти к мысли, что для взрослых есть много театров, а черноволосые, черноглазые ребятишки, верно, корят меня за то, что я о них забыла.– Пошлите их ко мне. Я подтвержу, что вы незабывчивы, – ответил товарищ Шаяхметов.
Я заметила лежащую около него раскрытую папку… с моими письмами! Может, сердится, что я всем надоедаю… Не надо паники. Делаю то, что должна, во что верю. Дошла до секретаря ЦК. Высоко будет падать. Он говорит тихо, но очень четко. Смотрит пристально, не улыбается, но я хорошо чувствую себя «на острие» его глаз. И вдруг я заметила на маленьком столике, за которым сидела, спички. Чудесные спички! Вероятно, они хорошо горят, а нам в литерный паек клали какие-то отсыревшие, и наша керосинка на них совсем не реагировала.– Курите? – спросил он.
– Нет, что вы. Режиссер должен иметь волевой голос! Спички у вас хорошие, но… простите (неужели упущу момент, не зажгу его своей волей, не собрана, теряю время…). И я заговорила, сдерживая горячность.
– Мне говорят – война, новое создавать не время. Как – не время? Отцы на фронте, матери на работе, а заглянуть в сердце десятилетнему человеку, дать ему радость, веру нужно именно сейчас, чтобы детский театр стал большим другом, когда…
Шаяхметов встал и протянул мне крепкую руку.– Театр для детей всех национальностей, что живут у нас, создавать будем. На русском, вслед ему – на казахском, первый театр для детей и юношества Казахстана. Ваш опыт нам очень нужен. Спасибо.
Я вышла ошарашенная краткостью и строгой деловитостью нашей встречи. Жаль, отсюда до нашего жилья слишком близко: хотелось перевести дух, прежде чем увижу Русю. Она встретила у дверей. Знала, сколько я писала, куда теперь ходила, волновалась:– Ну как, мамочка?
Я была взволнована и не находила слов. Но зазвонил телефон:– Наталия Ильинична! Говорит помощник товарища Шаяхметова. Вы, когда уходили, забыли одну вещь, сейчас я вам ее доставлю.
Хотела ответить, что ничего не забыла: у меня с собой ни докладных, ни сумочки не было… И вдруг на пороге нашей комнаты, словно джинн из сказки появился тот, кто только что приблизил меня к дверям большого кабинета:– Товарищ Шаяхметов просил вам лично передать… В руках у меня оказались те спички, которые лежали у него на столе. Они хорошо горели!
И тут и там Большое счастье – ощущение руки помощи. День и ночь теперь мало отличались друг от друга. «Фонтаны идей» били из ранее замурованных скважин в самые разные стороны. Ритм жизни уподобился танцу с синкопами. То бежала в библиотеку, требуя новые детские пьесы, то думала о будущем занавесе, то вполнамека заговаривала с людьми, которые смогут… В твердость руки того, с кем говорила, поверила, но что-то уже давно никто не зовет… Напоминать или молчать? Ворох мыслей – на случай, «если все будет в порядке», ворох не посланных писем, смет на самые разные ассигнования: новое – всегда задача со многими неизвестными. Главное – свое помещение. Ношусь вприпрыжку, избегала весь город – ничего мало-мальски подходящего даже на триста мест. Но вот, кажется, лучший вариант: кино «Ала-Тау»! Здание – прямо против Оперы, чудесный зал, фойе, фасад, но надо срочно переселять оттуда жителей: они словно мстят за теснотищу – портят стены, ломают резьбу, стулья и топят, чем попало. В общежитии на меня посматривают подозрительно – чего это она зачастила? Втихомолку определяю на глаз высоту треснувших закопченных стен, уже не замечаю всех снующих и галдящих в этом муравейнике и прикидываю, где повесим люстру… Напрасны угрюмые взгляды в мою сторону: мало надежд, что желаемое сбудется, ну а сбудется – при выселении вы же получите нормальные условия жизни, и вам, и вашим детям будет лучше. Во мне звучат эти диалоги, а кругом слышны плач, смех, пререкания. Выхожу на воздух. Наверно, не удастся это «переселение народов». Но нет другого выхода. Только бы нас не подключили к уже действующему театру для взрослых сбоку припека, не обрезали крылья! Не помню уже как – внедряю мысль о спасении «красавца кино «Ала-Тау», о передаче его здания Детскому театру. Обращаю внимание на необходимость срочного ремонта, на бедственное положение живущих там. Действую короткими фразами-ударами. И вот в один поистине прекрасный день – 6 сентября 1944 года – выходит постановление об организации в городе Алма-Ате театра юных зрителей. Ура! Не совсем ура… Оказывается, превращение здания кино в театр подлежит согласованию с Главным фотокиноуправлением, а оно заявляет решительный протест.– Со своей точки зрения они правы. Сокращение сети кинотеатров… – осторожно увещевают меня в Управлении по делам искусств Казахстана.
– Ничего они не правы! Посмотрели бы они, что в этом здании сейчас делается. Можно подумать, что они сберегли его для киносеансов!
Созерцательные взоры и плавно разведенные в стороны руки вызывают у меня бешенство. После многих бросков в разные стороны получаю командировку в Москву. «Храпченко, конечно, заинтересован в развитии сети театров, особенно детских», – убеждаю себя и других. Снова Москва, кабинет председателя Комитета по делам искусств. Михаил Борисович приветливо говорит о нашей «Чио-Сан», удовлетворен, что я оправдала доверие, но, как мне кажется, снова хочет увести меня от мысли о детском театре Казахстана:– К чему вам брать на себя непосильные задачи? Создавать новое сейчас несвоевременно. Война. Кроме того, скажу откровенно, глава Киноуправления Большаков сильнее меня. Начинать с ним спор нецелесообразно, я потерплю поражение… Позиция Михаила Борисовича убийственно ясна, спорить с ним незачем.
– А если обращусь в ЦК?
– Этого права никто у вас не может отнять. – Он слегка пожимает плечами, усмехается и добавляет: – А вы все такая же…
Да, без трещин. Верю. Спасибо, что не запрещает, смотрит добрыми глазами.– Михаил Борисович! Я в Алма-Ате больше года и, верьте, детский театр там даже нужнее, чем думала прежде. Спасибо за прием.
– Благодарить вам меня пока не за что, попробуйте. Если найдете поддержку там, мы, конечно… Желаю успеха!
Диван со сломанной пружиной в квартире Сулержицких – прекрасное место, где можно отдохнуть, выпить подобие кофе, поесть хлеб с маргарином, а главное, подумать, к кому и как обратиться! Когда Митя приходит с работы и хочет прилечь на диван, устраиваюсь со своей писаниной в ванной, на подоконнике. Пишу Александру Сергеевичу Щербакову. Наверное, он знал меня по прежней работе, однажды в письме к нему обо мне упоминал Алексей Максимович Горький. Пишу уже пятнадцатый или двадцатый вариант. Сулержицкие давно спят. Надо очень кратко. Скупо солнце светит. Часов пять утра. Посплю немного и к десяти – в ЦК. Прошусь к помощнику А.С. Щербакова: нужно лично передать письмо, сейчас. Моя командировка на пять дней. Принимает, выслушивает внимательно. Велит позвонить за ответом послезавтра. Он приходит, этот день. Помощник у телефона:– Александр Сергеевич сказал, что русский ТЮЗ в Казахстане нужен, он присоединяется к решению Совнаркома и ЦК КП (б) Казахстана, протест Большакова не получит силы. Желает вам успеха.
Несусь в Алма-Ату в тот же вечер. Бывает же такое счастье! Рондо каприччиозо Теперь я похожа на киномеханика, который решил прокрутить фильм в два раза быстрее. Главным архитектором театра будет Простаков, что строил оперный театр. Талантлив, мил и прост, но с характером, и, главное, он сейчас – в воинской части, младший лейтенант. Каждый его вызов стоит усилий. План работ для него, общую перспективу разрабатываю я. Знаю уже все закоулки опустевшего здания, которое скоро станет дворцом. В своем воображении уже представляю, как захламленное ныне помещение превратится в нижнее фойе: хорошо бы стены его украсить сценами из пьес великих драматургов России и Европы. Вот здесь видится встреча Ромео и Джульетты на балконе, внизу – образы Миранды и Калибана, правее – ожившие в ярких красках любимые сказки Пушкина… Стена напротив лестницы, что ведет на второй этаж, очень хорошо «смотрится», мысленно намечаю здесь панно, посвященное героическому подвигу юной казашки Маншук Мамедовой. Хорошо бы верхнее фойе посвятить великим деятелям казахской культуры – Абаю, Алтынсарину, Амангельды, Чокану Валиханову. А вот на этой стене обязательно добьюсь, чтобы было панно «Легенда о создании музыки в Казахстане». Легендарный старец Коркут только что сорвал чинару, сделал первую домбру, играя на ней, поплыл по реке. Всегда в движении музыки, как горный поток, как сама жизнь. Звукам музыки Коркута внемлет вся природа, притихли даже хищные звери. Рядом с этим фойе за звуконепроницаемыми стенами – концертный зал для детей. Будем знакомить детей с современной и, конечно, классической музыкой. Хорошо бы здесь стены сделать под гобелен. Бушующий поток мыслей внутри меня иногда совершенно исключает восприятие звуков извне. Конечно, это нехорошо. Руся как-то заволновалась:– Мамочка, у тебя не болят уши? Пойдем к доктору, я говорю, а ты не отвечаешь.
– Прости, Руся, только это не болезнь, а полновластное мое здоровье. Мама меня ругала, что не вовремя приезжала с репетиций, опаздывала тебя, грудного ребенка, кормить. Но ведь все же выкормила, вырастила! А скольким малышам поможет вырасти хорошими людьми их театр! Природа выдумала меня такой, какая есть. Здорова. Живу полной жизнью.
Руся налила воду в пиалу, потекло через край:– Так тоже нехорошо.
Смешная девочка, умная подружка и… ее пиала, налитая через край, навела меня на мысль: при театре есть садик, не сделать ли там фонтан? Еще одно зеленое фойе на открытом воздухе! Надо было приглядывать уже будущих артистов. Первым пришел на ум тот длинный, из хора русской оперы – Померанцев. Он оказался юношей незаурядным: много читает, интересно думает о театре. В списке «будущей труппы» записала не без радости: «Юра Померанцев». А вообще-то придется одновременно с театром открывать студию для молодежи. Брать ребят со средним образованием, ритмичных, способных к перевоплощению, к «жизни в образе», выразительных в движении. Молодость – необходимое качество в искусстве для молодых. На одних «бывалых» и «опытных» репертуар детского театра не зазвучит! Создать для молодежи театральную студию, сочетать студийные занятия, обогащающие знаниями и умением, с производственной работой, «ассигновать» на первые постановки по три месяца репетиционной работы – иначе нужного не достигнешь. Горящие верой глаза молодых сделают наши репетиции по два раза в день радостью. Откроемся «Красной Шапочкой» Евгения Шварца. Он ее писал для Центрального детского театра по моей просьбе. Не успела тогда ее поставить… Да, но сейчас главное – ремонт, сметы. Крыша обветшала, пол второго этажа в аварийном состоянии. Технические организации чинят препятствия. Интересно, а как же допускали, что здесь только что жили двести человек? Но рук помощи уже много. В жесточайшие годы войны большевики Казахстана отдают время, волю, силы театру детской радости. Это же чудо гуманизма! Оно возможно только в нашей стране! И могу ли подчеркивать, что назначена художественным руководителем, что мое дело – только творчество… Столько стен еще надо пробить! Неизбежны ссадины самолюбия. Ну и ничего с этим не поделаешь. Пусть сейчас моя голова – орудие для пробивания стен и не всегда ей удается ту или иную стенку пробить – подчас трещит сама. Главное в новом деле – умение увлекать других тем, чем увлечена сама, объединить людей вокруг своей цели. В такое сложное время, когда война вызвала острый дефицит во всем, скачу сама в Москву и назад. Право создавать дорогое и нужное в любом городе на время отодвигает Москву как главный магнит. Сейчас должна оставаться москвичкой в любом деле. Это значит – довершить создание Театра для детей и юношества Казахстана. Много было оврагов, дремучих лесов, нехоженых тропинок, обрывов – причудлив ландшафт моей жизни. Но были и высокие горы, сочные луга, великий океан… Главная тема моей жизни – театр для детей. 1918 год – первый Детский театр Московского Совета; 1920 год – первый Государственный детский театр Наркомпроса; 1921 год – Московский театр для детей по 1936 год, и в этот же год за его достижения – Центральный детский театр. После отхода от главной темы неужели снова, обогащенная промежуточными эпизодами, в пятый раз смогу зазвучать своей главной, любимой темой – первым Театром для детей и юношества Казахстана?!! Муха С Мухтаром Ауэзовым меня познакомила Куляш Байсеитова после одного из спектаклей «Чио-Чио-Сан». Он был большой, полный, но подтянутый: казалось, Петроград, где он кончал университет, чувствовался и в его манере носить костюм и держать себя. Внешность его была примечательна: лицо удлиненное, глаза большие, овальные, несколько раскосые, губы хорошо очерченные, слегка асимметричные, лоб и высокий и широкий, переходящий в небольшую лысину с торчащими вокруг нее черными можжевельником волосами. Он был похож на византийского мудреца, нарисованного рукой иконописца. В выражении глаз и губ сознание, что он – избранник. И это сочетается с жадным стремлением наблюдать, вбирать в себя новое и новое, хотя сделал он уже так много! Я словно видела, как за его спиной толпятся герои его книг и пьес, которые с интересом уже прочла или увидела на сцене: «Айман-Шолпан», «Енлик-Кебек», «Кыз-Жибек»… Протянув ему руку, услышала такие слова:– Запад часто не понимает Востока. В «Чио-Чио-Сан» и либреттист и композитор пользуются Востоком как экзотической приправой к своей типично итальянской опере. Вы дали новое прочтение, влюбившись в дарования наших казахских артистов, почувствовав их природу, неотрывную от их родной страны и от всей громады Востока. Может быть, ваши действующие лица больше казахи дореволюционных времен, чем японцы? Еще недавно наши женщины были так же незащищены и бесправны. Пуччини и вы с Куляш сильно и тонко нашли взаимообогащающую гармонию Запада и Востока в их гуманистической линии. А за щедрость помощи нашей Куляш – сегодня я влюблен в нее, как никогда, – два вам поклона: наш, казахский, и русский, земной.
Конечно, он не отвешивал мне никаких поклонов, так как Куляш, смеясь, заговорила с ним по-казахски, очевидно, напоминая, что он влюблялся в нее уже не раз после каждой ее новой роли. Это она перевела мне, но он ответил почтительно:– Сегодня ты на вершине.
Некоторые люди, отправляясь в путешествие, наслаждаются в первую очередь новыми ландшафтами, морями и реками, очертаниями полуостровов, природой. Я люблю природу, но главное, что меня интересует, – самое совершенное создание природы, человек. Люди, когда они самобытны, носят в себе целые миры. Встречаться с Ауэзовым часто не могла. Но не было случая, чтобы, когда звала его, он не приходил на час-два. Самая короткая встреча с ним всегда будила новые мысли. Право же, пока ближе не познакомилась с ним, казалось, по-настоящему еще и не знала этот народ. Он прекрасно знал русскую литературу, мировую историю, но народ свой любил со страстью, и эта его влюбленность могла не заразить разве только булыжник. Я не думаю, что есть человек, который бы лучше, чем он, знал и больше любил историю культуры Казахстана. Он ценил людей, которые искренне хотели и умели приносить пользу Родине, и с момента строительства Театра для детей и юношества Казахстана я обращалась к нему постоянно как к сокровищнице знаний. Он охотно вошел и в художественный совет нашего театра, смотрел спектакли, поразительно глубоко анализировал наши пути-дороги. Имя Абая Кунанбаева благодаря дружбе с Ауэзовым стало для меня почти священным. Ауэзов боготворил Абая. Обычаи и нравы того времени, любая подробность его детства, тяга его к русской культуре, переводы Пушкина, знакомство с Чернышевским и Добролюбовым – все, все, что характеризовало жизнь и творчество великого Абая, во всех деталях было известно Ауэзову. Он так часто рассказывал мне об Абае, что, когда вышла первая книга прославленного романа Ауэзова, я с удивлением подумала, что когда-то уже читала многие ее страницы. Многие в Алма-Ате говорили, что Ауэзов был сыном Абая. Может, и так – кого это касается? Его духовным сыном он, конечно, был и унаследовал от него огромную культуру, вмещавшую интерес ко всему прекрасному, что есть на свете, и беспредельную любовь к своему народу. Много, много лет спустя, уже в семидесятые годы, я прочла слова Чингиза Айтматова: «Мухтар Ауэзов был для нас тем же, чем Лев Толстой для русской литературы». После смерти лауреата Ленинской премии Мухтара Ауэзова я посетила музей его имени в Алма-Ате, с радостью узнала, что его имя присвоено Казахскому драматическому театру, а также многим школам и библиотекам… Моя Кармен Не знаю, кто подучил дочку периодически задавать мне один и тот же вопрос – Мам, а когда у тебя будет личная жизнь? Иногда я отшучивалась, иногда обрывала ее, но она не унималась. Много было женщин без «личной жизни» в то время, ну а я строила детский театр, ни за что не хотели освобождать меня из Оперы, всегда была желанной в детских утренниках Филармонии, да еще и взрослые полюбили мои концерты. Художественным словом увлекалась еще в юности, в Грибоедовской студии. Оно уводило меня «в свои миры» в самые тяжелые годы жизни. «На всякий случай» готовила себе новый и новый репертуар последние годы, исполняла его со страстью в самых разных аудиториях. Когда приехала я Алма-Ату и многие месяцы ко мне «приглядывались», не давали еще постановку, в отпускной месяц получила приглашение поехать вместе с певцами А. Корещенко и Н. Самышиной, артистами балета О.Сталинским, О.Бирюковой, концертмейстером Е.Павловой (моя Руся была с нами как помреж-одевальщица) в Ташкент, Коканд, Фергану и небольшие города Средней Азии. Репертуар у меня был главным образом военно-патриотический. Для рассказа Елены Кононенко «Стеша» нашла (из сохраненного моей мамой) платье из русских вышивок. Героически погибшая в Отечественную войну, красавица Стеша вызывала у публики волну сочувствия, и мне, как рассказавшей о ней, долго хлопали. Нашей публикой были и штатские и военные; жили мы по два-три дня в разных городах, все в одной комнате, трудности с питанием уменьшались, а один молодой повар в Коканде, где нас попросили продлить концерты, к обеду лично для меня всегда измышлял особое блюдо. Подходил в большом белом колпаке ко мне и говорил:– Для Стеши дорогой, что хочешь, приготовлю. Главным в моей поездке было желание скорее увидеть Русеньку преодолевшей трудности роста. Он замедлился, по словам врачей, из-за отсутствия витаминов. Как сейчас, помню горку зеленого, синего винограда, золотистый бархат абрикосов и мою Русю, которой говорю:
– Можно, дорогая, можно, сколько хочешь.
Результат быстро сказался. Представьте себе, что, гуляя по Алма-Ате, вы видите на всех «рекламных точках» афиши с огромными буквами «Наталия Сац», извещающие, что в субботу, двадцать пятого августа, и в воскресенье, двадцать шестого августа, оная Наталия будет исполнять новеллу «Кармен», главы из «Анны Карениной» и так далее. Мы с Русей с утра гладим бесчисленные фестоны на платье Кармен, укладываем необходимые мне на сцене аксессуары. Дочь напоминает, что двадцать седьмого августа день моего рождения, и если (вздох) не хочу я личной жизни (словно это только от меня зависит), то хотя бы гостей позвала, а то после отъезда киногруппы «Ивана Грозного» мама только о делах разговаривает. В это же утро в Алма-Ату из Владивостока приехал с концертной бригадой скрипач Д. В., который в 1936-м работал в оркестре Центрального детского театра. В гостинице места не нашлось, остановился на частной квартире, спросил о городе, о его концертной жизни.– Вчера были на концерте Наталии Сац, – ответила хозяйка и начала было делиться впечатлениями, но он перебил ее:
– Простите, вы что-то… путаете. Наталии Сац уже нет в живых…
Хозяйка возмутилась:– Нет в живых? Да она у Лиллас-Пастья такую сегидилью около рояля выделывала, и уж чего-чего, а жизни у нее не отнимешь.
Д. В. был очень вежлив:– Я не имею права с вами спорить, но, может быть, мы с вами о разных Наталиях говорим. Та, что помню я, коренная москвичка, до тридцать седьмого года возглавляла Центральный детский театр в Москве…
– Про одну и ту же говорим.
Хозяйка залилась совсем не злым смехом, а приезжий был так взволнован разговором, что решил «пройтись по свежему воздуху», чем немало удивил хозяйку. Афиш о моих концертах в городе было развешано более чем достаточно, и приезжий сейчас же купил себе билет. Горячее дыхание Мериме – Бизе во втором концерте согрело меня глубже, и я жила на эстраде ярче. Ясно видела Кармен, Хосе, раздавленного страстью… Вернувшись за кулисы после этой новеллы, я как-то не сразу приходила в себя. Чтец не может «играть роли», он по-своему носит в себе любимые образы. А я равно любила Хосе и Кармен и, пусть это не покажется сентиментальным, этот час жила только ими. Ходить кланяться я никогда не любила. Кроме того, стеснялась своих все еще блуждающих глаз и разлохмаченных волос. Тем более недопоняла я, откуда возник стройный, красивый мужчина с седой прядью.– Неужели это… вы? – спросил он с запинкой. – И вы даже… почти не изменились.
С детства я не выносила, когда меня разглядывали и обсуждали, похожа я на маму или на папу. Ответила с усмешкой:– Я сейчас в гриме.
Он продолжал смотреть на меня.– Ну конечно, это вы, та самая Наталия Сац. А меня совсем не припоминаете? Я служил у вас в Центральном детском.
Вдруг без всякого самолета из Испании Мериме я перенеслась в Москву, в тысяча девятьсот тридцать шестой, в Центральный детский театр и вспомнила репетицию своей постановки «Золотой ключик». Я – на сцене, что-то объясняю артисту Борису Медянику, игравшему пуделя Артемона, показываю, как хотела бы, чтобы он глядел на прелестную куклу Мальвину. Рядом со мной автор – Алексей Николаевич Толстой, а из оркестровой ямы, прижав скрипку к груди, не отрывает от меня глаз молодой музыкант. Это очень смешит Алексея Николаевича:– Обратите внимание, как на вас смотрит молодой скрипач. Если бы я был художником…
Почему-то вдруг краснею до корней волос– Нехорошо, Алексей Николаевич, смеяться над скромным молодым сотрудником, особенно в вашем положении.
– Нам, кажется, попало? – совершенно спокойно парирует мою резкость Толстой…
Ну да, это тот самый музыкант! Привычка опекать своих сотрудников, даже и бывших, вызвала вопрос:– Вы здесь надолго? Если в чем-нибудь понадобится моя помощь, позвоните в Оперу. Бываю там с одиннадцати до двенадцати.
Но Руся, которая нашла собеседника моего «на редкость обаятельным», вдруг возроптала:– Почему в Оперу? Мы живем в гостинице «Дом делегатов», и завтра у мамочки как раз день рождения.
Ох и попало же ей. Наутро я строго объявила Роксане, что мое рождение и гости отменяются, что у меня действительно репетиция по вводу Ольги Хан и Канабека Байсеитова в «Чио-Сан» и поэтому вернусь домой не раньше десяти. Пришла домой в самом будничном настроении и… обалдела. Стол был покрыт чем-то роскошно белым (оказалось, чистой простыней), на нем стоял огромный букет роз, несколько бутылок заграничных вин, открытые консервы с роскошными наклейками, голубые коробочки голландского плавленого сыра. Около стола суетилась Роксана со вчерашним скрипачом. Я не знаю, покраснела или позеленела, и, схватив пришельца за руку, выволокла его в коридор, запретив Роксане выходить из комнаты.– Вы слишком мало со мной знакомы, чтобы являться, когда вас никто не звал. Откуда вы достали в такое время заграничный ширпотреб и неужели, работая со мной, вы не научились уважать человека, которому… Он робко оправдывался:
– Я в гастролях всегда на всякий случай покупаю разное… во Владивостоке всего полно… на день рождения каждый может… Я так рад, что вы живы, и так грустил, когда думал…
Не помню, что я изрекала и что он говорил в ответ, но, к счастью, около кипятильника в коридоре стояла кем-то выброшенная корзина. Схватив ее, я бросилась к себе в комнату с твердым намерением собрать в нее все эти унизительные дары и выпроводить музыканта. Но, увы, пока мы отсутствовали, отнюдь не отмененные Роксанины гости жадно втыкали в открытые банки заграничных консервов вилки и стоя, «а ля фуршет», наслаждались невиданными яствами.– Вот это так сюрприз, – говорил молодой пианист, держа голубую коробку голландского сыра в руке и запивая его шотландским виски, – а сказали, что угощение из пайка. Давно такого не видали.
Пришедший робко объяснил, что работал под руководством Наталии Ильиничны еще в Москве, а сейчас – прямо с Дальнего Востока. Все нашли его сверхобаятельным, спросили, как его зовут. Он ответил:– Зовите меня просто Дима. Роксана ликовала.
7 ноября 1945 года Сейчас я в Алма-Ате не кем-то присланная, приезжая… Меня считают своей, наделили тем безграничным доверием, которое так окрыляет человека. 7 ноября 1945 года. Светло-розовое здание Театра для детей и юношества Казахстана радуется возвращению к жизни, блестит под яркими лучами солнца. Около его резной парадной двери яркий ковер, сложенный из разноцветных камней. По бокам от входа в сводчатых нишах – Пушкин с лирой в руках и Джамбул с домброй. Их мраморные фигуры во весь рост величественны. В просторном нижнем холле детей встречает большой лохматый медведь. Он стоит, улыбаясь, на задних лапах, на его шее – почтовый ящик. «Пишите мне, понравился ли вам спектакль. Очень люблю получать ваши письма», – читаем на ящике. Гардероб сделан красиво и удобно: для ребят маленького роста перекладина для сдачи пальто пониже, для тех, кто постарше, – выше. Фойе рядом – бело-голубое, с красочными панно во весь пролет стен между входными дверями в зрительный зал. Горельеф Пушкина, а за ним – Царевна-Лебедь, белка с золотыми орехами, «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том; и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом…». А вот гоголевские девушки и парубки в украинских костюмах, кузнец Вакула, ведьма, летящая на помеле, озорной бесенок. А здесь изображены персонажи из произведений Мольера, Байрона, Шекспира – фойе знакомит с выдающимися драматургами мира, вызывает интерес продолжить знакомство с ними и после, когда дети вернутся из театра. На стенах следующего зала любимые детьми герои книжек советских авторов. Рядом – буфет. На втором этаже – «золотой» зал. Он очень красив и интересен: настенная живопись увлекательно знакомит с культурой Казахстана. Слева от верхнего фойе – концертный зал с гобеленами по стенам, а справа – комната для младших братьев и сестриц. Во дворе нашего здания оказался давно заброшенный малый кинозал. Он тоже приведен в порядок, превращен в первый детский кинотеатр, который будет открыт через месяц Но главная наша гордость – зрительный зал. Он оформлен, как огромная юрта, а темно-красные бархатные кресла с резными спинками готовы принять ребят в свои мягкие объятия. А занавес – апплицированный: мальчик-казах бежит, протянув руку, к голубоглазой, со светлыми косами девочке в русском сарафане – она тоже протянула руку и приветливо ему улыбается. Когда занавес закрывается, вы ясно видите рукопожатие этих ребят и радость детей разных национальностей, что изображены на этом занавесе. Наши гости, во главе с первым секретарем ЦК Г.А.Борковым, явно довольны, улыбаются. После осмотра театра веду всех на репетицию «Красной Шапочки». Уже два месяца репетирую ее днем и вечером, и вот… Юля Карасева со своими собственными золотистыми косами, милая, худенькая, появляется на сцене в мягкой красной шапочке. Ей восемнадцать, но, видя ее на сцене, веришь, что только восемь. После ее первых слов идет песенка, и тут нельзя не заметить, что у юной артистки хороший певческий голос. Миша Заре в роли Зайца-Белоуха тоже убедителен. Очень вежливый заяц, он предан Красной Шапочке и все время настораживает уши, оглядывается по сторонам – так на то он и заяц! Если волк появится Вдруг, вдруг, вдруг, Знай, что есть у Шапочки Друг, друг, друг… Волк, конечно, тоже появляется. Как жалко, что на этой репетиции не было тех, к кому обращен спектакль – детей, и артисты не слышали их реакции. Впрочем, это было единственное «но» в этот солнечный день, когда в Алма-Ате еще все ходили в летнем, когда советский народ уже сбросил со своих плеч тяжкое бремя войны, когда мысль о Победе пела в сердце каждого советского человека. Уже отзвучал оркестр, уже разгримировались и ушли все артисты, кроме исполнителя роли Медведя – родного брата того, что стоял при входе в театр. В тот день я не торопилась идти домой, хотела побыть в своей, самой дорогой сказке, которая стала правдой. А когда свершается такая правда, она всегда – чудо. Поглаживаю медвежью шкуру и вспоминаю, как совершила первый «налет» на управляющего Казахмехторгом, как потом пересчитала ступеньки его лестницы, но не прекратила своих «налетов», ласковых разъяснений, мольбы: «Детям всегда кажется, что медведь добрый в его такой мягкой шкуре…», как вытащила-таки управляющего на нашу стройку, и вдруг похожий на байроновского пирата казахский товарищ засиял улыбкой и сам привез мне четыре медвежьи шкуры и одну лисью! Не забыть позвать его со всей семьей на открытие – у него, кажется, много детей. Сколько сказок, правдивых, и все же сказок, могла бы рассказать о каждом метре бархата, гвозде, стуле, обо всех так послушно и уютно окружавших меня сейчас вещах, ставших мне такими близкими и знакомыми. Когда я вышла наконец из театра, уже садилось солнце. Перешла на другую сторону тротуара и залюбовалась своим новорожденным красавцем. Новое здание поглядывало на меня сейчас с высоты своего величия – видимо, уже забыло, как еще два года назад было развалюхой. Но самое главное еще впереди. Жизнь этому зданию дадут дети. Каждый день они будут прибегать сюда в одиночку и целыми школами, держа над головой билеты, заранее радуясь тому празднику, что ждет их за порогом этого специально для них выстроенного Дворца искусства. Студентка-заочница Москва всегда в сердце – думаю, так чувствуют все коренные москвичи. Однажды после неудачного концерта в Филармонии разговорилась с одним дирижером, которого встречала еще в Москве:– Не сердитесь за правду. Вы сегодня бездушно дирижировали.
Он ответил с некоторой даже бравадой:– Лучше вас знаю, но заметили это немногие. Меня здесь как-то развезло. Все безразлично. Не Москва! Я возразила ему:
– А мне кажется, что москвич должен оставаться в своих требованиях к себе везде москвичом, носить Москву в себе самом.
Интересно, что этот разговор на него подействовал. Он сам мне потом об этом сказал. Но я говорила тогда не только с ним, а и с собой. Когда жизнь моя снова понемногу стала входить в нормальное русло, я часто, очень часто стала видеть сон, будто я снова сижу за партой, выполняю задания учителей… И вот сейчас, в Казахстане, когда за свою любимую работу в театре не только снова получила радость ощущения крыльев за спиной, но еще и многие награды – орден, медаль, именные золотые часы от Верховного Совета Казахской ССР, множество почетных грамот от разных организаций, – возмечтала учиться. Учиться систематически, по программе, учиться в родной Москве. Сказано – сделано. Вступительные экзамены на заочное отделение театроведческого факультета Государственного института театрального искусства имени А.В.Луначарского сдала хорошо – студентка! Два раза в год на две недели езжу в Москву на экзаменационные сессии, просиживаю в библиотеках, пишу за учебным столом, сдаю экзамены и зачеты. Теперь мы учимся все трое – Руся кончает школу и посещает студийные занятия у нас в театре, Адриан – студент-заочник литературного факультета Алма-Атинского университета. ГИТИС я полюбила. Он снова протягивает нити от Москвы «сегодня» ко мне. Жизнь идет вперед. Дживелегов – это целая поэма. Седовласый красавец, человек эпохи Возрождения. Когда видишь его – где-то на втором плане ощущаешь площадь Святого Марка, Дворец дожей, мост Риальто, собор Святого Петра, фрески Рафаэля, скульптуры Микеланджело… Как весело-заразительны его знания, алмазные россыпи! У него вьющиеся густые волосы и бородка, кажется, он весь увит листвой винограда, и общение с ним, когда сдаешь ему зачет или экзамен, – вкушение радости жизни. Когда отвечаешь Бояджиеву – всегда дрожишь. Он снисходительно высокомерен. Ничего, мне его интонация полезна. Мокульский сперва показался мне чуть ироничным. Ну что ж – ученый высокого ранга! Кстати, в двадцатые годы, когда он был совсем молод и сотрудничал в «Ленинградской правде», он написал чудесную статью о моем гастрольном спектакле. Мокульский очень удивился, что я пришла сдавать ему зачет. Но ирония непонимания разнообразия моих ситуаций сменилась желанием дать мне как можно больше знаний о театре древних. Его рассказы о театрах Греции и Рима лично мне останавливали на два-три часа сдачу зачетов другими. Студенты театроведческого факультета не уставали восхищаться профессором западноевропейской литературы Александром Сергеевичем Полем. Он был влюблен в театр, в мировую культуру и немного – во всех нас, когда ощущал, что прочитанное на лекциях ответно творчески затрепетало внутри его учеников, Когда мне «достался» Байрон и Александр Сергеевич попросил меня сказать в нескольких словах, за что я люблю Байрона, я ответила:– За то, что у всех его героев, даже у самых озлобленных, даже у пиратов, есть своя лампада, есть светильник любви. «Не все я в мире ненавидел, не все я в мире презирал», – сказал даже лермонтовский Демон – такой родственный Байрону «дух».
Александр Сергеевич поднял бровь, вытащил из кармана записную книжечку и эти мои слова записал. Они ему понравились. Стоит ли вам напоминать, какое мрачное здание помогло мне вобрать шедевры иностранной литературы и систематизировать в ГИТИСе свои знания… Первый театр для детей и юношества Казахстана Война кончилась. Мы торжествовали победу. Мирная жизнь, как весна после тяжкой грозной зимы, ласкала все больше и больше. Организованная своевременно студия при театре радовала молодыми дарованиями: Жанна Волкоморова, Ольга Солодухина, Дина Химина, Роксана Сац и другие стали профессиональными артистками, сохраняя фигурки ребятишек. Одинаково правдивые в ролях девочек и мальчиков, они были необходимы в театре для детей. Большую группу кончивших театральные учебные заведения в Москве – Т.Кулагину, Г.Завалова, Л.Кузнецову, В.Шугаева, С.Аристархову и других – привезла я в одну из своих командировок. Демобилизовался и стал полезным артистом Н.Фаюткин, очень украсил труппу по своему желанию переехавший из Москвы артист Алексей Несоныч, прежде работавший со мной в Московском театре для детей; первоклассная травести, талантливая характерная артистка из Грозного Ольга Решетниченко, Нина Псурцева, Василий Мельников – не перечислить всех, кто своим участием помог образованию талантливой труппы Театра для детей и юношества Казахстана. Юрий Померанцев так и остался моим любимым учеником, по праву занявшим в нашем театре первое место. Сколько мы с ним создали интересных, совсем не похожих один на другой образов! Поддерживая непрерывную связь с Алма-Атинской консерваторией, мне удалось заметить редкий голос и музыкальность Ермека Серкебаева, студента третьего курса. Пригласила его для исполнения песни в спектакле «Два капитана» «на разовых». Не скрою, я всегда находила время заскочить в зрительный зал, когда Ермек пел эту песню, и буквально была влюблена в его сочный голос, собранное, достойное отношение к каждому музыкальному нюансу. Приятно вспоминать об этом сейчас, когда Ермек Серкебаев уже давно народный артист Советского Союза, лауреат многих конкурсов. Наш театр стал популярен среди детей и юношества, а взрослые даже роптали, что «из-за школьников в этот театр попасть очень трудно», и хотя оценка взрослых приятна, мы были верны своим зрителям, дорожили их любовью больше всего. Чудесную музыку писали к нашим спектаклям композиторы Серафим Туликов и местные музыканты Евгений Манаев, В. Великанов и другие. Письма детей-зрителей о наших спектаклях я собирала; атмосферу праздника в театре любовно создавала наша педагогическая часть во главе с молодой, очень преданной детскому театру Галочкой Рутковской (в интересах дела она тоже окончила театроведческий факультет ГИТИСа). Театр для детей и юношества Казахстана заполнил мою жизнь: спектакли шли два раза в день, а потом добавились и симфонические концерты для детей. Ведь у каждого нашего коллектива, и русского и казахского, были свои оркестры по двадцать четыре человека, в совокупности – сорок восемь! Нетрудно было, объединив их с несколькими приглашенными, исполнять многие произведения мировой классики! Я поставила «Два капитана» В.Каверина, «Особое задание» и «Я хочу домой» С.Михалкова, «Гибель дракона» И.Луковского, «Золотой ключик» А.Толстого и «Два веронца» В.Шекспира (на казахском языке) и другие пьесы. Были постановки и Королева В.Д. и Розова В.С. Если вы спросите меня, какие из постановок, осуществленных мной как режиссером в этом театре, были особенно близки сердцу, отвечу: влюблялась в каждую. Но через многие годы, которые, как решето, отсеивают неглавное, поняла, что самые дорогие мне – «Золотой ключик» в казахской труппе и, конечно, «Двенадцатая ночь» в русской. Шекспир был тем маяком, который ярче всего светил мне в самые тяжелые годы жизни. Вероятно, поэтому «Двенадцатая ночь, или Как вам угодно» осталась жемчужиной воспоминаний. «Двенадцатая ночь» была кульминацией моего пребывания в Алма-Ате, несмотря на «ухабы» в личной жизни. Вот письмо от участников спектакля, которое для меня дороже всех рецензий: «Дорогой наш учитель! Сегодня в жизни нашего театра большое событие. Со сцены нашего молодого театра прозвучало первое произведение Шекспира. Успеху этого большого торжества мы прежде всего обязаны Вам, дорогая Наталия Ильинична. От всей души благодарим Вас за то творческое вдохновение, беспокойство, горение, которым Вы заразили нас в нашей работе. Мы благодарим Вас за то, что Вы творчески сроднили наш театр с ведущими деятелями искусства. «Как вам угодно» – но мы открыто и искренне любим Вас как мастера, как художника, ведущего наш молодой театр к новым творческим победам. И сколько здесь подписей – столько сердец, благодарны Вам за все то, что Вы дали нам, работая над Великим Шекспиром. Коллектив артистов Театра для детей и юношества Казахстана (всего пятьдесят одна подпись)». Когда в Алма-Ату приехал со своими шекспировскими постановками армянский трагик Ваграм Папазян и ему задали вопрос, что ему здесь больше всего нравится, он ответил: «Горы и «Двенадцатая ночь»». На сквозняке жизни Недавно я была в подмосковном доме отдыха. Соседка по столу то и дело спрашивала:– Неужели вам не скучно, вы все время одна?!
– А мне самой с собой скучно не бывает, – ответила я. Через несколько дней она посмотрела на меня приветливо и сказала:
– Теперь я верю, что вам не может быть одной скучно. Все о вас узнала. У вас не жизнь, а сплошное кино… Действительно, недостатка в самых разных событиях и приключениях в жизни не было…
«Просто Дима» пробыл первый раз в Алма-Ате дней пять; он находил повод каждый день бывать у нас, то обучая Роксану, как лучше приготовить витаминный суп, то произнося целые речи об укропе или молодых побегах ели как лучшем средстве омоложения. Однажды он притащил целый бурюк айрана, утверждая, что только тот, кто пьет айран, способен побеждать. Логики в речах Димы мы не ждали. Но он был весел и забавен, когда, сделав подобие фартука из мохнатого полотенца, подходил к примусу и лихо помешивал ложечкой все равно какое варево. Соседи по «Дому делегатов» стали нас называть «эти веселые, молодые трое». Раньше, до появления в нашем доме «просто Димы», мы смеялись не так звонко. Зимой, когда надо было сбросить снег с крыши строившегося здания театра, дворники и пожарники (уже получавшие зарплату в штате нашего театра) «воздержались» лезть туда:– А кто ее знает, может, она вся в дырьях, крыша эта?!
Мои уговоры на этот раз никакого впечатления не произвели, и я уже решила «для примера» полезть на крышу сама, когда появился Дима с лопатой в руке и, сделав ею рыцарский жест в мою сторону, полез на крышу. Он был красив и ловок, может быть, рисковал жизнью во имя моего любимого дела. К вечеру весь снег был сброшен. «Да, это любовь», – решила я, и он переехал в нашу комнату. Музыка всегда была для меня неотделимой частью театра. Набрать оркестр оказалось в то время особенно трудно. Дмитрий энергично взялся за организацию оркестра. Он окончил Московскую консерваторию. Пригласить его на должность заведующего музыкальной частью было в тот момент целесообразно: более квалифицированных скрипачей и дирижеров для нового театра в тот момент в Алма-Ате не нашлось бы. Когда кончилась война, я заключила в объятия своего сына-первенца Адриана. Не забыть ощущения этого длинного, худого тела в моих руках после стольких лет разлуки. Каким было счастьем дать ему отмыться, сменить тяжелые бутсы с обмотками на хорошие носки и туфли, достать ему ордер на темно-синий костюм, рубашку, своими руками завязать ему галстук. Конечно, сын тоже стал одним из горячих строителей театра. В литературной части работа Адриана была очень ценной. Он хотел, умел быть полезным и при этом отличался предельной скромностью и работоспособностью. Мне дали очень хорошую, со всеми удобствами двухкомнатную квартиру в центре города, звали на официальные приемы, в гости к самым уважаемым людям. Дима обожал «шум пиршества». Но выпив много, он всегда читал уже всем знакомые стихи о влюбленной в него собачке, рассказывал также о влюбленной в него белой медведице, и выражение «представьте себе положение белого медведя» знал наизусть почти весь город. В смысле выпивок, болтовни и женщин он оказался неумеренно резв. За время нашей совместной жизни я перенесла брюшной тиф, дала жизнь и нашему малышу Илюше. Рождение ребенка – экзамен на благородство мужчины. Дмитрий его не выдержал. К сожалению, бывает правда, которая, как ты ни запихиваешь ее в дальний угол своего сознания, помимо твоей воли разрушает тебя. Однажды, когда еще кормила малыша, взялась за голову, и у меня в руках оказались… все мои волосы! Я напоминала лысого украинского казака с одной торчащей на макушке прядью волос – запорожца, что пишет письмо турецкому султану на картине Репина. Подошла к зеркалу и чуть не потеряла сознание от своего отражения. Лечилась. В театре не снимала больше месяца шапки.– Ну и организм, черт вас знает! – как величайший комплимент сказал мне грубоватый, но очень хороший доктор – хирург К. В. Эрастов.
Редчайший случай! Волосы снова выросли! Дирижировать спектаклями Дмитрий стал небрежно. Театр помог Дмитрию «влететь в окно» моей жизни; увидев, что он сейчас в театре вреден, я купила ему билет в Москву, где жили его родные, и сказала:– Тебе открыты все города, я должна сейчас оставаться со своим театром. Разрушать его не дам. Уезжай.
С горы Ала-Тау В пядитесятые годы мы жили вдвоем с Илюшенькой. Дочка отлично закончила десять классов и драматическую студию при театре. Она была способной к артистической деятельности, но большого таланта у нее я не ощущала, хотела, чтобы она получила ясную, легко применимую на деле профессию. Дочь переехала в Москву, поступила в высшее учебное заведение, я, конечно, приняла на себя ее материальное обеспечение. Сын Адриан блистательно закончил литературный факультет в местном университете, был избран секретарем комсомольской организации Казахского журнально-газетного объединения, как журналист приглашен в газету «Ленинская смена». Война кончилась, замешать должность в литературной части театра было кем, и, как ни жаль такого ценного сотрудника, как Адриан, в интересах его творческой перспективы я должна была с ним расстаться. Ну а я была всецело отдана Театру для детей и юношества Казахстана, его становлению и росту. Дома был Илюшенька, пьесы, книги, ноты. Кроме тряпья перевезла в Алма-Ату только одну вещь. Драгоценную. Папино пианино. Без соприкосновения с ним жить с детства не могу. Почему-то пожалела бросить в «Доме делегатов» пальму. Все же она была свидетельницей моего взятия вершины Ала-Тау, где я сейчас стояла… чувствуя, какой разреженный воздух на вершинах! Когда мне было лет двадцать пять, меня познакомили с товарищем Павловым, главным инженером управления «Тепло и сила». Это был человек большой культуры, но замкнутый, сосредоточенный на решении своих вопросов, вызвавший во мне большое уважение. Когда ему сказали, что я директор театра для детей, в глазах его вдруг мелькнуло искреннее сочувствие. Я удивилась:– Вы сами-то находите силу, чтобы управлять всем московским теплом?! – пошутила я. А он ответил серьезно:
– Сравнили! Я управляю машинами, которые сам конструирую, а вы людьми. Это же во много раз труднее. Каждый из них разный, хочет к себе особого внимания, не любит подчиняться, а вы должны всех их объединять, вечно искать для этого разные способы… Жаль мне вас!
Казалось, я сейчас уверенно себя чувствовала на казахской земле, наш театр стал неотъемлемой частью культурной жизни города. Выращивать талантливых людей, вместе с ними расти на работе самой – вот что считала главным в жизни. Театр – сложнейший механизм, и прав был инженер Павлов, сказавший, что быть инженером человеческих (особенно артистических) душ очень сложно. Руководителю театра «не рекомендуется» ни болеть, ни быть слабым. Это, конечно, не кем-то писанный закон, а упрямая логика практики. Находясь в своем коллективе, руководитель должен чувствовать свою собранность, силу, уверенность в том, куда и зачем ведет, объединяя всех в одно целое. Очень жаль, что вокруг меня появились «жутко преданные» кликуши, вроде женщины-помрежа, которые ни к селу ни к городу подсовывали на репетициях, «чтобы не простудилась», теплые вещи, подносили ко рту какие-то капли и таблетки. Искренние заботы?! Нет. «Заботники» претендовали на особое к ним отношение, излишне интересовались моей далеко не благополучной тогда личной жизнью, вызывали раздражение многих… Не могу не вспомнить, как меня умоляли помочь с «абсолютно непробиваемым делом» – добыванием гвоздей для строительства. Недели две сидела до конца рабочего дня у зампреда Совмина, а его рабочий день кончался в два-три часа ночи. Наконец он меня принял:– Мы вас уважаем как большого художника, и когда я ничего не могу вам дать, а вы сидите в приемной, я работать не могу. Сколько вам нужно гвоздей?
Этого мне никто не сказал, но я вспомнила, что их измеряют на тонны, и скромно сказала:– Тонн пять…
Он подскочил на месте как ужаленный:– Пять тонн хватит, чтобы построить вторую Алма-Ату. Берите полтонны и уходите.
Полтонны гвоздей оказалось достаточным, чтобы и в театре все, что надо, достроить и чтобы у некоторых из моих административно-финансовых работников к лету «выросли» дачки. Приходилось ударять по нечистым рукам – что делать?! Как ни странно, трудности способны гораздо больше объединять людей, нежели «времена процветания». Нередко получающий награду решает, «что это и не могло быть иначе», а не получившие – жгуче обижаются. «Если она захочет – она все может», – утверждали некоторые из обиженных. Но волю к награждению у честного руководителя рождают только талант, труд и преданность делу! «Просто она ко мне плохо относится» – такой вывод удобнее для малоспособных и ленивых. К сожалению, популярность, каким бы трудом она ни была на глазах у всех завоевана, вызывает и зависть: это уже я говорю о том, что имело место за пределами театра. Вдруг поползли такие разговоры: «Русский и казахский драмтеатры ютятся в одном помещении, а этому Детскому дали такое роскошное здание». Разве так, в готовом виде дали? Кто-то куда-то писал, приезжали разные комиссии… Кому-то я здесь стала поперек дороги. Да, в это время в душе моей царило бездорожье. По совести говоря, я хотела только одного: вернуться в Москву. Заливаясь слезами, я писала письма с просьбой о «реабилитации» (?!). Но ответы, что приходили, – были похожи на плевки. Дирижер оперы Г.А.Столяров пригласил меня поставить в оперном театре «Великую дружбу» Мурадели, надеясь на многое… Но, как всем известно, это был период жесточайшего разгула сталинских «ниспровержений» в искусстве. По непонятным для людей искусства причинам не допускалась до народа «Молодая гвардия» (?!). На первых спектаклях она имела большой успех, а затем я была вызвана в высокую партийную организацию и подвергнута жесточайшим упрекам за «преувеличение роли комсомола»… Вскоре, уже получившая Государственную премию опера «От всего сердца» была внезапно лишена этой премии и «снята с репертуара». Новый приступ жесточайшего самодурства Сталина растаптывал надежды на справедливость. Началась травля секретаря ЦК по культуре, замечательно благородного и культурного человека Илиаса Омаровича Омарова, стал более замкнут и Мухтар Ауэзов, изменился по отношению ко многим ранее «подшефным» Шалхмеров… Некоторое время вместо него первым секретарем был Г.А.Борков, высоко оценивший строительство и создание нашего театра, но его скоро из Казахстана отозвали. Туман вокруг меня сгущался. Решила: напишу Г.А.Боркову, он меня очень ценил. Сейчас он – первый секретарь Саратовского обкома партии. Хорошо, если протянет мне руку. Протянул сразу. Написал, что такой работник, как я, ему сейчас очень нужен и он добьется моего перевода в Саратов. Постаралась скорее раздать, даже продать за гроши, все напоминающее мне жизнь в Алма-Ате. Нужен контейнер для единственного – пианино. Из театра, построенного здесь, меня выживают. Теперь за назначением в Москву, Борков уже дал на меня заявку. Спасибо. Ведь я все еще почему-то значилась «ссыльной»… Мой Илюшка В 1972 году Ассоциация театральных деятелей США пригласила меня быть участницей конференции в Нью-Йорке. Огромное впечатление произвел на меня режиссер, блистательный шекспировед Йозеф Папп. Он сказал:– Все будущее человечества зависит от отношений отца и сына.
Женский голос из зала «лукаво» прервал его:– Зачем же тогда вы поставили «Гамлета»? Ведь главное там – отношения сына и матери?.. Папп ответил без тени улыбки:
– Жаль, что вы не поняли этой драмы. «Гамлет» целиком посвящен отношениям сына с отцом.
Илюша появился на свет сейчас же вслед за тяжелой болезнью – я переболела брюшным тифом; он оказался абсолютно полноценным и здоровым ребенком. В три года он был рослый, озорной, смышленый. Он уже тогда, вероятно, был согласен с Йозефом Паппом, что мальчику без папы скучно, хотя и не умел еще этого выразить. Илюше было пять лет, когда на елке он прочел стихи Агнии Барто и его премировали кукольным паяцем с пышной шевелюрой, розовой улыбкой, бантом, глядящими в разные стороны глазами. Паяц играл на скрипке. Илюша подолгу держал эту игрушку в руках, словно что-то припоминая. Потом рано утром, забравшись ко мне в постель и поглаживая меня по щеке, спросил:– Мама, мне это приснилось или на самом деле… Помнишь, мы летели на самолете куда-то далеко и у меня был большой, красивый папа?
Это было! В один из месяцев «просветления» мы все вместе летали в сосновые леса санатория «Боровое».– Мама, а когда это было?
– Когда ты был совсем маленьким. Илюша крепко прижался ко мне и сказал:
– Мама, я хочу опять быть совсем маленьким.
Да! То, что хотела навсегда вычеркнуть, забыть, сын неотвязно мне напоминал. В борьбе «за папу» Илья был очень настойчив. Когда, приехав в Москву за назначением в Саратов, мы встретили Дмитрия, Илья каким-то чудом его узнал, бросился к нему на шею, и в Саратов поехали втроем. Я обеспечила Илью «большим, красивым папой». Права выбора у меня не было. Природой предопределено, что ребенку нужны мать и отец. Он был около нас до дня совершеннолетия моего Ильи и очень усложнял мою жизнь. Поцелуй феи (И. Ф. Стравинский) В саратовской мансарде было сыро и неуютно. Иногда, отрываясь от «сегодня», лечилась своим «вчера». Вспоминала чудесные дни моей жизни. …Берлин 1931 года был добр ко мне. Я жила в музыке Верди, в царстве Шекспира. Все в Кролль-опере, от генераль-мюзик директора до технического персонала, улыбались мне, верили. Я, собственно, еще ничего хорошего там не сделала, но отключенность от всех администраторских дел, вечно горящая лампада семейного уюта, здоровые дети – бывает же все так хорошо в жизни! Утром – на курсы Берлица улучшать немецкий, а потом с клавиром под мышкой пешком через Тир-гартен на репетицию. Потом обедать, полчаса полежать и снова в театр: встречи с отдельными исполнителями, художником, работа с концертмейстером или (очень часто) с самим Отто Клемперером – не жизнь, а настоящая сказка. И вдруг… Клемперер просит послезавтра после обеда не назначать ничего – мы с ним куда-то пойдем. Мне очень не хотелось нарушать чудесно найденный ритм жизни, впускать до премьеры какой-то сквозняк в «Фальстаф-атмосферу», но спорить с ним я не могла. Ему, если чего-нибудь хотелось, то всегда очень. Итак, куда-то он меня послезавтра поведет? Оказалось – будут гости у него дома, в центре внимания – Игорь Федорович Стравинский. Клемперер заранее испытывал какое-то почти мальчишеское удовольствие от нашей встречи: я внутренне – целиком на своей родине, Стравинский в то время – целиком «наоборот», но оба русские, из музыкальных семей. Как мы будем разговаривать друг с другом? Величайшее мое преклонение перед автором «Петрушки», «Весны священной», «Свадебки», сознание моего, рядом с ним, музыкального «лилипутства» создавало во мне еще большую напряженность. Мы оба одинаково хорошо говорим по-русски, но как различно сейчас то, что хотим сказать! Стравинский небольшого роста, похож на самого элегантного моржа (но все-таки моржа). Когда Клемперер нас познакомил, гость скорее отдернул, чем протянул руку. Клемперер с интонацией «наивности» сказал, что очень любит слушать русскую речь, и попросил нас поговорить друг с другом. С ловкостью спортсмена Стравинский моментально оказался в другом углу комнаты – отскочил от меня, как футбольный мяч от ворот противника. Какая там русская речь! Хорошо, что началось чаепитие, где я могла заняться узорчатыми печеньями и выпала из поля зрения великих, в первую очередь Отто. И зачем он меня сюда пригласил? Но после чаепития Стравинский сел за рояль и проиграл с начала до конца свой балет «Поцелуй феи», построенный, как известно, на мелодиях произведений Чайковского. Слушать и созерцать Стравинского в двух шагах от себя, за клемпереровским роялем – это уже наслаждение. Конечно, выражение лица «дикаря», как потом назвал меня Отто во время встречи с Игорем Федоровичем Стравинским, сменилось другим, восторженным и покорным. Кончив играть, Стравинский попросил присутствующих сказать свое мнение о либретто. Именно – о либретто. Непреложная гениальность музыки не подлежала для него сомнению. Клемперер обратился ко мне:– А что думает Наташа?
– Мне нравится, что здесь ровно столько содержания, сколько дойдет из самого балета, а не из подстрочников к нему, – сказала я.
Стравинский подпрыгнул на диване, посмотрел удивленно на Клемперера и сказал:– Это очень верно, то, что она сейчас сказала, и очень важно: в балете доза содержания, ведущего развитие действия и не давящего на легкость и грацию формы танца, имеет совершенно особое значение.
Похвала Стравинского доставила, конечно, мне удовольствие, но особенно был рад Клемперер. Он даже сделал жест руками, похожий на тот, что бывает после ловкого трюка в цирке. Клемперер хотел рассказать Стравинскому о репетициях нашего «Фальстафа», о том, как мы работаем с артистами, вскрывая глубины образов, но Стравинский удивленно поднял бровь (у него, кажется, был монокль) и сказал:– Певец должен петь точно то, что написал композитор, – только это, по-моему, важно. Выразительность звучания разных колоколов зависит только от длины веревки.
Ни о чем, кроме своих произведений, ему говорить было не интересно, и скоро его визит был окончен. Недели через две на пороге комнаты, где мы репетировали «Фальстафа», появилась огромная фигура Клемперера, отчаянно машущего руками.– Простите, что перебил, она покорила и его, вы представляете себе? Стравинского!
Оказывается, Игорь Федорович, уезжая в Париж, специально заехал к Клемпереру с просьбой передать мне клавир «Поцелуя феи» с личной, Стравинского, надписью «Наталии Ильиничне Сац». Все говорили: «О!» и поздравляли меня, конечно, тем более что этот подарок – целиком инициатива самого Игоря Стравинского. …Жизнь забросила меня далеко… Когда в пятидесятые годы после Алма-Аты попала в Саратов, тем, кто следил за моей жизнью, почудилось, что снова приближаюсь к Москве. Ну а мне это не казалось. Воспоминание о прошлом уже не могло служить трамплином: как давно прочитанная и полузабытая книга было это прошлое. Нет, я не падала духом: писала сценарии, ставила постановки, имела настоящий успех в концертах, но мелкое дно подпирало меня – без театра жизни быть не могло. И без Москвы тоже. Однажды, когда мы с сыночком сидели вдвоем на железной кровати, отодвинутой от сырой стены, старуха хозяйка крикнула снизу:– К вам пришли.
– Ты же обещала рассказать сказку, – капризно загудел Илюша. Он думал, что пришли артисты Саратовской филармонии Лия Ровницкая, Лева Горелик или Волгины что-нибудь со мной репетировать.
– Нет у меня больше сказок, Илюшенька, – сказала я и утерла глаза: вошел незнакомый мужчина.
– Я к вам по поручению своего московского друга, известного собирателя музыкальных автографов Рабиновича, – сказал он, доставая из портфеля что-то завернутое в бумагу. – В конце тридцатых годов ему посчастливилось купить по случаю редкий клавир с личным автографом Стравинского. Он им, сами понимаете, очень дорожил. Но сейчас, узнав, что вы в Саратове, попросил вернуть вам это на счастье – ведь эти ноты Игорь Федорович подарил лично вам…
Мужчина развернул газету и передал мне изящно переплетенный клавир балета Стравинского «Поцелуй феи» с памятной надписью. Какой, видно, хороший человек был этот «собиратель», так я и не смогла его поблагодарить! Как важно было это для меня в ту минуту! И сын мой снова в тот вечер услышал сказку и заснул сладко, как будто его на самом деле поцеловала фея. Но, вероятно, она опять поцеловала и меня, иначе не сидела бы я сейчас в Доме творчества «Дубулты» и не написала бы для вас этой истории. Одеяло из разноцветных лоскутов Прости, читатель, что я тебя так поспешно, словно на ковре-самолете, перенесла из Алма-Аты в Саратов. Кстати, совсем недавно я снова получила горячий привет из театра для детей и юношества Казахстана, отметившего уже 45 лет со дня своего основания и горячо благодарившего «своего основателя», как они называют меня. Конечно, Саратовская филармония и театр в Алма-Ате были не сравнимы. Только первые две недели нам дано было право жить в прекрасной гостинице. Ее старожилы вспоминали, как я жила там в 1933 году и повар мгновенно исполнял все мои желания; каким успехом пользовался там руководимый мною Московский театр для детей (он был там в это время на гастролях), как по приезде в Саратов меня прямо с вокзала повезли на парад (было 1 Мая), пригласили на центральную трибуну. Да, это было лет двадцать назад… Потом с большим трудом, в перенаселенном городе мне удалось снять две крохотные комнаты на втором этаже серого деревянного флигеля на окраине города; без водопровода и с очень крутой лестницей, с девятой ступеньки которой я однажды рухнула с переломленным ребром. Это было уже через пять месяцев после переезда в Саратов, когда и в этой поначалу неприветливой Филармонии ко мне стали относиться с теплом. Но это было позже. А тогда Филармония с ее пестрым, малокультурным штатом, людьми в большинстве своем устремленными только к «нормам», максимальному заработку, крикам и спорам около кассы – бр-р; как все это было далеко от искусства и простой порядочности. Директор (Столяров) встретил меня, не скрывая своей «бдительности». Спорить с первым секретарем обкома он, конечно, не смел, и хотя эта Филармония хромала на обе ноги и повсеместно была признана самой отстающей, он больше всего хотел сохранить свое «первенство», недопущение «ссыльной» к художественному руководству. Но я понимала, что и здесь могу и должна принести посильную пользу. Очень хотела оправдать доверие Геннадия Андреевича Боркова, строго запретив себе обращаться к нему с какими бы то ни было просьбами. У него ведь были тоже «бдительные» недруги. Трудно? Бывало и труднее. Выдюжу! «Работать!» – как кричат в цирке перед выходом артиста на арену. В Филармонии проблем было много. Отсутствие репертуара. Артисты не были тарифицированы: и хороший и плохой получали одинаково, ставок не было. Удручало засилие куплетистов, сыпавших пошлыми остротами. Мои поездки в Москву, помощь М.Чулаки и особенно Г.Щепалина помогли кое-что изменить. Меня полюбили, несмотря на строгость и требовательность. Наш симфонический оркестр стал звучать гораздо лучше, так как бывшего главного дирижера я сделала вторым, пригласив настоящего мастера – дирижера Натана Факторовича. Удалось заметно улучшить молодыми голосами хор, большой радостью было «открытие Паницкого». Помню, как была поражена, когда услышала впервые неведомые мне звуки в маленькой комнате нашей Филармонии, когда все уже разошлись после рабочего дня. Разве у нас есть орган? Кто играет Баха так удивительно? Подхожу к двери маленькой комнаты, приоткрываю ее, застываю на пороге. На стуле, с огромным баяном в руках, играет слепой, удивительно красивый, еще молодой мужчина с темными вьющимися волосами и светящейся улыбкой… Такие лица всегда удивляли меня на картинах М.Нестерова… Знакомимся. Он очень приветлив. Репертуар у него огромный и какое глубинное восприятие музыки. О себе рассказывает охотно и просто. Сын многодетного пастуха из деревни Балаково Саратовской области, слепой от рождения. Абсолютный слух. Поразительная музыкальная память. С детских лет помнит себя с гармонью в руках: отец его интуитивно понял, что это чудо-ребенок. Помогал семье, играя во дворах, в трактирах. Теперь у него уже есть чудесный баян. «Он все время со мной; снимаю, только когда ложусь спать». После нашей первой встречи расспрашиваю об Иване Яковлевиче Паницком всех, но к нему относятся без того трепета, который испытываю я. Свой, саратовский, штатный. Скромный. Его часто посылают с концертами по области. Играет он по первой просьбе. Когда едет в поезде, в купе набиваются пассажиры, дети, проводники из других вагонов. Паницкого знает и любит вся область. Врезалось в память: никогда в жизни не ощущала «Жаворонка» Глинки таким родным, как в исполнении Паницкого: вот оно, русское поле и голубое небо… Невидимый, но так звонко несущий песнь надежды сладкой «Жаворонок». Открывать одаренных людей значило для меня всегда стремиться активно помогать им. Среди солистов наших симфонических концертов под управлением Факторовича через несколько месяцев был объявлен и Паницкий. В Филармонии это восприняли как самодурство, потом – о чудо! – мне удалось заказать композитору Чайкину специально для Ивана Яковлевича концерт для баяна в сопровождении симфонического оркестра, и как был счастлив слепой музыкант! Через некоторое время удалось выдвинуть его и на звание заслуженного артиста РСФСР. Многие были удивлены. Я же считала, что это – справедливо. Конечно, в план были включены концерты для детей и юношества. Для этой работы удалось объединить музыковедов, умеющих просто и увлекательно говорить с детьми, оканчивающих консерваторию певцов и инструменталистов. «Бахчисарайский фонтан» А.Аренского в исполнении симфонического оркестра, хора и чтеца был большой радостью для старшеклассников и меня. Появилось два эстрадных микротеатра. Первая программа, над которой работала я сама – «Ваша записка в несколько строчек», – была по нашему заказу написана крупнейшим мастером этого жанра Владимиром Поляковым и очень хорошо исполнялась Ал. Волгиным, Г. Зеленской, В. Толчановым, одаренным молодым Володей Баталовым, привезенным мной из Москвы (окончил ГИТИС), и другими. Программу, другой бригады поставил тогдашний главный режиссер Московского театра сатиры Э.Краснянский. Она называлась «Розы и шипы». В ней участвовали молодая талантливая певица Лия Ровницкая и Лев Горелик, позже ставший народным артистом РСФСР. А как я радовалась своему первому концерту! Очень милый фельетон «Наташа» 3. Гердта, две главы из романа Л. Н. Толстого – встреча Анны Карениной с сыном – и «Кармен» П. Мериме, который я исполняла с очень хорошим пианистом Г. Гольдфедером. Просили выступить в Доме офицеров, в домах культуры, в высших учебных заведениях… Не только правом, но и обязанностью нашей Филармонии было приглашение знаменитых гастролеров. В Саратове выступали Генрих Нейгауз. Григорий Гинзбург, Надежда Казанцева, Павел Серебряков, Эмиль Гилельс… Конечно, хочется писать только о хорошем, но и «подземных толчков» было много: сыпались упреки, что в штат Филармонии протаскиваются евреи, ссыльные. Комья грязи то и дело мешали идти к ясной цели. Саратов – город музыкальный. На два концерта Леонида Когана, которые мы давали в Большом зале местной консерватории, билеты были немедленно проданы. Но вот приехал виолончелист с именем, уже несколько стертым, зато – уроженец Саратовской области, да еще приятель нашего директора. Директор твердо решил «поддержать друга», а билеты не раскупаются, лежат себе в кассах. И вдруг к нам на пять концертов (как и виолончелист!) едет Вертинский! Директор наш придумал хитрый план: он велел нашим «борзистам» (бюро работы со зрителем – Борз) продавать билеты на Вертинского только тем, кто «в нагрузку» купит столько же и на концерт виолончелиста. В результате концерты виолончелиста прошли пристойно, при полных залах, в городе, заклеенном его афишами. А к приезду Вертинского ни одной афиши повесить было уже нельзя; в кассе не было ни одного билета. Я заявила директору протест против такого рода нечестных комбинаций, но в ответ получила: «Вопрос решает только касса и я». Не забыть мне, как в кабинет с фанерной перегородкой в бельэтаже Филармонии, где я сидела, вошел высокий, элегантный, хотя уже очень немолодой Вертинский.– Я приехал в Саратов сегодня утром, в гостинице на меня посмотрели, как на привидение, обошел весь город – и ни одной афиши… Вы понимаете мое состояние, Наталия Ильинична? Я зашел к вам, потому что подумал, ведь вы тоже знали много обид артистического самолюбия и поймете меня.
Стараюсь его успокоить:– В данном случае, Александр Николаевич, виной всему – ваша популярность. Как только было объявлено о вашем приезде, билеты были моментально расхватаны. Зачем дразнить афишей тех, кто уже не сможет купить билет?
– Нет, Наталия Ильинична, я спрашивал: афиш в городе не было. Значит, мною торговали, что называется, из-под полы, моей фамилии здесь постеснялись. Отмените мой концерт – я завтра же уеду.
Положение становилось угрожающим. К счастью, в этот момент в комнату ко мне постучала артистка Оперы Ирочка Пригода. Пушистые волосы, курносый носик и очаровательные губки Ирочки произвели впечатление. Поэт вечно женственного, Вертинский моментально встал, приосанился. Я взглянула на Иру просительно – она все поняла: улыбнувшись, чарующим жестом сняла перчатку, протянула руку Вертинскому.– Так вот вы какой, всемирно известный поэт современных женщин. Простите, знакомлюсь попросту, сама. Вертинский, изящно согнувшись, прильнул к ее руке. Ира покачала мне головкой, дескать, будьте спокойны:
– Ведь ваш концерт завтра, Александр Николаевич? Если вы сейчас свободны, может, зайдете ко мне, осчастливите вашу поклонницу? У меня в саду расцвели такие чудесные розы, да и кулинарка я неплохая… Кстати, сегодня утром приехал ко мне в отпуск муж – капитан 1-го ранга – замечательный собеседник.
Сам дьявол не сумел бы придумать в этот момент лучшей ситуации, чтобы выручить Саратовскую филармонию. Вертинский стал мягче, но сказал мне на прощание:– Я остаюсь до завтра. Но если афиши до начала моего концерта не будет, простите, уеду. – И устремился «пока» вслед за Ирочкой.
Я пошла к директору – он предвидел скандал, слышал через стенку наш разговор и уже повязал голову полотенцем в знак «ужасного приступа мигрени». Увы, героем он не был.–Что, афиши? Афиши вот лежат, давно напечатаны, как их можно сейчас клеить? Публика разнесет Филармонию. А впрочем, я должен срочно идти домой, решайте сами. Не умирать же мне из-за какого-то Вертинского. – И, схватившись одной рукой за голову, второй – за сердце, он упорхнул из Филармонии.
Ирочка была, что называется, «свой парень». Через полчаса я позвонила ей по телефону:– Я «без вины виноватая». Выручайте. Подержите его сегодня у себя подольше. А завтра с самого утра пригласите кататься по Волге на пароходе. Может, пообедаете на островах? В общем, очень вас прошу, доставьте его прямо к концерту, к семи вечера. Не раньше.
Назавтра один из прытких администраторов получил ведерко с клеем, кисть и злополучные афиши. Он должен был выклеивать эти афиши на пути следования Вертинского – от пристани к Филармонии. Задача второго администратора состояла в том, чтобы моментально сдирать эти афиши, как только Вертинский проследует мимо. Малопочтенная работенка! Ну а что можно было придумать еще? Перед началом концерта Вертинский появился в хорошем настроении (чемодан с концертным костюмом Ира надоумила его взять с собой уже с утра, чтобы «не спеша подышать свежим волжским воздухом»). Иру с мужем как «героиню дня» посадили в первый ряд, в самой середине. Ну а в вестибюле Филармонии творилось нечто несусветное. Во-первых, Вертинского узнали, когда он проходил по городу, во-вторых, кое-кто все же увидел афиши и требовал объяснений, как могли быть все билеты проданы, когда афиши своевременно не были вывешены. Отдувались бедные администраторы. Я в первый раз слушала Вертинского. Его предельная музыкальность, умение рождать почти зримые образы, юмор и печаль, движение мысли и тонкая наблюдательность произвели на меня большое впечатление. Артист! В каждом своем движении, в точно найденном минимуме этих движений. Интересное явление! Я даже забыла о той «грязевой ванне», в которую погрузил меня директор, сидела, облокотившись на перила ложи, думала о ювелирной отработке каждого штриха у этого большого мастера эстрады После концерта несколько человек из Филармонии, Ира, ее муж и я зашли пригласить Вертинского поужинать. Он сказал:– Для меня нет большего счастья, чем выйти в зрительный зал, где у каждого свои мысли, заботы, и увлечь всех только тем, о чем я им буду петь, заставить выбросить из памяти все остальное. Я иногда, выходя на сцену, мысленно потираю руки: «Сейчас подчиню всех вас себе, заставлю видеть только мои образы, думать только о них». Какое это счастье – чувствовать, что можешь подчинять слушателей себе, своей творческой мысли, владеть их сердцами, переносить их то в мир маленькой балерины, засыпающей на мокрой от слез подушке, то отправляться со всем зрительным залом в бананово-лимонный Сингапур, который я сам выдумал.
Я не пью ни водку, ни вино. Не умею и не люблю. Свой бокал с ситро подняла – будто это шампанское, и сказала:– За вашу неповторимую индивидуальность, Александр Николаевич! За ваши изумительные руки, которые заставляют верить, почти видеть, что вы – «маленькая балерина», что вот сейчас на наших глазах падают осенние листья, что ушли все надежды. Мне кажется, только у Улановой и у вас такие говорящие руки…
Он как-то впился в эти мои слова, повторил их удивленно:– Нечто подобное сказал мне Константин Сергеевич Станиславский. Я вам благодарен за все!
В Театре оперы и балета имени Чернышевского я вела занятия по сценическому мастерству с артистами балета. Об этом попросил меня главный балетмейстер К.Адашевский, который ставил «Эсмеральду». Поставила я в Опере «Сказку о царе Салтане» Римского-Корсакова с музыкой гениальной, но с сюжетом, сложным для детей и наивным для взрослых. Но самое светлое воспоминание о том периоде жизни – работа над оперой Красева «Морозко». Сказка о труде и лени, добре и зле, правде и лжи хорошо «легла» на интересные ситуации в либретто. А как мне посчастливилось с певцами! Репетировали мы по вечерам, в музыкальном классе, после моей работы в Филармонии. Это был праздник и для меня (занимаюсь своим любимым делом!) и для певцов (не избалованы многие из них углубленной работой над образами). Чудесные два-три месяца жизни. Какое счастье быть в своей стихии! Чудесная русская музыка М.Красева. Любимая профессия. Я – режиссер. И не все ли равно, что приходится спать в сыром углу мансарды: зато просыпаюсь каждое утро как счастливица, в своей солнечной профессии. Да, каждый день мысли о новых штрихах постановки, о счастье, что скоро премьера в Большом оперном театре, премьера, радоваться которой буду вместе с детьми! Каким глубоким смыслом звучит во мне надежда: дети снова придут в театр, в котором имею счастье творить и я. Но в день премьеры обуял страх: наверное, как режиссера меня все забыли. Ссыльная, ничья, стою в кулисах чужого города… Но когда зрительный зал стал наполняться большими и маленькими зрителями, когда оказалось, что все билеты проданы, когда дирижер Гоффман своей дирижерской палочкой включил звучание оркестра и трепетно замолк зрительный зал, я вдруг успокоилась. Почувствовала, что все участники спектакля верят в него, что с первых моментов действия сразу установился полный контакт между сценой и зрительным залом. Занавес между первой и второй картинами не давали сознательно. Выходы артистов к рампе часто нарушают внутреннюю их собранность. Но после третьей картины, когда Морозко устраивает Дунюшке и лесным жителям елку, вдруг раздались такие оглушительные аплодисменты, что занавес закрыть не удалось. Все артисты остались на сцене, а я как-то не сразу поняла в чем дело, но, услышав скандирование моего имени и фамилии, робко появилась из-за елки. При моем появлении все зрители встали, овация еще усилилась и длилась долго, и… я чуть было не заплакала, видя как утирают слезы зрители самого разного возраста. «Морозко» в Саратове завоевал триумфальный успех. Я вдруг поняла, как справедлив народ, как больно он ощущает несправедливость «вышестоящих», ценит тех, кто полностью отдает свой труд и сердце даже в самые суровые времена своей жизни, тех, кто до конца честен. Прости, читатель! Я не нашла в себе мужества, чтобы рассказать тебе до конца о «саратовских страданиях» своих. Унижали меня там сознательно и жестоко многие. За каждый светлый миг и светлое мгновение – слезами и тоской платила я судьбе… Отец Илюши являлся в нашу мансарду не раньше полуночи. По «педагогическим соображениям», всем своим существом любя Илюшу, я терпела его фальшивое самодовольство, но его игра на скрипке, особенно в верхнем регистре, была бы невыносима, если бы… он не числился, увы, «мужем художественного руководителя». За эту бедную спину он держался цепко. Столяров, в конец раздраженный успехами в концертах и театре, зверел все больше. Он уже подготовил план перевода меня из «такого престижного города, как Саратов», подальше в область… Всего не опишешь. Но однажды все-таки я собралась с духом, отправила лично Г.А.Боркову, обливаясь слезами, просьбу – куда угодно послать меня с Илюшкой. Но, конечно, я все-таки хотела и отчитаться за несколько лет моей работы в Саратове и просила его о просмотре. Зато ровно через полчаса позвонили Столярову, что послезавтра в 11 утра состоится просмотр секретарями обкома творческих работ всех ведущих коллективов и солистов нашей Филармонии. Организацию и проведение этого концерта возложить целиком на художественного руководителя Филармонии Н.И. Сац. Я опять поверила в справедливость. Отчет наш прошел отлично. Геннадий Андреевич пожал мою руку и сказал:– Есть люди, которые считают своим главным делом сомневаться и перестраховываться. Я не в их числе. Саратовская филармония сегодня стала нашей гордостью, и спасибо за это прежде всего таланту, культуре и трудовой стойкости Наталии Сац.
Свое пребывание в Саратове называю «одеялом из разноцветных лоскутов» – попадались обрывки шелка, кусочки ситца, грязное тряпье, сермяга… А в общем все же вышло одеяло, которое в суровые месяцы моей жизни как-то прикрывало нас с Илюшей. Придумать только! Казалось бы, тюрьмы, лагеря, пытки, допросы. Больше пяти лет подряд!!! Шестой год с правом жить только в пределах Перебор, далеко не легкое пребывание в Алма-Ате, где мне, кроме оскорблений, даже вручили золотые часы, грамоты и орден «Знак Почета» (за год перед тем, как оттуда выгнать). Понадобились и садистские испытания в Саратове… Сколько же можно! За что?! Писать «постлюдию», как «вдруг» зауважали меня «недруги», как искренне поздравляли многие друзья, – незачем. Интересным продолжением моей, такой полосатой жизни явилась очередная поездка на экзаменационную сессию в ГИТИС, в Москву (два раза в год, на две недели, мне эти поездки были разрешены уже несколько лет). Некоторые из московских друзей были ко мне по-прежнему приветливы, и только с ними неподолгу встречалась: увлекалась своей учебой. Через несколько дней после встречи с Г.А. Борковым, приехав на очередную сессию, я была приглашена в гости к композитору Мариану Ковалю. Он только что получил новую квартиру в высотном доме на Котельнической набережной и очень этим гордился. (По иронии судьбы, уже много лет я живу в этом доме.) Я села на тахту, пока они с женой вышли в другую комнату «сообразить», чем меня угостить. Машинально взяла в руки газету, что лежала тут же, и… обомлела. Там был напечатан Указ об амнистии тем, кто имел буквенные статьи сроком до пяти лет! Значит, я имела право, полное право навсегда вернуться в родную Москву?!! На следующий день я была принята начальником Управления по делам искусств Александром Васильевичем Солодовниковым. Приветливо улыбаясь, он подписал приказ, что я отзываюсь из Саратова на работу в Москву. Когда директор Филармонии начал было нудить, что мы не совсем понимаем друг друга и он думает… – я вытащила из сумочки приказ о моем переводе в Москву, попросила его больше не затруднять себя «думанием». Оставив его в состоянии, близком к столбняку, побежала в свою мансарду собирать вещи. Начнем во второй раз Вернуться в Москву было главным моим желанием много лет. Но как будет трудно снова стать своей, московской, конечно, не представляла. Работать в Центральном детском театре оказалось невозможным, и как в пятнадцать лет начала трудовой путь в Театрально-музыкальной секции Московского Совета, так в пятьдесят пять должна была его снова начать в Гастрольно-концертном объединении. Конечно, снова жить и работать в Москве, делать что-то хорошее для московских детей было немаловажно, но так срослось мое понимание своей цели жизни в родной Москве с родным театром для детей, что сейчас, казалось, – я не я. Очевидно, так меня воспринимали и некоторые другие. Вот забавный случай этого периода. Шла я по Спасопесковскому переулку и вдруг закружилась голова – так закружилась, что чувствую, сейчас потеряю сознание. Какие-то добрые двое притащили меня в ближайшую поликлинику. Я лежала на узком деревянном диванчике, когда вошли доктор и сестра. Прежде дали что-то понюхать, потом капли. Головокружение прошло, осталась слабость. Сестра записывала историю болезни:– Фамилия?
– Сац.
– Имя?
– Наталия.
Теперь заговорил доктор:– Как, Наталия Сац снова в Москве?
– Да, – ответила я.
Доктор продиктовал медсестре сам:– Пишите: профессия – режиссер, место работы – Центральный детский театр…
Я его слабо перебила:– Я сейчас работаю… не в театре для детей… Доктор поднял брови:
– Не в театре для детей? Тогда вы еще не Наталия Сац. Тут его вызвали и разговор прервался, но, ковыляя домой, я даже улыбалась. Он прав. В восприятии москвичей Наталия Сац и Детский театр были одно неделимое целое. Пока для них я – еще не я.
Теперь я была уже не только амнистирована, но полностью реабилитирована. Невиновность доказана, я восстановлена во всех правах. По закону я должна быть снова на той работе, на которой была до 21 августа 1937 года. Когда прочла это постановление – даже дух захватило от счастья: неужели снова… директор и художественный руководитель Центрального детского?! Но хорошие законы пишут для того, чтобы их выполняли хорошие люди, а жизнь – тоже игра, в которой не все играют по правилам… Взмахом волшебной палочки нельзя изменить всех людей. Тогдашнему директору Центрального детского театра не только не хотелось восстанавливать меня в моих законных правах, но даже впустить туда в качестве режиссера, на что я охотно согласилась бы. Он делал все возможное, чтобы отдалять от меня членов коллектива, чтобы я сама не стремилась вернуться в Центральный детский. Было больно, обидно, но театр – организм сложный, а добиваться любимого дела чуть ли не через суд – бррр. Как только я вернулась, появились и очень ценные, лестные заявки на мою работу. Обрадовалась, когда женский голос в телефонной трубке сказал: «С вами сейчас будет говорить заместитель министра культуры, главный режиссер Театра имени Маяковского Николай Павлович Охлопков» – и я услышала в трубке красивый низкий голос выдающегося режиссера, который приглашал меня безотлагательно приехать к нему сегодня же, так как был уверен, что, «как только Москва узнает, что вы вернулись, вас будут рвать на части, а я сделаю все, чтобы заполучить вас в свой театр». В моем тогдашнем состоянии этот разговор радовал. Я только не могла понять, при чем здесь Министерство культуры. Мне объяснили, что Н.П. Охлопков в то время по совместительству был назначен заместителем министра культуры. (Правда, он недолго усидел в министерском кресле.) В тот день, когда он мне позвонил, я вошла в кабинет. За огромным письменным столом увидела мощную фигуру, красивую русую голову со скульптурно-значительными чертами лица, большие, раскрытые для объятия руки Николая Павловича, и так он был органичен на своем высокопоставленном месте, что я застыла на пороге. Николай Павлович подошел ко мне, по-товарищески обнял, подвел к креслу, усадил в него, сел напротив и, заметив, что мои пальцы дрожат, взял их в свои большие ладони.– Ну вот, значит, вернулись. Я никогда не думал, что будет иначе. Но рад, очень рад. Как говорится, сама судьба посылает вас в тяжелые дни, когда мне дали еще и эту почетную нагрузку. Мне нужен в театре заместитель с вашим умом, волей, энергией.
Теперь мы стали зрелыми, замыслов много, времени никак не хватает. Конечно, я понимаю, вы прежде всего режиссер. У вас будут интереснейшие постановки, и не думайте, что я буду как-то вмешиваться в ваши творческие замыслы. Гарантирую вам творческую независимость, мои приходы только на генеральные… Вероятно, когда человек, приехавший с Северного полюса, попадает в самую роскошную оранжерею, он чувствует себя так же странно и блаженно, как я в тот момент… На следующий день меня пригласили к заместителю управляющего московскими театрами К.А.Ушакову, и он сообщил, что Юрий Александрович Завадский, возглавляющий Театр имени Моссовета, просит назначить меня к нему заместителем художественного руководителя и режиссером. Я просила очень поблагодарить Юрия Александровича, которого ценила и уважала, за доверие, но вынуждена отказаться от этого лестного предложения, так как уже вчера дала согласие Н.П. Охлопкову. В этот же день Николай Павлович позвонил мне по телефону с просьбой присутствовать на генеральной репетиции его постановки «Гамлета» Шекспира и «поделиться с ним своим мнением». Много лет прошло с того дня, но не забыть мне волнения, которым я была охвачена на той репетиции. Режиссер Охлопков и художник В. Рындин в ту пору буквально потрясли не только меня – всю Москву. Как я была горда в этот момент предложением Охлопкова работать с ним, как счастлива правом бывать на репетициях его «Гамлета»! Такой осмысленной, ярко выразительной постановки любимой пьесы я ни до, ни после этого спектакля не видела. И все же привычным глазом я подмечала какие-то черточки, чуждые мне в атмосфере театре, в его рабочем укладе. Мне казалось, что уж очень резок Николай Павлович по отношению к просчетам «маленьких» актеров и очень щедро прощает недоделки некоторым ведущим. Мне было непонятно, как можно было допустить, чтобы на генеральной репетиции исполнитель роли Полония то и дело произносил текст роли «своими словами». Во время доверительного разговора, когда взмокший от волнения Николай Павлович лежал в расстегнутой рубашке на кушетке в своей небольшой комнате, после выражений искреннего восторга я сказала ему о своей тревоге:– Меня резануло, что некоторые артисты из самых главных еще до сих пор ждут реплик суфлера. Это же Шекспир. Каждое слово его для актера… А тут сам Полоний… Николай Павлович прервал меня:
– Играет эту роль один из лучших моих артистов, превосходный мастер, к тому же близкий мой друг.
– Тем более, – не унималась я. Охлопков прервал меня нервно:
– Только не вздумайте ничего ему говорить. Он не привык к замечаниям [30] .
На следующей репетиции меня больно хлестнула и другая подробность. В оркестровой яме сидели не только музыканты, но и артисты хора. Они создавали интересный звуковой фон в некоторых эпизодах спектакля. Однажды в перерыве между сценами раздался несмелый, но убежденный в своей правоте голос молодого певца:– Николай Павлович, разрешите сделать предложение. Мне кажется, если бы мы пели не тут, а в левой кулисе…
Охлопков прервал его и перекрыл робкий голос своим властным окриком:– Сидите в своей яме и молчите!
Два-три подхалима засмеялись, репетиция была продолжена. Я тихонько вышла из зрительного зала. Спорить с сильным, равным, ставить на свое место зарвавшегося – понимаю; но унижать честного и слабого?! Пусть Охлопков – не мне чета. Но мы очень разные… Узнала я, что некоторые из «приближенных к Охлопкову», боясь с моим приходом «потесниться», настраивали его против меня. Охлопков нервничал. Уже добился для меня штатной единицы, около месяца говорил со мной так, будто все решено. Но меня грыз червь сомнений. По совести сказать, сердце мое оставалось в Центральном детском, и назначение даже в такой хороший театр для взрослых казалось изменой самой себе и больше льстило самолюбию, чем радовало по существу. Не состоялось. Много лет спустя, в Доме актера, за ужином, на юбилее критика Иосифа Ильича Юзовского, ко мне подошел Николай Павлович Охлопков:– Как часто я жалел, что ты не пришла ко мне работать. Мне так нужны были твои руки, твой талант, твое сердце!
– Слишком горячее, – со смехом ответила я.
– Каждый бы свое ставил. Я в тебя верю… И черт его знает, почему это у нас не получилось…
Вернувшись в Москву, я далеко не сразу почувствовала себя «москвичкой». Многие из самых дорогих мне людей уже ушли из жизни, в бывшей моей квартире в Карманицком переулке на Арбате для меня оставался (пока!) только угол с кроватью. Но если быт никогда не был для меня решающим, жизнь без работы себе просто не представляла и, уж не помню как, оказалась в Гастрольном театре Министерства культуры. В этом театре, которым я теперь руководила, прежде не было спектаклей для детей. С большой любовью я поставила пьесу М. Львовского «Кристаллы ПС», попросила композитора М. Раухвергера написать музыку, радовалась незаурядным способностям молодого художника Леонида Эрмана, тогда только что закончившего постановочный факультет Школы-студии МХАТ. Самой дорогой мне режиссерской работой того периода считаю «Нору» Г. Ибсена. В своей первой жизни (так я называю годы до 1937-го) я была всецело занята созданием нового советского репертуара для детей. Только в полном затишье (я уже говорила – где и когда) вспыхнул страстный интерес к шедеврам мировой драматургии. Пьесы Ибсена заняли в моем сердце какое-то особое место. «Нору» («Кукольный дом») читала и перечитывала много раз, но что смогу когда-нибудь ее поставить, в то время не позволяла себе и думать. Сейчас ощущала эту возможность – ставить «Нору»! – как подарок жизни, ее дивный сюрприз. Я видела и слышала этот спектакль задолго до начала репетиций. Музыка Эдварда Грига, которую я носила в себе с раннего детства, помогала мне в этом… …Вначале занавес, раздвинутый не полностью, приоткроет только старинные часы с хороводом деревянных куколок над циферблатом. Дверцы кукольного домика будут открываться перед боем часов и закрываться после этого музыкального боя. Потом на сцене, раскрасневшаяся от мороза, в шубке, отороченной белым мехом, с елочными покупками, похожая на очаровательную куколку, появится Нора. Мне повезло! Как раз в это время в наш театр пришла работать только что окончившая Школу-студию МХАТ одаренная Маша Соколова. С большими серыми глазами, способная к неожиданным переходам от детской радости к подлинному трагизму, она появилась у нас именно тогда, когда я уже «носила в себе» мечту о Норе. С первых же репетиций большие «думающие» глаза Маши Соколовой, органичное общение с партнерами, часто совершенно неожиданная реакция, умение взять все от режиссера и вернуть ему гораздо больше восхищали меня. Я любила с ней работать, любила давать ей самые сложные и тонкие задания, а потом обнаруживать найденные ею всегда правдивые нюансы. Основные репетиции шли в углу моей комнаты на Арбате, в Карманицком переулке. Нервы у меня в это время были напряжены до крайности: боролась за полную реабилитацию мужа и посмертное восстановление его в партии. Как ни странно, это даже помогало моей психологической углубленности, а «Нора», в свою очередь, оказалась необходимой отдушиной. Потом я заболела плевритом. Высокая температура, пришлось лежать в постели. Но ведь в «Норе» столько работы «по внутренней линии» с каждым из немногочисленных действующих лиц! Получилось, что и плеврит оказался «кстати». Репетировала, лежа в постели. Никаких других дел, полная сосредоточенность на моей «Норе», весь мой мир – там, в драме Ибсена. Премьера состоялась на сцене бывшего кукольного театра. Огромной радостью было последние две недели репетировать «Нору» на сцене небольшого, но уютного помещения этого театра. Глубоко нажитое в условиях комнатных репетиций, к нашей большой радости, не расплескалось на сцене. На первую открытую генеральную были приглашены официальные представители. Успех был огромным и неожиданным. «Этот спектакль – событие в жизни нашего театра», – говорили не занятые в нем артисты, обычно очень ревниво относящиеся к успеху своих товарищей, а в этом случае искренне растроганные. Тем более я волновалась, когда наступил день премьеры. Стыдно сознаться, но я мечтала, чтобы в этот день мне принесли хоть один букетик, и я чуть не поддалась искушению сама себе купить цветы… Но пришла в театр, как всегда, что-то оказалось не в порядке… И искры тщеславия быстро потухли. Елка… Она была одним из главных «действующих лиц», самая важная часть декоративного оформления, своеобразный символ задуманного. Нора расцветала, когда это душистое деревце вносили в комнату, ставили на стол. А потом – радость украшать елку блестящими игрушками, мерцание свечек на ней. В следующем акте елка уже не светилась, игрушек осталось мало – она словно криво улыбалась, понимая, как сложна и несправедлива жизнь. И, наконец, в последнем акте полуобломанная облезлая елка лежала у порога, а Нора, после того как лихо плясала на маскараде, надев самые блестящие свои украшения, теперь снимала их с себя, словно елочные игрушки после праздника. Я и сейчас вижу жест Маши Соколовой, когда она медленно снимает длинные серьги, кладет на столик все свои «драгоценности», понимает, что праздник жизни кончился и бессмысленно тешить себя иллюзиями. Да я и сейчас вижу жизнь любимого спектакля, как будто он все еще продолжает звучать на сцене. В зрительном зале было очень тихо, так тихо, что минутами сжималось сердце – неужели это снова моя постановка в Москве?! Но вот финал и… успех! Москва меня не забыла. Я здесь родная. Сколько корзин цветов у моих ног, букетов, которые уже не в силах обхватить руками, какие горячие и долгие аплодисменты. Но помещение театра было не нашим, арендованным. В определенное время надо было уйти. И вот уже опустел зрительный зал, ушли наши рабочие… Только участники спектакля разгримировываются. Оставив все цветы на сцене, я зашла в комнату, где одевались женщины, меня долго целовала мама Маши Соколовой. Потом я надела пальто, шапку и пошла взять свои корзины с цветами и букеты. Но сцена оказалась пустой. Ни одного цветочка… Нахожу сторожа.– За цветами тут двое на такси приехали, все забрали и увезли. А я почем знал, ваши они или чьи…
Очередной обрыв провода… Широка страна моя родная В Гастрольном театре я работала недолго. Но слова любимой песни «Широка страна моя родная…» все время звучали в сердце. Может быть, если бы какое-то время мое жизненное пространство не было предельно ограниченно, я бы не испытала прежде неведомой мне радости познавать далекие города, поражаться росту новостроек. А мы со спектаклями нашего театра летали по стране, как птицы. Березники, Глазово, Сталинири, Запорожье, Лобна… Особенно ярко помню небольшие, только что выросшие домики, в большинстве своем двухэтажные, городка Мингечаура. Прежде даже не знала, что существует такой… Но не хочу кривить душой. Постоянные переезды оказались моему и без того изношенному сердцу не под силу. Потом опять Москва, где уже засела накрепко; замена в графе «амнистия» словами «полностью реабилитирована», прикрепление, пока за заслуги полностью реабилитированного мужа, к хорошей больнице и… по-прежнему неотвязная мысль: если еще в Центральном детском театре на работе не восстановлена, значит, я еще не Наталия Сац. Все равно в мыслях с этим театром скреплена неотвязно. Центральный детский театр жил во мне, как невытащенная пуля. И вдруг неожиданная модуляция. Я же опять здорова. Должна напомнить всем о том театре, который меня заставили покинуть 21 августа 1937 года. Пора вернуться туда хотя бы мысленно. Ведь сейчас я чувствую попытки даже вычеркнуть историю рождения этого театра. Значит… надо писать книгу о любимом театре, восстановить его создание и строительство для сотен тысяч людей, которым сейчас пытаются навязать лживую информацию. Якобы он был создан только после того, как бывший помощник Берии в Тбилиси К.Я.Шах-Азизов был направлен в Москву, хотя в действительности первый в мире театр для детей начал создаваться уже в 1918 году. Нет. Теперь уже клеймо бывшей арестантки не сможет помешать мне в моей задумке. Только кто издаст мою книгу? Помню, позвонила в издательство «Искусство» робко. Повезло. Вместо голоса секретаря услышала низкий голос, как потом выяснилось, директора издательства А.В. Караганова.– Простите, вы меня не знаете, это говорит Наталия Сац.
– Я вас знаю, здравствуйте, Наталия Ильинична.
– Спасибо, что вы меня знаете. Понимаете, мне бы очень хотелось написать книгу о детском театре, но вот захотите ли вы ее издать?
– Захотим. Заходите завтра от десяти до часу прямо ко мне для подписания договора. Будьте здоровы.
Да, это был луч солнца, который ворвался в мою жизнь. Над книгой этой я работала около двух лет. Ее название «Дети приходят в театр» мне помог придумать критик Иосиф Ильич Юзовский. Писала ее с утра до позднего вечера, иногда работала и ночью. Так или иначе, мое самое дорогое зазвучало в книжке, к которой поразительно тепло относились не только руководители и редакторы, но и наборщики. Моя книга «Дети приходят в театр» вышла в издательстве «Искусство» в 1961 году. Много хороших писем я получила от ее читателей, много добрых слов прочла о ней в рецензиях на страницах газет и журналов, она переведена на несколько иностранных языков, в том числе на японский. Еще работая в Гастрольном театре, я закончила театроведческий факультет в Государственном институте театрального искусства имени А.В. Луначарского. Получила диплом с отличием. Теперь в анкетах в графе «образование» могла спокойно писать «высшее». Но решила еще сдать кандидатский минимум, написать диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Осуществила и эту свою задумку. Возникла мысль вступить в Союз советских писателей. За плечами было не меньше двухсот статей по художественному воспитанию, киносценарии, пьесы, книги, сейчас хорошо говорили о последней из них – «Дети приходят в театр». Те, кто считал себя моими друзьями из числа детских писателей, усиленно отговаривали меня: «Предстоит совсем не легкая процедура. Зачем вам травмировать себя еще и этими заботами?» Но, начав что-либо, я не умею останавливаться на полдороге. Заявление подала. В члены Союза советских писателей была принята единогласно. Членский билет мне вручал известный поэт Степан Щипачев, тогдашний председатель Московской писательской организации. Очень теплые и приветливые слова сказал он мне при этом. Живое ощущение творческой связи с москвичами крепло. Но пусть у читателя не создастся впечатления, что многие месяцы я занималась только научно-писательской деятельностью. Не сидячий я человек. Привычка, что называется, служить, вернее, работать по своей главной специальности – режиссера, вкоренилась в меня с юных лет. И сейчас я ждала назначения на новую работу, по-прежнему хотела заниматься своим делом – поближе к детям. Тут случилось неожиданное. Помню, как в высокой организации мне предложили– пенсию. Большую пенсию, как жене, вернее, вдове полностью реабилитированного члена правительства. Возможность ежемесячно получать деньги, не работая, как-то не укладывалась в сознании. Но такая забота, высокая справедливость радовали. Я вышла из правительственного учреждения в Кремле в лучшем настроении, обещав завтра написать заявление с приложением кое-каких документов. Была ранняя осень. Александровский сад улыбался мне желто-красной листвой. Вдруг кто-то меня окликнул. Небольшого роста, всегда чему-то улыбающийся доктор Карпенко. Встречалась с ним в периоды депрессии, когда были особенно острые спазмы сосудов головного мозга. Его оптимизм помогал значительно больше, чем лекарства. С радостью поделилась с ним своей новостью, но вдруг увидела, как его рот презрительно наморщился.– Что с вами, доктор? Он почти крикнул мне в ответ:
– Вы и пенсия – понятия несовместимые. Куда вы денете ваше творчество, энергию, всю себя? У каждого человека есть своя стихия. Откажитесь наотрез. Иначе погибнете.
Тут подошел его автобус, и доктор Карпенко пустился вскачь. Я села на уличную скамейку, посмотрела на золотые листья клена и поняла: он прав. На следующий день от пенсии отказалась. Детский отдел Меня назначили заведующей детским отделом Мосэстрады, организации, по пестроте своей похожей на ту, где я начала свой творческий путь в 1918 году. Он помещался в Третьяковском проезде. Не помню, была ли там вывеска. Вряд ли можно было найти в Москве другое учреждение, которое бы меньше нуждалось в опознавательных знаках: дух эстрады витал над всем проездом, просачивался на соседние улицы, сгущался у дверей. Здесь обсуждались «номера», подыскивались партнеры, рождались и рассыпались бригады, «заделывались» поездки, восходили и меркли эстрадные «звезды»… Вы, конечно, понимаете, что те, о ком с усмешкой вспомнила, обитали за дверями, потому что не были в штате Мосэстрады. Но ощущение суеты, пестроты и разобщенности было и внутри этой организации. Здесь мне предстояло снова начать свой путь к московским детям и их искусству. Детский отдел помещался на первом этаже в большой комнате со множеством канцелярских столов: заведующей (теперь это была я), двух моих помощниц, курьера – словом, весь штат тут же, при мне. Между столами, на подоконниках – везде, где можно, – в свободных мизансценах размещались штатные артисты отдела. Сегодня их много: будет собрание по случаю моего назначения. Беру слово. Готовясь к встрече, наметила много нового, что, как мне казалось, должно зажечь артистов, заинтересовать зрителей. Кукольных театров сейчас четыре – увеличим их число. Постараемся дать выступления мастеров слова в школах. Создадим эстрадные спектакли. Объединим артистов в бригады, разные жанры – единой темой. Летом, когда у детей каникулы, создадим «Веселые фургоны», превратим грузовики в сценическую площадку и прямо «с колес» будем давать веселые представления в пионерских лагерях, а для ребят, которые остались в городе, – на бульварах и в скверах Москвы. По комнате проходит одобрительный, шумок – «идея» понравилась. Но далеко не все принимается таким образом. В ответ на предложение внести в программы лекций-концертов элементы театрализации, чтобы, выступая в школах, техникумах, клубах, шире приобщать детей к серьезной музыке, слышу:– Театрализованные, нетеатрализованные – никому эти лекции не нужны. Скука. Да и вообще это вы там в ваших театрах привыкли подпирать актера режиссерами да декорациями, а эстрадник с публикой один на один, он сам себе и режиссер и декорация. Можешь «взять» публику за горло – работай, нет – иди в театр, там тебя «подопрут».
Любовь к противопоставлению театра эстраде, плохо скрытое «а мы лучше» для меня не новость. Говорю спокойно:– А между тем «подпирать» эстраду надо. Подпирать новым репертуаром, заказывать его лучшим авторам и композиторам. Необходимо привлекать молодежь, нельзя считать, что, сделав один номер двадцать лет тому назад, можешь не волноваться и не работать над новым. Это особенно касается детского отдела. Дети сегодня – далеко не те, что во времена, когда мы с вами были детьми. Техника сказочно выросла, и зря некоторые фокусники думают, что их чудеса удивляют ребят, подчас только смешат своей наивностью. Эстраде больше, чем любому другому искусству, необходимо шагать в ногу со временем.
Спасибо старому фокуснику за его реплику: «Вместо подготовленной речи пошел живой разговор». Но какие разные люди окружают меня сейчас! Разговорники, певцы, арфистки, балетные, жонглеры, акробаты… Появляются в детском отделе хорошие детские писатели, известные поэты, свежо и увлеченно начинающие свой творческий путь композиторы. Через несколько месяцев в детском отделе – восемь кукольных спектаклей, десять групп с небольшими разно-жанровыми представлениями. Эстрадники привыкли больше всего полагаться на свою пробивную силу, на свою инициативу. А если им еще и помогают! Их передвижническая работа нередко бывает подвижнической. По первому зову несут свое творчество детям в глухие города и села. Обязанности художественного руководителя детского отдела причудливы, беспокойны, а для меня, типично театрального режиссера, не радостны прежде всего потому, что я все время боюсь: как бы количество не отразилось на качестве. Любите ли вы Новый год, елки, на ветвях которых переливается серебряный и золотой дождь, горят разноцветные огни? Я люблю елку с раннего детства, и сохранила к ней отношение, как к сказочному чуду. После Октябрьской революции понятие «бедные дети» исчезло. Уважение к детской радости заняло достойное место. Но в том году, о котором я пишу, я чуть было не заблудилась в огромном лесу празднично горящих елок. Все московские елки с обязательными Дедами Морозами и Снегурочками обрушились на мои плечи. Да, не было в Москве организации, завода, клуба, Дворца пионеров, большого домоуправления, не было подмосковного колхоза, где бы ни устраивали для детей праздничной елки. Кремль. Дом Союзов. Самые огромные здания отданы для зимних детских праздников. У меня голова идет кругом. Мечусь как угорелая среди поэтов, композиторов. Меня стали называть «генеральная Снегурочка СССР». Лестно, но не правдоподобно. С растрепанными волосами и блуждающими глазами я, вероятно, скорее напоминала ведьму. Впрочем, мысль о детской радости делает и эту работу небезынтересной. Помню, в детстве считала, что Снегурочки должны быть скромные, нежные, но сейчас заметила, что ребятам ближе Снегурочки «с огоньком», пусть даже озорные, но не кукольные. Я помню, как пришлось снять с этой роли некую Мариночку, вполне благовоспитанную красотку: она одинаково хорошо говорила, пела и играла на рояле, но ребята не почувствовали ее тепла и поэтому не поверили, что она «всамделишная». Возник у меня интересный образ Снегурочки для известной дрессировщицы Маргариты Назаровой, которая должна была появляться на шее у дрессированного медведя в сопровождении лесных хищников, которые беспрекословно слушались ее. Все это удивляет Деда Мороза: он «отстал от современности» и не понимает, что Снегурочка сегодня – иная, чем вчера. Как-то я пришла в Центральный детский театр. Просто как зритель, по билету. В раздевалку вошла с опозданием, быстро сняла шубу, шапку, калоши не глядя протянула гардеробщице, но она всплеснула руками:– Неужто… Наталия Ильинична?
Подбежали еще три гардеробщицы из стареньких, тех, кто работал в этом театре со мной двадцать – двадцать пять лет назад. Я не хотела «раскисать», кроме того, опаздывала, но и поднимаясь в зрительный зал по лестнице, слышала их голоса, особенно один:– Ведь я же Паня. Не признали? Паня я. В антракте подошла к оркестру, меня удивило его жидкое звучание.
– Сколько у вас теперь музыкантов? Кто дирижер? – спросила я у отдыхавшего около своего пульта молодого альтиста.
– Четырнадцать, – ответил он мрачно, – говорят, при
Сац тридцать два было, а сейчас тут до оркестра дела никому нет. Когда уходила домой, оказалось, гардеробщицы поделили «честь» моего одевания. По одной калоше держали две гардеробщицы, шапку – третья, а Паня, надев на меня шубу, чмокнула в щеку. Что-то доброе друг к другу после дружной совместной работы у людей остается, но… сколько хорошего в самом нашем деле пропадает! Какой чудесный был у нас оркестр, сколько внимания мы уделяли музыке в спектаклях Центрального детского театра! Многие его спектакли критики-музыковеды называли «насквозь музыкальными», творческая дружба с талантливыми композиторами была «закадычной», на сцене нашего театра постоянно звучала и симфоническая музыка. Может ли человек большой культуры, гуманист вырасти таким, каким мы хотим его видеть, не зная языка музыки, великих музыкальных произведений, когда эти струны в его сердце не затронуты? Как угрожающе поползла из радиоприемников, с эстрады, да даже со сцен театров музыка щекочуще-развлекательная, с будоражащими ритмами, как мало молодежи посещает концерты настоящей, серьезной музыки! Наш отдел может, должен увлечь детей музыкой, заронить любовь, интерес к ней с ранних лет. У нас появляются певцы-солисты, хорошие дуэты. Мы устраиваем встречи детей с ведущими музыкантами Москвы, одаренными учащимися музыкальных училищ и студентами консерватории. У нас в штате две арфистки, скрипачи, ряд интересных инструменталистов, знакомящих ребят с народной музыкой, но не так-то просто «воспитать воспитателей». Заведующие многими клубами ждут от эстрады только развлекательности и, проглядывая предложенную им смешанную программу, упрямо просят «освободить» их юных слушателей от самой лучшей инструментальной музыки, ссылаясь на то, что «детям их клуба по сердцу только фокусники, жонглеры и дрессированные собачки, если уж не можете показать им живую обезьяну». Да нет, мы не снобы и не против того, чтобы поощрялась любовь детей к животным. Но музыку – не уступлю! В детском отделе помогла мне та разношерстная работа, которую вынесла на своих плечах и в первые после Октябрьской революции годы, и в лагерях, и в Саратове. Но по-настоящему увлечь меня она не могла. Количественное не давало дозреть качественному… В детском отделе удавалось организовывать симфонические концерты, выступления выдающихся инструменталистов и певцов. Сумела привлечь таких музыкантов, как М. Ростропович, Л. Коган, Д. Кабалевский, И. Безродный, Г. Гинзбург, которые выступали в концертном зале Дома Союзов систематически. Объединила и лучших своих артистов с оркестром на сцене Театра эстрады. Зрела идея, в которую верила все больше и больше. Нужен детский музыкальный театр! Он сможет по-настоящему заинтересовать ребят музыкой, научить их с малых лет любить ее. Все чаще приглашают выступать на радио. Завела интересную дружбу с юными музыкантами, особенно учениками талантливого педагога А. Артоболевской в Центральной музыкальной школе. Снова путешествие… но уже по ЦМШ. Молодые дарования! Готовлю к печати вторую (после возвращения) книгу по заказу Детгиза о музыке и музыкантах – «Всегда с тобой». Еду с туристической группой в Румынию: надо, чтобы то, что делаешь для детей, было современно, а для этого – шире видеть мир искусства сегодня. Музыковед Владимир Зак как-то мне сказал: «Ваша жизнь, Наталия Ильинична, всегда была полифоничной». Но главная тема моей жизни – нести большое искусство театра «насквозь музыкального» – маленьким; как и с первых дней моей режиссерской работы, обогащать детей музыкальными образами; не забывать слова П.И.Чайковского, что именно опера помогает композитору сделать музыку подлинно массовым искусством. Сейчас, как никогда, нужен театр оперы для детей и юношества. Эта тема становится для меня главной. В недрах детского отдела возникают абонементы детской филармонии. По нашему заказу создаются новые произведения для детей; Игорь Морозов вместе со мной – либреттистом написал симфоническую сказку «Айболит и его друзья»… Симфонические концерты вновь спутники ребят. И вот снова – огромный Колонный зал с хрустальными люстрами, две тысячи детей, симфонический оркестр и я на сцене… «Необыкновенное ощущение! Ни на момент не покидает впечатление, будто художественные образы рождаются сейчас, сию минуту, силой импровизации, – писал Иннокентий Попов. – …Наталия Сац удивительно точно чувствовала характер возникающих и развивающихся музыкальных образов. Быть может, в самом деле известную роль сыграло то обстоятельство, что в свое время она «стояла у колыбели» произведения, подала Прокофьеву мысль написать «Петю и волка»? 45 и 60 В работе и не заметишь, как тебе стукнет шестьдесят лет. Праздновать не хочется. Некогда, да и я еще – не совсем я. Кто-то прочтет адрес, эстрадники преподнесут цветы… ни к чему все эта Но «машина» закрутилась. Любители юбилеев и добрые друзья «варганят» что-то в Центральном Доме работников искусств. День начался неожиданно. В пионерской зорьке по радио рано утром обо мне сказали добрые слова Дмитрий Кабалевский и Владимир Фере. Я хотела, прослушав это, снова залезть под одеяло, но в дверь позвонили. Это был помощник Анастаса Ивановича Микояна с большой коробкой, письмом в папке и роскошными розовыми и красными гвоздиками (любимыми цветами И.Я. Вейцера и моими). Я прочла письмо Анастаса Ивановича с трепетом. В тридцатые годы он был тесно связан по работе с моим мужем и очень уважал его. Помню, мы вернулись с мужем из загса, устроили торжественный ужин, и Анастас Иванович был тамадой на нашем празднике. В своем письме А.И. Микоян вспоминал о моем муже, «верном сыне партии, вдохновенном строителе новой жизни», говорил о моей любви к театру для детей, радовался, что я снова в Москве, поздравлял с шестидесятилетием. Вы представляете себе, как дорого было мне его внимание теперь, через много лет? Да, много было волнующего и удивительного в этот день. Телеграмма Отто Клемперера из Швейцарии! Телеграммы из многих, многих детских театров – даже из города, где я родилась, – из Иркутска. Посылочка из Чехословакии от Милы Меллановой и известного театрального критика Йозефа Трегера; вырезки из чешских газет, где тоже знали о моем шестидесятилетии. На вечере эстрадники изрядно заполнили зал и сцену. Лина Ивановна Прокофьева с двумя внуками (оба названы Сережами – в честь их великого деда, Сергея Сергеевича Прокофьева), академик Георгий Иванович Петров и еще несколько драгоценных мне людей еле пробились через толпу акробатов и деятелей оригинального жанра. Пришли на мой праздник писатели Сергей Михалков, Лев Кассиль и многие еще, почти все московские композиторы во главе с Д. Кабалевским, сотрудники студии грамзаписи, где уже вышло несколько моих пластинок. Михаил Гаркави и еще сорок девять Дедов Морозов очень насмешили обращенной ко мне кантатой. Начиналась она словами: «Кормилица народная…» Поздравляли меня заводы, на которых помогала детской работе, театры, школы, сами дети! Дышать в зале было нечем – народу в два раза больше, чем мест. В официальном сообщении «45 лет работы в Детском театре и 60 лет со дня рождения» режиссер Эмиль Мэй предлагал переставить цифры: пусть будет «45 лет со дня рождения и 60 лет работы». Юбилей был горячий, озорной… разный, как моя жизнь. Читательницы любят «страницы личной жизни», читатели – юмор. Я – и то и другое. Новеллы вскакивали в мою жизнь сами. За каждодневными делами и хлопотами мне некогда было думать о личной жизни, да и поздно. Впрочем, однажды появилась возможность «личной жизни». Посмеемся? В этот день мне стукнул шестьдесят один год. После работы решили покататься «там, где зелень», на такси. Села рядом с водителем, дочь с мужем и младший сын – позади. Замелькали дома и деревья, встали перед глазами картины прошлого… День рождения всегда какой-то итог. Моего Зари уже давно нет, но сколько эпизодов и смешных и грустных встают перед глазами сегодня. Я говорила много, ободряемая всплесками понимания и смеха моих детей, понимания, которое ощущала в покачивании и поворотах головы самого непосредственного и объективного слушателя – водителя машины. Мы въехали во двор нашего большого дома на Фрунзенской часов в девять вечера. Было уже темно. Дети с шумом высадились из машины и пошли к парадному, где уже ждали меня и другие гости. Я осталась рядом с шофером, открыла сумку и среди лекарств, ключей, документов и косметики стала искать пятирублевую бумажку. Это было нелегко – лампочка в машине не горела. Беспорядок в сумке отчаянный, пятирублевая бумажка до завтрашней зарплаты единственная. Неожиданно над моим ухом раздался тихий голос водителя:– Простите, гражданка, как я из разговора понял, вы вдовствуете?
– Да, – ответила я как-то механически, продолжая искать деньги.
– Не сочтите меня за нахального, но я тоже в прошлом году овдовел. На Клязьме двухэтажный домик имею, сад фруктовый, огород… Если бы вы мне надежду подали…
Я уже нашла деньги, подняла глаза, увидела смущенное лицо и блестящие серые глаза славного простого человека. Он говорил искренне, хотя все это было и неожиданно и смешно.– Большое вам спасибо, – ответила я, стараясь быть серьезной, – но в следующий раз делайте предложение днем. Я ведь уже старая. Это в темноте вам не видно.
Он оборвал меня решительно:– Это, простите, не имеет значения. Я так понимаю – самое страшное в семейной жизни – скука. А с такой, как вы, не соскучишься.
Он сказал это горячо, убежденно, но мне было неловко: дети и гости ждали у дверей. Я попросила шофера получить четыре рубля, но сдачу он обернул в листочек бумаги и сказал, стараясь встретиться со мной глазами:– А я все-таки буду крепко надеяться: адресок вам свой записал. Хоть несколько слов черкните, очень мне ваши речи глубоко запали.
Я неловко улыбнулась, поблагодарила и засеменила к дверям дома. На следующее утро младший сын Илья, как всегда, потребовал денег, как он утверждал, на новые учебники. Я старалась сдержать его напор кротостью:– Дорогой, твои речи сегодня бесполезны. У меня есть ровно один рубль, и я могу поделить его с тобой только пополам.
Сын спорил. Я предложила ему рубль целиком. Он не унимался. Я заявила, что еще не научилась делать фальшивые деньги, а заработать… и т.п. и т.д. Тогда сын сказал кротко:– Хорошо, давай вместе откроем твою сумочку, а вдруг… Я знала, что там рубль, что это «вдруг» в отношении денег давно покинуло меня, и открыла с назидательным выражением лица сумку. Развернула бумажку «с адреском» и вдруг… стала красной, как десятирублевка, совсем новенькая, которая лежала внутри «адреска».
Вы представляете себе ликование разоблачившего меня сына?! Мне пришлось все же воспользоваться адресом на Клязьме. С благодарностью вернула положенные им «явно по ошибке» деньги. Морозко Нет, я уже не хочу возврата в Центральный детский театр, наши жизненные тропы пошли врозь. Сейчас единственная мечта – снова на белом листе написать: первый и пока единственный в мире Детский музыкальный театр. Некоторые люди не понимают разницы между поверхностным «мне хочется» и крепко-волевым «я хочу». Второе выковывается сердцем, разумом, временем и только тогда ваше «я хочу» значительно, готово преодолевать любые трудности, превращать мечту в действительность. Театр – вот тот «золотой ключик», который поможет открыть для детей сокровищницу музыки. Кто музыки не носит сам в себе, Кто холоден к гармонии прелестной, Тот может быть предателем, лгуном, Такого человека остерегись… Этими словами В. Шекспира начинаю выступление на пленуме Союза композиторов, посвященном музыке для детей и юношества. Через некоторое время эту же мысль еще более горячо развиваю в огромном Дворце съездов в Кремле. Первый секретарь Союза композиторов СССР Т.Н. Хренников помогает мне поддержать идею Детского музыкального театра на съезде, на котором собралось более двух тысяч композиторов, съехавшихся со всего Союза, присутствовали руководители страны. Чувствую, что моя идея поддержана огромным большинством присутствующих. На следующее утро после этого знаменательного выступления меня будит сын Илюша: «Ну что же ты спишь, мама! Уже второй раз тебя зовет к телефону сам Шостакович!» Да, это был Дмитрий Дмитриевич. Он очень тепло отозвался о моем выступлении на съезде композиторов и просил не бояться его тревожить в любое время, пока не добьюсь появления на свет первого Детского музыкального театра. «Нужен Детский музыкальный театр». Такая статья появилась в газете «Правда» 28 февраля 1962 года за подписью Д. Кабалевского и моей. Поддержали меня и наши писатели И. Сельвинский, Л. Кассиль, Л. Леонов, К. Федин, К. Чуковский, В. Катаев. Словом, пропагандирую свою идею везде и всюду. А в журнале «Советская музыка» на меня даже появляется музыкальная пародия музыковеда Владимира Зака, которая заканчивается словами: Сколько раз я повторять вам буду, буду: Стены пробивать я буду, буду. Оперу, оперу, дайте оперу ребенку. Дайте, дайте, дайте… это прогрессивно! Неустанно выступаю в самых разных организациях со словами, что Мусоргский, Бетховен, как и Пушкин, Шекспир, нужны молодежи были не только «вчера», они нам необходимы «сегодня», чтобы построить наше дорогое «завтра». Повторяю любимые слова М. Светлова: «Хорошая музыка делает любого человека тоже талантливым, любого слушателя – творческим человеком…» При этом я совсем не забыла, что в моем распоряжении сейчас много талантливых певцов, инструменталистов, артистов балета, замечательных русских танцоров «на низах», которых я неоднократно не только делила на бригады, но уже и объединяла в большие коллективы, выступавшие в Театре эстрады с полноценными спектаклями (вспомнить хотя бы «Вовку-укротителя» М. Львовского и В. Коростелева – пьесу, специально написанную для нас, с музыкой А. Долуханяна, имевшую незаурядный успех). А сейчас я, конечно, не только говорю. Я поняла главное: за театр детской оперы надо бороться не только словами и статьями, но и звуками самой детской оперы. И кто мне может запретить в новом, достаточно импозантном Театре эстрады к зимним каникулам поставить оперу М. Красева «Морозко»? Тем более я совсем недавно с успехом ставила ее в Саратовском театре оперы и балета, и она продолжает звучать во мне. Конечно, в Саратове были прекрасный оркестр, настоящие оперные солисты. Но ведь в Мосэстраде мне дано право брать на договора первоклассных артистов из музыкальных театров, способных студентов со старших курсов музыкальных учебных заведений. Из этой сокровищницы в первую очередь приглашаю Галину Свербилову, худенькую студентку Гнесинского института, обладающую чарующим колоратурным сопрано. Из Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко приглашаю солистов оперы Юрия Белокринкина и Яна Кратова. Оркестр Театра эстрады пополняем недостающими инструменталистами, необходимыми для исполнения партитуры М.Красева, а дирижер О.Шимановский рад встрече с хорошей музыкой и труда для многих репетиций не пожалеет. Но где репетировать? И как следует – не меньше месяца! Днем большинство исполнителей главных ролей в моем спектакле заняты, а вечером в Театре эстрады – концерты, полно публики. Идея! На третьем этаже – курительная комната, и довольно большая. Когда мы в ней поем, в зрительном зале не слышно. Добиваемся, что на полтора месяца эта нужная нам комната закрыта «по техническим причинам», отнята у курильщиков. Трудно нам там умещаться: пятьдесят два человека – солисты, хор, балет, а когда и оркестр – сами понимаете – теснотища! Но работа идет вовсю. На шесть последних репетиций нам дают основную сцену. Декорации и костюмы художника И.Зеленского уже давно нас дожидаются. «Вот только поймут ли дети оперу?!» – сомневаются застарело-предусмотрительные скептики-педагоги. Ну что ж, перевоспитаем и некоторых взрослых нашим, как мне кажется, по-настоящему удавшимся спектаклем. И вот день в день по плану – премьера детской оперы М.Красева «Морозко» на большой сцене Театра эстрады. После первых же спектаклей все билеты проданы до конца школьных каникул. «Есть Детский музыкальный театр!» – читаем мы ликующую статью одного из главных наших энтузиастов композитора Мариана Коваля. А прославленная артистка Большого театра Валерия Владимировна Барсова уже во второй раз приходит на наш спектакль, после конца – крепко целует исполнительницу главной роли Дунюшки Галину Свербилову. Радоваться успеху нашего «Морозко»? Но ведь опера эта возникла на сцене Театра эстрады только на время новогодних школьных каникул и замолкнет, как только погаснут елочные огни. Нет. Удалось доказать нужность Детского оперного театра. Первой радостью был приказ министра культуры РСФСР: «В целях улучшения и дальнейшего развития музыкально-эстетического воспитания детей и юношества создать в городе Москве стационарный Детский музыкальный театр…» Вторая радость – приказ того же министерства: «Назначить товарищ Сац Наталию Ильиничну главным режиссером – руководителем Московского государственного детского музыкального театра в порядке перевода из Всероссийского гастрольно-концертного объединения». (Так к этому времени была переименована Мосэстрада.) Итак, у меня уже есть право создавать драгоценное. Но нет помещения. Ощущение невесомости. Ведь я задумала не отдельные спектакли, а стационарный театр. Большое искусство для маленьких. Театр со своим московским адресом. Свободных театральных зданий в Москве не было. Знала. Просить никогда не любила, да, потом, надо прежде мобилизовать свою инициативу и обращаться за помощью, когда созреет план, кого и о чем конкретно надо просить. Но если крепко хочешь, то в конце концов появляется и чудесное «а вдруг». Так внезапно «вцепилась» в идею овладеть помещением бывшего кукольного театра на улице 25-го Октября. Уже много лет в центре Москвы стояло здание, считавшееся аварийным, и никто его не ремонтировал. Входная дверь не запиралась. На нижнем этаже кто-то строгал и пилил. Зрительный зал на втором этаже был объявлен опасной зоной, и он задыхался от собственной пыли. На третьем этаже предприимчивые семьи сами себе разрешили въезд без ордеров, а левую часть здания заняло Министерство энергетики. Все это уже много лет никого не интересовало. Но как только эта полуразвалюха понадобилась мне – она стала «предметом первой необходимости» для многих. Я решила действовать «по правилам»: пойти в районное жилищное управление, предложить отремонтировать и вернуть к жизни помещение в центре города. Думала, будут рады. Но заведующего коммунальным хозяйством видеть пришлось мне один только раз, когда он – высокий, розовощекий, властно молчаливый, в серой фетровой шляпе – устремился куда-то на совещание. В кабинет к нему секретарша меня категорически не допускала по разным причинам, в том числе заявив, что он очень утомлен, так как только что защитил кандидатскую диссертацию. Милая! Она и не знала, какой ключик неожиданно для себя вложила в мои руки! На следующее утро у меня в кармане уже была типографски отпечатанная моя кандидатская диссертация, которую я, к счастью, только что защитила. В жилуправление я ходила как на службу, каждый день. И вот однажды, когда секретаршу кто-то «на минуточку» вызвал на лестницу, я проскользнула в дверь великого кандидата «только для того», чтобы поздравить его с успешной защитой и попросить ознакомить меня с темой. Моя почтительность и скромность смягчили его сердце. Он подарил мне свой отпечатанный труд под названием «Некоторые особенности чердачных перекрытий» или что-то в этом роде. Я попросила его автограф. Он был горд и расписался каллиграфически. Подарила ему в ответ свою диссертацию. Автографа он не попросил, но уразумел, что люди, имеющие «высокое звание» кандидатов, должны быть мягче друг к другу. Сводила его семью в Театр эстрады. Его семилетнему сыну понравился спектакль «Морозко». Тональность наших встреч улучшилась, я приблизилась к цели и заговорила о помещении на улице 25-го Октября. Он слегка затуманился, но все же «открыл карты». Оказалось, что на это помещение претендуют многие «влиятельные организации», и особенно сильно – находящийся по соседству с бывшим кукольным театром ресторан «Славянский базар». Теперь я поняла, почему меня так долго к нему «не допускали», почему он избегал даже разговора со мной. Гамбринус! Страшное слово – бррр. Не подумайте, что речь идет о «Гамбринусе» А.И.Куприна. Но как раз в это время мне попалась газетная статейка, где, спекулятивно ссылаясь на «Гамбринус», пробовали опоэтизировать процесс услаждения желудка. Но хорошо хоть, я узнала, вернее, выцарапала правду, прежде чем состоялось решение Московского Совета. Теперь – вперед! Мобилизую всех и вся. Детская опера – свет, этот проклятый Гамбринус (как попытка возвысить до духовной радости выпивку и закуску) –тьма. Знаю – за рестораном силы и деньги. Но доходы, самые астрономические, не главное в нашей стране. Побеждает благородное. И вот уже (конечно, далеко не только из-за моей агитации) жилищный отдел смирен, подписывает согласие на передачу здания нам, вопрос перенесен на утверждение в исполком Московского Совета. «Ищите розу…»– Поздравляю. Вы включены в спецгруппу, которая в ближайшее время посетит Париж.
– Спасибо.
Телефонная трубка уже лежит на своем месте, а в голове роем закружились мысли. Смутно вспоминаю Эйфелеву башню, площадь Победы, Монмартр. Но главное – надо сейчас же позаниматься позабытым французским. У меня много грамзаписей: «Париж, я люблю тебя» и другие. До работы и после работы буду «купаться во французском». Особенно ложится на сердце песенка «Ищите розу…». «Всегда и везде ищите розу. На мостовой, в темнице, в самые тяжелые минуты думайте о розе, ищите розу…» Чудесные последние слова этой песенки: «И если даже вы не найдете розы – какое счастье, что вы ее искали. Ищите розу всегда, везде, во все дни жизни». Умно! Думать о грустном, когда и так грустно, каждый дурак может. А думать в тяжелый день о розе – это прекрасно! Когда чего-нибудь очень хочу – ожидание мучительно. Французские песенки отвлекали меня немного от неотвязной мысли: когда, как решит Московский Совет?! Париж интересен – полностью согласна. Но… как я могу предпочесть интересное главному?! Пока решение о помещении не подписано в нашу пользу, не то что в Париж, на один шаг со своего «пограничного пункта» не сдвинусь. Вхожу в Моссовет или брожу вокруг него. Помню недовольную интонацию министра культуры СССР Е.А.Фурцевой:– Вы хотите, чтобы я вас уговаривала ехать в Париж?
– Нет, – отвечаю я тихо и кротко. – Но вы поймите: меня по прежней работе некоторые из тех, кто соберется на совещании в Париже, знали и ценили. Московский театр для детей был популярен. Потом меня очень долго не было в Москве. Сколько ненужных разговоров может быть, вопросов, почему сейчас ничего не слышно о моих новых постановках, где работаю. Хочу отвечать ясно и гордо: «Работаю.
Создаю самое интересное в жизни – Детский музыкальный театр». Хочу говорить правду, зная, что помещение уже есть. Накануне отъезда состоялось постановление Исполкома, а в двенадцать часов ночи ко мне домой позвонил заместитель председателя Моссовета Николай Трофимович Сизов, сообщил, что постановление Исполкома Президиумом Московского Совета утверждено, и поздравил меня. Спасибо ему, Москве, 1965 году! Какая это была необходимая точка, завершающая первый этап становления драгоценно нового. Уж не мечтала. Реальность, твердая почва начатого дела. В Московском театре для детей был у меня закадычный друг: талантливый композитор и обаятельный человек Леонид Алексеевич Половинкин. Он был очень остроумным и заражал своей любовью к каламбурам и меня. Однажды я его спросила:– В чем наша суть: в чем мы схожи и в чем различны? Отец его до революции был очень богатым человеком, который начал свою карьеру как подрядчик. Мой отец, как известно, был композитором.
– Ну вот, Леонид, – сказала я ему, – у тебя отец был подрядчиком, а ты – композитор, а у меня отец был композитором, а я – подрядчик…
Вспомнила это, когда садилась в самолет Москва – Париж. Ну что ж! Если для театра нужно – я и подрядчик тоже. Наша специальная туристическая группа, состоящая из работников театров юного зрителя многих городов, вместе со мной поднялась в воздух, а мысли мои все еще были в Москве, там, где должен был, невзирая на все строительные трудности, возникнуть наш Детский музыкальный театр. Первые минуты мысленно все еще что-то строила, доставала и наконец крепко заснула. Спать пришлось недолго. Современная техника – чудо. Два часа тому назад была в Москве, а сейчас – Париж. Приземлились. Никак не пойму, неужели это происходит на самом деле. Вижу? Вижу Париж! Слышу французскую речь. Едем в гостиницу. Небольшое собрание. Нам объясняют, что в Париже будет первая Международная конференция по детским театрам, что и в капиталистических странах сейчас возникают по примеру Страны Советов театры для детей. Среди наших работников театров юного зрителя я пока чувствую себя отчужденно. Но размышлять некогда. Еле успела умыться и причесаться, и уже едем по улицам Парижа. Входим в большое полуподвальное помещение. Получаем изящные папки, программу на все дни конференции, ручку, блокнот, значок. Рассаживаемся в зале. Приехали позже других, я устраиваюсь в заднем ряду, у стенки. Прислоняю к ней голову. Только сейчас поняла, как устала. Полусплю. Передо мной – в трех рядах члены нашей делегации. Они молчаливы, а зал гудит речью на самых разных языках. Кто этот сухонький, подвижный за столом председателя? А-а, вспоминаю. Интересный человек, Леон Шансерель. Много лет тому назад он бывал в Москве. Чаще всего у К.С.Станиславского и в нашем театре. Сейчас он взял слово:– …счастлив, что сегодня будет положено начало созданию Всемирной ассоциации театров для детей и юношества. Сокращенно по-французски эта организация получит название «АССИТЕЖ».
Шансерель перечисляет по алфавиту страны, делегаты которых присутствуют сегодня на конференции. Сквозь дрему нещадно ругаюсь: буква «ю» где-то в самом конце французского алфавита, значит, «Советский Союз» он скажет не скоро. Но ведь на нашей Родине впервые в истории был создан профессиональный театр для детей. И сейчас приехало более тридцати делегатов. Несправедливость… Но вот Шансерель кончил перечисление стран и говорит, оторвавшись от бумажки и словно ища глазами кого-то в зале:– Среди нас есть один делегат, без которого не было бы возможно наше сегодняшнее собрание, не был бы возможен расцвет театров для детей. Она сегодня здесь, с нами, и это наполняет наши сердца радостью. Привет вам, Наталия Сац!
В зале на разных языках громкие вопросы:– Где же она?
– Не может быть – настоящая Наталия Сац?! В мою сторону поворачиваются тридцать голов наших делегатов. Глаза у них круглые. Они так мало знают обо мне! Ведь за время моего ареста обо мне говорили только жестокую ложь и особенно преуспевал в этом «деле» Шах-Азизов!
Я продолжаю сидеть, неясно понимая, что происходит. А между тем все в зале уже встали. Слышу злобное, сквозь зубы Шах-Азизова: «Ну, вставайте же – вас вызывают…» Я встаю. Леон Шансерель просит меня пройти на сцену. Я медленно иду по проходу среди аплодирующих и разглядывающих меня людей самых разных национальностей. Наконец, все сели. Поток вопросов, почему так долго не было обо мне слышно, здорова ли я… Турецкая делегация вспоминает, как знаменитый в их стране Мухсин Эртугрул поставил «Негритенка и обезьяну», руководительница театра из Великобритании Карел Дженер выкрикивает слова приветствия и благодарности за те мои постановки в Московском театре для детей, которые вдохновили ее на создание похожего театра в Лондоне, делегаты чешского театра называют меня «матерью матери чешского детского театра»… Я гляжу на эти приветливые, улыбающиеся лица прежде недоуменно, но потом беру себя в руки и отвечаю по-французски:– Большое вам спасибо за привет. Я совершенно здорова, а что потолстела – это уже возрастное, раньше была моложе и тоньше. Долгое время работала над своей книгой «Дети приходят в театр», завтра ее принесу. Сейчас организую первый и пока единственный театр оперы для юных – Детский музыкальный театр. На этой конференции, если разрешите, расскажу о нем вот с этой трибуны подробно. Спасибо за внимание.
Буря аплодисментов. Шансерель усаживает меня рядом с собой на сцене, около меня на столе кладут розы. Странная и неожиданная штука – жизнь! Мой доклад – мечты о детском музыкальном театре – помогла мне набросать журналистка Нина Гурфинкель. Все же говорить час по-французски трусила. Эта ночь и следующие сутки понадобились, чтобы выразить свои мысли на французском. Устанавливать непосредственные контакты с аудиторией, пусть хоть в маленькой степени, я старалась научиться еще в молодости, слушая доклады Анатолия Васильевича Луначарского, которые он всегда несколько изменял и дополнял в зависимости от восприятия их слушателями. Доклад приняли хорошо, поздравляли с началом «нового, такого нужного сейчас чудесного дела». Впрочем, была и возразившая мне женщина. Шведка, в косынке с красным крестом, в черной пелерине, – представительница христианского общества, в ведении которого находились приюты. Мое опасение, что молодежь слишком увлечена популярными песенками и джаз-оркестрами, мало интересуется классической и современной большой музыкой, она нашла неверным и под гомерический хохот присутствующих заявила:– Мы прекрасно сочетаем в нашем приюте всякую музыку. Утром слушаем мессы, а вечером танцуем под джаз. Никаких проблем в вопросах музыки мы не ставим. «Pas de problemes!»
Тепло, которое почувствовала на этой конференции «в международном масштабе», означало, что меня помнят, помнят мои постановки двадцатых и тридцатых годов. Особенно внимателен ко мне Леон Шансерель – режиссер, писатель, художник, историк театра, страстный его исследователь и «комедиант», как он сказал сам о себе с особой радостью. Маленького роста, с венчиком седых волос вокруг большой блестящей лысины, всегда улыбающийся и возбужденный, он не раз приводил меня в дом на бульваре Келлерман, в комнату «большой богемы». Обеденный стол сосуществовал рядом с письменным, кровать, диван с какой-то мудреной спинкой, старинное кресло дополняли садовые стулья из соломы; драгоценные картины и книги соседствовали с пожелтевшими афишами разных лет. Ближайшим другом Шансереля была Роз-Мари Мудуэс, француженка, предки которой до XVIII века были коренными испанцами. Обаятельная блондинка. На первых же выборах в АССИТЕЖ Роз-Мари стала генеральным секретарем. Вместе с Шансерелем они основали журнал о театре для детей и юношества. Очень им помогала Нина Гурфинкель, в совершенстве знающая многие языки, в том числе и русский, переводчица на французский статей и выступлений Ленина. После четырех дней конференции поехали в Дом инвалидов, в Версаль, в церковь Сакре Кер, в картинные галереи, все это – кругом-бегом: дней в нашем распоряжении было немного. Как ни странно, обычное тяготение купить и напялить на себя что-то новое в этот раз завладело мною только накануне отъезда. В кармане – восемьдесят франков. И с первого же взгляда на витрину – вот он, серый джемпер с длинными рукавами, теплый, весь в темно-красных с зелеными листьями розах! Это – символ. Розы в жизни еще будут. Быть или не быть Вернулась из Парижа еще более боеспособной. Решение о предоставлении нам помещения было в руках. Можно утвердить смету, провести конкурс вокалистов, которые захотят работать в нашем театре, работать с композиторами и либреттистами – словом, строить новый театр по существу. Ремонт в лучшем случае займет около года. Пока договорилась с Бауманским Домом пионеров, клубом «Шерсть – сукно», жилищным комбинатом – они предоставляли нам для работ по одной большой комнате на пять часов ежедневно, а я обегала эти три «точки», координируя нашу творческую деятельность. Но со «своим» помещением дел было выше головы, а от этого зависело «быть или не быть» новому в семье стационарных театров Москвы. Надо было переселить самовольно въехавших жильцов, ремонтировать нашу развалюху. Начались бесконечные обследования. Утверждали, что пол второго этажа, где находится зрительный зал, может в любой момент обрушиться. Специалисты тянули из меня жилы, мудрствовали, подчас лукаво. Строительные организации считали ремонтную работу в нашем театре бесперспективной, абсолютно нерентабельной. К счастью, несколько активных работников Министерства культуры и Госплана уверовали в важность создания Детского музыкального театра. Отметив, что я отдаю все силы и волю задуманному делу, стали помогать горячо. В результате они уговорили одного из руководителей крупной строительной организации – Ивана Ивановича Кочетова – возглавить у нас ремонт. Он ненавидел меня жгуче. Когда появлялась на пороге его кабинета, слышала всегда одну и ту же фразу:– Вот еще навязали мне вас на шею. Сказал бы такое слово, но неловко, все же вы женщина…
Да я была женщиной, но никак этого не подчеркивала, не реагировала на его слова и интонации. Знала одно: от него зависит сейчас главное дело моей жизни. Надо терпеть и… продолжать уговаривать его помогать нам. Было трудно добиваться рабочей силы. Дадут рабочих на два-три дня, потом отзовут их «на более важные объекты». Не все умеют верить в «завтра», по существу, еще не родившегося театра. Очень помогли нам в строительных работах товарищи солдаты: я была связана шефской работой с одной из воинских частей. Но, конечно, трудностей оставалось много. Министерство энергетики решило не освобождать самовольно занятых комнат. Как бороться? Ведь они наши призывы освободить помещение на законном основании, видимо, не читали, а выбрасывали в корзину. Даже угрозы снятия нашего пола, а их потолка на них не действовали. Наоборот, они еще решили пожаловаться на меня своему министру. Но тут я победила. Незадолго до получения этого помещения я выступала в Министерстве энергетики на юбилее старого большевика Петра Ивановича Воеводина, и министр к этому моему выступлению очень хорошо отнесся. Бывают же сюрпризы торжествующей правды! Ни судов, ни канители. Выехали от нас мои «враги» тихо и быстро. Наш театр был невелик, но все же – четыре этажа. Классов для занятий вокалом много, гримерная, зал для занятий балетом, большая комната для оркестровых репетиций. Зрительный зал на триста мест. К сожалению, ужаты колосники, карманы сцены и нет оркестровой ямы – музыканты будут сидеть на уровне зрительного зала. Фойе, гардероб тоже ужатые, но как репетиционная база – прекрасно. Да, небольшой, но свой театр в центре Москвы – счастье, ликование. Когда был наконец закончен (и скорее, чем ожидали) ремонт нашего – да, нашего – театра, мы устроили праздник. Его кульминацией была краткая речь Ивана Ивановича Кочетова. Обращаясь к представителям Министерства культуры и показывая на меня, он сказал:– Отдайте мне эту бабу. Мы с ней всю Москву застроим…
Я была польщена таким неожиданным комплиментом. Не мог же Кочетов назвать меня «леди». «Баба» так «баба». Согласна. Важно, что вопрос «быть или не быть» снят. Детскому музыкальному театру Москвы – быть! 21 ноября 1965 года Московский государственный детский музыкальный театр – первый и единственный в мире театр юных слушателей и зрителей – был открыт. Новый театр родился! Дом, который звучит Весна… Окна во многих домах раскрыты. Шум автобусов, легковых машин, говор прохожих сливаются воедино – у каждого свои дела. Когда вы проходите по улице 25-го Октября, ваши мысли на несколько минут прерываются около дома №17. Этот дом звучит весь сверху донизу: Семеро, семеро, семеро козлят Весело, весело, весело шумят… – звонко и задиристо несется из окна третьего этажа. Поющие «козлята» явно молоды, среди них больше «козочек». Мы – веселые артисты, вольные птицы, Куклы, клоуны, танцоры рады друзьям… Это поет трио за окном, что внизу. В одном из окон мелькнул колпак и длинный, длинный нос, звучит смешной «деревянный» голос: Эт-то оч-чень хор-рошо, Даж-же оч-чень хорошо… Лирический тенор беспрестанно повторяет: Кому, кому воздушные шары? Они – забава детворы… Оркестр всем своим многострунием на четвертом этаже и мужской хор на первом доминируют над остальными звуками: Избушка у нас мала, Зато мила и весела, Живут в избушке гномы, гномы… На доме, который звучит сейчас, рельефная надпись: ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР. Яркие красочные плакаты под балконом. Большинство прохожих, поняв, в чем дело, идут дальше, улыбаясь: хорошее для детей затеяли. Давайте зайдем в здание этого театра. Разденьтесь здесь слева и пойдем по довольно широкой лестнице вверх. Вот стенд «Композитор, музыку которого ты сегодня слушаешь», портреты композитора и либреттиста оперы дополнены сведениями, где учились, какие произведения уже написали эти «Друзья школьников». Пойдем направо в кабинет директора: через стекло большого шкафа глядят подарки, полученные театром из разных городов, где он гастролировал. Вязью написанный на блестящей черной доске адрес-благодарность театру работы мастеров Палеха от города Иванова; вделанные в дерево куски стали от рабочих завода «Электросталь» – больших друзей театра; адрес с надписью из инкрустированного янтаря от Литовской республики; Синяя птица и Золотой ключик – резные фигуры «на счастье» нашему театру от московских школьников. Раздается голос помрежа: «Пес и Козел – к Наталии Ильиничне». Входят дворовый Пес – с черным носом, обвислыми ушами, большими добрыми глазами – и очень прямой, с завитками рогов и длинными волосами, как у самых «модерновых» из юношей. Козел с гитарой. Понимаете, конечно? Шучу. Это артисты нашего театра, работающие у нас со дня открытия. Пес – Геннадий Пискунов. У него красивый бас, но за право стать солистом оперы боролся со многими трудностями. Приехал в Москву с Валдая, где жили его родители-колхозники, с отличием окончил ГИТИС, но сколько за этими скупыми словами преодолений! Пес – одна из немногих «добрых» ролей Пискунова. Совсем другой он – властный, подтянутый, острый в движениях – в роли Диктатора (опера Т.Н.Хренникова «Мальчик-великан»), полон восточного коварства в роли богача Галсана (опера Б. Ямпилова «Чудесный клад»). Юлий Глубоков, который явился сейчас ко мне в кабинет в обличье Козла, в противоположность Пискунову, по преимуществу исполняет положительные роли, хотя ценит возможность перевоплощений, любит расширять свой творческий диапазон. У него красивый драматический тенор, он строен, его лицо хорошо принимает любой грим. Органичен он в роли Левши (опера «Левша» Ан.Н. Александрова). Ни малейшей позы, показа себя, своих вокальных возможностей: искренний, непосредственный, «всамделишный». Иветта Лаптева, которая так мила в роли Мамы-Кошки, – из артистической семьи. С ранних лет полюбила театр и музыку, пришла в Детский музыкальный театр, когда он только создавался, завоевала признание детей и взрослых. Когда она получает новую роль, поражаешься беспокойным поискам правды образа, который собирается создать. Тот, кто видел Татьяну Глухову в «Красной Шапочке», пожимает плечами: эта худенькая, белокурая девочка – артистка?! Да, и с очень хорошим голосом. Возможно, сама природа сотворила ее именно для нашего театра. Настоящим Буратино с озорными глазами и длинным носом «смотрится» Галина Скрипникова. Сейчас буду репетировать с Лидией Кутиловой и Ольгой Борисовой, и вы порадуетесь их голосам, а В.Богаченко, В.Алейников, Б.Соловьев рядом с ними покажутся вам великанами. Нам очень полезны эти контрасты для большей сценической выразительности. Но зовут в балетный класс. Он у нас, конечно, не очень большой, есть интересные артисты балета, но пока их только восемь. А четвертый этаж все перекрыл по мощи звучания. Главный дирижер В.М.Яковлев репетирует с оркестром, в котором пока еще у нас только сорок пять человек, а будет… будет? Будет!.. И все-таки первые спектакли нашего театра были признаны художественными. В первые же годы мы получили приглашение выступать в Оперном театре Риги. Наши спектакли играем в помещении Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко и в Театре оперетты. И все равно всех желающих купить билеты вместить не удается. Люди, какие вы разные… Рождение нового театра, его репертуара, коллектива: артистов оперы, балета, оркестра, преданных театру административных и технических работников – какое это трудное рождение. Это строительство «изнутри» несравнимо труднее внешних преград. Доски могут быть лучше и хуже. А человек? Как угадать заранее его особенности, как совладать с ними? Первое, что режиссер должен взрастить в театре, – репертуар. За многие десятилетия моей работы в театрах, где я трудилась, никогда не было репертуарных кризисов. Я люблю работать с драматургами и композиторами, люблю участвовать в создании того, что потом буду ставить. Какое счастье стоять у истоков реки, а затем, сделав много шагов вперед, окунуться в ее полноводье! Спасибо моему детству, отцу, его друзьям – они дали мне счастье видеть, как страстно, трудно и заботливо выращиваются новые музыкальные произведения для театра. С самыми разными композиторами взаимопонимание у меня устанавливалось всегда радостное и творческое. Я много написала о борьбе за «свой дом», о том, как не боялась испачкать руки необходимыми делами, не входящими в прямые обязанности режиссера, художественного руководителя. Но никогда не забывала, во имя чего борюсь. Голова и сердце ночи и дни были полны мыслями о новых детских операх. После «Морозко» нацелилась на оперу Мариана Коваля «Волк и семеро козлят», написанную для исполнения самими детьми. Распевно-русская мелодически, она несла в звуках русскую сказку доходчиво, но несколько упрощенно. Опера – для малышей. Адреса никогда не забываю. Удачно мы нашли строение вступительной сцены – увертюры. Хор всех действующих лиц поет: «Начинаем представленье с танцем, музыкой и пеньем…» – пока в репетиционных комбинезонах. Музыка из веселой постепенно превращается в таинственную и как бы переносит нас в густой лес, в котором живут сказки. Руки артистов сейчас похожи на ветви деревьев. Затем возникает тема козлят. Артисты «чувствуют», как их ноги превращаются в копыта, вырастают рожки на голове, они начинают бодаться. Но вот музыка звучит волчьей мелодией, у исполнителя этой роли появляются волчьи повадки, и тогда родится веселое заглавие «Волк и семеро козлят». Успех спектакля был не только у ребят, но и у многих композиторов, пожелавших последовать за М. Ковалем. Мне предложили оперы «Два козла», «Упрямый козел», «Козлиная семья», и пришлось объявить, что «козлиная тема» перевыполнена. Нет, мы не закрыли дороги ни добрым медведям и оленям, ни злым хищникам на нашу сцену для маленьких зрителей. Но и для них, а тем более для школьников более старших классов наряду со сказками появлялись оперы, рассказывающие о людях, о настоящем и прошлом нашей и других стран, о борьбе, об умении чувствовать локоть друга и бороться с врагами, умении понимать самых разных людей, людей живых, сейчас, на наших глазах живущих в спектакле, их характеры, поступки, жизненные обстоятельства. Человековедение! Театр – великий помощник в овладении этим искусством. Когда одновременно со словом звучит музыка, вы гораздо объемнее ощущаете не только слово, но и его подтекст. Вслушиваясь в ее звуки, вы познаете и недосказанное, то, что скрыто в сердце человека, в его мечтах, помыслах. Когда театр и музыка объединяют свое могущество, идеи спектакля звучат особенно ярко и вдохновенно. Конечно, самым главным для меня и решающе дорогим было формирование труппы, оркестра, того, что определяет существо театра. Мы решили принимать только что окончивших консерваторию или музыкальный институт певцов, допускали к конкурсу также отработавших год-два на периферии. На первом конкурсе прослушали сто семьдесят восемь человек, а приняли четырнадцать. Больше всего нас интересовали те, кто в драматических театрах именуется «травести». Хрупкое сложение, маленький рост, непосредственность – плюсы для театра, где будут роли и ребят и зверят. У всех принятых – молодые, хорошо резонирующие голоса. Их внешние данные, вероятно, уже отпугнули многие «серьезные оперные театры». Нас – к ним приблизили. Сергей Менахин прошел три тура конкурса в Большой театр, и только тогда комиссия «вдруг заметила», что он… слишком мал ростом, да и внешность хрупкого подростка не для огромной сцены. Сергей пришел к нам травмированный. Я убедила его, что работа в труппе Детского музыкального театра открывает перед ним широкую дорогу, его дорогу, и он в первые годы был как бы звучащей эмблемой театра: красота тембра, сила голоса, музыкальность и артистичность. К сожалению, Сергей воспользовался своим успехом не впрок самому себе: право опаздывать, зазнайство могли расшатать наш коллектив. Но многие индивидуальности удалось скорректировать по ходу творческого с ними общения. Этому помогали введенные у нас студийные занятия, а также отсутствие у нас хора. Так с самого начала повелось – все солисты обязаны были участвовать и в ансамблях и в хоре. Еще до первых спектаклей собрали мы около тридцати певцов-артистов. Нам нужны были и контрастирующие с исполнителями ролей «малышат» артисты высокого роста, исполнители бесстрашных героев, могучего Морозко, больших хищников. Три баса, которые пришли к нам, обладали хорошими голосами и «импозантной» внешностью. Конечно, они могли легко устроиться в оперу для взрослых. Вероятно, именно поэтому каждый из них претендовал на абсолютное первенство. Двоих из них нельзя было назначать на одну и ту же роль. Когда пел кто-то из них, другой мимически роптал. Режиссер-инициатор, вечный искатель, человековед, организатор многих в одно целое всегда, конечно, и садовник. Создавать творческий климат в театре, выращивать молодых артистов творчески и этически, вовремя «отрезать» тех, кто, подобно сухим ветвям и листьям, стал тормозить общее движение вперед всего коллектива, – дело художественного руководителя театра. Без «хирургии» иногда не обойдешься. С некоторыми, к счастью немногими, из артистов пришлось расстаться. Внутренний мир артистов неустойчив, и нередко вовремя протянутая рука отрезвляет и помогает. Так сохранили мы обладателя по-настоящему хорошего тенора и артистически одаренного В. Тучиского. По окончании с отличием ГИТИСа в Петрозаводске он требовал партию герцога в опере Верди «Риголетто». Перейдя к нам, с болью понял, что природа дала ему совсем не те внешние данные. Стал первым комиком в нашем театре, острохарактерным артистом, безотказным членом коллектива, почувствовал радость от того, что нашел себя. Я люблю артистов, понимаю и часто… жалею. В оркестре каждый музыкант будет играть партию своего инструмента или не играть совсем, если в определенной партитуре он не нужен. В театре режиссер все время ищет воплощения своих творческих замыслов в различных артистических индивидуальностях. Зависимость артистов от режиссеров гораздо большая. Успех – целитель душ, и, к счастью, успех к нам пришел довольно быстро. Коллектив оказался дружным, творчески сильным. Наибольшие трудности выпали на мою долю с поисками достойных помощников. Этими трудностями тоже поделюсь с вами. Тучный мужчина с зычным голосом и не совсем ясной биографией показался мне поначалу пригодным на должность директора-распорядителя. В работе он оказался убежденным «седоком», выбрал себе самый большой стол «для подписи бумаг», властно отдавал распоряжения и заходил только в бухгалтерию. Другие маршруты были ему чужды. Впрочем, для них он завел смазливого юношу, назвав его администратором. Но его, увы, я сама «поймала за руку», когда он совершил нечестное, и он должен был немедленно от нас уйти. Я жадно, но тщетно искала инженера для ведения ремонта: оклад, поставленный в нашей смете, никого не привлекал. И снова – случай… Кареглазый знакомый из туристической группы [31] посылает мне фотографии, снятые им в ГДР (весьма туманные). Уже три раза за час до начала приходит на «Морозко». Ему все нравится. Мнение беспристрастного взрослого укрепляет веру, что детский спектакль интересен. Впрочем, он молчаливый. Узнала только: инженер, живет и работает в Электростали. До Москвы на электричке часа два, но он много читает о музыке, часто слушает ведущих артистов и музыкантов Москвы, систематически посещает театры и концерты. Между тем выясняю, что директор-распорядитель наш, используя сложности нового дела, нечестно манипулирует сметой, подключив бухгалтера. Кошмар! Ужас! И вдруг приходит письмо от мамы кареглазого, Клавдии Лукиничны: «Уважаемая Наталия Ильинична! С тех пор как мой сын познакомился с вами, он словно ожил. Мы с мужем инженеры-металлурги. Думали, Виктор найдет счастье у сталеплавильных печей. А он очень тянулся к гуманитарным наукам и только из послушания переломил себя. Репутация у него здесь отличная, доверие к нему абсолютное, а он стоит у сталеплавильных печей потухший. Виктор мечтает перейти работать к вам, всему у вас учиться. Помогите ему – прошу как мать, желающая исправить свою ошибку». Далее мать благодарила за простоту, «которую сохраняют не все именитые». Теперь я поняла, почему так часто вижу этого Виктора Петровича у нас. Он сказал мне, вызвав доверие:– Спасибо маме. Сам я бы сказать не осмелился. Оклад? Конечно, будет меньше, чем в Электростали. Далеко живу? Не имеет значения. Буду приезжать в театр с первой электричкой и уезжать – с последней. Тогда комплексно пообедаю и поужинаю.
Из Электростали отпустить его категорически отказались. Нужен. Перспективен. Но В. П. Проворов был несгибаемым, как та сталь, которой прежде служил. Конечно, лучше бы он был инженер-строитель. Но все же – инженер, а главное – пришел сам. Будет не «извлекать выгоду», а работать с горячей самоотдачей. Очень не повезло мне с первым дирижером. Мне «свыше» навязали человека с двумя высшими музыкальными образованиями, не владеющего ни одной специальностью. Хорошо, когда о дирижере говорят «у него отличная рука», очень печально, когда его руки несведущи, а толкающая его рука покровителя упряма. Высокий, довольно красивый дирижер не умел – просто не умел – показывать одновременные вступления певцам и оркестру. Они разъезжались, как ноги пешехода на скользкой дороге. Кроме того, он не желал понимать моих целей и идти к ним вместе со мной. На конкурсах его возмущало, что я хочу от певцов сочетания голоса, выразительности, подвижности и радуясь, когда предвижу, как хорош будет тот или иной артист или артистка в роли подростка или зайчика.– Вы хотите, по-видимому, сделать театр лилипутов? – раздраженно говорил он мне, рекомендуя пригласить полногрудых Далил с завлекающими бедрами и взором.
Конечно, он понимал, что ссориться со мной невыгодно, и вел «двойную игру». Даже письмо с заверениями, что считает меня полноценным музыкантом, одаренной и т.д. и т.п., себе на горе, написал. На деле он настраивал против меня и нашего будущего репертуара артистов оркестра и создал в еле стоявшем на еще слабых ножках новорожденном деле «смутное время». Не продирижировав у нас ни одним спектаклем, он написал заявление об уходе в надежде, что оно не будет принято. Просчитался. Руководителем кафедры дирижеров в Московской консерватории в то время был Лео Гинзбург. В молодости он был одним из трех дирижеров Московского театра для детей. Отношения у нас сохранились добрые. Узнаю, что именно тогда, когда мы остались без дирижера, в Большом театре проходит конкурс. Уже на третьем туре – любимый ученик Гинзбурга – Виктор Яковлев.– Познакомите?
– С радостью. Он совсем другой породы, чем тот, кого вам навязали. Ясный, талантливый, если скажет «да», то двуличничать не будет.
Невысокий, но очень пропорционально сложенный Виктор Яковлев понравился мне с первого взгляда. Два года был он главным дирижером в Казахском симфоническом оркестре, срочно вернулся в Москву, так как сын его тяжело заболел. Сам Виктор Яковлев тоже поверил в перспективы задуманного мною дела. Он оказался эрудированным музыкантом, талантливым дирижером, к тому же с детства приобщенным к театру. Есть главный дирижер в нашем Музыкальном театре! [32] Расчистить грязь директорских махинаций было нелегко, но найти хорошего, честного бухгалтера на маленькую ставку почти невозможно. И все же посчастливилось: Арон Исаакович Богуславский, еще не старый, с пронзительными черными глазами, черно-седыми волосами, был майором финансовой службы. Ранний пенсионер, – больше нашего мизерного оклада он и не имел права зарабатывать. С его приходом всякая «частная инициатива в счет самообогащения» исчезла. Горячо относился он к театру, верил мне, а я навсегда запомнила счастье знать, что наши так трудно доставаемые деньги будут сбережены или истрачены с пользой. Появлялись молодые энтузиастки-секретари, несколько более резвые, чем надежные, но и они росли на глазах. Удачно порекомендовал мне О.Ф.Шимановский одаренного хормейстера Лину Фрадкину, только что закончившую Музыкальный институт имени Гнесиных. Она талантливо проявила себя как хормейстер и была счастлива, когда мы ей помогли хорошо заявить себя и в некоторых дирижерских работах. Руководящее ядро нашего ведущего состава окрепло. Вскоре уже говорила не я, а сладкое – мы. Все пути открыты Жизнь стала мне посылать все больше приветов не только из настоящего, но и из далекого прошлого, из самых разных уголков земного шара. Большой радостью было письмо от Отто Клемперера в конце пятидесятых годов, когда он узнал, что я жива. Наша с ним переписка возобновилась. Трогательно было его приглашение «советскому режиссеру, заслуженной артистке Наталии Сац» приехать в Цюрих, где он тогда жил, или в Лондон, где он тогда больше всего дирижировал. Вот несколько строчек из его письма от 11 сентября 1961 года из Цюриха – в переводе с немецкого (письмо адресовано в Министерство культуры СССР, министру Е.А.Фурцевой): «Разрешите мне при Вашем содействии пригласить Наталию Сац быть моим личным гостем. Вместе с госпожой Сац с творческим взаимопониманием и большим успехом я работал в Берлине в Кролль-опере над «Фальстафом» Верди, в Буэнос-Айресе над моцартовской «Свадьбой Фигаро» и другими спектаклями. Еще в то время я хотел вместе с Наталией Сац дать жизнь на сцене и многим другим операм, но она была очень занята своим Детским театром в Москве, и мои намерения остались неосуществленными. Много лет потом я не знал ее адреса и полон радости, что сейчас снова нахожусь в переписке с этой Художницей. Мне бы очень хотелось сейчас снова работать с Наталией Сац как с режиссером, поговорить с ней о ее режиссуре, неотрывной от моих планов… Я знаю, что госпожа Сац в Москве очень занята, и я прошу о встрече с ней всего на несколько недель или даже дней. Мы добрые друзья, ее посещение было бы для меня сейчас большой радостью… С глубоким уважением Отто Клемперер». Тогда я еще жила только счастьем возвращения в Москву, только начинала расправлять крылья и была даже как-то подавлена таким теплым письмом всемирно известного маэстро. Но позже, когда Клемпереру вот-вот должен был исполниться восемьдесят один год, мы встретились с ним на его концерте в Западном Берлине. Какая это была изумительная встреча! Как много новых творческих сил дала она нам обоим. На следующий день Клемперер с дочерью Лоттой приезжал ко мне с ответным визитом в Берлин – столицу ГДР, и в ресторане «Москва» мы втроем отпраздновали его день рождения. Потом на следующий его концерт я опять приехала в Западный Берлин и неотрывно смотрела, как ему помогали подняться на эстраду. Слушатели встретили его стоя, овацией, потом Клемперера усадили на высокий, похожий на детский стул с перекладиной, чтобы он во время бурных своих порывов оттуда не вылетел, и – начиналось непонятное. Забывалось все, кроме наслаждения слушать музыку, глядеть на черные крылья летающих рук дирижера, молодо, страстно управляющего стихией звуков. Да, он казался снова молодым, в расцвете творческих сил… Наша последняя встреча состоялась в Берлине, куда он снова приехал ко мне с Лоттой, и мы вместе отправились в театр Государственной оперы на «Гибель богов» Р.Вагнера – последнюю оперу, над которой в 1931-м мы работали вместе в Буэнос-Айресе. Не забыть, какую овацию устроила Клемпереру в тот вечер публика, как приветливо он улыбался ей из директорской ложи. Желая сделать мне приятное, Клемперер в тот же день, еще до начала спектакля в опере, посетил первый детский театр ГДР «Дружба». Мы переписывались с ним до последнего дня его жизни. Он посылал мне все свои грамзаписи фирмы «Колумбия» – оперы, симфонии; переписывалась я и с его дочерью Лоттой – молодой еще женщиной, целиком посвятившей жизнь своему великому отцу. Мечты Клемперера о совместной работе над «Лоэнгрином» Вагнера в Лондоне не сбылись: в этот период все мои помыслы были о создании детского музыкального театра. Но честно скажу: крестным отцом всех моих оперных работ был Отто Клемперер. Для меня он – академия оперной режиссуры. Его желание знать мое мнение о его музыке (он был и композитор), о его оперных либретто, присылка мне всего этого – бесконечно трогали меня. Когда в Голландии создавался посвященный ему кинофильм, он обязал режиссера этого фильма записать и мои впечатления о работе с ним. Его биограф из Англии, Питер Хейуорс, специально приехал в столицу ГДР, где я тогда ставила спектакль в «Комише опер», чтобы расспросить о нашей творческой дружбе с великим дирижером. После поездки в Париж и прежде всего организации Московского государственного детского музыкального театра география моей жизни сказочно расширилась: Италия, Испания, Румыния, Австрия, Голландия… Особенно запомнился выезд всем театром на Фестиваль детских театров в город Шибеник (Югославия). Представьте себе Адриатическое море, площадь вблизи него – даже слышен морской прибой. Дома с трех сторон как бы замыкают эстраду, сколоченную на открытом воздухе. Напротив – стена церкви-монастыря с высокой колокольней. Входы для зрителей – из узких переулков. Играть на площади – дело для нас непривычное, но вспомнила постановку Макса Рейнгардта «Jedermann» на театральных игрищах в Зальцбурге – и фантазия заработала бурно. Наша программа будет называться «Венок музыкальных сказок». Яркие сцены из различных постановок сплетутся одна с другой, как цветы в венке. Развернуть действие только на этой эстраде? Конечно, нет. На втором этаже дома, что за эстрадой, – длинный ажурный балкон. Конечно, артисты будут появляться и там. А на крыше четырехэтажного дома справа появится Тибул – использование этой площади сделает действие подлинно массовым. Но надо овладеть железными лестницами, темпами перебежек с одного места на другое – пространства-то для артистов непривычные! Нам дали на репетиции время с восьми вечера до двенадцати ночи – мало для этой работы. Придется совсем не ложиться. Я должна все опробовать прежде сама. Получится. Главное, чтобы переходы и пробеги точно совпадали с музыкой. Репетируем дружно, оркестр гремит, мой голос тоже. В окнах и на балконах ближних домов – люди, они собираются ложиться спать, но завтра же наш дебют, неужели непонятно? В два часа ночи вспыхивает скандал. Живущие на этой площади, главным образом женщины, «напускают» на меня большого широкоплечего мужчину. Он уже, видимо, прилег и теперь предстал передо мной в пижаме.– Синьора, – обращается он ко мне вежливо, – третий час ночи, жители хотят спать, а вы… Отвечаю любезно:
– А мы хотим завтра доставить радость детям этого города.
– Но ночь дана для сна, не правда ли?
– Как когда. Простите, ваша профессия?
– Я капитан корабля, плаваю в Адриатическом море.
– Ну тогда вы меня поймете, как никто. Мой корабль может завтра затонуть, если недостаточно прорепетирую то, что необходимо. Прошу вас, еще полчаса, и мы спасены.
Капитан умолкает. Ему нравится, что общаюсь с ним итальянском, да и мои сравнения ему близки. На крик женщин из окон он отвечает примирительно:– Еще полчаса придется потерпеть.
Сажаю капитана на скамью, то и дело обращаюсь к нему за советом как к первому своему югославскому зрителю, знающему местные вкусы. Видя, как трудна работа, как из хаоса начинает возникать нечто определенное, он делается моим союзником. Следующие выкрики нервных женщин он перекрывает мощью капитанского голоса:– Музыка не мешает спать. Ложитесь. Дайте нам работать.
С помощью капитана к шести утра разобрались с мизансценами в окнах, на балконах и крыше. После премьеры свежевыбритый, в белом кителе капитан первый горячо жал нам руки, преподнес букет и повторял, улыбаясь:– Счастлив, что, как мог, помогал вашему успеху.
Министерство культуры СССР в 1973 году направило меня в Нью-Йорк. Мои доклады называли там «театр одного актера». Я выступала, то играя на рояле, то показывая мизансцены различных постановок, то сидя за столом, то демонстрируя эскизы и грамзаписи. Съехалось много людей из различных городов США – главным образом профессора и студенты различных американских университетов. Потом мне была предложена четырехмесячная поездка в университеты Вашингтона, Лос-Анджелеса, Миннеаполиса и других городов США с циклами лекций. Поездка эта не состоялась: уже началось строительство нового величественного здания Детского музыкального театра в Москве, и это было для меня всего важнее и дороже. В Нью-Йорке мне вручили ряд ценных сувениров, самый маленький из которых и самый оригинальный – браслет с висящими на нем брелоками: крошечный рояль, ноты, головки ребят, театральная маска и сердце, с одной стороны которого написано по-английски «Наталии Сац – США», а с другой – по-русски «Мир и дружба». Когда я спросила, что, собственно, значит брелок-сердце, вручавший мне эту награду Орлин Корей сказал:– Вы отдали все ваше сердце искусству для детей и научили нас любить и верить в важность дела художественного воспитания людей будущего.
Еще немного о моих детях Может, вас интересует биография сына Ильи, когда он подрос? По переезде в Москву с ним всякое было. То «колы» в дневнике превращались в «четверки», то из злополучного этого дневника были выдраны целые страницы, покрытые восклицательными знаками педагогов, возмущенных его поведением… И вдруг, так же неожиданно, учитель танцев В.Н.Сталинский говорил о его прилежании и способностях, а затем Илья делал свои постановки и привозил первые премии из пионерских лагерей. Всякое было. Удрал однажды из лагеря в Рузе.– Зимой надо делать, что хочет учительница, летом – что хочет пионервожатая. А когда я буду делать, что я хочу?
Но это путешествие, длившееся почти сутки, оказалось несладким. Есть было нечего, заснул в стоге сена, а утром чуть не был проткнут вилами: никто же не предполагал, что в сене спрятался мальчик! И в средней и в музыкальной школе учился неровно, потом вдруг потихоньку от меня стал заниматься боксом. Однажды пришел домой с носом набок и ободранным ухом. «К счастью», я была в это время на постельном режиме, могла говорить с ним подолгу, добираясь до его сердца:– Я люблю красивое, и хотя ты у меня родился после тяжелой болезни – брюшного тифа, родился, когда я была уже совсем немолодая, я так радовалась, что ты – складный парень. А ты хочешь быть, как сейчас, уродом. Посмотри в зеркало.
Илюша ответил мне с дрожью в голосе:– Мама! Есть такое, что мамам не рассказывают. Мальчишки постарше часто меня били, я хотел одного – сам научиться бить. Но если ты против бокса – через две недели я его брошу, только раньше не могу.
Через две недели Илюша влетел ко мне на работу сияющий:– Мама, того, кто меня в прошлый раз нокаутировал, вынесли в санчасть. Теперь я получил первый юношеский разряд и с боксом – все!
Конечно, делала все, чтобы дополнить Илюшино образование – и английским и студийными занятиями по актерскому мастерству; он был способен (и очень!) к скульптуре. Но его увлечений надолго не хватало. И вдруг у него обнаружились совершенно неожиданно способности к акробатике. По своей инициативе он поступил в Эстрадно-цирковую мастерскую, отлично закончил курс, заслуженно стал лауреатом Всесоюзного конкурса, мастером любимого дела. Дела нелегкого! Каждый вечер – риск жизнью, и сколько уже было всяких «поломок». Но он любит риск, по-настоящему артистичен. В избранной профессии ему по капелькам помогли и занятия музыкой и танцем – все, что скопилось от детства. Интересные сюжетные номера он сам себе выдумывает и ставит. Заочно получил он и высшее театроведческое образование. Куролесил еще в жизни много. Однажды, поссорившись с любимой девушкой, повис на подоконнике двенадцатого этажа. Увидев, что он держится руками за подоконник, а все тело его за окном, девушка чуть не потеряла сознание и… простила его. Тогда он преспокойно вернулся назад, в квартиру. Отчаянный парень! Успеха в работе добился большого. Уже побывал в Японии, на Кубе, в Африке. Рецензии с подзаголовком «Сила и грация» очень радуют его маму, бабушку его милого десятилетнего сына – Арсения. Дочь моя Роксана работает много и успешно: стала оперным либреттистом. Ее сын, мой внук Миша, – пианист, окончил Московскую консерваторию. Его дочь, моя правнучка Аня, тоже одаренная пианистка, еще учится, а сын Никита поет в детском хоре, хорошо рисует. Старший сын Адриан – писатель, сценарист, журналист, дважды отец и даже дед. С ранних лет вступил в ряды Красной Армии. Тяжелые испытания войны вынес достойно. Сейчас его страсть– писать и снимать телефильмы о рано погибших талантливых людях. Пока с должностью «коренного» в этой большой семье я, кажется, справляюсь. Смешное: композитор Евгений Брусиловский сказал мне:– Самое в вас удивительное – ваши дети. Они же абсолютно не похожи друг на друга. Сколько в вас разнообразия, если они точно – все ваши!
Точно. Мои. Опера об опере Если спросить, что из творческих встреч с композиторами, общих замыслов и музыкальных свершений дало мне наибольшую радость и гордость, отвечу не задумываясь: симфоническая сказка «Петя и волк» Сергея Сергеевича Прокофьева. Желание превращать познавательное в увлекательное, радостное есть, вероятно, у всех, кто по-настоящему любит искусство для детей. «Петя» познакомил ребят с инструментами, входящими в состав симфонического оркестра. «Волшебная музыка» – это опера об опере: познавательное сплетено с комедийно-действенным. Ее я поставила в Москве, Будапеште, показала и в других городах. В Москве о нашем спектакле появилось много печатных отзывов. Когда и как приходят в голову творческие мысли – сказать трудно. Как пчелы, они кружатся над тобой днем и ночью, собирают нектар в событиях жизни и каких-то воспоминаниях, жужжат и жалят, а потом – мед, ощутимая почти физически идея чего-то нового. Опера об опере… Одна из главных задач этого спектакля – превратить весь зрительный зал в огромный хор, который в определенных местах спектакля подпевает артистам, действующим на сцене. Дети будут не только слушателями, их активная реакция – один из важных компонентов этой постановки. Приглашаю в соавторы Владимира Полякова. Он – сатирик, умеет вызывать смех. Мне хочется в опере об опере познавательное дать через комедийно-увлекательное. Либретто оперы завершает ее главный творец – композитор. Для нашего театра пишут и «маститые» и молодые. Марк Минков только что окончил Московскую консерваторию. Это будет его первая опера. Но какое счастье уметь помочь создавать музыку для театра! Особенно посвященного детям! И вот – событие. Наш театр приглашен с этим спектаклем в Гамбург (ФРГ) на Международный фестиваль детских театров. За нами пришлют самолет, полетят артисты, музыканты, костюмерши, рабочие с декорациями… Осень 1975 года улыбается нам приветливо, погода ясная, какие-нибудь три-четыре часа – и мы в Гамбурге, в международной гавани. В городе в основном звучит, конечно, немецкий, но слышатся и другие языки. Мы будем все вместе жить в пансионе немолодой, полной, но очень подвижной фрау, настолько перегруженной делами, что ей некогда причесаться и она носит парик, впопыхах надетый всегда набекрень. С интересом смотрим спектакли артистов Японии, на наших глазах вырезающих из плотной бумаги фигуры действующих лиц, декорации, а затем играющих «Гадкого утенка» Андерсена с этими бумажными персонажами в поразительном синтезе с жизнью артистов, не закрытых ширмой, владеющих к тому же и национальными музыкальными инструментами. Сколько мастерства и грации!.. Это театр «Казе-но-ко», руководимый Юко Секиа. Артисты из Югославии просят меня провести с ними беседу, поделиться опытом. С удовольствием… Очень забавен театр живых кукол из Кракова. Народный колорит в музыке (привезли и небольшой оркестр), в костюмах. Большой успех… Артисты Детского театра Стамбула называют меня их… прародительницей. Действительно, крупнейший турецкий артист и режиссер Мухсин Эртугрул в 1931 году долго жил в Москве и, как он сам говорит, больше всего почерпнул в Московском Художественном театре и… Московском театре для детей. Поставил в Стамбуле мой спектакль «Негритенок и обезьяна», стал горячим пропагандистом детского театра… Зарубежные детские коллективы – это театры-капельки. Состав их восемь-двенадцать-пятнадцать человек. А мы, как ни ужимались, приехали более чем в сорока лицах. Другие театры играли в маленьком зале, не всегда полном. Наши спектакли объявлены в зале настоящего большого театра Эрнста Дейча, и все билеты мгновенно проданы. Правда, давным-давно я была популярна в Германии, особенно после «Фальстафа». Представители печати, радио, телевидения двинулись здесь на меня, что называется, «косяком». Среди вопросов журналистов был и «каверзный». Вопрос. Госпожа Наталия Сац, вы далеко за пределами вашей страны известны как оперный режиссер. Объясните, почему вы сосредоточили ваше искусство на театре для детей, имея множество ангажементов в различных театрах оперы для взрослых. Там и денег и славы вы имели бы значительно больше. Это нас удивляет. Ответ. А меня удивляет, что это удивляет вас. Разве главная цель жизни – деньги и газетная шумиха? Мое счастье в сознании, что отдаю себя делу, которое обращено к тому поколению, от которого будет зависеть будущее. Гуманизм, прогресс, мир или противоположное? Если театр поможет молодым вырасти такими, какими хочется их видеть, – вот будет награда, которую невозможно сравнить с мелочами жизни: деньгами и «славой». Было очень занятно прочесть в подзаголовке этого интервью: «Она удивляется, что мы удивляемся». Организацию Международного фестиваля возглавил Уве Деекен, директор Театра для детей в Гамбурге – молодой, по виду почти юноша, человек поразительной энергии и доброжелательности. Он организовал для своих гостей (в том числе и для нас) интереснейшие поездки на катере для знакомства с городом и его достопримечательностями. Но, сами понимаете, меня больше всего интересовал в Гамбурге театр Эрнста Дейча, возможность как можно больше порепетировать там, приспособить к их сцене наше декоративное оформление. Поначалу это было трудно, почти невозможно, – они выпускали как раз в это время свою премьеру. Но я люблю рабочих сцены – они везде соучастники театрального волшебства, умею находить с ними общий язык. Как радостно было узнать, что многие из них любят русские песни – «Катюшу» и другие; они как раз были у меня в грамзаписях, и я с радостью могла подарить их. Приспособились. Репетировали по ночам. Очень помог мне… Отто Клемперер. Воспоминание о нем живет и сейчас в Германии, а если бы он сам со мной работал… Знала – самое трудное то, что опера зазвучит на русском, а зрители говорят и думают только по-немецки… Программы, либретто, ноты, конечно, были выпущены Уве Деекеном заранее и в большом количестве. Но дети невнимательно читают либретто – оно, скорее, памятка о виденном. Нужна была сиюминутность понимания – я превратилась в «человека просцениума». Перед занавесом ввожу детвору в атмосферу нашего спектакля, прошу их быть его соучастниками. Немецкие ребята хорошо понимают мой немецкий, реагируют по существу, отвечают дружно.– Впрочем, я все время буду с вами, вот тут, слева на просцениуме, мне поставили стул и в паузах я буду сообщать вам самое необходимое, чтобы вы хорошо могли понимать ход действия.
Мне кажется, юные гамбуржцы находят это решение целесообразным, хлопают. Занавес открывается… Теперь главное – станут ли зрители «самым дружным в мире хором»? Да! В нужный момент они вместе со всеми нашими артистами повторили мотив и пропели его совершенно точно. Чем дальше развивается действие, тем больший контакт устанавливается между русскими артистами и немецкими детьми, а когда хором на двух языках, слитых в единой мелодии и гармонии, звучит: «Спасибо, музыка, тебе!» – чувствуем успех. Большой, настоящий успех с бесконечными выходами на поклоны, цветами, длиннющей очередью за автографами. В заключение фестиваля все его участники из одиннадцати стран были приглашены в ратушу в двенадцать часов дня к бургомистру. Подготовка началась заранее. Мне хотели поручить от имени всех говорить ответное слово, но я была рада, когда эту миссию взяла на себя Ильзе Роденберг. А я придумала кое-что и репетировала накануне до полуночи с музыкантами и певцами… Итак, торжественное здание ратуши в Гамбурге, высоченные стены, рыцарские доспехи, картины в золоченых рамах. Холодная вежливость встречающих нас. Стоим в огромном зале, а минута в минуту в назначенное время появляется сам бургомистр в сопровождении своих помощников (один из них очень напоминает бульдога). Речь бургомистра, ответ Ильзе, реплики: «А Наталия Сац, пусть скажет она…» Я отвечаю, что как представитель музыкального театра хочу, чтобы мое слово заменила музыка, пусть благодарность за гостеприимство от москвичей зазвучит песней. Вслед за этим все наши певцы оглашают чопорный зал звуками песни: Если б знали вы, Как нам дороги Подмосковные вечера… Кто бы мог подумать, что в портфелях и сумочках, с которыми пришли советские артисты на прием в ратушу, хранились флейты, кларнеты… И вот сейчас, как полноводная река, звучит наша песня… Да! Песня – кратчайшее расстояние между человеческими сердцами! С чего начинается театр? Мои учителя говорили: «Театр начинается с вешалки». Но это все же не самое начало театра. Начало начал – окрыленная творческая воля, которая рождается в сердце и мозгу того, кто захотел и смог создать театр. Бывает, что инициаторов сразу двое, даже несколько, но неукротимая воля одного из них – всегда первооснова. Природа, имя и свойство этого неукротимо стремящегося создать театр – режиссер. Часто так можно его назвать еще задолго до того, как удалось ему сотворить театр. Видение театра, который хочу создать, как глубоко запрятанный во мне клад, жило в мечтах все годы. Пятнадцать лет театр наш был все время «в пути», завоевывая признание. Он достойно находил возможности приспосабливаться к своему зданию, гастролировать, но даже вывеска «Детский музыкальный театр» была со всех сторон зажата другими, более кричащими вывесками – ресторана «Славянский базар», парикмахерской, юридической консультации, магазина «Оптика», а наши дорогие посетители, входя в парадное театра, иногда с трудом пробирались через толпу любителей ресторанных яств. Нет, я не отказываюсь ни от одного шага на пройденном нами пути. Но когда отдаешь все смелому и трудно выполнимому замыслу, в каждом «сегодня» зреет мысль и о «завтра». Я помню трепет, который охватывал меня в бывшем Камергерском переулке, когда подходила к Художественному театру: благородство его сводчатых дверей, серо-коричневые тона и летящая чайка не только на занавесе, но на костюмах всех билетеров. Я всегда волнуюсь, когда еще издалека подхожу к огромным колоннам Большого театра, поднимаю глаза на его фронтон… Четыре мчащиеся лошади и классическая фигура Аполлона, как бы направляющего их бег… Детский музыкальный тоже должен начинаться со своего здания, органично воплощающего идею этого театра, своего дворца, радующего юных зрителей еще до того, как они переступили порог. Вскоре после того, как театр на улице 25-го Октября начал работать, ночной сон прорезали видения отдельных деталей будущего дворца музыкального театра, посвященного детям. А среди дня, если выдавался свободный час, мчалась (теперь уже на машине) на поиски подходящего участка свободной, совсем голой земли. Я – коренная москвичка, но никогда так хорошо не знала Москвы, как узнала ее в конце шестидесятых годов. Предлагали большую площадь против метро «Парк культуры». «Дома эти все равно сносить придется, а что вам с вашей энергией стоит переселить каких-нибудь триста-четыреста жильцов?» – язвили очевидцы моего успеха в борьбе с теми, кто добивался расширения «Славянского базара». После многих путешествий вокруг всех районов Москвы меня поддержали возможностью получить большой участок земли на проспекте Вернадского.– Соглашайтесь, – горячо убеждали меня. – В этом районе нет ни одного театра.
– Далеко от центра, – сомневалась я. Но так хотелось уже действовать! Согласилась. Начальник геологического треста А.Н.Наливкин уже не в первый раз помогал мне досконально изучить особенности «нашей» почвы. Трудностей было много – что о них говорить. Но после многих наших постановок, которые прошли с большим успехом в Москве, других городах Советского Союза и за рубежом, к моим мечтам о постройке нового, достойного нашего театра здания относились уже не как к эксперименту, а как к делу, заслужившему уважение. Однако мой темперамент не укладывался в темп «модерато» (умеренно) и, когда мне предложили осуществить строительство «своими силами», я зароптала.
– В Москве без самой Москвы новое здание – большое, умное, значительное – построить нельзя.
Мне привели в пример вновь выстроенное здание Художественного театра на Тверском бульваре. Я возразила, что здание, которое не несет в себе творческое зерно, идею, художественно органичную для данного театра, примером считать не могу. Строилось оно мучительно долго. В последние годы строительство его возглавляли очень ответственные руководители: Художественный театр всемирно признан, прошел испытание временем. На нашем, только начинающем свой творческий путь театре сосредоточить столько внимания те, кто помогал Художественному театру, не захотят. «Кустарщина» наших собственных возможностей была бы очень опасной и финансово и результативно.– Что же вы собираетесь делать? – спросили меня.
– Искать крепкую руку руководителей Москвы, их строительных организаций, – ответила я тихо, но твердо.
И снова сказка протянула руку моей правде. Интуиция подсказала мне, что надо постараться поговорить лично с первым секретарем Московского горкома КПСС. Знала я его? Нет. Легко мне было попасть к нему на прием? Нет. Но ведь я-то твердо верила, что мое дело очень важное и нужное. Может, и не пытаться? Возражала самой себе, что сила нашего социалистического государства растет оттого, что каждый свое дело считает большим и нужным, что творческий вклад каждого – совсем не мелочь. Вспомнила, как в юности хотела дать название балету «Я – мало, мы – сила», а умный человек поправил меня, сказав:– Если я – мало, мы никогда не станет силой.
В это поверила крепко. Кустарщина ремонта здания на улице 25-го Октября не могла повториться, когда возмечтала о вершинно-большом, настоящем здании. Значит, обязана преодолевать все трудности, во что бы то ни стало шагать к своей цели. И вот в один поистине прекрасный день прием у первого секретаря был назначен. От волнения попросила пойти вместе со мной Т.Н.Хренникова: верно, в горкоме о нашем театре, его спектаклях, о моей работе мало знают. Пусть Тихон Николаевич поможет своей информацией – мне-то говорить, верно, будет неловко. Прием состоялся. Оказалось, что Виктор Васильевич Гришин и о наших спектаклях, и о моей работе знал все сам. Комментарии не потребовались. Да, он поверил, что Москве нужен дворец музыки, посвященный детям и юношеству: что наш энтузиазм и энергия помогут создать его, он дал нам надежду, что горком поможет еще в конце текущей пятилетки открыть для маленьких москвичей двери нашего будущего дворца. Мечты сбываются Проспект Вернадского. Наша земля, как черные брызги неведомых фонтанов, взлетает кверху. Экскаваторы, спасибо! На языке строителей – это «нулевой цикл». Как бы не так: фундамент! Растет основа нового здания. По горло дел на улице 25-го Октября: новые мои постановки, работа с композиторами, руль организаторских дел, поездки. Но неодолимая сила тянет к новой нашей земле, уже крепко огороженной. Видите ликующие буквы плаката? «Здесь строится Московский государственный детский музыкальный театр. Генеральный подрядчик – трест «Мосжилстрой» Главмосстроя…» Прозаично? Нет. Вершина поэзии. Руководитель «Мосжилстроя» Александр Михайлович Скегин с первого же разговора уверовал в нужность нашего будущего театра, у него – целая армия рабочих-строителей. Шумят грузовики, подвозят железобетонные плиты, стекло, на высоких нотах сообщаю, что прибыли к нам подъемные краны… Шум этот сейчас мне «слаще, чем звуки Моцарта», музыка которого тоже обязательно зазвучит в нашем будущем здании. Все яснее вырисовываются в моей фантазии особенности нашего здания, его детали и целое. Бесконечно ищу, нередко ошибаюсь, потом все же нахожу своих архитекторов, художников, скульпторов, тех, кто сумеет наиболее ясно и ярко воплотить мой замысел. Меня понимают не все и не сразу. Искать кусты своих цветущих роз, нередко оказываясь только исколотой шипами, – тоже счастье. Без крови новое не создашь, и еще более радуешься, когда встречаешь родного по духу, такого, как Слава Клыков. Его скульптуру заприметила на выставке: Василий Шукшин открывает дверь и входит к людям твердой, смелой ногой. Кажется, мы уже давно ждали его. Помню, как понеслась в мастерскую, где Клыков месил глину. Ладный, неожиданный. Увидела его, и фантазия вырвалась из-под спуда прежде тяжело давивших слов: «задумали невозможное», «не выйдет»… Он выпрямляется, слушает, прищурив глаза, не улыбаясь. Зерна моего замысла прорастают в его скульптурах, органично и неведомо как обогащенные его талантом. Талант всегда удивителен. Но не только художники обогащают сейчас мое «человековедение». Начальник Главного управления капитального строительства Иван Михайлович Болтовский – у-у-у-у, какая это капитальная воля! Он строит не по обязанности – русское черноземье словно сознательно произвело на свет этого великана строительства. Ко мне он относится ласково. Конечно, очень разные у нас масштабы, но крупицы воли моей ему сродни. А дел – по горло. То не хватает денег (увы, каких-нибудь… пяти миллионов), то по смете на некоторые работы нет ювелирных мастеров.– Ну что вы хлопочете о каких-то дверных ручках?
– Буду хлопотать. В строительстве мелочей нет.
И вот открываем «ювелира деталей»: Олег Кретов – золотые руки! Сколько раз ты помешал протиснуться в наше здание унылому стандарту! Темп не снижаем ни при каких обстоятельствах. Постоянно чувствую поддержку Московского городского комитета партии. Как только заминка, на помощь к нам приходят то Игорь Николаевич Пономарев, то Владимир Ефимович Житлевский, то Валентин Николаевич Галицкий… По сколько-то часов в сутки, как все, сплю, но не дремлю ни минуты и, конечно, стараюсь, что могу, доделывать сама. Часы в мастерских художников – мое прямое дел. Но сваливаются на плечи дела, казалось бы, мои только по совместительству. Архитекторы Александр Александрович Великанов и Владилен Дмитриевич Красильников настаивают, чтобы стены нашего здания были выложены из камня песчаника-ракушечника. Его ищут все. Ищут по всей Москве. Безуспешно. Но не может быть, чтобы его не было во всем Советском Союзе… Оказывается, есть только в Казахстане. Словно первый листик весны, в сердце моем рождается надежда. Алма-Ата, ты помнишь меня? И вот, никому не доверяя, сама мчусь на телеграф. «Строительство первого и единственного в мире Детского музыкального театра задерживается отсутствия двух вагонов камня песчаника-ракушечника. Очень прошу срочной помощи…» Телеграмму подписала, послала, но не могу заснуть – в голове одна беспокойная мысль: неужели на мою телеграмму не обратят никакого внимания, даже не доложат тому, кто сможет и захочет помочь? Я же – «частное лицо». И только. Вдруг телеграмма из Казахстана: «Два вагона песчаника-ракушечника строительства Детского музыкального театра Москвы отгружены. Принимайте…» и т.д. Вот это называется счастье! Через несколько дней «драгоценные камни» у нас во дворе, и как кстати: строительные рабочие из-за заминки малость сникли. Надо «впрыснуть» им что-то живительное. Делаем из камней возвышение – нечто вроде открытой эстрады, – на котором уместится наш оркестр, главный дирижер Виктор Михайлович Яковлев и я. Из камней пониже сооружаем места для нашей рабочей публики. Весна теплая. Акустика прекрасная. В обеденный перерыв строители не без удивления, но с удовольствием усаживаются на скамьи из песчаника-ракушечника. Приветствую, объявляю:– Увертюра к опере «Руслан и Людмила» основоположника русской классической музыки композитора Михаила Ивановича Глинки…
С первых же аккордов на нашей пока полупустой земле звуки гениальной музыки словно вливают мощь радости и энергии в сердца слушателей. Доиграли. И вдруг на скамью вскакивает уже немолодой мужчина в спецовке.– Мы думали, вы здесь детям забавлялки всякие показывать будете, а вы вот для какого дела стараетесь! Шутка сказать – сам Глинка! И музыканты у вас за душу хватают…
Голос работницы:– Слезу из глаз вы своей музыкой выбили. Поблизости здесь проживаем. Всей семьей к вам ходить будем…
Успех неожиданный, такой живительный для нашего молодого коллектива. Звучат молодые звонкие голоса наших певцов, «браво» и «бис» несутся далеко за пределы нашего строительства. Но обеденный перерыв окончен. Мы все – артисты оперы, балета, оркестра, руководящие, так сказать, работники – надеваем спецовки, строительные каски и все послеобеденные часы в едином коллективе с рабочими-строителями участвуем в постройке страстно всеми нами желаемого дворца музыки для маленьких москвичей. Много сделать не можем – убираем мусор, все же помощь. Много у меня было «осторожных доброжелателей», которые старались «беречь» мои силы, огораживать от «безумных» затей. Ничего не могу с собой поделать. Мечта создать комнату Палеха взяла за сердце крепко. Знаю: маленькая черно-лаковая коробочка в ярких красках палешан стоит пятьдесят-шестьдесят долларов, а нам нужны огромные пластины по три-четыре метра на каждую стену… Едем в город Иваново со спектаклями, начинаем «окружать» знаменитое село Палех самыми разными способами. Все складывается благоприятно. Периодически посылаю «главу наших педагогичек» наследственно пробивную Роксану в Палех – обегать избы, в которых живут художники, вытащить их с эскизами к нам в Москву. Самобытные они не только мастера, но и люди. Уже увенчаны званиями народных и заслуженных художников, а все живут в своем селе, напоминают односельчан моей мамы из села Полошки. В одной американской газете меня назвали современной Шехерезадой, хотя сказки свои рассказываю всегда днем, ощущая, как улыбается мне яркое солнце моей Родины. Всего не расскажешь. Но не забыть, как созданная Славой Клыковым птица счастья – Синяя птица – «взлетала» на крышу нашего театра. «Благоразумные» всячески отговаривали (увы, среди них были и архитекторы), считая, что само по себе здание настолько прекрасно, что Синей птице там не найдется места. Помню, как меня всерьез припугнули те, что стараются прожить без лишних хлопот.– Вертолет из Челябинска за двести тысяч рублей пригнать согласитесь? Только он может помочь этому «взлету».
– Двести тысяч?! Да как у вас язык поворачивается такое мне предлагать… Неужели найти слиток золота легче, чем соответствующей мощности подъемный кран?!
Владимир Ефимович Житлевский! Вы с помощью Ивана Михайловича Болтовского пригнали к нам все-таки соответствующий подъемный кран! Пусть навеки будут вписаны ваши имена в эти воспоминания! В детстве, пятилетней, видела спектакль «Синяя птица» в Московском Художественном театре, где звучала музыка моего отца. Эта сказка зазвучала во мне на всю жизнь. С одним никогда не могла смириться: мальчик по имени Тильтиль весь спектакль ловил Синюю птицу и так и не поймал ее. Родители очень смеялись, когда я после этого спектакля сказала:– А я, когда вырасту большая, поймаю Синюю птицу – птицу счастья…
И вот незабываемый момент в жизни – «взлет» нашей Синей птицы. Вот она летит ко мне – на крышу построенного нами нашего театра! 6 октября 1979 года. В переполненном зале нашего нового театра – строители: строгие, усталые, счастливые. Мы – это коллектив более чем в пятьсот человек. Коллектив артистов и музыкантов «выковался» достойный, единый, хоть и создавался из сложных индивидуальностей. Мы и верим и не верим. Не можем поверить, что вот это огромное здание, такое поразительно красивое здание, где развернется наша творческая работа, – уже не мечта, а реальность. Смотрим на строителей, как на волшебников. Все еще недоумеваем: неужели сбылось?! На сцене – тоже московские строители. Я где-то там, на сцене, предельно счастливая, усталая и чего-то недопонимающая. Но вот меня вызывают к трибуне и вручают огромный ключ, символический знак того, что именно для нас построен этот дворец. Ключ металлический, резной, отливает золотом. Наверху его – буквы «МГДМТ», внизу – «Н» и «С». Неужели это мне?! Когда-то пятнадцатилетней девчонке Наташе Сац, раз и на всю жизнь почувствовавшей «одной лишь думы класть, одну, но пламенную страсть» создавать театры для советских детей, работавшей всегда и во всех условиях с одинаковой отдачей? Неужели это мне выпало счастье участвовать в строительстве величественного дворца детской радости? Программа в этот вечер у взрослых людей – наших дорогих строителей – имела большой и, я бы сказала, неожиданный успех. Конечно, не раз рассказывали мы им, во имя чего предпринято это грандиозное строительство, но уверенности, что дети Москвы, их дети, получат действительно настоящее искусство, что зазвучит большая музыка даже и для маленьких, что нашему коллективу, вобравшему в себя оперу, балет, симфонический оркестр, доступны такие масштабы, не могло у них быть, пока они не услышали этого концерта. Большим счастьем было и то, что торжественность праздника не была разбавлена никакими банкетными настроениями. Сосредоточенная тишина сменялась громкими аплодисментами, рождение чего-то большого и нового устраняло то, что так часто зашелушивает «зерно» большого события. А я ходила, пожимая руки архитекторам, скульпторам, художникам и мысленно повторяла слова: «Чего сильно хочешь, во что искренне веришь, то не может не сбыться…»– Вы не знаете, как проехать в Детский музыкальный театр? Приезжие мы.
– Садитесь на троллейбус номер двадцать восемь по направлению к университету. Следующая остановка – Детский музыкальный театр.
– Так и называется?
– Так и называется.
– Говорили, театр знаменитый, но что в честь него троллейбусную остановку сделали… Лихо!
Гости подъезжают к театру. Он за зелеными деревьями, за фонтанами, цветочными клумбами, среди которых чудесные скульптуры. Справа, там, где так много крупных белых ромашек, – колонна-постамент, на котором высится приветливый курносый парнишка верхом на лошади. Он трубит в трубу, словно созывая в театр ребят… Они спешат сюда за час до начала спектакля, боясь опоздать. Под скульптурой мальчика на лошади – яркокрасочные плакаты: афиши театра. Взгляните налево: большие скульптурные фигуры пионера, маленькой негритянки, желтолицего вьетнамца, краснокожего индейца… Ребят всех рас видим мы тоже как бы устремившимися к театру, который ждет к себе в гости не только маленьких москвичей, – он обращен к детям всего мира. Весело бьет вода из фонтана с четырьмя музами, из фонтана «Бегущая по волнам». На траве около театра как бы гуляют звери и птицы (графические скульптуры народного художника РСФСР Ивана Ефимова). Гуляют под музыку – она несется с балконов театра-дворца. Здание театра кажется ажурным, его основа – камень-ракушечник, много белокаменной резьбы, пять замечательных входных дверей. На первой – Мальчиш-Кибальчиш из сказки Аркадия Гайдара и веселый Буратино. У Буратино в руках золотой ключик, который он словно поворачивает, напоминая, что скоро начнется представление. Над тремя следующими входами – золотые медальоны с барельефным воплощением сказок великого Пушкина, талантом русских композиторов превратившихся в оперы. Вот они – Царевна-Лебедь, Рыбак и Золотая рыбка, мудрец с Золотым петушком… На пятой двери оживают образы первой симфонической сказки для детей. Птичка сидит на флейте, кошка в дружбе с кларнетом, страшный волк неотрывен от валторн, ну а герой симфонической сказки Сергея Сергеевича Прокофьева «Петя и волк» – сам Петя – дружит со струнными смычковыми инструментами. Этот вход направит ребят в малый концертный зал, словно подготавливая их для входа туда. Все двери очень красивы. Но поднимите голову. На крыше театра – его символ: Синяя птица на золотой арфе. Москва – златоглавая. Арфа, на которой «сидит» Синяя птица, золотая. А главная героиня театра-дворца Синяя птица несет детям счастье любви к музыке и понимания ее. Поэтому она и сидит на арфе. Поэтому нашу Синюю птицу мы так любим и у всех сотрудников театра на груди один и тот же значок: Синяя птица на золотой арфе. Мы это заметили, как только вошли в театр. Еще у дверей красивая женщина нам улыбнулась, и мы почувствовали, что нам улыбнулся весь театр. Нет здесь ни строгих контролеров, ни мрачных билетеров: веселые приветливые лица! А громкое «Добро пожаловать, дорогие ребята!» звучит откуда-то сверху… Кажется, что улыбаются даже стены того скучного места, которое обычно называется вешалкой. Оказывается, над всем гардеробом по трем мосткам, протянувшимся от верхнего фойе к окнам театра, прогуливаются любимые герои детских книжек: кукла Мальвина, обезьянка Чичи, Петушок-Золотой гребешок… Артисты, одетые в костюмы этих героев, вышли на мостки специально для того, чтобы приветствовать входящих ребят. Право же, гораздо интереснее вместо замечания сурового билетера услышать с мостков дружеский совет пуделя Артемона: «Шапку и шарф положи в рукав… Правильно, гав!» Нравится ребятам и очень добродушный медвежонок, сделанный скульптором А.Белашовым. Кажется, вот только сейчас, сию минуту повернул медвежонок голову к входящим ребятам, чтобы попросить их после спектакля обязательно написать ему, понравился ли спектакль, который они сейчас увидят, а если нет – то почему?! За спиной у медведя белая березка, на которую он предусмотрительно повесил ящик для детских писем. Но вот музыка в фойе становится похожей на пение и чириканье птиц: зрители театра поднимаются по лестнице и проходят в высокую комнату – вернее, ротонду – с ажурными клетками-вольерами, где живут самые разные птицы: веселые канарейки, зеленые попугайчики, снегири – какие они все разные, яркие, многоголосые! «Да, первая в мире певица – это птица», – с веселой улыбкой объясняет ребятам Зиночка, молодой педагог театра. Она уверена, что гости Детского музыкального театра никогда не будут обижать птиц. Но вдруг слышится плач маленького ребенка. Как он попал сюда?– Мой трехлетний брат, – говорит двенадцатилетний подросток. – Мама и папа на работе, мне на сегодня билет в театр достался, а его не с кем было дома оставить…
– Но ведь он может заплакать и в зрительном зале, помешать ребятам слушать музыку. Его в зрительный зал не пустят.
Двенадцатилетний уже готов наказать малыша или (о ужас!) вернуться с ним домой. Но тут театральный педагог Аня Генина берет малыша за руку и ведет вниз по лестнице, в комнату младших братцев и сестриц. Руководить – значит предвидеть. И когда мы строили этот театр, предвидели возможность аналогичных случаев. Старший брат совершенно спокойно может смотреть спектакль – в комнате младших братцев и сестриц симпатичный затейник Слава поможет малышам выучить новую песню, устроить кукольный спектакль или оркестр из музыкальных игрушек: там уже пять или шесть таких же малышей, крошечные столы и стульчики, большие кубики, из которых сообща можно построить домик… Очень симпатичная и веселая комната! [33] Напротив – комната для родителей, тех, что не смогли достать билеты на спектакль, на который привели своих ребят. Да, билеты в Детский музыкальный театр поступают в продажу два раза в месяц и сейчас же раскупаются, все до единого. Когда строился этот театр, я боялась, что он удален от центра. Не то что театр на улице 25-го Октября! А вышло наоборот. О такой посещаемости, как в этом театре, мы не могли и мечтать. То, что люди полюбили, всегда им оказывается ближе, чем то, что расположено почти рядом с их домом, но чего они еще не научились ценить. О родителях во дворце Детского музыкального театра тоже подумали: в их комнате висят картины известных художников, главным образом посвященные детям, стоит скульптура известного советского атлета, нежно прижавшего к плечу своего крошечного сына. На столах – популярные книги о важности художественного воспитания, детские пьесы, песни, граммофонные пластинки с записями спектаклей Детского музыкального театра, а самое главное – большой телевизионный экран. Хлопот с его приобретением и установкой было много. Пришлось войти в тесные контакты с финской фирмой. Зато родители видят на этом экране все, что происходит с их ребятами с момента, когда они вошли в помещение театра: видят спектакль, который сейчас показывают их детям, и то, как воспринимают этот спектакль ребята в зрительном зале. Не мудрено, что они тянутся почаще бывать в здании, где так окружены вниманием и заботой все, кто пришел сюда. Буфет Детского музыкального театра расписан художницей Мариной Соколовой. Посетители как бы попадают в сказочный лес, где все звери: леопарды, львы, тигры – веселые и добрые – питаются плодами деревьев, ягодами… А круглый потолок буфета привлекает внимание какими-то диковинными бабочками и удивительными птицами. Столики и стульчики в буфете – черно-красно-золотые, работы мастеров Хохломы. Есть совсем маленькие, для младших зрителей шести-восьми лет, есть побольше – для детей постарше и, наконец, удобные стойки для юношей и девушек, к которым обращен ряд наших спектаклей. Пришлось немало повозиться с покупкой этой детской мебели: по перечислению магазин не продал, потом могло не оказаться того, что мы выбрали. Но, к счастью, это был день нашей заработной платы, и ее вполне хватило на покупку, а малышу сидеть за «своим» столиком – своеобразный «знак почета». За огромным окном – причудливая многоярусная анфилада каменных скамеек, расположенных полукругом. Посредине – огромная серебристая ель, она красива во время зимних школьных каникул, украшенная многоцветными огнями и игрушками. И здесь, на свежем воздухе, так интересно отпраздновать новогодний праздник. Впрочем, эта ель прекрасна во все времена года. В помещении буфета чудесные скульптуры – «Иванушка и Конек-Горбунок» и многие другие – расположены среди цветов и зелени. Но самая интересная из них – за огромным стеклом в глубине буфета, та, за которую получила премию художница Г. Левицкая. Она называется «Пусть всегда будет солнце»: на руках у счастливой матери – любимый ребенок… Маленькая деталь: в буфете продается шоколад «Синяя птица», повторяющий эмблему театра, а также шоколадки, своими нарядными обертками напоминающие ребятам о различных спектаклях. Хорошо, если ребята прячут и эти памятки о посещении своего театра. Пойдем теперь по большой парадной лестнице вверх, в фойе. Скажу по секрету: один из архитекторов мечтал, что это фойе будет, как сейчас модно, лишено стен, а значит, оно непременно станет вбирать все шумы гардероба и буфета. Но тут пришлось начать настоящую битву: ведь перед тем как войти в зрительный зал, его посетители должны как-то сосредоточиться, подготовиться к самому главному – восприятию музыки, спектакля. И не случайно в этом фойе ребятам не хочется бегать, шуметь – они сосредоточенно вглядываются в скульптурные панно Вячеслава Клыкова, посвященные Бояну, который был неразлучен со своей домрой, Орфею, играющему на кифаре [34] , и другим легендарным музыкантам древних преданий. Они охотно любуются цветами, которых так много здесь вокруг удобных мягких диванчиков. А когда наконец наступает время спектакля, ребята на некоторое время застывают во входных дверях, глядя на огромные люстры на потолке, на кресла в зрительном зале, которые поднимаются амфитеатром и похожи на волны моря. Да, на волны моря и по форме и по колориту: если в первых рядах эти кресла с полукруглыми спинками светло-голубые и светло-зеленые, то постепенно, по мере удаления от рампы, их краски сгущаются и доходят до глубоких темно-лиловых тонов. Все это не случайно. Ведь музыка подобна морю, она всегда динамична. И огромный занавес работы художника Г.Чистова, вытканный из синего материала и серебряной парчи, снова говорит о море, о ладье, на которой плывет известный всем любителям оперы Садко. В руках у Садко – гусли. Он играет и, вероятно, так хорошо поет, что вот уже морской царь, русалки и другие жители дна морского заслушались его музыкой. Сцена в этом зале не одна – их три. И какие богатые возможности это дает для динамично развертывающегося действия! Оркестр тоже подвижен. Когда идет опера, он расположен в своей большой оркестровой яме; но в некоторых концертных программах, когда должна звучать только музыка, планшет, на котором расположены музыканты и их музыкальные инструменты, легко поднимается до уровня сцены и оказывается на первом плане. В антракте многие школьники любят побеседовать о музыке, постараться запомнить услышанные лейтмотивы. И тут они могут пойти в самую, может быть, красивую комнату этого театра. Ее художники – народные умельцы из села Палех, что в Ивановской области, – своими черно-лаковыми шкатулками прославились на весь мир. В этой комнате все стены ярко сверкают поистине волшебными красками на черно-лаковом фоне. Посреди комнаты – концертный рояль, за ним – пианист, который ведет беседы с ребятами. Есть в Детском музыкальном театре и Малый зал. Конечно, по величине ему не сравниться с тем, в котором идут оперы и балеты (он на тысячу двести мест). Но слушать камерную музыку бывает особенно отрадно в камерном зале, где всего триста мест. Фойе Малого зала также наполнено художественными произведениями, частично приобретенными в музеях и на выставках, частично специально заказанными нашим театром. Центральное место занимает большое барельефное панно «Рождение музыки». Так, вся обстановка, вся атмосфера нашего здания наполнена верой в огромную силу искусства, стремлением приблизиться к благороднейшему из искусств – музыке. Конечно, перед началом строительства этого театра во всех моих поездках по Советскому Союзу и за рубеж я совсем другими глазами смотрела на здания, их обрамление, вещи, не пропускала ни музеев, ни костелов, ни внутренних двориков, ни садовой архитектуры (не скрою, раньше в поездках меня больше всего интересовали люди, а внешние впечатления недостаточно трогали). Сколько высокохудожественного и тематически «нашего» удалось «выцыганить» для нашего театра (кто-то даже в шутку сказал, что цыганская кровь в моих жилах тоже не остывает)! Огромный ковер в фойе Малого зала, картина-барельеф «Струнный оркестр», да даже… буфет-стойка в этом фойе по-разному, но уникальны. В стойку и места на прилавке вделаны красивейшие жостовские подносы. Объезжая народные промыслы Подмосковья, конечно, установила личный творческий контакт и с Жостовом. Подносы с красной рябиной сделали по моей просьбе, но и другие цветы и ягоды на черном фоне радуют глаз. А как хорошо они «читаются» рядом с огромным окном, где висит сделанная батиком многогранно-единая занавеска работы художницы Н. Девочкиной, которую я «высмотрела» в городе Иваново. В моем кабинете зарубежные гости не могут глаз отвести от чайного сервиза во главе с розово-голубым фарфоровым самоваром, перекочевавшим сюда из-под Ленинграда и достойным быть в музее. А столик и табурет драгоценной работы палешан будто излучают красно-золотое пламя. Но… слова бессильны рассказать о том, что хорошо бы увидеть своими глазами. И порадоваться вместе с нами и хозяевами этого здания – московской детворой. Наш дворец Итак, в 1980-й, объявленный Годом ребенка, был выстроен огромный дворец театра оперы, балета и симфонической музыки, посвященный детям и юношеству. Три большие сцены, большая, удобная, способная то углубляться, то подниматься в уровень со сценой так называемая оркестровая яма, с благодарностью взирая на архитекторов А. А. Великанова и В. Д. Красильникова, с нетерпением ждали новых и новых произведений советских композиторов и либреттистов, чтобы зазвучать, получить свою жизнь. К этому времени у нас уже был репертуар, которого и не могло быть до появления первого Детского музыкального театра, и главными создателями его были советские композиторы. Да, они дали начало начал (конечно, неотрывно от артистов и либреттистов) для той общественной воли, которая помогла свершиться чуду постройки нашего дворца. Творчество советских композиторов неразрывно связано с нашим театром, и мы, что называется, взаимно обогащаемся от этой дружбы. Бережно храню письмо, которое получила в день пятидесятилетия своей работы, оно было опубликовано в журнале «Советская музыка» за 1968 год. Позволю себе его привести здесь. «Дорогая Наталия Ильинична! Пусть в потоке поздравительных телеграмм на ваше имя не затеряется и эта. Ведь мы, композиторы, любим вас. Любим за ваш большой талант, в котором соединились вместе режиссер, актер, писатель и организатор. Вот уже полвека вы на «капитанском мостике». Ваш корабль – это детский театр, воплощающий романтику нашей жизни. Вы привыкли открывать неведомое. Теперь – первый музыкальный. И это замечательно, что вашим «помощником» избрана музыка, современная, наша, советская. Полвека на «капитанском мостике» – это начало пути. Пусть ваш корабль идет и дальше верным курсом. Хренников, Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, Свиридов, Щедрин…» Большую радость я испытываю, когда говорю детям вступительное слово со сцены или сижу в зрительном зале, наполненном стрижеными, с косами, кудрявыми и гладко причесанными вертящимися головками ребят, погруженными в радостное предвкушение специально для них поставленного спектакля. Но, наряду с успехом, мои постановки для малышей у некоторых критиков вызвали и скептические улыбки. Помню, как на гастрольном спектакле в Лионе (Франция) выдающийся деятель кукольного театра Темпораль резко заступился за мой спектакль, сказав:– Спектакль этот потряс меня. Его поставила та самая Наталия Сац, которой, подобно Робеспьеру, отрубили голову. Впервые в истории человечества сегодня мы видели, что ее талантливая голова выросла снова, стала еще изобретательней в своей потрясающей фантазии, обращенной к детям…
Темпораль сильно меня преувеличил, но почему-то его реплика никого не насмешила, даже вызвала сочувственные аплодисменты. Небезынтересно «неожиданное рождение» спектакля «Максимка». Композитор Борис Михайлович Терентьев – добрый друг театра – тоже хотел включиться в число авторов, творящих для ребят. Он предложил написать балет на сюжет голландской сказки. Я не чувствовала «дансантно-сти» в тех его произведениях, что знала. Посмотрела на него – широкоплечего, доброго, с трубкой в зубах – и приветливо сказала:– Нет, не это. Подумаю…
В день Военно-Морского Флота звучало много песен разных авторов, но какой-то внутренней органикой, «чувством» моря, ощущением жизни моряков выделялись песни Бориса Терентьева. Подумала, что это не случайно.– А вы, часом, не служили ли во флоте?
– Много лет, на разных должностях.
Прошло еще какое-то время, и вдруг осенило: «Морские рассказы» Станюковича, «Максимка»! Вот его и наша тема… Моя дочь Р. Сац-Карпова в содружестве с В.Викторовым написала действенное либретто о спасении русскими матросами маленького негритенка. Белые матросские робы с голубыми воротниками на сцене нашего театра, корабль и на фоне этого величия хрупкая фигурка негритенка приковали внимание девочек и особенно мальчиков. В.Яковлев, режиссер В.Рябов и многие из нас работали над этим спектаклем. Особенно хочется подчеркнуть талантливую работу художника – Алены Спешневой, артистов Т.Глуховой, Г.Григорьева, С. Колганова, И.Лаптевой. Хорошее либретто недвижно лежало в нашей литературной части. Среди многочисленных композиторов, желавших с нами работать, я не чувствовала ни в одном способности перенести нас в чащу джунглей. Но однажды в Доме Союзов, где шло совещание советских композиторов, поодаль от основной массы собравшихся я услышала какое-то странное пение. Подошла к двери, приоткрыла ее… Отец мой учил нас с детства искать новое в звуках везде, а не только в симфониях великих; свирель пастуха, если она звучала талантливо, была ему не менее дорога. Когда увидела за роялем человека небольшого роста, худого, безразлично одетого, который пел под свой аккомпанемент горловым, необычайно сильным и красивым голосом песню на неизвестном мне языке, – остолбенела. Вот он, колорит Востока, непроходимо сплетенные ветви лиан, хищные звери. Я поняла – Ширвани Чалаев может дать зазвучать миру джунглей. Начало спектакля, еще до открытия занавеса, – огромный хор, поющий с полузакрытыми ртами без слов, на звуке «а» или «ы», – было найдено Ширвани изумляюще точно. За несколько минут он переносил всех, кто в зрительном зале, в далекие джунгли, в атмосферу лесной чащи, где бродят волки, шакалы и тигры, где заблудился маленький мальчик. Музыкальные характеристики каждого действующего лица дались Ширвани не сразу. В опере для детей они должны быть особенно выпуклыми и индивидуальными. Дети прекрасно воспринимают и современный музыкальный язык: гениальный пример – «Петя и волк» Сергея Сергеевича Прокофьева. Ширвани Чалаев, к счастью, и не пытался писать облегченные мелодии, свойственные детским песенкам прежних лет. Но как ни была бы хороша музыка в опере сама по себе, она подчас не помогает артисту найти сценический характер. А перевес певческого, «только для пения», забвение важности звучащего образа в театре будет явным просчетом. Ширвани с горящими глазами смотрел, как я опрокидываю стулья на сцене, перевоплощаясь то в тигра, то в шакала Табаки, то в обезьяну. Какое счастье, когда наступает полное творческое взаимопонимание! Резко пришлось мне обрушиться только на первоначальное стремление автора либретто превратить Маугли в сына волков, перенявшего их хищничество, страсть искать везде «доброй охоты». В том-то и дело, что Маугли, переняв у зверей их ловкость, наблюдательность, не теряет человечности, не становится хищным зверем. Даже покровительствующая ему пантера Багира не может этого понять. И мы горды за Маугли, который, умея бороться с хищниками, остался человеком. Опять-таки Ширвани Чалаев понял меня сразу, безоговорочно, и именно так зазвучала в его музыке «сверхзадача» будущего спектакля. Руководство постановкой «Джунглей», репетиции увлекали меня и весь коллектив. Много работали режиссер Виктор Рябов, балетмейстер Борис Ляпаев. Очень интересный, волевой образ Маугли получился у Виталия Ивина, по праву занявшего положение ведущего тенора нашего театра. Мать-волчица в трактовке Евгении Ушковой несла, не теряя «волчьего», и чувство материнства. Лидия Кутилова, Ирина Долженко в трудной партии пантеры Багиры были интереснее вокально, чем пластически. Остро раскрыл Святослав Калганов образ шакала Табаки, которого дети возненавидели сразу. Геннадий Пискунов в партии тигра Шерхана сумел музыкально и сценически передать существо образа. Мощное и многогранное звучание партитуры «Джунглей» дал наш оркестр, возглавляемый главным дирижером театра В.М.Яковлевым – велика была его заслуга и в работе с вокалистами. Художник «Джунглей» Шандор Пирош был подмечен мною во время поездки в Венгрию: в Будапеште он оформлял мою постановку «Оперы об опере». А затем уже дважды мы приглашали его для работы над спектаклями в новом помещении, и его творческая изобретательность, вкус, мастерство неизменно радовали нас. Наше уважение к людям искусства за пределами нашего государства крепило «дружбу народов» уже с детских лет. Для юношества создана также опера «Второе апреля» одного из наиболее интересных советских композиторов – Александра Чайковского. Сюжет навеян рассказом советского писателя Ильи Зверева. Наш герой Гера любит Лермонтова и восхищается Горьким. Он ищет правду, с презрением относится к «дню обманов» первого апреля, когда шутки старших школьников подчас бывают и недобрыми. Но ожидая доброты от других, надо и самому быть добрее, уметь любить товарищей, как бы отвечает ему спектакль. Положительный герой должен занять ведущее место на сцене. Но не всегда он приходит к нам как некий готовый образец. Подчас правильнее провести его через те жизненные испытания, которые на наших глазах помогают ему вырасти, преодолевая в себе многое. На пути становления характера Геры возникает немало сложных ситуаций. В двух словах не расскажешь содержания пьесы, обращенной к тем, кто ищет и находит верные пути в жизни. Играть, особенно в опере, роли школьников так, чтобы школьники, сидящие в зале, верили тебе, очень нелегко, но поднимать их интерес к Лермонтову, Есенину, Горькому надо. Н.Ивина, Л.Петровичева, Лаптева, Чабаненко стимулировали много писем от зрителей. Виталий Ивин за роль Геры получил звание лауреата Ленинского комсомола. Вдохновила нас музыка Александра Флярковского к новому спектаклю о далекой Чукотке. Наши школьники любят путешествовать со своим театром в далекие края, и опера на сюжет чукотского писателя Юрия Рытхэу «Время таять снегам» имеет успех. Да, «широка страна моя родная», и такие музыкальные поездки обогащают. «Чудесный клад», опера композитора Бурятской АССР Бау Ямпилова, «Сказка о потерянном времени», музыкальная комедия украинского композитора Ю.Роусавской, «Не буду извиняться» композитора Марка Минкова, «Двенадцатая ночь» по Шекспиру Э.Колмановского (некоторым нашим, быть может, чересчур смелые задумки страшно вспоминать, как «Короля Лира», только что законченную Ширвани Чалаевым оперу). Однако наша последняя постановка этого сезона «Король Лир» для школьников старших классов оказалась значительной и нужной, а Г.В.Пискунов в этой роли доказал свой творческий рост. Классике уделяем все больше места. Наши дети – наследники всего лучшего, что дала музыкальная культура мира. Уже поставлены оперы Моцарта «Бастьен и Бастьена» и наша гордость «Волшебная флейта»… Поставил «Волшебную флейту» наш студент Александр Леонов, окончивший факультет режиссеров детских музыкальных театров в ГИТИСе, который я веду уже 7 лет как профессор (мой помощник В.Рябов). Постепенно вырос у нас и балет. Выделялись Жанна Магаляс, Валерий Захаров, Геннадий Козлов. Они участвовали в балетных сценах наших оперных спектаклей, таких, как «Белоснежка» Колмановского Э.С, «Три толстяка» В.И.Рубина и других. Однако балетмейстера с яркой индивидуальностью, способного рука об руку со мной создавать новое в балете для юных, долгое время учуять не могла. Только повторы старых постановок уже шедших балетов не внесли бы свежей струи в наш театр. И вот однажды на вечере эстрадных танцев обратила внимание на номер «Муки творчества», который исполнял молодой артист Борис Ляпаев. Через некоторое время посмотрела и поставленный им талантливый номер «Домой с победой», за который он получил звание лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Повела переговоры с Б. Ляпаевым, первоначально присмотрелась к его работам в танцевальных сценах наших оперных спектаклей и рискнула поручить ему постановку одноактного балета «Муха-цокотуха». Он сам совместно с нашей, к тому времени уже ставшей заведующей литературно-педагогической частью театра Роксаной Сац-Карповой и только что окончившей Московскую консерваторию по классу профессора Т.Н.Хренникова Еленой Ларионовной создал этот интересный балет. Яркое художественное оформление спектакля сделала театральный художник Наталья Хренникова. Вслед за этой нашей удачей мы стали пополнять свою балетную труппу, зачислив только что окончивших хореографические училища Москвы и Ленинграда Ирину Макарову, Елену Копылову, Игоря Чиркова, Валерия Симонаева, Владимира Белых, Андрея Патрушева, Алексея Кремнева, Анну Резник, Галину Яковлеву и многих других молодых артистов. Алексей Кремнев, Анна Резник, Галина Яковлева. Значительный успех завоевала постановка полнометражного балета «Синяя птица». В нашем Большом зале систематически даем мы и симфонические концерты для детей. Эта наша работа стимулирует в целом ряде городов создание детских филармоний. Может быть, мы и нашли «золотой ключик», который помог открыть детям прелесть симфонической музыки? Концерты всегда проходят у нас при аншлагах. Дирижирует ими народный артист РСФСР Виктор Яковлев, с радостью веду их я. Недавно мы провели уже абонемент симфонических концертов с небезынтересными программами. Концерт первый. «Знакомство с музыкальными инструментами, входящими в состав симфонического оркестра. В программе: С.С. Прокофьев. «Петя и волк». Бенджамин Бриттен. «Путеводитель по симфоническому оркестру» (вариации на тему Перселла). Концерт второй. «От песни к симфонии». В программе: П.И.Чайковский. Финал Второй симфонии (перед исполнением финала Второй симфонии исполняется песня «Повадился журавель, журавель…»). Д.Б.Кабалевский. Юношеский фортепианный концерт (перед этим исполняется песня «То березка, то рябина…»). П.И.Чайковский. Четвертая симфония (до этого – песня «Во поле березонька стояла…»). Концерт третий. «Танец в музыке». В программе: гавоты, менуэты, вальсы, польки, народные танцы композиторов-классиков. Концерт четвертый. Программа этого концерта была составлена из любимых музыкальных произведений слушателей симфонического абонемента. Произведения, получившие наибольшее количество заявок (П.И.Чайковский – «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»; А.И. Хачатурян – «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»; М. И. Глинка – «Полет шмеля», «Вальс-фантазия»; Н.А. Римский-Корсаков – «Три чуда» и т.д.), были указаны в афише рядом с именами и фамилиями ребят, приславших заявки. В симфонических концертах для младшего возраста наиболее часто исполняется «Петя и волк» С.С. Прокофьева, а также написанные по нашему заданию симфоническая сказка И.В. Морозова «Айболит и его друзья», симфоническая юмореска А.В.Чайковского «Мы с приятелем». Любят ребята «Сказку о царе Салтане» А.С. Пушкина, по ходу текста которой дети слышат музыкальные картины из оперы Н.А.Римского-Корсакова. Вместе с дирижером, профессором И.Б.Гусманом, мы приближаем и «Сказку о Золотом петушке», объединяя музыку и текст. В нашем Малом зале мы проводим ряд интересных камерных концертов с участием артистов-музыкантов, а также учащихся Центральной музыкальной школы – ребят, которые пробуждают интерес к музыке у своих сверстников. Но и ведущие мастера музыкального искусства И.К. Архипова, Е. Кисин выступают у нас. Но все это только начало. А как много нового, интересного впереди! Молодой режиссер В. Меркулов интересно приблизил ребят к образу Татьяны Лариной. Мы едем, едем, едем… Приглашение на гастроли из Сиднея во время летнего отпуска театра привело в восторг наш коллектив: неужели охватываем уже и Австралию? Оказалось – Канада. Там любят давать городам «прогремевшие» в других странах названия. Приглашение пришло на мое имя. Оно было написано в непривычно благостных тонах. От него так и веяло ладаном, а меня именовали «дорогой» и даже «великой сестрой», опыт которой облагородит «души детей Сиднея». Неисповедимы пути обществ с самыми разными целями и составами в неведомом нам мире. То, что приглашало меня, видимо, состояло из богатых «благочестивых сестер». Но ехать на другое полушарие из-за пяти-шести выступлений было бы нелепо: это вам не Переделкино и не Мытищи. Однако артисты, просовывая только головы в мой кабинет, несмотря на запретное шиканье секретаря, глядели на меня умильными глазами, повторяя: «О-о, Сидней!» – вероятно, вызывая этим воплем каких-то духов из сказок «Тысячи и одной ночи». И, представьте, волшебник Маграбин явился в виде крупного канадского предпринимателя Джона Криптона. К нему благоволил сам Госконцерт! Криптон предложил мне переговоры о всеканадском турне Детского музыкального театра, начиная с Сиднея и включая Ванкувер. Я на радостях дала в честь Криптона роскошный обед в ресторане «Славянский базар», с которым у нас теперь завязались «добрососедские» отношения, поскольку мы перестали быть соседями, и наш театр теперь находился на довольно далеком расстоянии от предприятия общепита. С Криптоном мы быстро нашли общий язык. Огромный детина с большими серыми глазами, квадратной бородой, добродушный и веселый, он восхищался «русской избушкой» в центре «Славянского базара», официантами в русских рубашках, хлебным квасом и черной икрой (для которой я ему подарила хохломскую деревянную ложку). Ему нравилась моя речь, мозаично сплетающая слова французского, немецкого, итальянского и отчасти английского языка, которого я тогда еще почти не знала. Кроме того, я люблю угощать, особенно если вспоминаю молящие о новых маршрутах глаза артистов. Театр – такой же ребенок мой, как трое настоящих моих детей, как их дети. Неужто жаль угощения для симпатичного антипода Карабаса-Барабаса? Был бы доволен. А он уже побывал в нашем театре и понял, что спектакли будут иметь успех. Быть может, почувствовав «запятую» в переговорах, и община «благочестивых сестер» помогла ему? …Собираем декорации, костюмы. Как всегда, «режиссируем поездку». Поедет «Опера об опере», увы, с оркестровым ансамблем вместо всего оркестра. В некоторых городах Канады, как сказал Криптон, тоже есть детские театры, играющие по школам, мини-театры из шести–восьми человек.– Ваш коллектив из тридцати человек покажется им огромным и не сможет оправдать расходы даже с обещанными вам дотациями, – сказал Криптон.
Итак, переоркестровываем, ужимаемся, но так, чтобы не пострадали надежды на успех. Теперь главное – донести смысл действия до маленьких канадских зрителей, заставить их внимательно смотреть и слушать. В Канаде говорят на двух языках: английском и французском. Необходим человек, который давал бы зрителям краткие пояснения по ходу спектаклей, концертов. Во франкоговорящих городах это могу делать я. Пояснения по-английски мы поручили переводчице. Она специалист с хорошим произношением, но интонации у нее самоуверенно-надменные, а с детьми в любой стране надо найти доверительную простоту, увлекающую гармонию с происходящим на сцене. Месяц работаю с переводчицей, вводим английские реплики в наиболее действенно-важные моменты спектакля. Артисты занимаются английским ежедневно, рьяно, но, конечно, в «музыку языка» с налета не впрыгнешь. Для этих гастролей создаем особый пролог со своей песенкой… О Тихон Николаевич! Уже в который раз помогаете вы своей музыкой. Слова песенки – визитная карточка, сообщение о цели нашего приезда, наш привет из Москвы. Поем песню Хренникова по-английски, звучит она очень весело. Вот второй куплет в дословном переводе: «Наши дети – наше будущее. Сделать их счастливыми – наш долг. Дружба, дружба, дружба навсегда! Мир и дружба! А война – никогда!» Всем коллективом готовимся выступать в самых разных условиях, создаем новые театрализованно-музыкальные номера для ребят любого возраста, для взрослых разных восприятий и вкусов. С нами едут песни, романсы, дуэты, квартеты – русская классика, Шуберт, Пуччини, конечно, произведения советских композиторов. Все только всерьез! Итак, «мы едем, едем, едем в далекие края». Приближение к английскому языку начинаем со слов «working and working!» (трудиться, трудиться и трудиться!). Я вполне серьезно утверждаю: «Наш Аэрофлот – лучший в мире». Полет плавен, динамичен, гармоничен, как танец Тальони или Улановой. И, к счастью, отсутствуют всякие звуковые и зрительные «развлекашки» с мельканием фигурок на экранах и грохотом ритмической музыки, так раздражающие в самолетах за рубежом. Ведь важнее всего – летный покой! Спокойно и просто Аэрофлот доставил нас в Сидней. Спать легли сразу: завтра вставать очень рано – репетируем на сцене, которую мы ни разу не видели. «Завтра» наступило молниеносно (разница во времени), зато заботиться о «хлебе насущном» не пришлось. Всех нас зовут в столовую, где столы уставлены закусками, горячими блюдами, фруктами. Джон Криптон в ответ на мое гостеприимство распорядился, чтобы нас трижды в день кормили бесплатно. Дети и взрослые приняли наш спектакль тепло, а концерт – горячее, и мы стали выступать преимущественно с концертами. Меня отдельно «впрягли в работу» с первого дня: беседы с учителями, детьми, просмотры выступлений художественной самодеятельности, показательные репетиции… Я даже не помню, как выглядит Сидней: страсть делиться опытом, пробуждать любовь к театру во имя мира заслонила все остальное. С особым успехом проходил мой доклад, где речь шла о создании «Синей птицы» в Московском Художественном театре. Это был, собственно, не доклад, а, как писала пресса, «театр одного актера». Я не только говорила, но играла на рояле, пела – переводчица едва за мной поспевала. Зрители подчас жестами призывали ее помолчать, особенно когда я изображала рождение мизансцен, найденных К.С. Станиславским, Л.А. Сулержицким, И.М. Москвиным, и тут же перебегала к роялю, чтобы расцветить действие музыкой своего отца. Овацию вызвал эпизод, когда рассказала, как вслед за образом Воды режиссеры создавали образ Огня. Стол, за которым я стояла, был застелен огненно-красной, китайского шелка, скатертью, свисавшей до пола. И, представьте, во время моего рассказа из-под стола возникает наш балетмейстер Борис Ляпаев, срывает скатерть и начинает играть ею, словно языками живого пламени. Его танец-импровизация стал как бы первым всплеском будущего балета «Синяя птица», поставленного театром много позже. В Сиднее, оказалось, имеется Ассоциация театров для детей и юношества, понимавшая свои задачи несколько расплывчато. Наш коллектив постарался ей помочь не только рассказом, но и показом. Так что меня даже пожизненно избрали председателем сиднейского АССИТЕЖ. Следующий город Канады – Галифакс. После благостно созерцавших «сестер» в накрахмаленных, ниспадающих на плечи черно-белых головных уборах, после воспитанных ими довольно тихих детей разного возраста – роскошный особняк губернатора Галифакса. Это крепко сбитый улыбчивый мужчина в годах, сохранивший копну вьющихся волос и осанку «первого человека города». Мы выпорхнули из автобуса стаей, я – впереди, губернатор у входной двери протягивает мне руку. Выступление через два часа, пока же коллектив приглашают к столу, а меня – в кабинет, для личных переговоров. Картины, скульптуры, цветущие деревья в кадках, пушистые ковры – все так непохоже на пуританскую строгость Сиднея. Вот и зал, где будем выступать: сорок-пятьдесят мягких глубоких кресел, перед ними – рояль. Он здесь в почете, настроен идеально, ни пылинки вокруг. Ясно, здесь любят музыку. Мой папа ненавидел музыкантов, неряшливо относящихся к музыкальным инструментам, этот зал пришелся бы ему по душе. Но почему, собственно, такой маленький зал?– Криптон заверил меня, – объясняет губернатор, – что молодые голоса ваших певцов заинтересуют и взрослых. Русскую музыку очень люблю, особенно Чайковского и Римского-Корсакова. Правда, знаю недостаточно. Сегодня для почетных гостей нашего города просим выступить в этой гостиной. Взрослые хотят знать, что услышат наши дети. О вас рассказывают легенды. Мы еще не научились у Москвы так приближать детей к искусству. Покажите нам пример…
Наши актеры несколько привыкли к строгой сдержанности «сестер», губернаторская роскошь ошеломила. Выступать не в театральных, а своих костюмах показалось неловко, да и одеты мы были тогда не для светских файф-о-клоков. Концерт вела я сама по-французски, хотя в городе принят английский. Но ведь «слова кончаются там, где начинается музыка». Голоса у наших певцов сильные, я помогала им не форсировать звук, находить интонации более интимные, чем в театральном здании. Некоторая застенчивость исполнителей усилила внутреннюю наполненность слов и звучаний. В общем, мы имели большой успех в этот вечер. Люди, поднявшиеся из мягких кресел, устроили нам настоящую овацию, а губернатор крепко-крепко, обеими руками жал руку мне и артистам, поднес мне золотую медаль. На следующий день произнесла вступительное слово в большом театральном зале и тут же в сопровождении представителя Министерства культуры СССР вылетела в США, в главный город штата Нью-Йорк – Олбани. А наш коллектив после Галифакса отправился в Монреаль – провести там выходной день, репетиции, встретиться с артистами театра «Одуванчик», пожалуй, единственного детского театра в Канаде, имеющего свое помещение. Этих трех дней при наличии «ковра-самолета» (он был маленький, почти сказочный) оказалось достаточно, чтобы слетать в США, «провернуть» большую работу в театре Патриции Снайдер, – кстати, впоследствии мы установили большую дружбу с этим театром, помогли его становлению и неоднократно обменивались гастролями – и вовремя прибыть в Монреаль. Город впечатляет. Красив, масштабен, разнообразен. Роскошные особняки, магазины, от которых кружится голова (особенно у женщин). А неподалеку – кварталы с хатками-мазанками, вроде украинских. И строгий, полный воздуха и как бы устремляющий мысль ввысь квартал университета Мак-Гилл, поразительно красивый извив берегов реки св. Лаврентия… Людей меньше, чем, кажется, могло бы быть в таком большом городе, чем-то похожем и совсем не похожем на большие города США. Здесь ходят степенно, неторопливо, там – мчатся, задевая друг друга, непрерывно шумят. Спектакли для детей в Монреале шли, что называется, нормально. Удобная, хоть и маленькая сцена. Дети, больше привыкшие, чем в Галифаксе и Сиднее, ходить в театр, шумно реагируют на смешное. К этому приучил их театр «Одуванчик», вполне оправдывающий свое название, разлетающиеся эпизоды, кульбиты и каскады, грубоватые шутки, пестрота костюмов – установка на смех как главное звено успеха. Мы стремимся увлечь наших зрителей-слушателей глубокой и яркой идеей спектакля, его содержанием, заинтересовать характерами действующих лиц – и этим приближаем к человековедению, познанию большого искусства. «Одуванчик» клоунаден. Лучший из виденных там спектаклей – «Гулливер у лилипутов» – в конце развенчивает дутое величие Гулливера, которому смешны были лилипуты; но сколько кривляния, ненужных ужимок! Кто бы мог полюбить бедных лилипутов такими, какими они были показаны?! Мы давали в этом городе лишь по одному спектаклю в день, а хотели принести гораздо больше пользы, как всегда и везде умножить и укрепить дружеские контакты с прежде неведомой страной. Жили в квартале университета. У студентов каникулы, в их общежитии чисто, уютно, питаемся в студенческом буфете недорого и вкусно, говорят с нами на разных языках, в том числе на украинском (украинцев в Канаде много). Обслуживающий персонал поначалу относился к нам вежливо – и только. Но мы устроили в нижнем холле концерт для уборщиц, поваров, судомоек, и какой получился объединивший нас всех праздник! Я вела концерт на всех доступных мне языках – итальянском, украинском, французском, русском. Когда Валентин Тучинский запел «Черные брови, карие очи», послышались всхлипывания: украинок схватила за сердце тоска по родине. «Калинку» с хором и танцами повторяли трижды, удивительно принимали слушатели арии и дуэты из опер. А в холл проникали все новые люди с улицы: «Где продаются билеты?» И в ответ – шепот: «Даром, в нашу честь поют. Советские. Заходите, стоячие места еще есть». Этот разговор, подслушанный мною, шел по-французски. Тем временем звучала песня «С чего начинается Родина», голоса Г.Пискунова и Ю.Глубокова сливались с полушепотом вновь входящих, и зал потребовал песню повторить. «Недослышали!» – неслось на многих языках. После концерта артисты утирали некоторым из слушателей слезы. Москвичей сжимали в объятиях, ко мне подошла супружеская пара – русские эмигранты: «Плохо мы знаем страну Ленина, а сегодня ваша музыка за душу взяла». По дороге от университета к «Одуванчику» заметила странную вывеску: «Больница для жертв автомобильных катастроф». Зашла к главному врачу.– У нашего московского театра завтра будет часа два свободного времени. Мы с радостью бы у вас выступили. Доктор удивился.
– Мерси, но на каких условиях?
Я сказала, что мы о деньгах не думаем. Хотим доставить больным радость, может быть, это поможет лечению. Канадский доктор непонимающе развел руками.– Разве так бывает?
– Мне кажется, это обычно. В нашей стране, во всяком случае.
Концерт в больнице врезался в память. Ввезли кроватки с ребятами восьми-десяти-пятнадцати лет. На креслах с колесами приехали хромые, с повязками на головах, на плечах. Особенно страшно выглядела маленькая женщина в кресле с головой голой как колено и париком в руках, который она то надевала, то снимала. Хорошим лекарством для неожиданно развеселившихся ребят оказались инсценированные песни. Помните… Мы едем, едем, едем В далекие края, Веселые соседи, Хорошие друзья… Легкие пластмассовые кубики создавали впечатление передней части грузовика, на руках у певцов – куклы, изображающие зверей. И только начали строить из кубиков «машину», меня молнией прорезала мысль: «Нельзя ни в коем случае! Это же напомнит автокатастрофы!.. Не едем, не едем. Галочка Скрипникова, Вера Шашек – скорее «Кукушку» Чайковского, птицу оставьте на руке!» Последние слова я произнесла громким шепотом с испуганными глазами – и спасла положение. Программы наши были разнообразны, но точный отбор того, что следует и что не следует показывать тем или иным зрителям, ох как важен! А я чуть не выпустила руль от своего дела, как некогда виновники автокатастроф. Лекарство могло бы обернуться отравой. Но все прошло хорошо. Врачи, сестры благодарили нас за «добрые советские сердца». Так мы «осваивали» Монреаль, пошли разговоры в нашу пользу. Однажды на очередной спектакль пришли представители консерватории: директор и профессор пения – немец и итальянец. Настоящие музыканты. И то, что они признали наших певцов, было дорого мне. Консерватория в Монреале – частное, но хорошее дело. Говорить с ее руководителями было легко во всех отношениях. Помню, что профессора пения звали Парис, был он в летах, но держался «виваче», был красив. Их заинтересовало не только умение наших певцов хорошо «нести» вокал, но и их пластическая выразительность. Они предложили мне устроить наш концерт в консерватории для учащихся с продажей билетов. За величину сбора не ручались – в Монреале нас знали все-таки мало. Первое предложение меня порадовало, от второго – от платных билетов – отказалась. Посоветовала пригласить людей искусства, прессу.– Бениссимо! – закричал Парис. – Отлично!
– Херфоррагенд! – согласился директор (что означает даже «сверхотлично») и добавил: – Если кто-нибудь все же придет через кассу, разрешите употребить выручку в пользу неимущих учеников.
– Пожалуйста, как вам угодно, но мне кажется, пригласительные билеты лучше кассы.
Программу дали из серии «юношеских». Одноактные оперы «Иоланта» Чайковского, «Алеко» Рахманинова, арии и дуэты из «Пиковой дамы», «Евгения Онегина», сцена из оперы Хренникова «В бурю», хор из его же оперы «Мальчик-великан»: «Мы ушли, но мы вернемся снова». Мебель, стоявшую на сцене, использовали как условные декорации, к ним добавились привезенные из Москвы костюмы и игровые детали: например, алые и белые розы, необходимые в «Иоланте», яркие палатки, говорящие о цыганском быте в «Алеко». Драматизм, музыкальность и бархат тембра у Г.Пискунова – Алеко, теплая женственность в сочетании с серебряными блестками колоратуры у Г.Свербиловой вызвали такую овацию, что, казалось, зал, где собралось всего около трехсот слушателей, разлетится вдребезги. На вопрос, поем ли мы Шуберта, ответили «Мельником» в исполнении мужского трио (В. Богаченко, Ю.Глубоков, В.Тучинский). «А итальянские песни?» – Тучинский был счастлив их петь. Концерт шел без малого четыре часа, послышались предложения повторить его. На сцену выскочила хрупкая старушка и неожиданно резким голосом заявила:– Я тоже русская и сегодня особенно горжусь этим. Да, я глупая русская, потому что в свое время многого не поняла. Наскребла в Канаде денег, чтобы издать пятьсот экземпляров книги своих стихов, но никому они не нужны. А в России ценят людей искусства, и пусть в Канаде узнают о новых богатствах России. Куплю сейчас пятьдесят билетов для таких, как я, для тех, кто жестоко ошибся в жизни.
Хвалили нас на нескольких языках. Неожиданно на сцене появился Норрис Хоутон, знаменитый американский режиссер. Он дважды приезжал в Москву, написал две интересные книги: «Московские репетиции» и «Повторные гастроли». С тех пор прошло немало времени. Хоутон не знал, жива ли я, и специально прилетел в Канаду, чтобы убедиться, что «моя звезда не погасла». Обнимая артистов и меня, он повторял: «Невероятно! Вы не только не умерли, вы продолжаете расти как режиссер!» Наш генеральный консул и его очаровательная жена не только констатировали, что о нас «заговорили», но после концертов в консерватории представили нас журналистам. Выступила я по-французски с беседой по телевидению. Чудесную статью о нашем театре написал уважаемый в Монреале критик – после длительного разговора со мной. В статье меня насмешила фраза: «Она пришла вялая, явно измученная делами и сомнениями, но когда заговорила о своем театре, то словно невидимая рука окропила ее живой водой – она вскочила с места, пела, подбегала к роялю, и блеск ее глаз стал магнетическим». Однако можно было и посмеяться над собой. Некое общество туристов в лице своего уважаемого председателя пригласило меня на шикарный ужин в лучший отель города. На таких ужинах мне невыносимо скучно. Пить не умею, с первой же рюмки клонит в сон, да и не люблю. Говорить о деле днем за стаканом чая куда лучше. Все же решила принять приглашение и, конечно, идти в сопровождении Ю.Н. Бирюкова, молодого, импозантного, знатока английского и французского, с которым у меня были простые добрые отношения. Идти было недалеко, но, ясно, «роковой для каждой женщины» вопрос – что надеть – заставил Юру минут двадцать поворчать. Я не обиделась – за дело! Но мозги уже устали. Поковыляла за Юрой безрадостно и вдруг – остановка: «Юрочка, у меня, кажется… паралич. Невыносимо болят ноги». В противовес мне Юра любит ужины с разговорами, к тому же отель, где нас ждут, в двух шагах. С некоторой, впрочем, едва заметной досадой Юра осматривает меня с головы до ног и весело всплескивает руками: «Да вы посмотрите на свои туфли!» Я злюсь: «Что за дурацкий смех, когда мне больно?» Однако наклоняюсь к своим ногам… Лакированная и замшевая туфли, и обе – на правую ногу. Юра сажает меня на уличную тумбу и бежит в мой номер, чтобы принести нужную туфлю. Мы – люди из Москвы, «экзотика», миллионеры это любят, а двое из присутствовавших были миллионерами… То ли из жалости к баритону, которому не видать Москвы, то ли чтобы иносказательно дать понять своим артистам, что пение в комнате требует иных нюансов, нежели на полигоне, то ли «просто так» я попросила очередного певца отойти от рояля, уселась за него сама и не запела, а проговорила, взяв вступительный аккорд: «Он был апаш, она – апашка…» Слава Богу, в комнате стало тихо, а потому не так жарко и более уютно. В ранней юности я увлекалась мелодекламацией, и теперешний народный артист СССР Матвей Исаакович Блантер, а тогда совсем молодой милый Мотя Блантер, подарил мне эту песенку, которую я иногда в шутку исполняла, если пребывание в гостях становилось нудноватым. На этот раз песенка произвела неожиданный эффект. Один из миллионеров вскочил, двухручным пожатием поблагодарил хозяина дома, а мне тоном истинного босса заявил:– Покупаю это исполнение на любых условиях. Меховые изделия будут завтра отпущены всей вашей группе со скидкой восемьдесят процентов. Машина для поездки в мой магазин подъедет в любое удобное для вас время.
– Но я же не певица, – взмолилась я. – И свое пение не продаю.
Его жена, видимо, смекнула, что тональность разговора не по мне, что-то зашептала мужу, и он уже более галантно добавил:– Прошу разрешения только записать ваше исполнение только для нас…
– Для украшения нашей гостиной, – добавила супруга. И потребовала, чтобы муж лично доставил меня в своем авто в отель.
Это был не автомобиль, а целая «автовилла» – с кухней, душем, откидными диванчиками. По дороге супруга щебетала только об Андрее Вознесенском, чудесном поэте, красавце, ее кумире. Я очень ясно представила себе, как Андрей Вознесенский читает стихи и как босс стремится «приобщить» его к коллекции своих дорогих безделушек, как его супруга волнуется при виде настоящего, живого поэта. Во время длительных гастролей по Канаде, когда наш коллектив уже отправился в Ванкувер, меня пригласили на пресс-конференцию в Торонто. Нужно это было для того, чтобы о нашем театре заранее знали в городе, где тоже предстоит играть. Пресс-конференция прошла вполне удачно, и я с хорошенькой блондинкой-переводчицей села в самолет, совершающий рейс Торонто – Ванкувер. По длинному проходу непрерывно сновали девушки с тележками, наполненными бутылками дорогих вин, сигаретами, сладостями, сувенирами. У меня руки были заняты английскими журналами. Как всегда, использовала время вынужденного безделья для познания языка, который мне давался с трудом. Хорошенькая спутница, усердно исправляла мое скверное произношение, а я закусывала свои огрехи бананами. Изрядно вымазав руки, направляюсь в хвост самолета, к умывальнику. Переводчица спешит за мной: ей приказано ни на секунду не оставлять меня одну. Когда мы подходим к туалету, с заднего кресла, где сидят индейцы, поднимается высокий мужчина, черный, с проседью, и врезается взглядом в мое лицо. Длится это какую-то секунду, но во время мытья рук переводчица шепнула мне с легким укором:– Вы любите ходить одна, а я за вас отвечаю. Здесь небезопасно.
Опасности я не ощутила и вернулась к своему месту спокойно, опять же с переводчицей. Едва мы уселись и я снова хотела заняться чтением, как почувствовала: кто-то стоит за спиной. Обернулась. По-европейски одетый мужчина с изрытым оспой, но красивым лицом снова врезал в меня взгляд своих темных глаз.– Что вам угодно?
– Поговорить. Вы не похожи на других женщин. Пожимаю плечами и уже хочу ему предложить полюбоваться моей спутницей, куда более молодой и интересной, но он не отрывает от меня глаз, и приходится продолжить неожиданный разговор.
– Скажите, кто ваших детей… У-у-у-у… – Он скрещивает на груди руки, как бы укачивая новорожденное дитя.
– Никто. Мои дети уже взрослые. Видимо, не поверив, он наклоняет свою голову еще ниже ко мне и говорит:
– Тогда это буду я.
Переводчица в испуге прижимается к окошку, а мне ни чуточки не страшно, даже забавно, что мужчина видит только мои глаза и не замечает, что я уже весьма «на возрасте».– У нас маленький остров в Северном Ледовитом океане, но я там не губернатор. Я обеспечиваю остров рыбой и мясом. Бью зверя.
После некоторого молчания он спрашивает:– Как вы думаете, сколько мне лет?
– Лет тридцать восемь.
– Тридцать два, – опечаленно произносит он. – Но у меня трудная работа. Живу совсем один. Хочу, чтобы вы вступили в наше племя памбукко. Я вас всем обеспечу.
Даю ему понять, что у меня совсем иной маршрут: Москва – Ванкувер – Торонто – Москва. Он пропускает мои слова мимо ушей и настойчиво продолжает:– Женщина! Не говори мне «нет». Я сразу заметил твои глаза. Моих глаз боятся звери, а твоих глаз боятся люди. Нам нужны твои глаза.
Не знаю, чем бы кончился наш разговор, но двое других краснокожих молча взяли моего собеседника под руки и усадили на место. Хотела было поговорить с переводчицей, но она, бледная, напуганная до предела, с минуту не могла вымолвить ни слова. А я, представьте, гордилась неожиданным успехом у племени памбукко. Через несколько минут ко мне подъехали девушки с тележками и сказали, что я бесплатно могу выбрать любой товар.– Господин из последнего ряда сказал, что оплачивает все, что вы согласитесь взять.
Само собой, я ничего не взяла, но встречавшие меня в Ванкувере члены коллектива были весьма удивлены. После длительного перелета я приехала бодрая, веселая, словно даже помолодевшая от приглашения на остров в Северном Ледовитом, в неведомое племя памбукко. Можете радоваться: я отказалась и осталась со своим театром. Совсем в другом настроении была молодая переводчица. Она обратилась к руководителю поездки с настоятельной просьбой:– Никогда больше не оставляйте меня вместе с Наталией Ильиничной. Она никого не боится. Даже краснокожих. В ней, видно, живет дьявол… О, если бы эту тираду услышали благочестивые «сестры» из города Сиднея!
Границы все расширяются… Вновь выстроенное здание Детского музыкального театра, его спектакли все больше и больше привлекают туристов, посещающих Москву. Дня не проходит, чтобы те или иные зарубежные гости не ходили по театру, разглядывая скульптуры и картины, улыбаясь маленьким зрителям-москвичам, с интересом знакомясь с нашими оперными и балетными спектаклями. Гости все чаще приглашают нас к себе, выражают желание приобщить к нашему театру композиторов своих стран. Мы стали участниками фестиваля и конкурса в Дрездене, где особое внимание было уделено созданию опер для детей. Отрадно, что «Джунгли» Ширвани Чалаева, опера, написанная по заданию нашего театра, получила одну из главных премий, что мне было предложено сделать основной доклад на Дрезденском фестивале в 1980 году. Очень вдохновила наш коллектив поездка в Италию, на родину оперного искусства. Антрепренеры боялись, что гастроли не окупятся, ведь у них нет оперных представлений для детей. И все же нас пригласили не только с операми, но и с симфонической сказкой «Петя и волк». Не скрою, исполнять моего дорогого «Петю» по-итальянски доставляет мне большую радость. Уж очень сочетается музыкальность итальянского языка с музыкой! Помню трепет, охвативший меня, когда, познакомив детей с музыкальными инструментами, я начинала исполнение словами: «Lа mаttinа рrеstо il rаgazzо di nome Pierino e andanto su un grande spiazzo verde». С каким-то особым, почти вкусовым наслаждением произносила я и следующую фразу: «Su un abbero, sta um uccello che Pierino conosce («tutto e calmo»). Сinguettio luccello con allegria». После слов «соn allegria» уже предчувствую голос флейты, сама как бы наполняюсь музыкой… Звучал в Италии и театрализованный концерт, в который входила русская классика, произведения советских композиторов. Выступления начали с города Модена, затем следовали Роджемильо и Карпи. Первый концерт в Карпи не собрал полного зала, но уже на следующий день некоторые из желающих попасть к нам вступали в далеко не легкие отношения с перекупщиками билетов – мест не хватало! В антракте мэр города Карпи попросил меня задержаться еще на несколько дней, явно не понимая, что мы гастролируем по заранее разработанному графику. Мне представили мэров еще двух городов, которые тоже восхищались нами и желали бы продлить гастроли. Прекрасно прошли спектакли в Генуе и особенно в Парме. Близость этого города к родине Джузеппе Верди, святое почитание музыкальных традиций, связанных с творчеством великого композитора (важно и то, что первой моей оперной постановкой был «Фальстаф» Верди), – все создавало особо вдохновенную атмосферу. Удивительно, что итальянские дети, впервые слушавшие оперу, так тонко и чутко воспринимали музыку, требовали продления радости, которую нес им наш спектакль. Однажды в наш дворец – Московский государственный детский музыкальный театр – пришел господин Икеда, председатель общества Сакко-Гаккай, объединяющего двести миллионов членов, председатель музыкального общества «Мин-он». Его сопровождали человек двадцать. Читатели моей книги знают, что первым поставленным мною спектаклем были «Японские сказки». А опера «Чио-Чио-Сан» Пуччини – одна из самых моих любимых. Но я до встречи с Икеда настоящих японцев еще не видела так близко и в непосредственном общении с ними не находилась. Почему-то слегка оробела, что мне вообще-то несвойственно. Господину Икеда тоже, видно, рассказали про меня нечто столь солидное, что и он почти не поднимал головы, общаясь со мной. Но когда начала рассказывать о принципах построения нашего театра, показывать залы с их убранством, помогающим маленьким зрителям почувствовать себя на большом празднике посвященного им искусства, господин Икеда вдруг разулыбался, легко стало и мне, прежде скованной. Мы дарили гостю пластинки с записями спектаклей, афиши, буклеты, фотографии. Я преподнесла свою книгу «Новеллы моей жизни». Пионеры, которые вместе со мной встречали японских гостей, очень весело угощали их конфетами, яблоками. И в ответ на каждый наш знак внимания сопровождавшие г-на Икеда японские юноши и девушки доставали из своих корзиночек игрушки, веера, крохотные музыкальные инструменты и еще более приветливо дарили все это нашим ребятам. Встреча прошла во взаимно радостном общении. Самое удивительное ждало меня на следующий день: мы получили японскую газету, в которой уже были напечатаны фотографии нашей встречи и книги «Новеллы моей жизни» с дарственной надписью японскому гостю. Впервые мы прозвучали в Токио перед аудиторией в три с половиной тысячи слушателей. Успех первого выступления подготовил доброжелательные встречи всюду, где мы появлялись. Дали двадцать два представления, которые видели и слышали не менее семидесяти тысяч человек. Внимание, собранность, восприимчивость японских ребят таковы, что, когда абсолютная тишина сменялась громом аплодисментов, становилось даже как-то странно. Однажды я отправилась на спектакль. Настроение неважное. И вдруг вижу: у входа в концертный зал меня ожидает толпа ребятишек – человек двести-триста. Раздаются крики: «Наташа-сан! Натася! Мо-су-ку-ва!» Дети затанцевали, напевая «Ка-алынка моя», и очень обрадовались, когда я запела вместе с ними. На прощание мне вручили в Токио пластину красного дерева, на которой золотыми буквами был выгравирован следующий текст: «Многоуважаемая Наталия Ильинична!!! Гастроли Московского государственного детского музыкального театра в Японии передали японским ребятам большую мечту и надежду и вызвали незабываемый трогательный отклик в сердцах японских детей. Разрешите выразить вам огромную благодарность за глубокое понимание детских интересов и стремление к миру. 13 августа 1982 г. Даисаку ИКЕДА Основатель Демократической музыкальной ассоциации». Но это было только начало нашей дружбы с Японией. В 1985 году в сопровождении симфонического оркестра мы дали в Токио 18 спектаклей «Синей птицы», а в третий раз–в 1990 году балет «Золушка» Прокофьева, театрализованную кантату «Мама» на слова Даисаку Икеда, «Винни Пуха» – программу, имевшую большой успех. Пятью изданиями вышла на японском языке книга «Новеллы моей жизни», и, главное, Икедо Дайсаку Сенсей объявил о своей задумке создания в Токио Детского музыкального театра, подобного нашему. Об Эрвине Пискаторе Дорогой читатель! Давай сделаем экскурс в прошлое. Я хочу рассказать о замечательном режиссере и человеке, увы, мало у нас известном. Это режиссер-коммунист Эрвин Пискатор. Расцвет его деятельности поражал, восхищал и возмущал Берлин двадцатых годов, Берлин, полный противоречий. Эрвин Пискатор закончил свой творческий путь и жизнь в Западном Берлине в шестьдесят шестом. Горящий факел революционного театра он не выпустил из рук и там. Свои режиссерские замыслы он осуществлял в атмосфере скандалов, судебных процессов, громовых оваций и оглушительного свиста. Но талант Пискатора признавали все. Слова «самый современный и перспективный художник немецкого театра» то и дело попадались даже и в ругательных статьях о нем: «блудного сына» горячо убеждали заняться «чисто художественной» деятельностью. Мне было двадцать пять лет, когда я впервые попала в Берлин. Уже смотрела здесь спектакли в оперном театре и у Макса Рейнгардта. Но тут в Берлин приехал Александр Яковлевич Таиров. Он очень ценил мои первые режиссерские работы, конечно, еще гораздо больше – музыку моего отца. Естественно, я взирала на него в те годы «снизу вверх». Узнав о моих первых театральных походах, Таиров посмотрел на меня строго и спросил:– Значит, в театре Эрвина Пискатора вы до сих пор не были? Это никуда не годится. Пискатор очень талантлив, и он самый близкий нам художник, художник современности – острый и значительный.
Вечером того же дня вместе с Александром Яковлевичем мы уже входили в театр на Ноллендорфплац, толпились в его широких дверях вместе с молодежью, очень похожей на нашу. В театр Пискатора я пришла, как уже сказала, посмотрев несколько спектаклей у Рейнгардта. «Настроение» публики здесь иное. Там – почтительная тишина, словно все входящие надевают мягкие бархатные туфли, а пол зрительного зала застелен большим пушистым ковром. Уже в вестибюле все начинают говорить вполголоса, подавляя в себе «всплески», принесенные из живой жизни. Почтительность богослужения. В театре Пискатора люди чувствовали себя просто, как дома, они громко обменивались мнениями. Этот театр был для них неотъемлемой частью той живой жизни, в которой они искали правду, набирали силы для борьбы. Полный сбор! Преобладают рабочие блузы, джемперы; женщины – с короткой стрижкой. Но все же публика разная. Солидные господа и модные дамы с затейливыми прическами заранее возбуждены: для них Пискатор – скандально модный режиссер, как-то он будет эпатировать публику на этот раз. Третий звонок. Все замолкло. Пьеса называется «Соперники». Главную роль играет Ганс Альбас. Вот герой в форме солдата – его гонят на войну. Он молод, здоров, любит и любим. Его гонят. Зачем? Сопротивляться он не может, но знает: с войны не вернется или вернется калекой. Движется без цели. Велят – идет… Как выразить это на языке театра? Помню, как горячо восприняла, увидев тогда впервые артиста, шагающего на месте, и проезжающие мимо него детали домов, фабрик, фонарей… Создавалось полное впечатление не просто движения, но движения вынужденного, против воли. В спектакле не было декораций в общепринятом смысле: их заменили очень современные сооружения из металла, и в первую очередь подъемный мост, перекинутый через всю сцену. В Москве в те годы было много режиссеров, имевших кроме театрального еще юридическое или какое-либо другое гуманитарное образование. Это были режиссеры-златоусты. А Пискатор в своей сердцевине – инженер-конструктор. Он считал, что в эпоху технических достижений, которые во много раз превосходят все другие, театр должен перегнать кино, и внес немало нового в технику сцены. Об этом уже читала. Но в «Соперниках» меня поразило другое: сила, с которой Пискатор давал почувствовать, как ползут на современного человека медь, сталь, железо, небоскребы, подъемные краны. Конструкции «Соперников» были органически необходимы для развертывания действия этого спектакля. И главное – они целиком сосредоточивали внимание на человеке и человечности. Спектакль поднимал целый сонм мыслей, будоражил эмоции; случалось, что по ходу действия зрители забывали, что они в театре, и произносили что-то вслух. А Александр Яковлевич Таиров, режиссер-эстет, человек изысканных театральных решений, то и дело вскакивал с места и кричал:– Молодец, Пискатор, браво!
Я не ожидала, что этот мэтр сцены может так глубоко и сильно увлечься чужим спектаклем! «Соперники» имели большой успех. Взволнованные разговоры, которых совсем не боялись в этом театре, продолжались после спектакля на лестнице. Кто-то взял меня под руку: это Рене, юная артистка «левого театра». Обаятельная, грациозная, с платиновыми волосами, она, как только начинала говорить о Пискаторе, превращалась в неистового фанатика.– Теперь вы поняли, Наташа, что главная достопримечательность современного Берлина – наш Пискатор и его театр?!
Я похвалила спектакль и собралась идти домой.– Как? Вы уйдете, даже не познакомившись с ним?.. В кабинете Пискатора было полно «фанатиков». Неужели и мне стоять здесь и дожидаться, пока спины мужчин и женщин разомкнут круг, за которым находится пока невидимый мне Пискатор… Да и не люблю я эти немецкие восклицания типа: «Восхитительно!», «Грандиозно!», «Он – гений?!, «Необычайно!», «О!», «А!», «Блестяще!» За неделю пребывания в Берлине заметила злоупотребление превосходной степенью, привычку пользоваться ею по всякому поводу.
Такой спектакль, как «Соперники», лаконичный и глубокий по режиссерской мысли, достоин такого же немногословного, но серьезного разговора. Эти мысли мелькали в голове. Но круг разомкнулся, и я увидела Пискатора. Представляла его себе совсем другим. Настоящий европеец, изящный, небольшого роста, глаза миндалевидные, большие, умные, насмешливые. Волосы зачесаны назад – высокий лоб открыт. Овал лица – как груша «дюшес» хвостиком книзу. Держится с большим достоинством. Точен в скупых движениях, немногословен – все продумано. Пожалуй, только нос спорил с найденной раз и навсегда формой поведения, формой, в которую он спрятал себя. Любопытный, задорно торчащий нос неожиданно напоминает мне… Буратино. Меня представили Пискатору. Он протянул руку, маленькую и холодную, сказал:– Добрый вечер, – и тут же всем корпусом повернулся к вновь вошедшим.
Нет, я не почувствовала тепла ни к нему, ни в нем. Возвращаясь домой, подумала: «Он какой-то цельнометаллический, ваш Пискатор!» Однако Пискатор – режиссер, его творческое кредо продолжало интересовать. Самые известные артисты Германии того времени играли в спектаклях Пискатора. Каждая его постановка была по-своему интересной – особенно, пожалуй, «Бравый солдат Швейк» с Максом Палленбергом в роли Швейка и «ожившими рисунками» Георга Гросса. Но все же я предпочитала романтику публицистике и в память сердца больше всего запали «Соперники». Только значительно позднее, когда я стала старше и, может быть, умнее, я поняла – через пьесы Бертольта Брехта, лучшего друга Пискатора, как важно уметь пробудить в зрителях не только чувства, но и мысль. А тогда, каюсь, я Пискатора недопонимала. Встреч с Пискатором я не искала: он мне казался непростым и избалованным успехом. Рене была возмущена этой моей позицией, уверяя, что я должна ближе узнать Пискатора, побывать у него дома. Меня смешила ее настойчивость и энергия, когда она звонила к секретарю Пискатора, фрейлейн Хармс, и получала непроницаемо вежливый ответ:– Алло, сцена Пискатора у аппарата. Что, будьте любезны?.. Он до двух часов на репетиции, остальное пока неизвестно.
В следующий раз у Пискатора оказывалось срочное дело или заседание, но Рене с немецкой настойчивостью звонила еще и еще и даже восхищалась фрейлейн Хармс:– Это ее обязанность создать порядок в жизни Пискатора: он у нас единственный. Она его обожает и знает – без немецкой точности в расписании он не сможет творить.
Наконец аудиенция была мне назначена. Фрейлейн Хармс очень просила меня явиться к Пискатору в точно назначенное время и ровно через сорок три минуты попрощаться и выйти в переднюю, чтобы через сорок пять минут покинуть его квартиру.– Пискатор может увлечься разговором с вами, а его время и силы так нужны немецкому театру! Прошу простить меня за это предупреждение, но русские – наши лучшие друзья, и я уверена, что вы правильно меня поймете.
Рене привезла меня к дому Пискатора, надела мне на левую руку свои часы (у меня таковых не было) и исчезла. Я поднималась по лестнице, обычной лестнице зажиточного немецкого дома, и никак не могла погасить ироническую улыбку. Мне открыла накрахмаленная горничная и попросила меня пять-десять минут подождать. Двери во все комнаты квартиры были распахнуты – то ли по причине широкой натуры хозяина, то ли чтобы дать возможность пришедшему обозреть достопримечательности здешнего быта, а их было немало. Занавески, абажуры, подушки, люстры, всякие там скатерти полностью отсутствовали… Светящиеся «полосы», вмонтированные в стены, заменяли лампы, низкая тахта – кровать… Я прошла в столовую, кабинет, спальню – никаких признаков привычного моему глазу уюта. Деловая современная обстановка, предельный лаконизм: низкие небольшие столики и табуретки, циновки на полу, застекленные шкафы в стенах – для многочисленных книг. Теперь такой интерьер – не редкость. Тогда же ничего подобного я еще не видела. Вошел Пискатор, двубортно-застегнутый, в сером костюме. Раз уж пришла, поговорю с ним попросту.– Мне кажется, что все в Берлине влюблены в вас, даже и те, кто ругает. Вы это чувствуете?
– Нет, бьют меня куда больше, чем гладят. Но я – спортсмен, знаю бокс и джиу-джитсу… В Берлине я – свой. Хотя мои предки итальянцы, «пескаторе» по-итальянски – рыбак. Более поздние предки офранцузились, стали гугенотами, потом осели в Германии. Мои деды – пасторы Песка-ториусы. Мне была предуготована та же участь. Какой бы это было нелепостью!
Я стал приобщаться к театру. Играл четвертого гостя, второго школьника, невидимого духа, изображал лай собаки за сценой и постепенно… Мюнхен, я – практикант придворного театра, слушаю лекции по искусству.– А когда вы стали на свой путь?
– Когда началась война. Мне было двадцать. Безумная суета, «добровольцы». Я – нет. Отвратительно, хотя воевать, хочешь не хочешь, придется. Но становление моего «я» шло бурно. Вот мои стихи тех дней – «Вспоминая его оловянных солдатиков».
Он достает тетрадь с пожелтевшими листами и читает: Плачь, мать, ничего не осталось другого, Когда твой сын еще был мал, Он играл всегда оловянными солдатиками. Если бы все было хорошо заряжено, Умирали бы все – кувырк! – и тишина. А теперь твой мальчик вырос, Сам теперь он стал солдатом И стоит на поле битвы. Плачь же, мать, плачь! Когда прочтешь: «Умер героем…» Вспоминай его солдатиком. Если бы все было хорошо заряжено, Умирали бы все – кувырк! – и тишина.– Спасибо, что вы мне это прочли. Теперь ваша постановка «Соперников» как бы получает корни, которые уходят в вашу биографию.
– Да, еще на войне я стал с помощью театра протесто-
вать против войны, а потом – театр «Трибунал» в Кенигсберге, Пролетарский театр в Берлине… Входит накрахмаленная горничная. Наверное, сейчас принесет чай, мы с ним согреемся, мне станет уютнее… Нет! Его зовут к телефону. Мне потом объяснили, что угощать чаем в таких случаях здесь не принято. Не Москва. Взглядываю на часы. Так и есть: прошло сорок минут. Лимит отпущенного мне времени исчерпан. Двигаюсь по направлению к передней. Беседой довольна. Но сколько в этой Германии противоречий, как уживается в этом большом художнике его размах с мелкими клеточками арифметической тетради?! Мы простились с Пискатором корректно, как вежливые созерцатели друг друга. Через несколько дней Общество германо-советской дружбы предложило мне выступить с докладом о Московском театре для детей. Я уже не видела ни Берлина, ни его театров. Отключилась полностью. Какая ответственность! Постараюсь говорить по-немецки, хотя говорю неважно. И все же доверить переводчику свои мысли и образы нельзя. Между мной и слушателями не должно быть никого. И конечно, нельзя «читать» доклад; только говорить, ощущая аудиторию, а кто знает, какая она будет? Это был мой первый доклад на иностранном языке. Волновалась. Меня утешали, что соберется, как всегда, человек тридцать, главным образом свои. Пусть их будет всего лишь трое – все равно ответственно и страшно. Помню, как вошла в зал Общества. Там сидели и стояли человек полтораста. Говорят, в первый момент я даже стала красной от волнения, но успокоилась, как только начала свой рассказ о родном театре, о ребятах, которые так его любят. Я была только благодарна сидящим, что они с интересом слушают, мне стало легко и радостно. Рассказывала о наших спектаклях, о наших планах и поисках – доклад длился часа полтора-два. Только когда он был окончен, я заметила отдельных слушателей, батюшки, каких! Архитектор профессор Гроппиус, архитектор Бруно Таут, Отто Клемперер, профессор (чудесный художник Кролль-оперы) Эвальд Дюльберг, Фридрих Вольф, Макс Гельц, Эрвин Пискатор… Успех был большой. Конечно, успех самого театра, чудесной идеи, впервые воплощенной в Москве, а я просто информировала, подчас спотыкаясь на трудностях языка, но образы, живые образы театра как-то выводили опять на дорогу взаимопонимания. К сожалению, мужа на моем выступлении не было – он сам готовил срочный доклад. Я задержалась, отвечая на вопросы журналистов, и была даже рада, что пойду домой одна. На сердце было хорошо. Ранняя весна. Так приятно ступать по влажному тротуару, глазеть на витрины запертых магазинов. Еще лучше, что они откроются только завтра – не надо огорчаться, что марок у меня нет, и можно не спеша все рассмотреть. Что бы я купила себе и друзьям, если бы у меня было много немецких марок? Это серебристое платье с мехом или то – розовое? Нет, лучше сиреневый костюмчик для сына, синий свитер… Кто-то смеется? Не может быть! Нет, правда, Эрвин Пискатор стоит рядом. Откуда он тут взялся?– Мне захотелось проводить вас, и я ждал на улице, – отвечает он.
Не знаю почему, вспыхиваю и делаюсь агрессивной.– Вот увидите, как завтра вам попадет от фрейлейн Хармс. Вы нужны немецкому театру, не забывайте, главное – точность вашего расписания.
Он оставляет мои слова без всякого внимания:– Я мало знал о Детском театре, только сегодня понял, как это интересно. И вас я сегодня увидел… в первый раз. У вас другие глаза, когда вы рассказываете о своем театре.
Говорит он немного, больше о чем-то думает, но мне приятно, что такой человек меня провожает, что мы идем в ногу.– А как… мой немецкий? Это было очень плохо? Веселая ирония снова появляется в его глазах:
– Что вы! Это было очаровательно! Все то, чем нас мучают с детства – падежи, строение фраз, точность родов, вы ставили на голову, что может быть милее, чем ошибки хорошенькой женщины в иностранном языке. Очень вас прошу – всегда говорите по-немецки так же плохо и никогда лучше… Опять неприятности… Впрочем, все это не так важно, настроение у меня отличное!
А вот и наш дом – Зексишештрассе, 63-а. Пискатор смотрит на меня пристально.– Вы… сейчас уйдете?
– Ну конечно, меня уже давно ждут дома.
– А может, еще поговорим или помолчим?
– Нет, надо домой. Большое спасибо, что проводили. До свидания.
Иду по лестнице – входная дверь открыта. Я уже на втором этаже. Смотрю вниз – Пискатор продолжает стоять у входа. Поднимаюсь в квартиру, смотрю из окна – стоит. Чудной он какой-то! Заснула я быстро, но и во сне чувствовала, будто он стоит и смотрит на меня пристально. Много раз потом бывала я в Берлине и видела Эрвина Пискатора на приемах, концертах, спектаклях: он был со вкусом одет, точно «распределен». Среди многих его поклонниц я так и осталась «неохваченной точкой», а он привык к полновластью. Кажется, только поэтому он иногда мне вскользь улыбался. Когда я поставила в Кролль-опере «Фальстафа», Пискатор побывал на спектакле и попросил дать ему программу с автографом. Я ничуть не поверила, что это всерьез.– Зачем вам это, да и что я напишу? Он ответил:
– Напишите по-немецки: «С приветом и поцелуем. Наташа».
Я написала: «С приветом и без поцелуя. Наташа». Мы оба рассмеялись. В начале тридцатых годов театра у него уже не было. Приближение фашизма все больше чувствовалось в общей атмосфере, в жизни искусства. Широкие массы зрителей отходили от театра. К «левым экспериментам», как называли постановки Пискатора, власть имущие не проявляли прежней терпимости – «игра в демократию» подходила к концу. Было у Пискатора много и личной канители. Его жена Хильда ушла от него, и он тосковал, был уязвлен. Пожалуй, только фрейлейн Хармс сочувствовала ему всем сердцем. Фанатики-почитатели стали относиться к Пискатору как-то совсем буднично. Следующая наша встреча с ним произошла уже в Москве. Эрвин Пискатор был приглашен на постановку кинофильма «Восстание рыбаков» (по произведению Анны Зегерс, сценарий Анни Визнер). Принят в Москве Пискатор был с большими почестями. Он приехал со своим штатом (Хармс, Визнер и другие), получил несколько номеров в «Метрополе», договорился, что в главной роли его фильма будет сниматься Алексей Дикий. В торжественной встрече, обмене речами и заверениями в дружбе я участия не принимала – там и без меня вполне хватало ораторов. Потом около года я о Пискаторе слышала мало. Как-то на улице встретила его, похудевшего, с глазами, значительно менее самоуверенными, чем прежде. Мое озорно-мальчишеское к нему отношение дало мне нахальства сказать:– Ну как ваши московские романы? Он посмотрел на меня пристально и на вопрос ответил вопросом:
– Вы никогда не задумывались, почему чужие романы всегда кажутся такими простыми и забавными, а свои – такими грустными и сложными?!
Я смутилась, долго потом вспоминала эти умные слова, а когда узнала, что актриса Я. как-то внезапно ушла из жизни, не могла простить себе неудачной шутки. Прошло еще несколько месяцев. У Пискатора съемки «не клеились». Праздник встречи сменился буднями привычки, непонимания, невнимания. Снова я встретила его случайно на улице, но теперь уже без шуток.– У меня с фильмом ничего не получается, – сказал он с неожиданной искренностью. (Мне показалось, что он впервые вышел из того изящного футляра, который сам для себя сделал.) Я никак не найду нужные взаимоотношения с актерами, переводчики не могут помочь установить настоящий контакт, я бессилен осуществить задуманное без настоящей техники, а бросить начатое и уехать – не имею права…
Это было летом. Сухой ветер поднимал пыль, и некогда белоснежный воротничок Эрвина, привыкший к немецкому крахмалу, потерял форму. Мне стало не по себе. Я спросила;– А почему вы не живете на даче? Летом там работа всегда лучше спорится.
– Потому, что вы первая задали мне этот вопрос, а денег, чтобы снять дачу, у меня нет. После закрытия моего театра меня объявили банкротом.
И вдруг чудесная мысль прошила мне голову. Послезавтра уеду с детьми на два месяца к мужу – он работал в Берлине… Я вытащила из сумочки ключи от дачи в Серебряном бору и протянула Пискатору:– Вы ошибаетесь, уважаемый Эрвин, у вас есть дача.
– Но… сколько это стоит? – спросил он, не дотрагиваясь до ключей.
– Ничего не стоит. Эту дачу нам дал Московский Совет на несколько лет в аренду. Зачем ей стоять пустой? Пять комнат, балкон, небольшой садик. Забирайте свой штат, переезжайте и работайте.
На следующий день мы вместе с Алексеем Диким «пригнали» транспорт. Фрейлейн Хармс с непревзойденным мастерством и вдохновением уложила «манускрипты» и вещи. Анни Визнер внесла свой портфель и чемодан в машину. Эрвин смотрел на меня пристально, с удивлением и последним занял свое место, не проронив ни слова. Затем мельком я видела Пискатора в нашем театре – он что-то объяснял немецким товарищам. Это была последняя наша встреча. Моя жизнь все прибавляла темпы, творческий накал заслонял все остальное. И после «фортиссимо» на высоких нотах произошел обвал… Пискатора я потеряла из виду на многие, многие годы. Потом узнала, что он руководит театром в Западном Берлине. Когда какая-то туристка передала, что мной интересуется Пискатор, я даже не спросила ее, что он там ставит. Сказала «мерси» и повесила телефонную трубку. О, этот примитив быстрых выводов! Мои друзья из ГДР – Пауль Фрейлих, Ганс Роденберг позже мимоходом сказали мне, что многие недопоняли послевоенного Пискатора, но все же ясно, что он делает там нечто нам близкое. Хорст Вандрей из издательства «Хеншель» в Берлине, собираясь издать двухтомник его статей и режиссерских планов, тоже сказал об интересе ко мне Пискатора и попросил разрешения послать ему из столицы ГДР в Западный Берлин телеграмму: «Наталия Сац в Берлине».– Ну что ж, пошлите. Пусть он сюда приедет.
Однако ответ Пискатора, как всегда, был неожиданным: он приглашал меня и Вандрея завтра в шесть вечера к себе на обед в Западный Берлин. Я даже покраснела от обиды. Тоже еще! Прикидывается, что не знает – у меня виза только в ГДР. Вечером был первый гастрольный спектакль Центрального детского театра в театре «Дружба». В кабинете Ильзе Роденберг меня познакомили с нашим послом Петром Андреевичем Абрасимовым. Он был со мной очень приветлив. Спросил, не собираюсь ли я принять приглашение Пискатора. Как зубрила-отличница первых лет революции, я отчеканила:– Конечно, нет. Я завтра утром лечу в Москву и прекрасно понимаю…
Но он сказал строго:– По-видимому, вы мало понимаете. Я вам советую принять приглашение Пискатора и отложить на день поездку в Москву.
Я вытаращила глаза.– До каких пор мы будем судить о людях так поверхностно? Пискатор там во весь голос своего таланта говорит своими спектаклями то, о чем мы думаем здесь. Вам это надо было бы знать.
Да, я ничего не знала, не хотела знать. Привесила ярлык «не наш» и точка. Петр Андреевич заметил мое огорчение и добавил теплее:– Если бы вы знали, как ему там трудно делать то, что он все-таки делает… Обещайте мне, как только вернетесь в Москву, написать Пискатору дружеское письмо. Мы должны его морально поддержать.
Дня через два в Детском музыкальном театре, который стал теперь главной целью моей жизни, в единственной не до конца развороченной ремонтом комнате внизу, под лестницей, села писать Пискатору. Ну что я ему напишу? Встречи у нас были случайные, я его признавала, уважала как режиссера, а человечески он мне напоминал свои конструкции из железа и стали. Ко мне он относился с холодком. Пожалуй, только озорные наши нотки как-то оживляли отношения. Написала что-то вроде: «Здравствуйте, Эрвин! Я получила ваше приглашение на обед в Западном Берлине, но не могла приехать – торопилась в Москву. Организую сейчас первый Детский музыкальный театр. Опера – детям, верно, хорошо? С приветом и без поцелуя. Наташа». Мне стыдно, мучительно стыдно вспомнить, какое письмо от Эрвина Пискатора я получила в ответ на эту глупистику «застарелого детства». Оказывается, он никому до конца не верил, что я жива, и мое «С приветом и без поцелуя» прозвучало для него как пароль, известный только нам одним, вернуло его в атмосферу молодости. Дорогой читатель, обещай верно понять меня! Я привожу здесь письмо Эрвина без всяких сокращений не потому, что оно «лестно» для меня. Нет. Только потому, что оно говорит о его большом сердце и о том, что, очевидно, никогда он не был «цельнометаллическим». Вот это письмо в оригинале (на фото) и в переводе на русский: «Наталия, Натушка, подруга или, я бы хотел сказать, «возлюбленная», но это я никогда не смел сказать – Вы – Ты – не можете, не можешь совсем себе представить, как сильно потрясен и одновременно обрадован я был, когда мне сказали: Наталия Сац жива! Жива! Жива! Слухи – больше, совсем определенно – мне сообщили – как приговор: она тоже среди тех, кто исчез. И это продолжалось приблизительно тридцать лет – то, что я должен был считать, ты – мертва. Наталия Сац мертва! Всегда, когда я думал о Москве или рассказывал о твоем чудесном Детском театре – тень глубокой грусти окутывала меня: ее там больше нет! Этот светлый, умный смех, этот очаровательный – с ошибками – и все же такой чудесный в твоем произношении немецкий язык, твои милые речи, обращенные к детям, твоя дача, твой сад – все, все приходило на память и делалось еще грустнее! И вдруг однажды два-три месяца тому назад сказал мне один товарищ из Москвы, когда я снова о тебе рассказывал и говорил, что тебя уже нет…– Но что вы? Наталия Сац жива и по-прежнему в Детском театре… «Она жива!!!» – закричал я, я даже не мог поверить, она жива – тридцать лет я зря горевал – не мог до конца осознать, но потом поверил твердо. Ты стала для меня удивительным чудом, небывалым в наши времена – воскресшая из мертвых, и я снова словно увидел тебя перед глазами, посылал приветы (но как бедно они могли выразить мои чувства). Я бы хотел тебя обнять (пойми меня правильно, это не любовное объяснение, на это ты никогда не давала мне права), нет, я хотел обнять всю Твою жизнь, всю Тебя. Твое лицо.
Ты живешь!!! Как грустно, что мы не смогли увидеться в Берлине. Я не мог приехать к Тебе. Ты не могла прийти ко мне! Я пишу «Ты»: 1. Я тебя старше. 2. Эти тридцать шесть лет (1930–1966) принадлежат нам, значит, наше это ты и ты: мы так много времени в период этой катастрофы все время в моем ощущении были вместе, что формальное Вы должно уступить место полному доверия Ты. Твой Эрвин Пискатор 25 марта 1966 года». Это письмо потрясло меня. Так захотелось посмотреть новые постановки Пискатора, революционные постановки в Западном Берлине, о которых у нас все больше и больше говорили, так захотелось повидать его самого, пожать ему руку. Почему я так поздно поняла, какой он хороший, какой «свой»?! Постараюсь поскорее хоть на несколько дней поехать к нему. Эта мысль засела во мне, с ней работала, с ней продолжала репетировать Но… это длилось недолго: письмо Эрвина я получила третьего апреля, а восьмого апреля, через пять дней всего, на моем столе лежал большой конверт с черной рамкой. С каким ужасом он писал о моей смерти, с каким ликованием повторял: «Жива! Жива! Жива!» И через пять дней после этого умер сам, как нелепо и страшно! Умер где-то в провинции на операционном столе от… аппендицита. Случайность или… Слишком ничтожная операция! И как нелепо! Тот, кому было дано создавать чудеса техники, подчинять железо и сталь на сцене, умер под простым скальпелем. Встречи с Вальтером Фельзенштейном Занавес уже закрыли, а Шостакович продолжал сидеть в кресле четвертого ряда и глядеть куда-то в одному ему ведомую даль за сценой и оркестром. Я быстро шла по среднему проходу. Хотелось поближе взглянуть на артистов, которые, быть может, выйдут кланяться. Чуть задела рукавом Дмитрия Дмитриевича – он сидел с краю. От моего прикосновения Шостакович вздрогнул, привстал, повернулся ко мне.– Огромное впечатление? – спросила я, пожимая его такие дорогие всем любящим музыку руки.
– Не впечатление – потрясение! – почти крикнул он, а потом, словно смутившись неожиданно высокой ноты в своем голосе, опустил голову с непокорными, как у мальчика, волосами и добавил тихо: – Ни одного спектакля этого театра не пропущу.
Постановка Фельзенштейна «Отелло» потрясла москвичей новизной творческого раскрытия музыки, страстно глубоким видением, казалось бы, давно нам знакомых образов трагедии Шекспира, во всей глубине и стиле словно заново родившихся для нас сейчас, сегодня. На гастролях «Комише опер» в Москве смотрела «Отелло» много раз, месяца два затем ничего другого по-настоящему воспринять уже и не могла. Познакомиться с Вальтером Фельзенштейном в то лето могла, однако больше тянуло быть наедине с разбуженными его спектаклем мыслями. Но прошло несколько месяцев, захотелось поближе узнать этого режиссера и человека. Среди нескольких персонально приглашенных в Берлин на двадцатилетие Комической оперы оказалась и я. Это было неожиданно и тем более приятно. Ехала по личному приглашению Вальтера Фельзенштейна: значит, он обо мне знал. Десять дней в Берлине буду смотреть его спектакли. Красота! В номерах гостиницы, отведенных музыкальному критику Марине Сабининой и мне, нас уже ждали цветы с визитной карточкой и словами привета от Фельзенштейна. Хороший режиссер режиссирует и атмосферу гостеприимства. Приятно. В театр, перестроенный заново, прихожу за час до начала. Перспектива нового здания для Детского музыкального театра пока еще в туманных облаках, но я об этом все время думаю и не пропускаю случая поучиться «впрок». Внешне здание решено с простотой значительности, с окнами только внизу и в фойе, с точно найденным интерьером. Два репетиционных зала, точно повторяющих габариты сцены. Здорово! Первоклассное электрооборудование. Наши прожекторы не умеют ярко и строго ограничительно выхватывать из общей сцены двух, одного человека, давать нечто вроде крупного плана в кино. Здесь возможны любые световые позиции, нужные спектаклю. Артистические уборные – с нишами, в которых удобнее, чем в шкафах, держать костюмы для многих переодеваний «по ходу действия». По закулисью хожу «зайцем», а скоро начало. Возвращаюсь на торжественную лестницу, ведущую в огромное фойе. Оно с двух сторон оснащено буфетными стойками, столами, но и для прогулок по мягким коврам места много. Очень нарядны хрустальные люстры: они висят, как комья снега, каждая люстра на своем стержне, круглая, сверкающая. Мама в детстве рассказывала нам о цветах, которые видела на юге Франции: много лепестков белой гортензии словно облепили шар. И тут эти удивительные лепестки, только из хрусталя. После первого звонка занимаю свое место. Зрительный зал с лепными украшениями и чудесными фресками на потолке вместителен и одновременно не давит помпезным величием. Он концентрирует внимание на сцене и оркестре, не «перекрикивает» их пурпуром и золотом. Однако оркестранты уже заняли места, звучит музыка. Сегодня премьера – «Дон Жуан» Моцарта. В антракте почетных гостей зовут к Фельзенштейну. Во втором антракте снова зовут к интенданту и, о радость, меня замечает сам Фельзенштейн. Он с виду сухой, держится прямо, с острым взглядом, если внимательнее посмотреть, оказывается, глаза у него голубые. По общему облику Фельзенштейн напоминает профессора математики или другой какой-то точной науки. Говорит, как режет, короткими фразами:– Вы госпожа Сац? Я не ошибаюсь?
– Да, профессор (немцев обязательно надо называть профессорами, но в данном случае это и уместно). Благодарю вас за дорогую для меня возможность познакомиться с вашим театром.
– Как вам нравится мой «Дон Жуан»? Спектакль этот мне не нравится, но недаром я мать акробата – делаю ловкий прыжок в сторону:
– Прежде всего мне хочется сказать о вашем «Отелло». Даже в химии нужно соединение двух веществ, чтобы появилось третье. Гениальное восприятие Шекспира плюс Верди, или наоборот, породило ваш спектакль, который нельзя забыть. Вы долго учились музыке? Наверное, в консерватории?
– Мне нравится, что вы не ответили после первого акта о «Дон Жуане», – говорит он и добавляет: – Ни одним музыкальным инструментом я не владею. В детстве отец нанял мне учителя по скрипке. Но ничего из этого не вышло. Отец решительно прекратил пустую трату денег. Я был тогда очень рад этому.
– Мне кажется, каждый по нутру своему гуманный человек, во всяком случае, каждый тоскующий по жизненной правде человек по-своему музыкален.
«Сказки Гофмана» Оффенбаха подняли меня на крыльях фантазии Фельзенштейна на захватывающую дух высоту. Берлинская газета назвала этот удивительный спектакль «вечер идеальной гармонии музыки и поэзии, декоративного и режиссерского искусства, искусства артистов и певцов, насыщенных духом подлинного гуманизма». Мы стали довольно часто встречаться с Фельзенштейном в Берлине. Он относился ко мне по-дружески и быстро стал называть не «фрау Зац», а просто «Наташа». Однажды он очень насмешил меня, сказав, что ему обо мне то и дело рассказывают какие-то небылицы: например, будто я работала в Опере вместе со «стариком Клемперером», а это совершенно несовместимо с моей молодостью. Пришлось разочаровать его фактической справкой. Право же, он огорчился: разрушила его режиссерское виденье. Мы часто и сами не знаем, когда воспринимаем какой-то образ реально, а когда поддаемся нашей фантазии. Непосредственность моей заинтересованности и отсутствие почтительного молчания как-то забавляли его, и вдруг… почти сверстница! Однажды в Берлине меня пригласили на просмотр телефильма-оперы «Хитрая лисичка» композитора Яначека. Телестудия где-то далеко, да это и не живой спектакль… Все же поехала. Там были накрыты столики: бутерброды, фруктовые воды. Со мной рядом оказались красивый мулат, японец и молчаливый старик – представители газет и журналов разных стран (интерес к творчеству Фельзенштейна велик). Фельзенштейн с женой и сыновьями сидел поодаль и, видимо, волновался. Обсуждение начали критики. Неожиданно для самой себя я попросила слова и под впечатлением увиденного сказала то, что само сказалось: «Это – ожившая музыка. Я еще никогда не ощущала звуки такими зримыми. Я забывала, что это черно-белый телевизор, совершенно ясно чувствуя себя в зелени леса, вдыхая его аромат. Даже не поверю, если вы скажете, что небо, которое я сейчас видела, не было голубым, а лес – густо-зеленым. Я снова погрузилась в мир природы, такой близкий с раннего детства, когда подолгу лежишь на траве, наблюдаешь трудолюбие муравьев, полет бабочек, радуешься, что зеленеют листья, появляются бутоны, раскрываются цветы. Какое счастье, что сегодня я погрузилась в мир, который так непростительно быстро забыла в моторе шума городской жизни». После обеда Фельзенштейн подошел ко мне, сказал нечто приятное о моем выступлении на телевидении и попросил, чтобы я творчески помогла ему в работе для детей. Он хотел, чтобы я провела детский симфонический концерт и согласилась сделать постановку в его театре. Составила программу: Сергей Прокофьев, «Петя и волк», Илья Сац, сюита из музыки к «Синей птице» в оркестровке для симфонического оркестра Р. Глиэра, «Путеводитель по симфоническому оркестру» (вариации на тему Перселла) Бенджамина Бриттена. Какой мудрый Фельзенштейн! Посоветовал мне приехать хоть на несколько дней раньше нашего гала-концерта, иначе ничего бы не успела. А теперь костюмы для всех в «Синей птице» и для меня – васильковое длинное панбархатное платье с воротом-шарфом, подбитым серебряной парчой, – готовы. И «одежду» сцены нашли в «тон». Впервые читаю сказку по-немецки – даже не заметила, как перешла на «чужой» язык. По окончании музыканты устроили мне овацию – было очень радостно. День концерта полон сюрпризов. Когда готовлюсь к выступлению в новой постановке, целиком ухожу в задуманное, ничего не впускаю в себя извне. Никаких интервью, свиданий, прогулок – иначе не приду к желанной цели. Оказывается, дети приедут из разных местностей Германии на специально заказанных автобусах: из Карл-Маркс-штадта, из Лейпцига, из Гроссенхайна… В Гроссенхайне (неловко говорить об этом) есть пионерский театр «Наталия Сац». Долго они добивались моего согласия присвоить себе мои имя и фамилию, я считала это нелепостью, но через разные организации они такое название себе присвоили. Приедет… пятьдесят человек! Берлинских детей будет много – афиши висят по городу, все билеты давно проданы. Из Западного Берлина тоже приедут, и критиков из газет нагрянет много. Эти сведения и накануне, и в день концерта мне только морочат голову. Как будет, так и будет… Зал переполнен. Торжественно одетые музыканты уже заняли места на сцене. Сердце, стучи потише! Впервые выступаю на сцене, которую так полюбила. Мамы, папы и дети – дети пяти-шести-десяти-пятнадцати лет, очкастые дяди и тети с карандашами и блокнотами. Главное – дети.– Вы знаете, что я русская? По-немецки так хорошо, как вы, не умею, но мне очень хочется рассказать вам что-то интересное. Вы меня поймете?
– Поймем! Не стесняйся, ты понятно говоришь! Рассказывай!
Кажется, контакт устанавливается, доверие приходит. Начинаю рассказ о великом Прокофьеве, как была написана его симфоническая сказка, знакомлю с музыкальными инструментами, и, как всегда, величина контрабаса, завитки валторн вызывают оживление в зрительном зале; аплодисментами встречаем дирижера. Мне кажется, что я исполняю «Петю и волка» в первый раз, сама получаю такую радость от музыки, что как-то и забываю о зрительном зале. И вдруг… когда волк догнал и проглотил утку, маленький мальчик во втором ряду громко заплакал. Музыка, только слышимая, в этой сказке обладает силой вызывать почти зримые образы, при всей современности музыкального языка она целиком понятна даже малышам. Цветов было видимо-невидимо, а особенно обрадовала меня корзина красных роз от Вальтера Фельзенштейна… Удивительно добрый и чуткий он человек! Тогда же Фельзенштейн начал подумывать об опере для детей в моей постановке. Однако дело двинулось не быстро. Некоторые из предложенных мною опер не нравились Фельзенштейну по содержанию, некоторые – по музыке, а там наскакивали репетиции новых опер для взрослых, отвлекали мои московские дела… Первая опера, которую Фельзенштейн как-то принял,– «Три толстяка» Владимира Рубина. Я спела, представила, местами проговорила на музыке ее еще раз, и он закричал:– Да! Именно так это надо исполнять!
Я получила разрешение срочно вызвать в Берлин композитора Владимира Рубина, и, когда он сам блестяще сыграл Фельзенштейну и Фойгтманну свою музыку, вопрос о включении «Трех толстяков» в репертуар был решен. Но прежде чем определить сроки, надо было сделать перевод либретто оперы на немецкий. Тут оказалось много трудностей. Нелегко далась мне работа над новым оформлением, специально созданным для «Комише опер». Художник Эдуард Змойро долго не мог найти решение для этой постановки. Талантливый, но нелегкий в работе, когда не может сразу «схватить быка за рога», он начинает капризничать. Я поразилась кротости Фельзенштейна, когда он очень вежливо, но строго объяснил художнику, что тот неправ: увлеченный конструкциями как таковыми, художник все ложи левой стороны, долженствующие говорить о злой роскоши дворца толстяков, сделал очень похожими на конструкции правой стороны, вместо того чтобы подчеркнуть контраст богатства с унылой нищетой.– Вы простите, идея Наташи вами не выражена. Как мне показалось, Змойро недостаточно уважительно стал спорить с ним, к счастью, по-русски. По моей просьбе переводчица «отредактировала» его слова так
– Он еще будет работать, искать. Спасибо. В конце концов Змойро доказал, что он все же талантлив, и через несколько месяцев его эскизы были и мною как режиссером, и Фельзенштейном как главой своего театра приняты.
На первой репетиции, уже в музыкальном классе, певцы получили свои отпечатанные партии-роли. Рубин снова сел за рояль и начал было знакомить с первым трио бродячих артистов цирка своим композиторским голосом, но Вернер Эндерс, назначенный на роль дядюшки Бризака, попросил слова:– Мы сегодня уже получили наши партии. Не лучше ли, если мы и будем петь сейчас каждый за себя? Петь сразу на три голоса маэстро все равно не сможет.
Рубин развел руками:– Но ведь вы получили партии только сегодня. Как же вы сможете это сделать?
Исполнители ему возразили:– Тут артисты высшей и первой категории. Мы должны уметь петь с листа.
Мы с Рубиным переглянулись и хотя в то, что трио зазвучит чисто, не поверили, я примирительно сказала:– Пожалуйста, пойте. Попробуем.
Нам показалось почти чудом, как точно пели немецкие певцы, на высшем уровне умея читать ноты с листа. Увы, московские оперные артисты редко умеют, не продолбив оперу по нескольку раз с концертмейстером, это сделать. Профессионализм! Чувство ответственности! Как это важно и как согревает! Вальтер Фельзенштейн очень хорошо относился к нашим «Трем толстякам» – это был первый оперный спектакль для детей в ГДР, явивший пример полного уважения к юным зрителям. Человек? Он был и человек поразительный. Сухой, деликатный, дьявольски трудоспособный – это было снаружи. А внутри полыхал такой костер любви к театру, к музыке, ко всем своим соратникам, что подчас было удивительно, как, достигнув мировой славы, человек ни на минуту не укутывался в мягкий плед отдыха, никогда не становился на котурны, не облекал себя в тогу высокомерия. Абсолютный хозяин в своем театре, он оставался его слугой. Бывало, уже после конца спектакля проходишь по Унтер ден Линден и видишь свет только в окнах кабинета Фельзенштейна. Он, конечно, умел спорить, отрезать то, что мешало произрастанию задуманного им нового. Но он был добр, очень добр к людям. Его авторитет был авторитетом не с позиции силы, а с позиции веры и признания. Во время гастролей «Комише опер» в Стокгольме в 1965 году один из шведских критиков назвал Фельзенштейна «профессором умения вести за собой людей». Вальтер Фельзенштейн умер в октябре 1975 года. Он знал, что умирает, и нашел в себе мужество быть режиссером собственных похорон. Просил пронести его тело мимо окна кабинета, где так часто горел свет поздней ночью, не устраивать никаких церемоний, похоронить его на острове, лежащем в Остзее, около Монастырской церкви. Тут он нередко бродил, когда чувствовал потребность в одиночестве. Он хотел, чтобы из окна кабинета, где он прежде работал, теперь была видна его могила. Вместо эпилога, или Еще о юбилеях Сегодня мой день рождения – мне 80, и я думаю, что вступать в девятый десяток своей жизни, вероятно, было бы страшновато, если бы погода сегодня не была такой светлой, если бы в переполненном театре не звучали так звонко и весело детские голоса. В мыслях, словно на киноэкране, замелькали цветные, говорящие, поющие кадры строительства театра, который ощущаю как самое дорогое во всей моей жизни, театров, в рождении которых участвовала прежде, постановки, книги, юность и детство мои. Казалось, счастливые детские голоса возвращают мне детство, большое количество лет отодвинулось куда-то на задний план, как уже пройденный мною густой лес, на опушке которого вечно будут зеленеть трава и петь птицы. Мне принесли сегодняшнюю газету. Я развернула ее, прочла, и буквы то соединялись в слова, то странно прыгали перед моими глазами. Прочла Указ Президиума Верховного Совета СССР… Вечером засиял мой праздник. По секрету от меня его уже давно готовил весь коллектив нашего театра. Он был огромным и теплым. В переполненном зале, иногда по двое на одном стуле, тесно прижавшись на ступеньках лестниц, даже на ковровых дорожках под ярко светящимися люстрами сидели взрослые и дети с добрыми блестящими глазами. Организаторы праздника просили меня выйти по сигналу из бокового прохода и идти через зрительный зал к сцене, когда зазвучит музыка. Я шла медленнее, чем обычно, словно боясь расплескать пережитое за восемьдесят лет жизни. Спасибо Золотой Звезде, ордену Ленина и другим орденам, что праздничным звоном успокаивали сердце, которое давало перебои – не знаю почему. Да, я шла в этот день в самом лучшем своем длинном платье, встревоженная и счастливая. На сцене в креслах сидели многие наши большие руководители, москвичи, делегаты от многих городов, республик, любимые музыканты, писатели, режиссеры. Меня усадили в кресло, вокруг которого стояло так много хризантем, гортензий, гвоздик и роз, что мне стало даже страшновато, что цветы отделят меня от людей, которым я была так благодарна за их приход на мой праздник сегодня. Мне говорили чудесные слова, называли «дорогой вы наш человек», «матерью театров для детей и юношества всего мира», «ненаглядным пособием», артисты Театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко на мотив арии Роберта из оперы «Иоланта» П. И. Чайковского спели «Кто может сравниться с Натальей моей…», а артисты Театра имени Е. Б. Вахтангова в бескозырках напомнили мне пением «Сегодня все мы дети, надев матроски эти…», как Вахтангов впервые еще в раннем детстве приобщил меня к режиссерской работе. Было много адресов, музыки, стихов, шуток, театрализованных приветствий, танцев, чудесной выдумки подлинных друзей. Удивительный подарок преподнес мне ко дню рождения Игорь Александрович Моисеев – свою совсем новую постановку «Болеро» («Кармен»). Знал ли он о том, как исполнение новеллы Мериме поддержало мой творческий дух в трудные годы? Не знаю точно. Но его «Кармен» принесла всем, кто был на этом вечере, огромную творческую радость. Бурные аплодисменты долго не смолкали. Ближе всех ко мне на сцене сидели Евгений Светланов, Аркадий Райкин, Сергей Михалков, Евгений Симонов, Анатолий Алексин, Андрей Гончаров, Дмитрий Кабалевский, который сказал очень дорогие мне слова:– …воспитание детских сердец и детских умов стало целью и содержанием Вашей жизни. И для достижения этой благородной цели Вы избрали вернейшее средство: искусство! Искусство театра и музыки! Создание первого в мире музыкального театра – кто бы поверил, что совершить два таких подвига под силу одному человеку?! Но Вы их совершили. Вам это оказалось под силу потому, что это было в первом в мире социалистическом государстве и отвечало его жизненным интересам.
Большое оживление вызвало выступление первого секретаря ЦК ВЛКСМ В.М. Мишина:– Если бы этот зал мог вместить всех желающих, то вместе со мной сюда пришли бы 42 миллиона комсомольцев, 20 миллионов пионеров и неисчислимое количество октябрят…
Стрелка часов шла все вперед, а праздник звучал все радостнее и перевалил за полночь. «Праздничной кантатой», сочиненной В. Яковлевым и В. Рябовым, в исполнении всего коллектива нашего театра завершился этот большой праздник. Говорят, что я чувствовала себя во время всего вечера просто, радостно, непринужденно, вступала в диалоги с артистами, но я точно не помню никаких своих слов. Ощущение счастья помню. Ощущение огромной благодарности к своей Советской Родине, давшей мне возможность любимого труда, такой интересной жизни, как-то озвучило все мое существо, и я еще долго сидела на сцене, когда все уже разошлись, погас свет в зрительном зале, всматривалась в дорогие мне подарки, цветы, адреса, бесчисленные письма, сгрудившиеся на столах. И вдруг взяла одно из этих писем, что называется, на счастье. Оно было подписано «Василий Николаевич Хабин, доцент филологического факультета МГУ» и прозвучало словно бы заключительным аккордом всего происшедшего. «Многоуважаемая тетя Наташа! Пишет Вам шестидесятидвухлетний бывший Ваш юный зритель. Ваш славный юбилей, Ваше торжество показали, что Вы в походе – в устремлениях. Вы действуете – значит, мое, наше детство не в прошлом, оно живет в нас и помогает петь общие песни с нынешними детьми. Вы действительно остались для меня тетей Наташей, стройной, изящной, какой выходили к нам перед спектаклями в Московском театре для детей. Почти девушка – и «тетя» для Вас было много, очевидно, то была надбавка для солидности. Я был по-мальчишески удивлен, когда на Вашем спектакле «Негритенок и обезьяна» увидел актеров, снующих по зрительному залу и даже ловко взбирающихся по стене. Впервые в моем сознании была преодолена преграда между таинственным миром кулис и зрителем, но ощущение чуда от этого лишь возросло… Все это, дорогая Наталия Ильинична, вместе со многими иными эмоциональными откровениями детства и отрочества помогло нам, московским школьникам, мальчишкам и девчонкам, достойно пройти через жесточайшую войну. Так Вы, с Вашей одухотворенностью и одержимостью, нас поддержали. Вам дали звание Героя за героизм творческий. Что может быть завиднее и достойнее! Поэтому, пожалуйста, живите и радуйте бесконечно всех нас, детей бывших, настоящих и будущих!» Спасибо за это пожелание. Спасибо. А жизнь продолжается… Новые спектакли, новые гастроли, новые впечатления… Вот незаметно и 85 исполнилось. Могла ли я думать когда-нибудь, что на моем юбилейном вечере на сцену театра выйдет Аня, Анна Михайловна Ларина-Бухарина, выйдет из нашего общего сурового прошлого, чтобы обнять и поздравить меня, свою бывшую сокамерницу?! Вот уже и праздник 25-летия театра остался позади. Как же волнующе хорош он был, сколько по-настоящему верных друзей пришло к нам в этот незабываемый вечер! Надо жить и работать. Неужели стукнуло уже 88? Когда перед тобой ясная цель и страстная любовь к своему делу – это не так уж страшно. Поверь мне, читатель! [1] В эти годы отец, по его собственному выражению, был «занят прислушиванием к себе и формированием самого себя». Все впечатления жизни он заносил в свой дневник. «Смотрю ли я на фотографическую карточку, вижу ли людей, вспоминаю ли свое отношение или случай, у меня одно страстное желание: запечатлеть, написать на бумаге, рассказать. Я так жадно об этом думаю, как будто мне сказали, что меня через два-три дня лишат этой способности». [2] У моей мамы в то время былжив только отец. Мать ее, Надежда Михайловна, урожденная Иванова, скончалась задолго до тех лет. [3] В благодарность маме, вернувшей ему веру в себя, отец в Иркутске взял себе псевдоним «Аннин». [4] Эти слова Баумана, обращенные к моему отцу, было бы неудобно цитировать со слов матери. Спасибо мемуарам артистки Н. И. Комаровской, слова эти напечатаны и в ее книге. [5] Печатается с сокращениями. [6] Ф.Н. Плевако – знаменитый адвокат. [7] В последний раз о Н. П. Кошиц я услышала от композитора А. П. Долуханяна. По ее просьбе он приезжал ко мне где-то в шестидесятые годы переписать для нее папин романс «Слезы людские». [8] Игорь Константинович Алексеев, сын Константина Сергеевича Станиславского. [9] Сын Ивана Михайловича Москвина, Федор Иванович, был актером Театра имени Вахтангова. Погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. [10] Сурс – источник (франц.). Каша – название источника. [11] «Братцы» он сказал как-то очень смешно – «брятцы». [12] Этот френч очень смешил меня. Сам Анатолий Васильевич рассказывал, как за недостатком свободного времени он послал померить и взять его своего курьера «с несколько иным, чем у меня, телосложением», – смеясь, добавлял Анатолий Васильевич. [13] Там сейчас помещается Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. [14] Театр М. М. Шлуглейта работал в нашем здании недолго, потом нашими арендаторами стали кинематографисты. [15] Рассказ «Родители» был напечатан в журн. «Прожектор», 1925, № 16. [16] Если читатель помнит, первоначально большинство артистов соглашались работать в Детском театре только без отрыва от театра для взрослых. [17] Учитель удовольствий (франц.). [18] Васkfisch – что-то вроде «неоперившаяся рыбешка». Так называют в Германии девочек-подростков. [19] Пискатор Э. Чему мы можем поучиться у советского театра.– «Театр», 1930, № 4, с. 70. [20] «Известия», 1933, 18 марта. [21] «Комсомольская правда», 1936, 6 марта. [22] Известная эсерка Екатерина Кускова опубликовала свою статью в газете эмиграции «Последние новости» (главный редактор П. Н. Милюков). [23] Это уже пишу не с его слов, а со слов его брата – Наума Яковлевича Вейцера. [24] КРА – контрреволюционная агитация. [25] Владимир Львович, сын Каменева, живет в настоящее время в Новосибирске, преподает в университете. [26] Жена В.М.Молотова. [27] Так и случилось. Из лагеря Людмила Шапошникова не вернулась. [28] Муж Полины Левитиной был ближайшим сотрудником И.Я. Вейцера. После ареста Вейцера он в числе других близких мужу людей был арестован, а потом – исчез. [29] Пирадов, Павлова и я. [30] Это был артист Лев Свердлин. [31] К сожалению, не хватит в этой книге места, чтобы описать очень интересную мою поездку, организованную Союзом писателей, на ярмарку в Лейпциг (ГДР). [32] Виктор Михайлович Яковлев работал в нашем театре с 1965 по 1987 год. По праву ему было присвоено за работу звание Народного артиста РСФСР. [33] Создание комнаты младших братцев и сестриц я придумала и ввела впервые в нашей новостройке театра для детей и юношества Казахстана. [34] Кифара – арфа древних времен. Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


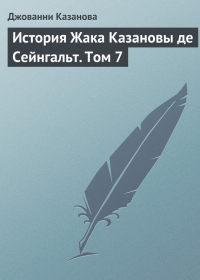

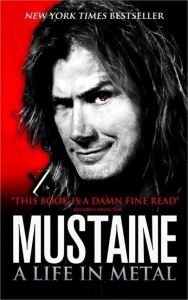

Комментарии к книге «Жизнь – явление полосатое», Наталья Ильинична Сац
Всего 0 комментариев