Елена Лелина (составитель) Павел I без ретуши
Великодушный деспот
Вы видите: я не бесчувствен, как камень, и мое сердце не так черство, как то многие думают. Моя жизнь докажет это.
Я предпочитаю быть ненавидимым, делая добро, нежели любимым, делая зло.
Великий князь Павел ПетровичРанним утром 12 марта 1801 года Россия присягнула новому императору Александру I. Правда, новоявленный монарх находился в состоянии глубочайшей прострации. Темные круги вокруг глаз, нарисованные напряженными треволнениями минувшей ночи, свидетельствовали о его крайнем нервном истощении. И немудрено: восшествие Александра на престол сопровождалось жестоким убийством его отца, императора Павла I.
Россия XVIII века пережила несколько дворцовых переворотов. Посылом к этому явился указ Петра I о престолонаследии от 1722 года, согласно которому по воле правящего монарха русский трон мог занять любой достойный (или не достойный?) претендент. При этом сам Петр, скончавшийся в январе 1725 года, своим указом воспользоваться не успел (или не решился, не обнаружив среди своего окружения истинного преемника?).
Петровский указ сыграл на руку череде отчаянных авантюристов, сумевших, опираясь на гвардейские штыки, взойти на русский престол. Этим указом намеревалась в конце жизни воспользоваться и Екатерина II, которая планировала назначить своим непосредственным преемником любимого старшего внука Александра, минуя нелюбезного ее душе и сердцу сына Павла Петровича. Об этом при русском дворе говорили чуть ли не в открытую. Льстивые царедворцы практически смеялись Павлу в лицо. А уж что говорилось за спиной законного наследника!
Впрочем, почему законного? В этом отношении закон был матушке Екатерине не писан. Она сама заполучила русский трон в 1762 году посредством жесткого, стремительного переворота, предложив России себя в качестве всевластной императрицы, а русскому обществу — сказку о «геморроидальных коликах» свергнутого императора-мужа Петра III, якобы повлекших за собой его скоропостижную смерть.
6 ноября 1796 года Екатерина II скончалась в Санкт-Петербурге, не осуществив своих намерений относительно смены престолонаследника. Спокойно, без проволочек и неуместных в такой ситуации манифестаций, великий князь Павел Петрович вступил на российский престол. Первое распоряжение коронованного императора касалось закона о легитимности власти. Отныне власть в России будет передаваться от отца к сыну, а если такового нет — следующему по старшинству брату императора. Согласно этому указу страной, вплоть до краха дома Романовых в 1917 году, управляли «Павловичи», что обеспечивало достаточную стабильность при смене каждого из правлений.
Павел I почитал закон, справедливо считая, что он есть основа правильного государственного устройства. Екатерининские вельможи, доставшиеся ему по наследству от покойной матушки, воспринимали павловские законы как смирительную рубашку, выдавая требования своего императора за проявления вздорного характера слабоумного, неадекватного человека. Ложь и клевета, сопряженные со страхом и ненавистью, сопровождали немногим более чем четырехлетнее правление этого тонкого, искреннего, нервного, жаждущего понимания и любви, окруженного сонмом родни и придворных, но при этом бесконечно одинокого императора-романтика.
Павел I родился 20 сентября 1754 года в Санкт-Петербурге, в одном из помещений Летнего дворца императрицы Елизаветы Петровны. Его царственная бабка Елизавета, Петра Великого «дщерь», на протяжении долгих девяти лет ждала появления наследника.
В 1742 году бездетная русская императрица Елизавета Петровна призвала к российскому двору племянника, сына своей сестры, старшей дочери Петра I Анны, голштинского принца Карла Петера Ульриха. Юноша был миропомазан и уже под именем Петра Федоровича провозглашен наследником престола. 21 августа 1745 года его женили на скромной немецкой принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербстской, в православии Екатерине Алексеевне. Появление в 1744 году на русском придворном небосклоне будущей Екатерины II историк Н. К. Шильдер охарактеризовал следующим образом: «Между тем оказалось, что в Москву прибыла представительница будущей славы России, державное воплощение забытого после Петра Великого русского государственного эгоизма».
Рождение в 1754 году (почти через десять лет после начала супружества) у великой княгини Екатерины Алексеевны ребенка, названного Павлом, сопровождалось придворными сплетнями и слухами. Говорили, что истинным отцом мальчика был красавец-камергер С. В. Салтыков, настойчиво неравнодушный к женским чарам Екатерины и сумевший добиться успеха в своих ухаживаниях. Поговаривали даже, что при родах ее ребенок умер и был заменен новорожденным чухонским младенцем.
Позднее, составляя «Записки» о своей молодости, Екатерина II настойчиво намекала, что великий князь Петр Федорович к рождению ее сына Павла причастен не был. И это понятно: в начале 1770-х годов наследник Павел Петрович приближался к возрасту совершеннолетия, и императрице вовсе не хотелось не только отдавать власть, но даже делиться ею. Может быть, поэтому прекрасно образованный и воспитанный великий князь Павел при екатерининском дворе всегда отстранялся от дел и выставлялся по меньшей мере недоумком.
Екатерина II женила сына дважды. Первый раз в 1773 году, когда наследнику едва исполнилось 19 лет. Это был блестящий повод вежливо устранить многолетнего наставника и воспитателя Павла, умнейшего царедворца Н. И. Панина, откровенно готовившего своего любящего воспитанника на трон. Ему недвусмысленно дали понять, что мальчик вырос — пора жениться, и с обучением было покончено. «Дом мой очищен!» — радостно воскликнула Екатерина, когда неугодный Панин был удален от двора. Стало быть, для женитьбы, по логике императрицы, мальчик вырос, не достигнув и 20-летнего возраста, а законный престол своего низвергнутого отца он получит ох каким переростком!
В жены Павлу Петровичу была определена принцесса Гессен-Дармштадтская Вильгельмина, в православии Наталья Алексеевна. Первоначальное восхищение императрицы юной невесткой вскоре сменилось тревожным раздражением. Прежде всего, «эта особа» была слишком расточительна; во-вторых, не успев хорошенько оглядеться и освоиться при русском дворе, она обзавелась фаворитом — им стал ближайший друг великого князя, граф А. К. Разумовский; в-третьих, ее влияние на мужа было слишком велико, а честолюбивые планы выходили далеко за рамки дозволенного. Поэтому, когда в апреле 1776 году Наталья Алексеевна скончалась «от неудачных родов», Екатерина, особо не опечалившись, без проволочек потрудилась подыскать сыну новую жену, с более мягким и покладистым характером. Она не прогадала. Вторая невестка, вюртембергская принцесса София Доротея Августа Луиза, ставшая женой Павла под православным именем Марии Федоровны, боготворила мужа, почитала его мать и одного за другим рожала здоровых детей. За двадцать два года супружества Мария Федоровна принесла новому отечеству десять порфирородных «Павловичей»: Александра, Константина, Александру, Елену, Марию, Екатерину, Ольгу, Анну, Николая, Михаила.
Воспитанием детей занималась сама Екатерина. Особой заботой и трепетной нежностью она окружила старшего внука Александра. Точно так же, как некогда Елизавета Петровна, отнявшая у нее сына и лишившая ее радости материнства, она полностью отстранила родителей от великокняжеской детской комнаты. Павел Петрович и Мария Федоровна вели тихую уютную жизнь в пожалованной им в 1777 году пригородной резиденции Павловске, к которой через шесть лет была добавлена «мыза Гатчина». А во всем, что касалось вопросов политики, дипломатии, армии, финансов, двора и даже воспитания их собственных детей, Екатерина и сама знала, что и как надо делать.
Большим событием в жизни молодой супружеской пары стало их совместное заграничное путешествие 1781–1782 годов по странам Европы, которое продолжалось 14 месяцев. Несмотря на то что они путешествовали инкогнито, под именем графа и графини Северных, королевские дворы и герцогства были прекрасно осведомлены о высоком статусе своих гостей. Впервые за всю свою жизнь великий князь почувствовал себя наследником престола великой страны. Ему оказывали высокие почести, с ним говорили о делах, к его высказываниям прислушивались…
Павел и Мария Федоровна произвели на европейское общество самое благоприятное впечатление. Все отмечали их ум, обаяние, широкий кругозор, блестящий художественный вкус. Наследник покорил всех умением держаться с воистину царским достоинством, несмотря на общеизвестную щекотливость его положения при русском дворе: когда в 1781 году, проезжая через Вену, он должен был присутствовать на придворном спектакле и решено было показать пьесу У. Шекспира «Гамлет», актер И. Ф. Брокман отказался исполнять эту роль, сказав, что в театральном зале окажутся два Гамлета.
Если говорить о личных впечатлениях Павла от путешествия, то наиболее яркие из них он получил во время пребывания в Берлине, столице Пруссии, которая считалась в то время одним из самых могущественных государств Европы. Установленные Фридрихом II порядки, четкая дисциплина во всем, и прежде всего в армии, привели наследника престола в восхищение. Вернувшись домой, он начнет моделировать свое представление о государстве и армии на примере «гатчинской империи» и гатчинского гарнизона, ориентируясь на прусский эталон.
После заграничного путешествия конфликт великого князя с матерью обострился. По дворцовым закоулкам носились слухи, что Екатерина активно готовится к его устранению от престолонаследия. Павел молча терпел. В присутствии матери он неизбежно был спокоен, любезен, молчалив. «Если чему обучило меня путешествие, то тому, чтобы в терпении искать отраду», — отметит он в одном из писем этого времени.
Терпение увенчалось успехом. В 1796 году великий князь Павел Петрович стал императором всероссийским Павлом I. К этому времени у него уже была выработана четкая программа развития страны. Одним из свидетельств того служит написанное двадцатилетним Павлом и безрезультатно представленное им на суд матери еще в 1774 году сочинение «Рассуждение о государстве вообще…» и последовавшая за ним «Собственноручная записка о гвардии». Анализ этих текстов показывает, что их составлял умный, думающий человек. Они представляют собой грамотную, жесткую критику екатерининского правления и наглядным образом отражают политическую и военную мудрость учителей Павла Петровича. Еще один программный блок документов был составлен наследником в 1788 году, когда он решительно готовился в поход к театру военных действий (сначала он намеревался отправиться на юг, где шла война с Турцией, но в результате оказался на северо-западном фронте, где разворачивались бои со Швецией). Это семь памятных документов: три — на случай его собственной гибели и четыре — на случай кончины Екатерины во время его отсутствия. Программа Павла опиралась на два главных начала: устранение привилегий во имя равенства перед законом и установление единого порядка во славу закона. Письма-завещания жене и детям свидетельствуют о его глубоком понимании своего назначения: радеть о народе и государстве. Именно здесь он обдумывает основные принципы, в дальнейшем положенные в основу указа о престолонаследии, обнародованного в день его коронации, 5 апреля 1797 года.
Итак, в 1796 году император Павел I был готов к переменам. Но была ли к этому готова Россия, и прежде всего сановный Санкт-Петербург?
Императора Павла I часто называют трагическим персонажем на российском политическом небосклоне. Трагедия заключалась в том, что окружающие не понимали его, а он не понимал их. Это был замкнутый круг непонимания, перераставшего в страх, раздражение, ненависть. Его ближайшее окружение не стало и не могло стать сплоченной командой, в едином порыве устремленной к общей цели. А ему ошибочно казалось, что его монаршей воли будет достаточно, чтобы в одночасье изменить все: страну, армию, людей, характеры, вкусы, моды… Он лихорадочно спешил в своих переменах, отнюдь не задумываясь о том, что лихорадочная спешка приводит к плачевным результатам. Он жаждал уважения и любви — его боялись; он стремился к славе и почитанию — над ним потешались; он искал благородных друзей — его обманули и предали…
«Павел вступил на престол с обширным запасом преобразовательных программ и с еще более обильным запасом раздраженного чувства, — писал историк В. О. Ключевский. — Но ему уже было значительно за сорок лет… он так долго дожидался престола, что, вступив, подумал, что вступил уже поздно…»
Царствование Павла I началось с манифеста, провозгласившего мирную политику Российской империи. В стране стали проводиться тотальные преобразования. Стремительная законотворческая деятельность Павла-императора свидетельствует, что годы его «гатчинского затворничества» сопровождались напряженной работой в этом направлении. Создается ощущение, что некоторые документы были уже давно подготовлены наследником, выверены и переписаны набело. Павел отменил прежний чрезвычайный рекрутский набор (по 10 человек с тысячи), осуществил меры по уменьшению цены на хлеб. С высоты царского престола впервые в России была предпринята попытка облегчить каторжный труд крестьян, ограничивающая барщину тремя днями в неделю работы на помещика. Особое внимание уделялось вопросам реорганизации армии. Основываясь на своих собственных представлениях о воинском порядке и дисциплине, Павел в одночасье переодел и переобул солдат и офицеров на прусский манер, переписал уставы, выпустил новые штаты и точные правила рекрутских наборов. Привыкшие к вольготной жизни екатерининские офицеры были вынуждены «нести прямую службу, а не по-прежнему наживать себе чины без всяких трудов». Все петербуржцы в одночасье должны были сменить покрой сюртуков, платьев и шляп, который ни в коем разе не должен был напоминать о французской моде, свидетельствующей, по мнению нового императора, о французской «революционной заразе» и «духе якобинства».
Жажда исторической справедливости толкает Павла на умопомрачительный шаг: он отдает распоряжение об эксгумации останков Петра III и с почестями хоронит его вместе с усопшей Екатериной II в Петропавловском соборе. При этом он весьма жестоко обходится со всеми оставшимися в живых участниками переворота 1762 года, вознесшего на престол его мать. Это было демонстративное назидание окружающим, которое, впрочем, не предотвратило его собственного рокового конца.
Он хотел быстро-быстро добиться результата во всем. Как в детстве — быстро заснуть, быстро проснуться, быстро позавтракать, быстро приготовить уроки… В характере этого взрослого человека осталось много детского: излишняя искренность, излишняя наивность, излишняя обидчивость, излишняя подозрительность. Последнее погубило его отношения с семьей. «Павла стали преследовать тысячи подозрений, — писал современник А. Чарторыйский, — ему казалось, что его сыновья недостаточно ему преданы, что его жена желает царствовать вместо него. Слишком хорошо удалось внушить ему недоверие к императрице и к старым его слугам. С этого времени началась для всех, кто был близок ко двору, жизнь, полная страха и вечной неуверенности».
Он остается один, еще до конца не понимая этого. Его взрывная, неуправляемая вспыльчивость и гипертрофированная подозрительность отталкивают от него даже «любезную жену» Марию Федоровну, взрослых сыновей и тех немногих из его окружения, кого он мог бы назвать друзьями. Он хочет везде поспеть сам: сам всем указать и сам все показать. Он раздражается людской нерадивостью, непочтительностью, недисциплинированностью… Он запрещает, наказывает, высылает, арестовывает… И ошибается, ошибается, ошибается.
Павловский двор и семья Павла I пребывали в молчаливом, гнетущем повиновении, окрашенном постоянным страхом. Подозрительный император приветствовал шпионаж и доносительство, которое становилось поощряемой нормой. Доносили все и на всех, даже на членов императорской фамилии…
Борясь с лихоимством и казнокрадством власть имущих, Павел I повелел вывесить на фасаде Зимнего дворца специальный ящик, куда каждый мог опустить жалобную бумагу, которая без проволочек попадала прямо к нему в руки. В Москве и Санкт-Петербурге полицейские чины активно шпионили за иностранцами. Во избежание проникновения «французской заразы» в Россию не дозволялось ввозить иностранные книги, газеты, журналы, ноты, «модные картинки». В 1798 году был выпущен указ о запрещении молодым русским дворянам выезжать на обучение в заграничные университеты.
Ненависть к французской революции определила в достаточной степени первоначальное направление внешней политики Павла I. В 1798 году Россия вступила в антифранцузскую коалицию, в состав которой вошли Англия, Австрия, Неаполитанское королевство и даже Османская империя. По договоренности с Австрией была создана объединенная русско-австрийская армия для освободительного похода в Северную Италию, захваченную войсками французской Директории. Союзники обратились к Павлу I с просьбой назначить командующим армии А. В. Суворова.
Великий полководец А. В. Суворов в это время находился в ссылке. Легко представить, как этот убеленный сединами и увенчанный славой воин, известный своим неуживчивым, язвительным характером, воспринял военные преобразования Павла. Особенно те меры, что касались введения нового обмундирования! И здесь с ним трудно было не согласиться. «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак», — острая суворовская прибаутка гуляла в армейских кругах, подчеркивая общее настроение и отношение к реформам и реформатору.
Павел сумел переступить через мелочные обиды. «Граф Александр Васильевич! — пишет он А. В. Суворову в ссылку. — Теперь нам не время рассчитываться. Виновного Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии».
Легендарные победы А. В. Суворова в Итальянском и Швейцарском походах позволяли России получить надежную основу для развития внешней политики в районе Средиземноморья. Однако это не входило в планы Австрии и Англии, которые, преследуя свои интересы, откровенно не желали усиления российского влияния на западноевропейской арене. Поняв это, Павел I стал смело рассматривать возможности заключения русско-французского союза, тем более что с падением Директории он рассчитывал на дальнейшее восстановление французской монархии, а само учреждение консульства и консула в лице Бонапарта воспринимал как первые шаги в этом направлении. Начало русско-французских дипломатических контактов 1800 года и совместный Индийский поход не на шутку встревожили его недавних английских союзников, не намеренных расставаться с лакомым куском в виде своей индийской колонии. Даже на стадии подготовки предстоящий договор между Россией и Францией расставлял четкие приоритеты на Европейском континенте, угрожая Англии экономической блокадой. Не случайно, узнав о насильственной кончине русского императора, Бонапарт пришел в яростное отчаяние; в Париже не сомневались в причастности Англии к трагедии, разыгравшейся в Михайловском замке.
Важнейшим событием в укреплении внешнеполитического курса Павла I стало принятие под покровительство России в начале его царствования Мальтийского ордена. Французская революция пошатнула основу этого старейшего западноевропейского христианского ордена. В 1797 году по просьбе орденского братства Павел I принял титул протектора (покровителя) Мальтийского ордена. Это звание налагало на него известные обязанности, особенно когда в июне следующего года молодой французский генерал Бонапарт захватил Мальту. Русский император не только предоставил членам ордена убежище в своей столице и обеспечил пребывание ордена в России материально, но и распространил деятельность его на русской территории восстановлением польского католического и учреждением русского православного великого приорства. Историк А. В. Скоробогатов, утверждает, что символика ордена «отражает идею воссоединения христианских церквей, центром которых должна стать Российская империя».
29 ноября 1798 года Павел I принял Мальтийский орден в свое «державство» и возложил на себя знак великого магистра. Через месяц был издан манифест об «Установлении в пользу российского дворянства ордена Св. Иоанна Иерусалимского». Новый российский Мальтийский орден состоял из двух отделов: православного и католического, что должно было символизировать грядущее преодоление раскола между христианами России и Европы. Помимо этого Россия получала прекрасный стратегический плацдарм в Средиземном море. Рыцарский дух Павла I, его благородная и порывистая натура не позволили ему оставить мальтийцев в беде. Кроме того, в его планы входило намерение вернуть ордену остров Мальта.
Что касается родной православной церкви — ее пастыри могли рассчитывать на самое внимательное отношение к себе. Павел I не разделял равнодушия своей матери к священнослужителям русской церкви и их насущным нуждам. Вот как писал об этом в своих воспоминаниях рыцарь Мальтийского ордена граф Франц Габриэль де Бре, пребывавший в Санкт-Петербурге в 1799–1800 годах в качестве депутата: «В сношениях с духовенством император выказывает больше ловкости и знания людей: он его осыпает милостями и знаками почтения. Он первый наградил епископов орденами, которые до сих пор давались только мирянам. Везде, при всяком случае он высказывает им самое глубокое уважение, но в этом у него меньше системы, чем чувств». Павел пресекал какие-либо преследования православной церкви и даже предоставил определенную легитимность старообрядцам. В начале 1798 года в Нижегородской губернии, центре старообрядчества, им было разрешено открывать свои церкви. Неслучайно потом, когда императора не станет, старообрядцы будут так сердечно скорбеть о нем.
Мистической тайной окутаны повествования о встрече Павла I с православным монахом, иноком Авелем, обладавшим даром пророчества. Предсказание дня и часа кончины Екатерины II привели его в один из казематов Шлиссельбургской крепости. Освобожденный новым павловским правлением, он, согласно легенде, имел беседу с императором Павлом и предрек ему скорую трагическую кончину, а также судьбу его потомков.
Быть может, отсюда столь пристальная, навязчивая, мистическая подозрительность Павла I ко всем окружающим? Особенно в последние месяцы, недели и дни. Тем более что подозрительность не была беспочвенной. Вокруг него усиленно плелась паутина заговора. И он это чувствовал. Присутствовавший на его вечерней трапезе 11 марта 1801 года М. И. Кутузов впоследствии рассказывал: «После ужина император взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал мне: «Посмотрите, какое смешное зеркало; я вижу себя в нем с шеей на сторону»». Через два часа его не стало…
Самое отвратительное заключалось в том, что в заговоре принимали участие наиболее близкие, доверенные люди императора. Идеологом стал друг детства Павла I, племянник его любимого, к тому времени уже покойного учителя Никиты Ивановича Панина, обласканный и самим Павлом, и павловским двором Никита Петрович Панин. Ревностный англофил, он пытался всячески противиться формированию франко-российского политического сближения. Его несанкционированные встречи с английскими дипломатами вызывали резкое недовольство императора. Павел яростно осадил его. И тогда осенью 1800 года Н. П. Панин начал тайные переговоры с наследником Александром Павловичем о введении в России регентства наподобие английского: в 1788 году в Англии была совершена попытка ограничить власть короля Георга III, настигнутого припадком безумия, посредством определения при нем регента, старшего сына принца Уэльского.
Свидания заговорщиков с наследником были тщательно засекречены. Наиболее осведомленными персонажами на первом этапе готовящейся трагедии являлись представители политической элиты Англии. Впоследствии, анализируя события, приведшие к гибели Павла I, многие исследователи придут к выводу, что дело не обошлось без английского вмешательства и «английского золота».
Следующий шаг в осуществлении своих намерений осторожный Н. П. Панин предпринимает в сторону человека, пользующегося исключительным доверием императора и наделенного огромной властью, — начальника полиции и военного губернатора столицы П. А. Палена. Современники называли его хитрым, ловким, пронырливым вельможей, умеющим при любой передряге выйти сухим из воды. Переговоры принесли ожидаемые плоды. Поэтому, когда в конце 1800 года Н. П. Панин попадает в опалу и уезжает в свое смоленское имение, запущенный им механизм заговора продолжает работать в заданном направлении. Теперь уже П. А. Пален медленно, но верно расширяет круг заговорщиков…
8 ноября 1800 года в жизни Павла I произошло знаменательное событие. Завершилось строительство его императорского дворца, его личной царской резиденции, получившей название Михайловский замок. Эта постройка стала олицетворением комплекса эстетических мировоззрений императора, символически отразила глубину его воистину имперских амбиций. В феврале 1797 года, во время закладки здания на месте снесенного Летнего дворца его бабки Елизаветы Петровны, эмоциональный Павел, рисуя в своем лихорадочном воображении уже целостный образ желанного рыцарского замка, пророчески воскликнул: «Здесь я родился, здесь хочу и умереть!» Он действительно умер здесь в ночь с 11 на 12 марта 1801 года.
С начала 1801 года дворцовый заговор набирал силу. Одной из причин стало появление при русском дворе 13-летнего племянника Марии Федоровны, принца Е. Вюртембергского. Радушный прием, оказанный мальчику императором, и его иносказательные намеки заставили многих опасаться, что Павел, не удовлетворенный своими старшими сыновьями и имеющий двоих сыновей-младенцев, намеревается усыновить принца и даже обеспечить ему в будущем русский трон. Подросток ни о чем не подозревал. Он всюду бывал, все замечал и, повзрослев, оставил яркие воспоминания о последних днях жизни самого Павла и его близких в Михайловском замке.
Пережив кончину Павла I, многие очевидцы и даже непосредственные участники трагедии 11 марта 1801 года взялись за перо. Наиболее объективными считаются записки полковника лейб-гвардии Конного полка Н. А. Саблукова, который в заговоре не состоял, а в роковую ночь цареубийства осуществлял командование охраной Михайловского замка.
В 1908 году в Санкт-Петербурге вышла книга «Цареубийство 11 марта 1801 года». Она включает записки и воспоминания современников императора Павла I, в той или иной мере соприкоснувшихся с трагедией его насильственной гибели. Среди более чем десяти версий этого события — свидетельства руководителя заговора П. А. Палена и непосредственного участника убийства императора Л. Л. Беннигсена. Разночтения, которые присутствуют в текстах различных авторов, естественны: каждый проживает жизнь со своим видением ее оттенков и нюансов; а кому-то просто выгодно пересказать событие так, а не иначе.
По сути своей, П. А. Пален совершил задуманное грязное дело чужими руками. Его часть мятежного отряда намеренно не прибыла вовремя к спальне несчастного императора, и Пален терпеливо ждал исхода дела где-то поблизости, чтобы в случае успеха руководить наследником Александром, а в ином случае — выступить в роли спасителя императора.
Что касается Л. Л. Беннигсена, который стал свидетелем последних минут жизни Павла I, то трудно поверить, что в решающий момент ему вдруг понадобилось отлучиться из царской спальни и все произошло помимо его воли.
Да, на подмостках театра жизни порой разворачиваются воистину шекспировские трагедии… Но если шекспировский Гамлет гибнет в грациозном картинном бою, эффектно пронзенный отравленным острием шпаги, то на русской земле законы ренессансного театра не действуют. Нашего царственного Гамлета убивали зло, исступленно, в пьяном мужицком угаре. Обезображенное тело, прежде чем показать близким, долго приводили в порядок. Сомнительно, что этими господами руководила святая идея спасения отечества от тирании, как они утверждали позже…
Потом о Павле практически забыли. Почти на 100 лет. В конце XIX — начале XX века негласный запрет с этой темы был снят и воспоминания очевидцев и непосредственных участников тех событий наконец увидели свет. Однако новые политические потрясения низвергли российский трон, и имя Павла I вновь было предано забвению.
Конец XX столетия принес очередной всплеск интереса к личности правнука Петра I и прапрадеда Николая II. Многочисленные свидетельства современников, переизданные в последние годы, позволяют понять Павла I как чрезвычайно тонкого, нежного, ранимого, искреннего, честного человека. Попробуйте с этими качествами управлять! Честный политик во все времена — нонсенс. Вас тут же объявят дураком или сумасшедшим. И вы начнете нервничать, добиваясь своего, допускать несправедливости, и невольно впадете в противоречия..
Противоречивость натуры императора Павла I проявлялась буквально во всем. Он был смешон и велик, невероятно силен и катастрофически слаб. Его называли обаятельным и безобразным. Он был страшен в гневе и великодушен в прощении. О нем слагали анекдоты, над ним смеялись, его пародировали, но в то же время его глубоко уважали за честность, справедливость, рыцарское благородство, стойкость. Он умер императором. Только четыре года он был императором и нес Богом данный крест до конца.
Е. И. Лелина
Датировка во всех текстах настоящего издания, где не отмечено особо, дается по старому стилю.
Биографические сведения о мемуаристах помещены в раздел «Указатель имен» (выделены жирным шрифтом).
Часть I Наследник престола великий князь Павел Петрович
Рождение
Из «Записок» Екатерины II:
Во вторник вечером я легла в постель и ночью проснулась от болей. Я разбудила Владиславову; та послала за повивальною бабушкою, которая объявила, что я должна скоро родить… Я очень страдала; наконец на другой день, 20 сентября [1754 г.], около полудня я родила сына. Только что спеленали его, явился по приказанию императрицы [Елизаветы Петровны] духовник ее и нарек ребенку имя Павла, после чего императрица тотчас велела бабушке взять его и нести за собою; а я осталась на родильной постели. […]
В городе и в империи была великая радость по случаю этого события. […]
На шестой день происходили крестины моего сына. Он уже едва было не умер от молочницы; я должна была украдкою наведываться об его здоровье; ибо просто послать спросить значило бы усомниться в попечениях императрицы и могло быть очень дурно принято. Она его поместила у себя в комнате и прибегала к нему на каждый крик его; излишними заботами его буквально душили. Он лежал в чрезвычайно жаркой комнате, в фланелевых пеленках, в кроватке, обитой мехом черных лисиц; его покрывали одеялом из атласного пике на вате, а сверх этого еще одеялом из розового бархата, подбитого мехом черных лисиц. После я сама много раз видала его таким образом укутанного; пот тек у него с лица и по всему телу, вследствие чего, когда он вырос, то простужался и заболевал от малейшего ветра. Кроме того, к нему приставили множество бестолковых старух и мамушек, которые своим излишним и неуместным усердием причинили ему несравненно больше физического и нравственного зла, нежели добра.
Манифест о рождении великого князя Павла Петровича 7 октября 1754 г.:
Объявляем во всенародное известие. Всемогущему Господу Богу благодарение, наша вселюбезнейшая племянница ее императорское высочество великая княгиня Екатерина Алексеевна от имевшего бремени благополучно разрешение получила, и даровал Бог их императорским высочествам первородного сына, а нам внука Павла Петровича, что учинилось минувшего сентября в 20-й день. Того для мы всемилостивейше повелеваем оного вселюбезнейшего нашего внука во всех делах государства нашего, по приличеству до сего касающихся, писать его императорское высочество великий князь Павел Петрович; и о сем всевысочайшем определении публиковать во всем нашем государстве, дабы везде по сему исполняемо было неотменно; о чем сим и публикуется.
Елизавета.
Из «Записок» наставника цесаревича Семена Андреевича Порошина:
1754 года, сентября 20-го дня, пред полуднем в 10-м часу, Всемогущая Божия благодать обрадовала ее императорское величество, нашу всемилостивейшую государыню и всю здешнюю империю младым великим князем, которым Всевышний супружество их императорских высочеств благословил и которому наречено имя Павел.
Сия всеобщая радость объявлена была того же дня двести одним пушечным выстрелом с обеих здешних крепостей…[1]
На другой день поутру отправляемо было всем духовенством торжественное благодарное молебствие.
25-го числа сего месяца действительно совершилось крещение высокоупомянутого новорожденного великого князя. […]
Потом следовало пение: Тебя, Бога, хвалим, и в то же время производилась с здешних одних крепостей пушечная пальба тремястами одним выстрелом и при всех церквах был колокольный звон.
Родители
Петр III
Из переписки государственного канцлера Михаила Илларионовича Воронцова:
Бывший… император от народа ненавидим был.
Из памфлета историка и публициста Михаила Михайловича Щербатова «О повреждении нравов в России»:
Взошедши сей государь на всероссийский престол без основательного разума и без знания во всяких делах, восхотел поднять вольным обхождением воинский чин. Все офицеры его голстинские, которых он малый корпус имел, и офицеры гвардии часто имели честь быть при его столе, куда всегда и дамы приглашались. Какие сии были столы? Тут вздорные разговоры с неумеренным питием были смешаны, тут после стола поставленный пунш и положенные трубки, продолжение пьянства и дым от курения табаку представляли более какой-то трактир, нежели дом государский; коротко одетый и громко кричащий офицер выигрывал над прямо знающим свою должность. Похвала прусскому королю, тогда токмо переставшему быть нашим неприятелем, и унижение храбрости российских войск составляли достоинство приобрести любление государево.
Из «Записок» литератора Андрея Тимофеевича Болотова:
С самого малолетства заразился он многими дурными свойствами и привычками и возрос с нарочито уже испорченным нравом. Между сими дурными его свойствами было, по несчастию его, наиглавнейшим то, что он как-то не любил россиян и приехал уже к ним властно, как со врожденною к ним ненавистью и презрением; и как был он так неосторожен, что не смог того и скрыть от окружающих его, то самое сие и сделало его с самого приезда уже неприятным для всех наших знатнейших вельмож, и он вперил в них к себе не столько любви, сколько страха и боязни.
Из переписки Екатерины II:
Нет ничего хуже, как иметь мужем ребенка, я знаю, чего это стоит, и принадлежу к числу тех женщин, которые думают, что мужья, которые не любимы, всегда виноваты в том сами, потому что поистине я бы очень любила моего мужа, если бы к тому представилась возможность и если бы он был так добр, чтобы пожелать этого.
Из «Записок» Екатерины II:
Петр Третий совершенно потерял рассудок, которого у него и без того было немного; он шел напролом, хотел распустить гвардию, вывести ее за город и заменить голштинцами, хотел ввести иное вероисповедание, жениться на Елизавете Воронцовой, а со мной развестись и засадить меня в тюрьму.
Из «Записок» Екатерины Романовны Дашковой, сподвижницы Екатерины II:
Нельзя сказать, чтоб он был совершенно порочен, но телесная слабость, недостаток воспитания и естественная наклонность ко всему пошлому и грязному, если б он продолжал царствовать, могли иметь для его народа не менее гибельные результаты, чем самый необузданный порок.
Екатерина II
Из «Записок» Екатерины Романовны Дашковой:
Я думаю, что никто в мире не обладал в равной степени с Екатериной быстротой ума, неистощимым разнообразием его источников и, главнее всего, прелестью манеры и умением скрасить самое обыкновенное слово, придать цену самому ничтожному предмету.
Из «Записок» немецкого драматурга Августа Коцебу:
Екатерина II была велика и добра; но монарх ничего не сделал для потомства, если отравил сердце своего преемника. Многие, скорбевшие о Павле, не знали, что, в сущности, они обвиняли превозносимую ими Екатерину.
Из памфлета Михаила Михайловича Щербатова «О повреждении нравов в России»:
…императрица, яко самолюбивая женщина, не только примерами своими, но и самым ободрением пороков является, желает их силу умножить; она славолюбива и пышна, то любит лесть и подобострастие… любострастна и совсем вверяющаяся своим любимцам, исполнена пышности во всех вещах, самолюбива до бесконечности и не могущая себя принудить к таким делам, которые ей могут скуку наводить; принимая все на себя, не имеет попечения о исполнении, а наконец, так переменчива, что редко и один месяц одинакая у ней система в рассуждении правления бывает.
Из дипломатической депеши английского посланника Джеймса Гарриса от 2 февраля 1778 г.:
Самые сильные враги Екатерины — лесть и ее собственные страсти; она никогда не остается глуха к первой, как бы она ни была груба.
Из переписки светлейшего князя Григория Александрович Потемкина:
Она не просит ничего, кроме похвал и комплиментов; доставьте ей их, а она взамен доставит вам все силы своей империи.
Воспитатели
Из оды Александра Петровича Сумарокова «Наследник и его воспитатели»:
Людей столь мудрых и избранных И Павлу в наставленье данных С почтением Россия зрит.Никита Иванович Панин
Из «Записок» Федора Николаевича Голицына, состоявшего камергером при дворе Екатерины II:
Он был с большими достоинствами, и что его более всего отличало — какая-то благородность во всех его поступках и в обращении ко всему внимательность, так что его нельзя было не любить и не почитать: он как будто к себе притягивал. Я в жизни моей мало видал вельмож, столь по наружности приятных. Природа его одарила сановитостью и всем, что составить может прекрасного мужчину. Все его подчиненные его боготворили…
Из «Жития графа Панина» Дениса Ивановича Фонвизина:
…муж истинного разума и честности, превыше нравов сего века! Твои Отечеству заслуги не могут быть забвенны… Титло честного человека дано было ему гласом целой нации. Ум его был чистым, и проницание глубокое. Он знал человека и знал людей. Искусство его привлекать к себе сердца людские было неизреченное… В обществе был прелюбезен. Разговор его был почти всегда весел: шутки приятны, образны и без всякой желчи. Доброта сердца его была беспримерная; к несчастьям сострадателен, гонимым заступник, к требующим совета искренен. Сердце его никогда мщения не знало. Самые неприятели его всегда устыжаемы были кротким и ласковым его взором. Бескорыстие было в нем соразмерно щедрости… С содроганием слушал он о всем том, что могло нарушить порядок государственный…
Из «Записок» офицера Конной гвардии Николая Александровича Саблукова:
Граф Никита Иванович Панин, один из знаменитейших государственных людей своего времени, пользовавшийся уважением как в России, так и за границей за свою честность, высокую нравственность, искреннее благочестие и отличное образование, был воспитателем Павла.
Из дневника Семена Андреевича Порошина:
22 сентября [1764 г.]. День коронования ее императорского величества… Того дня в зале был большой фигурный стол. Его высочество с государынею изволил кушать на троне, где во все время стола стоял у него за стулом и раскладывал ему кушанье его превосходительство Никита Иванович Панин.
Из воспоминаний церемониймейстера павловского двора Федора Гавриловича Головкина:
Его [Павла Петровича] воспитание было поручено графу Панину, впоследствии министру иностранных дел, приобретшему во время своего посольства в Швеции репутацию даровитого дипломата. Этот выбор делал честь как императрице, так и графу Панину, ибо последний принял участие в заговоре, посадившем ее на престол, с условием, что она, до совершеннолетия великого князя, примет на себя только регентство. Было ли поведение гувернера последствием его добродетели или же его честолюбия — во всяком случае надо было твердо верить в его честность, рассчитывая на то, что принесенная им в конце концов присяга заставит его отречься от замысла, который должен был возвести так высоко его счастье и славу.
Из «Записок» Августа Коцебу:
Когда престарелый граф Панин, руководитель его [Павла] юности, лежал на смертном одре, великий князь, имевший к нему сыновнее почтение, не покидал его постели, закрыл его глаза и горько плакал.
Священник о. Платон
Из «Записок» Августа Коцебу:
Он был муж по сердцу Божию, а народ окружал его, как святыню.
Из дневника Семена Андреевича Порошина:
20 сентября [1764 г.]. День рождения его императорского высочества: минуло десять лет. Поутру отец Платон говорил его высочеству в покоях его небольшое поздравление, весьма разумно сложенное. Потом пошли к ее величеству на половину, оттуда за ее величеством к обедне. По окончании божественной службы говорил отец Платон проповедь на тему из чтенного Евангелия: в терпении стяжите души ваша. Оной проповедью ее величество приведена была в слезы, и многие из слушателей плакали, когда проповедник на конце предлагал о терпении ее величества в понесении трудов для пользы и безопасности отечества, о успехах его высочества в преподаваемых ему науках и о следующей оттуда надежде российской.
Из «Записок» Никиты Ивановича Панина:
Какие он здравые мысли, какую здравую голову имеет. Дай Бог только, чтоб этот человек духовный у нас не испортился, обращался между прочими, в числе которых всяких довольно.
Семен Андреевич Порошин
Из дневника Семена Андреевича Порошина:
Я как честный человек нелицемерно уверяю, что при всех моих с его императорским высочеством [наследником Павлом Петровичем] обращениях и разговорах единственно всегда пред глазами своими имел я намерение, чтобы вкоренить в нежное его сердце любовь к российскому народу, почтение к истинным достоинствам, снисхождение к человеческим слабостям и строгое последование добродетели, отнять во многих случаях предубеждения, почитаемые от легкомысленных за непреоборимые истины, и, сколько можно, обогатить разум его разными полезными знаниями и сведениями. К сему все мои силы и все способности посвящены были. Был при его императорском высочестве почти безотлучно, дабы не упустить ни одного случая к оному, как мне казалось, обществу небесполезному намерению, и лишал себя для того бесчисленных забав и увеселений, к коим зовут меня и лета мои, и мои обстоятельства. […]
…неприятно, когда человек с усердием и с неусыпными трудами наилучшее и наисущественнейшее из нужных учений выбирая предложить старается, а учащийся, нимало тому не прилепляясь, совсем в дело не входит и о мельчайших безделках между тем помышляет. Но чего в таких нежных летах переменить или по крайней мере поправить нельзя? Я сам перед собою извиняюсь, что отступил в краткой сей рефлекции, разгорячась несколько.
Образование
Из дневника Семена Андреевича Порошина:
1764 г.
28 сентября. За чаем зашел у нас разговор о мешанин чужестранных слов в язык свой. Тут весьма остроумно сказал государь, что иные русские в разговорах своих мешают столько слов французских, что кажется, будто говорят французы и между французских слов употребляют русские. Также говорили, что иные столь малосильны в своем языке, что все с чужестранного от слова до слова переводят… […]
29 сентября.…В исходе осьмого часа сели ужинать. Тут в разговорах между прочим доносил я его высочеству, какое скаредное и болотистое место там было, где ныне прекрасная улица, что Большой Морскою называется. Потом зашла речь о строениях и о дорогах. Я его высочеству рассказывал о крепости старинных зданий, о Аппианской дороге в Италии, о канале Лангедокском, о нашем Ладожском и как у нас при государе Петре Великом, его прадеде, за крепостью в строении и за обжигом и приготовлением кирпича крепко смотрели. Откушавши, попрыгал несколько его высочество и лег опочивать. […]
30 сентября.…часу в четвертом в половине сел учиться. У меня очень хорошо учился; начал вычитание долей. Сего дни при учении у меня сам его высочество изволил сделать примечание, что, когда неравное число или нечетное вычтешь из числа равного или четного, остаток всегда будет нечет. Его высочеству и прежде неоднократно сему подобные острые примечания делать случалось. Если б его высочество человек был партикулярный и мог совсем предаться одному только математическому учению, то б по остроте своей весьма удобно быть мог нашим российским Паскалем. Государь великий князь был бы в математике ныне гораздо далее, потому что прежде меня еще задолго начал арифметику… Я стараюсь его высочеству показать причину и основание каждого действия, чем рассуждение весьма острится. В сие и сам он весьма охотно вникает и с большой легкостью пройденное на мысль себе приводит.
…В осьмом часу сели ужинать. Его высочество изволил рассказывать мне о купленной для него библиотеке у министра нашего при датском дворе барона Корфа. Сия библиотека состоит из тридцати шести тысяч книг. […]
1 октября. У нас за столом сего дня говорили о представленной в Москве кавалерами трагедии и о балете, также рассуждали и вообще о театре. После стола тотчас изволил его высочество пойтить в парадный свой зал, куда принесен был сделанный по размеру совсем оснащенный корабль, длиною в 15 футов [около 4,5 м]: делан оный под смотрением корабельного мастера Качалова и подмастерья Никитина. Корабль показывал его высочеству его превосходительство г-н адмирал Семен Иванович Мордвинов. Порезвился несколько его высочество и в половине четвертого часа сел учиться. У меня и сего дня весьма хорошо учился. После учения изволил его высочество пойтить сам-друг со мною в зал к оному кораблю. Подле него стояла модель крепости ораниенбаумской. Я сказал его высочеству, что вот две крепости, сухопутная и крепость морская. Его высочество, тотчас перехватив у меня, изволил говорить, что я то с языка у него сорвал, что он хотел сказать то же самое. Потом изволил спросить меня: а кто выдумал строить сухопутные крепости? На сие доносил я его высочеству, что строение крепостей тогда началось, как начались между людьми раздоры: раздоры тогда начались, как в людях завелась ненависть: ненависть завелась тогда, как родились страсти, а страсти родились с человеком. При том напоминал я, чтоб его высочество тогдашних крепостей не изволил представлять себе такими, какову изволит видеть эту ораниенбаумскую; но что тогдашние крепости против этой были клетки: и что как укрепления от времени до времени переменялись, о том буду иметь честь подробно предложить, когда станем трактовать о фортификации. […]
8 октября. …доносил я его высочеству, сколько честных людей прежде сего от Тайной канцелярии пострадало и какие в делах оттого остановки были. Сие выслушав, изволил великий князь спрашивать: Где же теперь эта Тайная канцелярия? И как я ответствовал, что отменена, то паки спросить изволил: Давно ли и кем отменена она? Я доносил, что отменена государем Петром Третьим. На сие изволил сказать мне: Так поэтому покойный государь очень хорошее дело сделал, что отменил ее. Я ответствовал, что, конечно, много то честным людям сделало удовольствия и что многие непорядки отвращены тем. Тут изволил его высочество вспомнить о деле Мировичевом[2] и просил меня, чтоб я рассказал ему о нем подробно: однако я повторил ему только то, что он знал уже, и начал другой разговор, не признав за потребное много о том распространяться.
Одевшись, изволил приказать его высочество принесть вчерашнюю гаубицу и палил из нее. При сем разговорились мы о франкфуртской баталии[3]. Рассказывал я его высочеству, сколько мог припомнить, как оное происходило. Рассуждали наконец, какое от войны бывает кровопролитие и как бесчеловечно и безответно пред Богом поступают те государи, кои заводят оную без всякой необходимости, из одного только своего честолюбия и из корысти. […]
11 октября.…Потом родился разговор о политике. Его превосходительство Никита Иванович [Панин] рассуждал, что легко может статься, что еще до окончания нынешнего века протестантского закона цесарь будет на римском престоле; также что саксонского дома курфирсты лютеранскую веру примут, хотя в таком случае и потеряют надежду к польской короне. Государь великий князь шутя к тому сказать изволил: Так может уж и то статься, что лет чрез сто и сам Папа лютеранского закона будет. […]
12 октября. Государь изволил проснуться, седьмого часа было три четверти… Одевшись, изволил сесть за ученье. Как в истории дошло до осады города Сиракузы и при том рассказывано было, что во время оной осады Архимед машинами своими и другими изобретениями причинял великий вред осаждающим, то изволил сказать его высочество: Так поэтому Архимед великий математик был? На сие молвил я его высочеству, что Архимед удивительную имел способность к математике и что оттого и ныне хороших математиков называют племянниками Архимедовыми.
Его высочество… изволил говорить, как ему понравился сделанный для письма из красного дерева стол, который [видел] у его превосходительства Никиты Ивановича; при том изволил сказывать, что оный стол делан здесь в Адмиралтействе русскими ремесленниками и что Никите Ивановичу лучше еще нравится, нежели тот, который привезли для него из Франции. После сего молвил великий князь: Так-то ныне Русь умудрися! Я говорил на то его высочеству, что ныне у нас много весьма добрых мастеровых людей; что все это заведения его прадедушки блаженной памяти государя Петра Великого; что то, что им основано, можно бы довесть и до совершенства, если б не пожалеть трудов и размышления.
Посем разговорились о городе Киле[4]. Сказывали тут, что весь оный столичный город не больше пространством, как здешний сад летнедворский. Я, пошутя несколько над сею столицею, говорил, что если туда кому ехать, так разве затем, чтоб поесть хорошенько устриц, а другой причины не сыщешь. После сего говорил я о Твери, какой это со временем прекрасный город будет, и вспомнил, что его высочество заранее уже маленьким Петербургом назвать его изволил. Государь сказал тут: Как выстроится Тверь, так мне она милее будет, нежели все немецкие города.
После ученья принесли эстампы под титулом «Galerie agreable de tous les peuples du monde[5]». Оная книга состоит в двадцати пяти томах, и все что ни есть в свете знатные города, крепости, увеселительные дома в планах и в фасадах, також и разных народов одежды там представлены. Взявши тот том, где были изображения городов и одежд российских, польских, шведских и норвежских, рассматривал я долго с его высочеством. В сие время пришел его превосходительство Никита Иванович (изволил тут же сесть и смотреть). Его превосходительство, смотря на изображения здешних мест и обычаев, рассуждал, как много у иностранных писателей в рассуждении сего погрешностей; что по большой части пишут наугад и по неверным сказкам; что сожалетельно, что сами мы о исправлении оных ошибок труда не прилагаем и не делаем верных и обстоятельных всему своему описаний. После сего изволил его высочество смотреть книгу о Португалии и Ишпании. […]
15 октября. После стола велел я принесть эстампы о походах французского короля Людвига XIV, об осадах, о баталиях и смотрел их с его высочеством. […]
17 октября.…Потом изволил его высочество сесть со мною писать нарочно дурным складом, совсем без пунктуации и с пунктуациею вздорною… После сего рассуждения у нас были, как дурно не знать языка своего и силы в штиле. […]
18 октября. Его высочество изволил проснуться, шестого часа было три четверти. За чаем разговаривал я с ним о России, как она пространна и какие сокровища в себе заключает; что его высочеству надобно стараться обо всем, что до нее касается, иметь подлинное подробное и основательное сведение, дабы потому узнать, какие в ней есть заведения, и яснее усмотреть средства и удобности к содержанию того, чего нет еще. […]
20 октября.…Потом зашла речь о идолопоклонниках. Я его высочеству рассказывал, как у нас в Казанской и Нижегородской губернии живут чуваши, мордва, вотяки и черемисы, какие имеют обычаи, как одеваются и проч. Сие мне не только по чтению, но и по тому известно, что я сам в тех местах бывал.
…Наконец пришло мне кстати и то его высочеству весьма сильно выговорить, что ему о имени блаженной памяти государя Петра Великого всегда с почтением воспоминать надобно, потому что сие имя во всем свете, а особливо в российском народе, любезно, славно и почтенно, и что, вспоминая о нем с почтением, может его высочество к себе возбудить тем почтение и любовь; что сверх того государь Петр Великий родной ему прадед. Сими словами, кои я нарочно говорил твердо и важно, весьма государь великий князь был тронут. […]
22 октября. Государь изволил проснуться в шесть часов. Одевшись, изволил учиться по-обыкновенному. С его преподобием отцом Платоном заключил сего дня Евангелие. Прочитывая последнее шестьдесят седьмое зачало в евангелисте Иоанне, спрашивал его высочество у отца Платона: Для чего Спаситель наш вопрошал у апостола Петра, любит ли он его, и как он сказал, что любит, то поручил ему паству свою? Сие изъясняя, благоразумный учитель заключил, что тем и государям повелевается любить народ свой, врученный от Бога, что народ есть паства, государь пастырь и проч.
…Окончивши учение, изволил его высочество пойтить в опочивальню и, идучи, изволил сказать: Хорошо учиться-то: всегда что-нибудь новенькое узнаешь. […]
26 октября.…Потом зашла речь о машинах. Его высочеству поглядеть захотелось домкрат; и я оный после ужина в чертежах показывал и вкратце изъяснял, как он делается и к чему употребляется. […]
27 октября.…Потом читал я его высочеству приношение в грамматике г-на Ломоносова. Оное приношение весьма хорошо сложено и может подать высокое мнение о языке российском и разжечь любовь к российским музам. Его высочество изволил слушать со вниманием…
После обеда зашла у нас речь о крестьянском житье, и я его высочеству рассказывал, как живут наши крестьяне, как они между собою в невинности увеселяются и какие между ними есть разные обряды. Его высочество прилежно просить меня изволил, чтоб я оное рассказал ему подробно… […]
1 ноября. Государь изволил встать в семь часов. Одевшись, сел за положенные учения. Рассматривая генеральную карту Российской империи, сказать изволил: Эдакая землище, что, сидючи на стуле, всего на карте и видеть нельзя, надобно вставать, чтоб оба конца высмотреть. Я весьма сожалел, что о России, кроме имен городов, никакого почти государю изъяснения не преподается. […]
2 ноября. За обуваньем прочел я его высочеству из Вольтеровой истории о государе Петре Великом[6] два места. Первое, где г-н Вольтер говорит, что Карл XII достоин быть в армии Петра Великого первым солдатом; другое место, где Вольтер рассуждает, что надобно, чтобы Россия еще имела Петров Великих, дабы все в ней заведения приведены были к совершенству и она порядочно выстроенными городами и людством жителей так бы изобиловала, как прочие европейские государства… Потом подробно рассуждал я, как его высочеству поступать надобно, чтобы заслужить истинную славу и будущих родов благодарность и почтение. Я весьма доволен был вниманием, с каковым его высочество слушать меня изволил. […]
6 ноября. Севши за стол, разговаривали мы между прочим, как дурна красота без разума и как, напротив того, она усугубляется и от часу более к себе привлекает, ежели при ней есть и разум. […]
16 ноября.…прочел я его высочеству в летописице г-на Ломоносова краткое изображение, каких свойств был государь Петр Великий, его прадед. Приметя, что изволил слушать охотно, прочел я то же еще два раза. […]
20 ноября. За обедом разговаривали долго о химии и о исканьи философического камня, о продолжении жизни человеческой и тому подобном. […]
26 ноября. Припомнил я государю и о ужине в день тезоименитства ее величества, толкуя, что всегда, будучи в публике, надобно ему памятовать, что всех глаза на него смотрят; что все по движениям его, по разговорам, по взглядам, по ухваткам, по поступкам заключают о его нраве и меряют по тому будущую свою надежду. […]
27 ноября. Во время убиранья волос читал я его высочеству Вольтерову историю о государе Петре Великом, приключения 1706, [1]707 и [1]708 годов. Очень я доволен был вниманием его высочества при сем чтении. […]
1 декабря. После ученья с танцовщиком Гранже твердить изволил его высочество роль свою из балета. […]
5 декабря. Возвратясь к себе, изволил государь сесть со мною у учительного стола и просил меня, чтоб я почитал ему вчерашнюю книжку. Читал я его высочеству главы о науках, о пользе учения, о почтении ученым людям и о библиотеках… Разговаривали мы о поединках. При том говорил я государю, что ни в котором государстве они не дозволены; что во всех регламентах положена тому смертная казнь, кто на поединке убьет своего соперника; что особливо в немецкой земле часто они бывают за самые безделицы, по одному только ложному понятию о честолюбии; что со всем тем бывают иногда случаи, где подлинно по принятым нашим мнениям честь обязывает вынуть шпагу; что ныне везде уже поединки не в таком обыкновении; что люди стали уже поумнее, поосновательнее и попросвещеннее. Его высочество, выслушав сие, спросить изволил: Как-то мне быть, как дойдет случай выйтить на поединок? Говорили все мы, сколько нас было, что великому князю, конечно, такой необходимости никогда не будет: с равным себе встретиться и так жестоко поссориться, конечно, ему не случится, с вышним себе никогда не увидеться, а нижнему или подчиненному прощать надобно, когда сделает ему досаду, великодушие того требует. […]
8 декабря. Мне кажется, что я нигде не упоминал еще о знаках своих, которые я в математических его высочества тетрадях ставлю. Когда очень хорошо изволит учиться, то положен у меня знак NB1; когда хорошо, NB; когда посредственно, +; когда дурно, 0. Такие значки нарочно завсегда я ставлю, чтоб тем побудить великого князя к большей прилежности, когда он видит, что и по прошествии некоторого времени знать будет можно, как он учился. Примечаю, что и не излишняя взятая мною сия предосторожность. По окончании учения обыкновенно изволит дожидаться и заглядывать, какой я знак поставлю. […]
12 декабря. Потом читал я его высочеству Вольтерову историю о государе Петре Великом, о трудах его и установлениях в 1718 году, по смерти царевичевой[7]. Дело царевичево совсем пропустил я и не читал великому князю. […]
16 декабря. Его высочество изволил проснуться в семь часов. Одевшись, изволил пойтить в учительную комнату и смотреть там со мною из окошка, как Измайловские[8] мимо на караул маршировали. Между тем черни человек двадцать скопилось перед окном и глядели на его высочество. Государь, приметя сие, изволил сказать мне: Я чаю, теперь они обо мне рассуждают. Хотели бы они, думаю, знать, о чем я стоя с тобою разговариваю. Говорил я государю, что весь народ жаден его видеть и сердечно его любит, что, конечно, желает и знать, о чем он изволит и разговаривать, дабы тем более еще радоваться. Надобно только стараться, продолжал я, чтоб поступки, упражнения и рассуждения ваши были всегда такие, чтоб служили к народной радости. А народ все ведает, что у вас ни происходит.
Можете сие некоторым образом из того заключить, что я многое знаю, что во младенчестве вашем у вас делалось, хотя тогда нога моя у вас в комнатах не бывала; все доходило до меня по слухам, кои тогда по городу носились. Желание народа такое, присовокупил я нарочно мужичьим наречием, «штобы Павел Петрович был в свово прадедушку царя Петра Алексеевича». Великий князь, слушаючи прилежно, сказать на сие изволил: Не дурного и хотят они. […]
1765 г.
16 января. После обеда такоже все время его высочество очень был весел. Изволил поскакивать и кое-чем забавляться. Вечер дню не соответствовал; пошли мы на куртаг[9]. Ее величество [Екатерина II] изволила там присутствовать и играть в пикет с чужестранными министрами и с некоторыми из здешних знатных. Его высочество изволил стоять тут же в кругу. Сперва весел был: разговаривал с министрами и из наших с князем Петром Ивановичем Репниным, с вице-канцлером [Александром Михайловичем Голицыным], с графами Петром и Иваном Григорьевичем Чернышевыми.
Наконец скучилось ему. Зачал подзывать Никиту Ивановича [Панина] домой. Его превосходительству хотелось дождаться того, как государыня изволит ретироваться, и для того отказывал ему. Зачал великий князь с ножки на ножку переступать, помигивать и смотреть на плафон, чтоб скрыть свое нетерпение. Между тем очень оно видно было, и собирающиеся на глазах тучки еще более оное показывали. Никита Иванович принужден был идтить с его высочеством. Как скоро добрались мы до своих пределов и вошли в желтую комнату, остановились все. Никита Иванович приказал с великого князя снять тут шпагу и чтоб он далее никуда не ходил. Дав ему наижесточайший выговор, оборотился к нам и сказал, чтоб мы на сей вечер великого князя все оставили и никто не говорил бы с ним ни слова. […]
17 января. После обеда, в четвертом часу, изволил его высочество сесть за учения. У меня очень хорошо учился. Окончив свое дело, изволил говорить мне о вчерашнем своем поступке, что он весьма сожалеет, что оное сделалось, что показалось ему поздно и скучно; не мог преодолеть себя, изволил просить у меня наигорячнейшим и повереннейшим образом совета, как бы сделать, чтоб таковых, как сам он выговаривать изволил, проказ вперед не было. Отвечал я его высочеству: «Иного способа я, милостивый государь, не знаю, как только что когда в публике придет к вам такое нетерпение и такая скука, то дайте тотчас волю вашему рассуждению: представьте себе, что полчаса или четверть часа разницы никакой почти не делают; что вы от того ни занеможете, ни похудеете; что все на вас смотрят и, приметя такое нетерпение и малодушие, после называть станут ребенком и никакого почтения иметь не будут. Скажут, что-де его высочеству одиннадцатый год уже, а ведет себя как пятилетний мальчик: знать что вперед надежды на него не много. Сверх того, милостивый государь, — продолжал я, — вы уже чрез искусство знаете, что всякий раз, как вы такой поступок сделаете, ужинаете вы позже и опочивать ложитесь гораздо позже, и все на вас сердятся и показывают свое неудовольствие, и так вместо мнимого вами выигрыша изволите видеть явный во всем проигрыш и весьма худые следствия. Я уверен, что когда ваше высочество во время первого к вам приступа нетерпения оными рассуждениями вооружиться изволите, то, конечно, неприятеля далеко отгоните, и никогда мы вас от него побежденным не увидим». Выслушавши сию проповедь со вниманием, бросился ко мне его высочество и, целуя, изволил уверять меня, что он не преминет предложенные от меня наставления при первом случае произвести в действо и употребить в свою пользу. […]
24 февраля. Перед обедом изволил его высочество ходить со мною в парадные свои комнаты смотреть принесенный из Летнего дворца корабль. Оный корабль принесен был на руках его высочества гребцами. Гребцы все ребята видные, и государь весьма любовался ими. Не оставил я присоединить к тому и свои похвалы, дабы его высочеству с хорошей стороны представить народ российский. […]
28 февраля. Читал я его высочеству об ордене мальтийских кавалеров. Изволил он потом забавляться и, привязав к кавалерии своей флаг адмиральский, представлять себя кавалером мальтийским.
…Зашла… речь о трудах, в коих государю обращаться всегда должно. Его высочество между прочим молвил тут: Что ж, ведь государю-та не все-таки трудиться. Он не лошадь, надобно и отдых, также иногда и свои увеселения. На сие говорил я великому князю, что никто того не потребует, чтоб государь никогда не имел отдохновения, и для того, что сие сверх человечества, а государь такой же человек, как и прочие; только что он возвышен от Бога в сие достоинство не для себя, а для народа; что для того беспрестанно пещись и стараться должен всеми силами о народном благосостоянии и просвещении; что увеселения и удовольствия его в том состоять должны, что он ведает и представляет себе живо, коликое множество его подданных от его трудов и попечений наслаждаются благополучиями и несчетными довольствами, и государство цветущим своим состоянием, в которое от его трудов приходит, сохраняет имя его с праведною славою до позднейшего потомства. […]
2 марта. После обеда учился государь, как обыкновенно. У меня весьма хорошо дело свое сделал. Часу в пятом приходил к нам его превосходительство Никита Иванович. Тут между прочим опять возобновилась материя о геометрии. Г-н Остервальд говорил, что Эпинус намерен с его высочеством начать оную науку. У меня уже написана она, и я представлял о том Никите Ивановичу. Приказал его превосходительство, чтоб я к г-ну Эпинусу съездил, сказал ему о том его именем и навсегда бы с ним постановил, каким порядком впредь у нас пойдет его высочества математическое учение. Ездил я к г-ну Эпинусу, был у него часа с два и постановил следующий порядок: по окончании арифметики буду я предлагать государю великому князю геометрию теоретическую и практическую, потом фортификацию и артиллерию и начальные основы механики и гидростатики, наконец, генеральные правила о тактике. Г-н Эпинус ныне проходить будет с великим князем физику, независимо от математики; как же скоро от меня сведает, что его высочество довольно уже тверд в геометрии, то начнет с ним математическую часть физики, пространную механику, правила оптики и астрономии, основываясь на моей геометрии. При том г-н Эпинус покажет его высочеству и алгебру. Сие пересказал я и его превосходительству Никите Ивановичу, и он, весьма похваля, опробовать изволил все оное сие расположение. […]
13 июня. Я зачал сего дня с его высочеством геометрию в том намерении, чтоб он узнал дефиниции геометрические и начерчение фигур, пока окончит арифметику. А потом начну с ним порядочно геометрию с доказательствами, учреждая все по его состоянию и охоте. В то время как слушал государь сегодня моих лекций, был жестокий гром и пресильный дождь. Его высочество робел несколько и спрашивал меня, думаю ли я, чтоб сегодня страшный суд мог случиться? […]
21 июля. После учения долго смотреть изволил, как шелковые черви работы свои производили. Ящичек с оными червями, отыканный шелковичными деревьями, принес вчерась его высочеству Иван Иванович Бецкой. […]
25 июня. Его превосходительство Никита Иванович сказывал между прочим за столом о наследном принце шведском, что он на пятнадцатом году своего возраста окончил уже все назначенные для него учения; что на одиннадцатом году экзаменован был в математике, в истории и в географии; что часа три стоял, как его спрашивали; что как после сел за стол кушать сам-друг со своим гофмейстером и сей его спрашивал, не прикажет ли привесть музыкантов, что его высочество утомился и тем поразвеселиться может, то принц отвечал ему, что он музыки слушать не хочет, а чтобы для увеселения заставил он кого вслух читать Вольтерову «Генриаду». Наш его высочество государь цесаревич во время сей повести сидел смирнешенько и, как называется, ни кукукнул. Мне весьма приятно было, что Никита Иванович сказал сию сказочку, которая великому князю весьма послужить может побуждением в науках. Я не преминул после еще повторить ее государю цесаревичу со своими кое-какими комментариями. […]
27 июля. После стола сего вечера прекрасная была сцена. У его высочества зашел спор о науках с князем Куракиным. Не помню, написал ли я где о Куракине, что он живет у Никиты Ивановича и почти каждый день у его высочества и обедает, и ужинает… Куракин спрашивал его из логики. Его высочество отвечал, что он логики не знает. Спрашивал со своей стороны Куракина из геометрии и из астрономии. Куракин говорил, что он сих наук не знает. Напоследок согласились они об истории и о географии, о которой сказали, что оба знают сего. По многим один другому вопросам положили, чтобы один задал три вопроса и другой три вопроса, и ответами бы на сии вопросы решить о знании их в истории и в географии. Тимофей Иванович Остервальд и я были медиаторами и старалися умерять их жар, до коего в спорах очень часто у них доходило. Что касается до тех трех вопросов, то его высочество на один только вопрос Куракину не мог ответствовать, а Куракин на все три не ответствовал; итак, остался побежденным. Победитель с крайней радостью пошел в опочивальню и, вместо лаврового венца надевши спальную шапочку и колпак, изволил с великим удовольствием лечь в постель… […]
4 августа. Говорили мы о брачном состоянии. Сказывал я его высочеству про одного человека, о коем знал, что весьма хорошо жил с своею женою, любили друг друга и угождали друг другу, как бы самые страстные любовники. Говорили тут, что такая горячность весьма редка ныне между мужем и женою. […]
5 августа. Как учился его высочество сего утра у отца Платона и его преподобие, говоря, что человек создан по образу и по подобию Божию, говорил, что иные заблуждение такое имеют, что ищут оного подобия в теле, а не в душевных качествах, то его высочество отвечал на сие весьма замысловато: Таким, ком так думают, можно бы тотчас доказать, что они неправильно думают. Люди все лицом и видом так разны, так могут ли они походить на Бога, который есть един? […]
8 августа. Великий князь… резвиться изволил с князем Куракиным. Поразмолвились они как-то, и его высочество пришел к Никите Ивановичу жаловаться. Нашлось, что его высочество сам виноват, и обвинен он был. Досадно то было великому князю, так что с досады слезы у него навернулись. Никита Иванович вместо наказания приказал его высочеству, чтоб шел в опочивальню и никто бы с ним не разговаривал. Вошел потом и сам за ним в опочивальню, журил его; и как между прочим сказал, что он всем велит отойти от его высочества и быть при нем одному только самому глупому лакею, то великий князь почти в голос заплакал. Переплакался, однако ж, и наконец все успокоилось.
Учился его высочество у меня изрядно. Как между прочим рассказывал я ему, какие в древности были славные геометры и как сия наука время от времени в приращение приходила, то изволил государь цесаревич спросить: Ныне кто ж самый большой математик? Донес я его высочеству об Эйлере. Великий князь изволил тут сказать: А я так еще знаю кого-то, отгадай! И как я говорил, что не знаю, про кого думать изволит, то изволил сказать мне: Есть некто Семен Андреевич Порошин да ученик его Павел Петрович Романов, разве это не математики? […]
12 сентября. Сегодня после обеда его высочество не учился, для того что положено быть экзамену в комнатах у ее величества. Часу в шестом приехал его преподобие отец Платон, и потом пришел его превосходительство Никита Иванович. Пока не пришел его превосходительство, то государь цесаревич, из угла в угол попрыгиваючи, изволил говорить: Ah! que l'attente те fait souffrir![10]; ой, трушу, трушу! Пошли мы наконец к ее величеству. Начался там экзамен. Из парадной опочивальни отворили двери в ту комнату, где ее величество обыкновенно в ломбер играть изволит. Подошли все, кто тут были, к дверям, а иные вошли и в опочивальню. Его высочество изволил стоять; подле него стоять же изволила государыня-родительница; по другую сторону, уступя несколько назад, стоял его превосходительство Никита Иванович, а перед великим князем стоял его преподобие отец Платон и предлагал вопросы. Его высочество весьма хорошо и смело изволил ответствовать. Ее величество с крайним вниманием изволила слушать. Экзамен продолжался три четверти часа. По окончании оного его преподобие отец Платон сказал маленькую речь ее величеству. Государыня изволила благодарить его за учение, а про великого князя сказать изволила: J’ai crû, qu’il serait décontenancé, mats point du toût; il a très bien répondu![11]
Его превосходительство Никита Иванович поднес тут государыне ответы, писанные рукою его высочества, на богословские вопросы отца Платона. В сих вопросах, между прочим, один есть, чтобы доказать примером, как страсти наши против разума воюют. Его высочество изволил написать тут: Например, разум говорит: не езди гулять, дурна погода; а страсти говорят: нет, ничего, что дурна погода; поезжай, утешь нас! Его высочество не из чужих страстей пример себе выбрать изволил! При экзамене были граф Михаил Ларионович Воронцов, граф Александр Борисович Бутурлин и множество придворных. […]
20 октября.…читал я государю цесаревичу наизусть последние строфы в пятой оде покойного Ломоносова. Очень внимательно изволил его высочество слушать и сказать мне: Ужасть как хорошо! Это наш Вольтер. […]
22 октября. После учения, разговаривая… о государе великом князе, говорили мы, что он имеет так называемый esprit géomètrique и justesse d’esprit[12]. И подлинно, когда его высочество не заленится, то провождаемые с ним в учении часы неописанное приносят услаждение: с такою остротою и основательностью вникать изволит.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Павел был одним из лучших наездников своего времени и с раннего возраста отличался на каруселях[13]. Он знал в совершенстве языки славянский, русский, французский и немецкий, имел некоторые сведения в латинском, был хорошо знаком с историей, географией и математикой, говорил и писал весьма свободно и правильно на упомянутых языках.
Здоровье
Из дневника Семена Андреевича Порошина:
1764 г.
27 сентября. Его высочество не картавя не может выговорить тех слов, где есть ра, ро, ры и ру. а в словах, где ре, ри, ря, рю, там рцы выговаривает чисто. […]…ходил я к его превосходительству Никите Ивановичу с докладами о больнице, до которой касающиеся дела мне поручены от его превосходительства. При том изволил рассказывать его превосходительство о сделанной медали на основании Павловской сей в Москве больницы. На одной стороне оной портрет его высочества, так как ее основателя; на другой стороне аллегорическое изображение с надписью: Свобождаяся сам от болезни, о больных помышляет. Его высочество предложил его превосходительству Никите Ивановичу, чтоб завесть оную больницу в то время, как начал оправляться от тяжелой своей болезни, коей одержим был в бытность 1763 году в Москве и которая меня и всех любящих сего надежды полного государя многократно в трепет и обомление приводила[14].
1 октября. Пришедши из комедии, жаловался его высочество горлом. Несколько простудился. Вечер был невесел. […]
23 октября. Его высочество изволил проснуться в шестом часу. Изволил жаловаться, что очень голова болит. […]
27 октября. Государь великий князь изволил встать в осьмом часу. Одевшись, сел было учиться; но вдруг занемог; сделалась дрожь и позевота. Его превосходительство Никита Иванович, пришед в сие время с половины ее величества, приказал великого князя раздеть. Изволил его высочество надеть шлафрок и лечь в опочивальне на канапе. […]
11 декабря. Государь изволил проснуться в седьмом часу. Жаловался, что голова болит, и оставлен часов до десяти в постели… Разговорились мы потом о разделениях его высочества, какие он делает в головной своей болезни. По его системе четыре их рода: круглая, плоская и ломовая болезнь. Круглою изволит называть ту головную боль, когда голова болит у него в затылке; плоскою — когда лоб болит; простою — когда голова слегка побаливает; ломовою — когда вся голова очень болит. […]
1765 г.
19 июля. Его высочество встать изволил в восемь часов. Сели мы чай пить. Приметя я, что у его высочества посинели губы и в лице он был бледен, спрашивал у него, не неможет ли? Но изволил говорить, что здоров. С полчашки чаю выкушавши, признался мне, что у него очень голова болит и что ему тошно. Велел я положить его в постель и послал за лейб-медиком. Между тем несколько вырвало великого князя, стало ему полегче, и заопочивал он. Как проснуться изволил, то гораздо стало полегче… Ввечеру лейб-медик давал его высочеству порошок какой-то. После ужина заопочивал государь часу в десятом. […]
20 июля. Его высочество проснулся часу в пятом. Вырвало его. Послали за лейб-медиком, который, приехавши, дал его высочеству слабительное. […]
5 октября. Еще разговаривали мы, как его высочество ночью бредит. Сие почти всякую ночь с ним случается; и так говорит явственно, как бы наяву, иногда по-русски, иногда и по-французски. Если в день был весел и доволен, то изволит говорить спокойно и весело; если ж в день какие противности случились, то и сквозь сна говорит угрюмо и гневается. […]
2 ноября. Его высочество встать изволил в семь часов. Жаловался, что голова болит. Послали за эскулапиями. Лекарства они не давали, присоветовали только сей день попокоиться. […]
18 ноября. Его высочество проснуться изволил в половине седьмого часа. Жаловался, что голова болит. Как встал, то вырвало его. Медики, приехавши, дали ему какие-то микстуры.
Из высказываний учителя цесаревича Франца Эпинуса:
Голова у него [юного Павла Петровича] умная, но в ней есть какая-то машинка, которая держится на ниточке; порвется эта ниточка, машинка завернется, и конец тут уму и рассудку.
Отрывок из «Слова на выздоровление» наследника (1771) Дениса Ивановича Фонвизина:
Настал конец страданию нашему о, россияне! Исчез страх и восхищается дух веселием. Се Павел, отечества надежда, драгоценный и единый залог нашего спокойства, является очам нашим, исшедши из опасности жизни своея, ко оживлению нашему. Боже сердцеведец! Зри слезы, извлеченные благодарностию за твое к нам милосердие; а ты, великий князь, зри слезы радости, из очей наших льющиеся.
Из рассказов князя Павла Петровича Лопухина, записанных А. Б. Лобановым-Ростовским:
Когда Павел был еще великим князем, он однажды внезапно заболел[15]; и по некоторым признакам доктор, который состоял при нем, угадал, что великому князю дали какого-то яду, и, не теряя времени, тотчас принялся лечить его против отравы. Больной выздоровел, но никогда не оправился совершенно; с этого времени на всю жизнь нервная его система осталась крайне расстроенною: его неукротимые порывы гнева были не что иное, как болезненные припадки, которые могли быть возбуждаемы самым ничтожным обстоятельством. Князь Лопухин был несколько раз свидетелем подобных явлений: император бледнел, черты его лица до того изменялись, что трудно было его узнать, ему давило грудь, он выпрямлялся, закидывал голову назад, задыхался и пыхтел. Продолжительность этих припадков была не всегда одинакова. Когда он приходил в себя и вспоминал, что говорил и делал в эти минуты, или когда из его приближенных какое-нибудь благонамеренное лицо напоминало ему об этом, то не было примера, чтобы он не отменял своего приказания и не старался всячески загладить последствия своего гнева.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Он [Павел Петрович] был чрезвычайно раздражителен и от малейшего противоречия приходил в такой гнев, что казался совершенно исступленным. А между тем он сам вполне сознавал это и впоследствии глубоко этим огорчался, сожалея о своей вспыльчивости; но, несмотря на это, он все-таки не имел достаточной силы воли, чтобы победить себя.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Следовало посоветовать ему [Павлу Петровичу] продолжать лечение у лейб-медика Фрейганга, который каждый месяц в новолуние давал ему слабительное, что очищало его от желчи и имело благотворное действие на его характер. После восшествия его на престол эта последняя диета имела бы еще большее значение и его мнимым друзьям следовало еще больше настаивать на ее продолжении…
Первая любовь
Из дневника Семена Андреевича Порошина:
1 сентября [1765 г.] После стола, как Никита Иванович изволил уйтить к себе, государь цесаревич, стоя у окна, дыхнул на стекло и выписал имя той фрейлины, которая больше всех ему нравится. […]
2 сентября. После обеда… спрашивал Никита Иванович у его высочества: в кого он ныне влюблен? Признавался его высочество, что он влюблен, а в кого, того не сказывал, говоря, что про эту тайну, так как и про все его тайны, я только один ведаю и что он мне изволил [т. е. велел] дать слово, чтобы никому о том не сказывать. Сколько его превосходительство ни спрашивал, однако государь цесаревич поверенности ему в том не сделал. Наконец, говорил Никита Иванович, чтобы он по крайней мере ему сказал: давно ли он влюблен? На сие отвечал его высочество, что в следующем декабре месяце год будет. […]
9 сентября. В ложе между прочим ее величество изволила спрашивать у великого князя, которая ему из актрис лучше всех нравится. Его высочество про молоденькую мамзель Кадиш сказать изволил. Потом государыня спросить изволила, из фрейлин кто ему лучше всех нравится. На сие государь цесаревич ответствовал, что ему все равны. Ее величество смеючись говорить изволила, чтоб он хотя на ухо о том сказал: но его высочество то же ответствовать изволил, что и прежде, а между тем поглядывал на меня… […]
10 сентября. За чаем [его высочество] изволил мне сказывать, как он смущен был вчерась государыниным вопросом и что чуть было не сказано про меня: Извольте, ваше величество, у него спросить; он все знает. […]
25 сентября. Его высочество не имел еще явственного понятия о разности между мужеским и женским полом. Часто о том любопытствует. Но любопытство его доныне малые имело успехи: изволил и сего дня покушаться меня о том спрашивать, но я, конечно, не тот, который бы пред государем цесаревичем когда-нибудь выболтал то, чего не надобно; ответы мои состояли в шутках, кои отнюдь ничего не объясняли… Об одной фрейлине признавался мне его высочество, что он день ото дня ее более любит. Не опровергал я совсем того, однако говорил цесаревичу, что не очень надобно в оные мысли устремляться, дабы они не беспокоили и нужным его высочества упражнениям не препятствовали. […]
3 октября. После учения зашел у нас разговор, что его высочеству теперь уже двенадцатый год. Шутя, говорили, что приспевает время государю великому князю жениться. Краснел он и от стыдливости из угла в угол изволил бегать; наконец изволил сказать его высочество: Как я женюсь, то жену свою очень любить стану и ревнив буду. Рог мне иметь крайне не хочется. Да та беда, что я очень резов. Намедни слышал, что таких рог и не видит и не чествует тот, кто их носит. Смеялись мы много о сей его высочества заботливости. […]
9 октября. После стола пришел к государю цесаревичу граф Григорий Григорьевич Орлов от ее величества звать великого князя на обсерваторию, которая построена вверху над покоями ее величества. Пошел туда его высочество, и государыня быть там изволила. Весь город виден. Сходя оттуда вниз, говорил граф Григорий Григорьевич, не изволит ли его высочество посетить фрейлин. Они живут тут в близости. Государю цесаревичу хотелось туда идтить, однако в присутствии ее величества не знал, что ответствовать. Государыня сомнение решила: изволила сказать, чтобы его высочество шел туда. Никогда повеление с такою охотою исполняемо не было, как сие… У всех фрейлин по комнатам ходили. Возвратясь к себе, изволил его высочество с особливым восхищением рассказывать о своем походе и, кто ни приходил, изволил спрашивать: Отгадай, где я был сегодня? После рассказов вошел в нежные мысли и в томном услаждении на канапе повалился. Подзывая меня, изволил говорить, что он видел свою любезную и что она от часу более его пленяет; потом читали мы Dictionnaire encyclopedique[16]. Его высочество сыскал там слово amour[17] и читал на него изъяснение, которое чтение, однако ж, перервать старались. […]
10 октября. За чаем разговаривали мы о вчерашнем походе к фрейлинам и какие там примечания его высочество сделать изволил… Потом с разными воображениями изволил бегать по желтой комнате и вспоминать о вчерашнем визите. […]
20 октября. Все утро разными аллегориями проговорил со мной о своей любезной и восхищался, вспоминая о ее прелестях… Потом, как оделся, возобновил опять прежнюю материю и спрашивал меня, можно ли ему будет на любезной своей жениться. И говорил, что он чрезвычайно б рад был, если б это могло сделаться.
Отвечал я его высочеству, что до этого еще далеко и чтоб он тогда меня спросить об этом изволил, то я, конечно, дам ему совет, не льстя его прихотям и так как человек честный и прямой его друг. […]
21 октября. С маскарада возвратился его высочество в десять часов… По возвращении между прочих разговоров изволил сказывать его высочество мне одному за поверенность, что как в польском, танцуя шен[18], подавал он руку своей любезной, то сказал ей: Теперь, если б пристойно было, то я поцеловал бы вашу руку. Она, потупя глаза, ответствовала, что это было бы уже слишком. Потом сказала она государю цесаревичу: «Посмотрите, как на вас пристально Бомонтша смотрит» (первая актриса на здешнем французском театре…). Его высочество со страстным движением отвечал ей только: А я на вас смотрю. Вот какова натура! Кажется, никто не учил этому. Как государь цесаревич стал опочивать ложиться и я пошел в маскарад, то просил меня, чтобы я поклонился от него… любезной В[еру]шке[19] и сказал бы ей, чтобы она не подумала, что он руки у нее сегодня не поцеловал из гордости, а для того только, чтобы не нарушить благопристойности. […]
29 октября. За чаем изволил разговаривать со мною о вчерашнем маскараде и сказывал мне, между прочим, какие у него были разговоры с В[ерой] Н[иколаевной]. Он называл ее вчерась червонной десяткой, подавая тем знать, что она многим отдает свое сердце. Она говорила, что одно только имеет и, следовательно, дать его не может более как одному. Государь цесаревич спрашивал у нее: Отдано ли ж сие сердце кому или нет?
И как она сказала, что отдано, то изволил спрашивать: Далеко ли оно теперь? Она сказала, что не далеко. Его высочество изволил спрашивать, что если бы он ее кругом обошел, то нашел ли бы ее сердце? Говорила она, что оно так к нему близко, что и обойтить нельзя и проч. Так-то знай наших: в какие мы вошли нежные аллегории! […]
3 ноября. Мы за столом разговаривали по большой части о женитьбе, о женихах и невестах. Его высочество изволил просить меня, чтобы я поскорее женился. Я смеючись ответствовал, что за мною дело не станет, лишь бы была невеста. […]
11 декабря. Рассказывал мне государь цесаревич, как ему было весело, когда изволил быть на даче у обер-маршала Сиверса: там была любезная его Вера Николаевна. Изволил сказывать, что много танцевал с нею и разговаривал. Говорил-де я ей, чтоб я всегда хотел быть вместе с нею… Как назад ехали, то она ехала в салазках перед его высочеством. Тут, оборачиваясь, друг другу поцелуи бросали.
Внешность
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Павел, который был так безобразен, родился красавцем, так что лица, видевшие в галерее графа Строганова его портрет, где он в возрасте семи лет изображен в парадном орденском костюме, рядом с портретом императора Александра I в том же возрасте и в том же костюме, спрашивали, отчего у графа Строганова один и тот же портрет встречается два раза. […] Несмотря на то что он лицом был очень некрасив, над чем он сам посмеивался, он так хорошо умел себя держать, что отнюдь не казался простым и был настолько сдержан, что как будто ничему не удивлялся.
Из врачебного освидетельствования великого князя Павла Петровича за 1768 г., проведенного английским врагом Томасом Димсдалем:
Росту среднего, имеет прекрасные черты лица и очень хорошо сложен. Его телосложение нежное, что происходит, как я полагаю, от сильной любви к нему и излишних о нем попечений… Несмотря на то, он очень ловок, силен и крепок, приветлив, весел и очень рассудителен, что нетрудно заметить из его разговоров, в которых очень много остроумия.
Из дипломатической депеши прусского посланника Виктора Фридриха фон Сольмса:
Хотя он невысокого роста, но очень красив лицом, весьма правильно сложен, разговоры и манеры его приятны, чрезвычайно учтив, предупредителен и веселого нрава. Под этой прекрасной внешностью скрывается душа превосходнейшая, самая честная и возвышенная и, вместе с тем, самая чистая и невинная, которая знает зло только с отталкивающей его стороны и вообще сведуща о дурном лишь насколько это нужно, чтобы вооружится решимостью самому избегать его и не одобрять его в других. Одним словом, невозможно довольно сказать в похвалу великому князю.
Из «Записок» Дарьи Христофоровны Ливен, в юности состоявшей фрейлиной императрицы Марии Федоровны:
Павел был мал ростом. Черты лица имел некрасивые за исключением глаз, которые были у него очень красивы; выражение этих глаз, когда Павел не подпадал под власть гнева, было бесконечно доброе и приятное… Хотя фигура его была обделена грациею, он далеко не был лишен достоинства, обладал прекрасными манерами и был очень вежлив с женщинами; все это запечатлевало его особу истинным изяществом и легко обличало в нем дворянина и великого князя.
Характер
Из дневника Семена Андреевича Порошина:
1764 г.
24 сентября. Его высочество, будучи живого сложения и имея наичеловеколюбнейшее сердце, вдруг влюбляется почти в человека, который ему понравится; но как никакие усильные движения долго продолжаться не могут, если побуждающей какой силы при том не будет, то и в сем случае оная крутая прилипчивость должна утверждена и сохранена быть прямо любви достойными свойствами того, который имел счастье полюбиться. Словом сказать, гораздо легче его высочеству вдруг весьма понравиться, нежели навсегда соблюсти посредственную, не токмо великую и горячую от него дружбу и милость. […]
13 октября. Камердинер спрашивался у меня, какой кафтан приготовить для его высочества, и как я сказал, какой он сам изволит, то великий князь приказал приготовить зеленый бархатный. Камердинер докладывал, что этот кафтан уже стар, замшился, не прикажет ли другой принесть? Но его высочество, выслав его с сердцем, приказывал, чтобы тот принес, о коем он приказал ему. Тут говорил я великому князю: «А ведь Карла Двенадцатого за упрямство мы не любим. Хорошо ли это, не принимать резону. Вы приказали, прежде не вспомня, что кафтан стар; а теперь, когда правильно представляют, для чего не переменить своего мнения и не согласиться?» Его высочество тотчас приказал кликнуть камердинера и изволил сказать ему, чтобы уже того кафтана не носил, а принес бы другой, который поновее. Из сего поступка и из других прежде сделал я наблюдение, что очень возможно исправлять в его высочестве случающиеся иногда за ним погрешности и склонить его к познанию доброго; надобно знать только, как за то взяться. […]
7 декабря. У его высочества ужасная привычка, чтоб спешить во всем: спешить вставать, спешить кушать, спешить опочивать ложиться. […]
29 октября.…Примечу только, что часто на его высочество имеют великое действие разговоры, касающиеся до кого-нибудь отсутствующего, которые ему услышать случится. Неоднократно наблюдал я, что, когда при нем говорят что в пользу или в похвалу какого-нибудь человека, такого человека после увидя, его высочество особливо склонен к нему является; когда ж, напротив того, говорят о ком невыгодно и хулительно, а особливо не прямо к его высочеству с речью адресуясь, но будто в разговор мимоходом, то такого государь великий князь после увидя, холоден к нему кажется. […]
2 ноября.…Прежде нежели успел еще я войти к его высочеству, изволил он прибежать ко мне и, бросясь на шею и целуя меня, говорил: Прости меня, голубчик, я перед тобой виноват; вперед никогда уже ссориться не будем, вот тебе рука моя. Я расцеловал руку его высочества и, по некоторых изъяснениях постановивши твердый мир, пошел за ним чай пить. […]
22 ноября. В половине четвертого часа государь изволил сесть учиться. У меня не очень хорошо учился, и вот от чего вся беда произошла: вошли мы в учительную, тут бегали его высочества две собачки. [Ему хотелось,] чтоб они тут остались, а мне этого не хотелось, для того что при ученье надобно думать о ученье, а не о собачках. И так сделалась у нас распря; я поупрямился и собачек выгнал. От сего родилось неудовольствие и в ученье нетерпеливость; не могли мы собрать своего внимания и за это гораздо поссорились.
1765 г.
3 января. Его высочество имеет за собою недостаточек, всем таким людям свойственный, кои более привыкли видеть хотения свои исполненными, нежели к отказам и к терпению. Все хочется, чтоб делалось по-нашему. […]
4 января. После ужина пришел его превосходительство Никита Иванович, разговаривал с его высочеством. Ответствовал он ему на все весьма изрядно и был весел. Но как разговор несколько продолжился и его высочеству показалось, что уже поздно, то начали показываться слезы. Его превосходительство нарочито пожурил его за такое нетерпение и пошел к себе. Справились, так только еще девять часов было. Тут появились новые слезы из сожаления, для чего давеча заплакалось безо всякой причины. Сии последние слезы, конечно, извинительнее, нежели первые. […]
10 января. Великий князь напросился сам сего дня, чтоб идти в комедию, более для угождения Никите Ивановичу, нежели по собственной охоте. Вообще сказать, его высочество театральные позорища не весьма изволит жаловать, частью оттого, что они иногда долго продолжаются и он принужден сидеть все на одном месте, что живости его почти несносно; також что в таком случае и опочивать лечь против обыкновенного опоздает, что нам всего тяжеле… […]
12 января.…Спросил Никита Иванович у его высочества: «Как вы думаете, повелевать ли лучше или повиноваться?» На сие изволил сказать государь: Все свое время имеет: в иное время лучше повелевать, в иное лучше повиноваться. […]
27 февраля. Великий князь изволил между прочим сказать […]: Мне кажется, кто повиноваться не может, тот и повелевать не умеет.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Императрицу часто беспокоили в Царском Селе[20], и когда она бывала нездорова, за ней плохо ухаживали. Однажды она отослала окружавшую ее компанию и легла отдыхать на диван в большом лаковом кабинете. Я читал ей вслух… как вдруг камердинер вошел в комнату без доклада. […]
— Господин Нарышкин прибыли из Павловска и ждут уже давно на лестнице, внизу.
— Это мне безразлично.
— Да, но он желает что-то сказать графу по поручению его императорского высочества.
— …Вы должны бы знать, что сюда не входят, пока я не позвоню. Уходите! А вы будьте так добры продолжать чтение.
Через некоторое время она задремала. Около половины десятого она позвонила и спросила камердинера:
— А что, господин Нарышкин все еще ждет?
— Точно так; ваше величество.
— Так пойдите, граф, и узнайте, что это за важные дела привели его сюда.
Меня разбирало любопытство, но и опасение того, что мне придется слышать. Я поэтому спустился по маленькой лестнице к бедному Нарышкину, занявшему впоследствии важную должность обер-гофмаршала и сидевшему тогда на нижних ступеньках. Когда он меня увидал, он встал и большие слезы выступили в его глазах.
— Надеюсь, вы меня простите, что я должен вам передать ужасное поручение, но я не могу ослушаться.
Это слово «ужасное» звучало смешно для человека, пользующегося высочайшей милостью. […]
— Великий князь приказал мне вам передать, что первая расправа, которую он учинит, когда взойдет на престол, будет состоять в том, что он велит вам отрубить голову.
— Вот кто очень спешит приступить к делу, — ответил я, смеясь, но потом присовокупил серьезно: — Мне очень жаль, милостивый государь, что вам дали такое поручение. Скажите великому князю, что я буду иметь честь ему написать.
— Берегитесь это делать, он терпеть не может, когда ему пишут.
— Что же делать, раз я приговорен к смерти, мне нечего беспокоиться о том, что может понравиться или не понравиться его императорскому высочеству .
Затем тоном человека, привыкшего давать аудиенции, я пожелал услужливому камергеру спокойной ночи.
На следующий день императрица меня спросила, какое важное поручение Нарышкин имел мне передать. […]
Императрица, узнав, в чем дело, страшно рассердилась, вся покраснела от гнева и повторила несколько раз:
— Он еще не дошел до того, чтобы рубить головы; он даже не может быть уверенным, что когда-нибудь дойдет до того. Я скажу ему по этому поводу несколько слов. Он сходит с ума.
Из донесения французского дипломата Сабатье де Кабра от 20 апреля 1779 г.:
Он [Павел Петрович] выражается любезно и свободно и старается нравиться всем приближенным своим вниманием, вежливостью и обязательностию разговора. Он без аффектации наблюдает все, что происходит на его глазах, но его упрекают за любовь к доносам и за то, что он ничем не пренебрегает, дабы узнать обо всем, что только можно.
Из переписки великого князя Павла Петровича:
Я желаю лучше быть ненавидимым за правое дело, чем любимым за дело неправое.
Из «Записок» фрейлины Екатерины II Глафиры Ивановны Альтовой:
Я замечала в нем [Павле Петровиче] лишь хорошие свойства: чистоту намерений, прямоту, благородство души, великодушие, весьма приятный ум и особенную способность убеждать людей. Когда он хотел нравиться, нельзя было противиться его обаянию. Его некрасивая наружность и резкие манеры в обществе становились неприметными в дружеском кругу. В эту пору он был хорошим мужем, сыном и отцом. Необходимо было окружить его честными людьми: он легко поддавался влиянию лиц, искавших его доверия, и следовал их советам. Будучи доверчив по природе, он стал подозрительным вследствие обманов, которым подвергался.
Из «Записок» Федора Николаевича Голицына:
Великий князь имел весьма острый и пылкий ум с хорошею памятью; сердце его было чувствительно, но в первом движении он очень был горяч. Обстоятельства ли, в которых он возрастал, другие ли причины поселили в нем большую недоверчивость и также частую перемену в расположениях к людям, его окружавшим. Сии недостатки много способствовали повредить его свойства.
Из переписки генуэзского министра Стефано Риваролы:
Достоин удивления стойкий характер великого князя. Удаленный от государственных дел, ограниченный в средствах, он искренно признателен своим воспитателям и неизменно почтителен к августейшей своей матери. Он свято чтит память своего первого наставника, покойного графа Панина, постоянно покровительствует его друзьям и не доверяет его врагам. Его добродетель, светлые ум и трудолюбие известны в его круге. Кто может дать лучшие доказательства любви к домашнему миру и непобедимого отвращения к государственным переворотам, замедляющим успехи просвещения?
Из «Записок» Дарьи Христофоровны Ливен:
Он обладал литературною начитанностью и умом бойким и открытым, склонен был к шутке и веселию, любил искусство; французский язык и литературу знал в совершенстве, любил Францию, а нравы и вкусы этой страны воспринял в свои привычки. Разговоры он вел скачками, но всегда с непрестанным оживлением. Он знал толк в изощренных и деликатных оборотах речи. Его шутки никогда не носили дурного вкуса, и трудно себе представить что-либо более изящное, чем краткие, милостивые слова, с которыми он обращался к окружающим в минуты благодушия.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Павел… был полон жизни, остроумия и юмора и всегда особенно отличал своим вниманием тех, которые блистали теми же качествами.
Первая женитьба
Из дипломатического донесения Виктора Фридриха фон Сольмса от 29 июня 1773 г.:
…ландграфиня Дармштадтская приехала наконец с тремя своими дочерьми в прошлую субботу этого месяца в Царское Село. Его императорское высочество великий князь встретили их с изъявлением большой к ним дружбы и расположения…
Из дипломатического донесения Виктора Фридриха фон Сольмса от 3 августа 1773 г.:
Третьего дня вернулся курьер из Дармштадта и привез согласие на брак принцессы Вильгельмины… с великим князем. Хотя этого должны были ожидать, но кажется, как будто уверенность в этом произвела заметное довольство; по крайней мере, таково впечатление, произведенное на великого князя, который вне себя от радости и видит величайшее счастье в браке своем с этой принцессой; он очень в нее влюблен и считает ее вполне достойной его любви и уважения…
Из дневника великого князя Павла Петровича:
Проехав Гатчинские ворота, мы заметили, что издали поднялась пыль, и думали, что вот уже императрица с ландграфиней и ее дочерьми; каково же было наше удивление, когда мы увидели телегу с сеном. Через некоторое время пыль снова поднялась, и мы более не сомневались, что это едет императрица с остальными. Когда кареты были уже близко, мы велели остановить свою и вышли. Я сделал несколько шагов по направлению к их остановившейся карете. Из нее начали выходить. Первая вышла императрица, вторая ландграфиня. Императрица представила меня ландграфине следующими словами: «Вот ландграфиня Гессен-Дармштадтская, и вот принцессы — ее дочери». При этом она называла каждую по имени. Я отрекомендовался милости ландграфини и не нашел слов для принцесс…
Я удалился тотчас после ужина и первым делом отправился к графу Панину узнать, как я себя вел и доволен ли он мною. Он сказал, что доволен мною, и я был в восторге. Несмотря на свою усталость, я все ходил по моей комнате, насвистывая и вспоминая виденное и слышанное. В этот момент мой выбор почти уже остановился на принцессе Вильгельмине, которая мне больше всех нравилась, и всю ночь я ее видел во сне.
Из переписки дипломата Ахаца Фердинанда Ассебурга:
Принцесса Вильгельмина до сих пор еще затрудняет каждого, кто бы захотел разобрать истинные изгибы ее души, тем заученным и повелительным выражением лица, которое редко ее покидает. Я часто приписывал это монотонности дармштадтского двора, необыкновенно однообразного, и остаюсь еще при мнении, что принцесса будет веселее в иной местности, хотя не могу ручаться, чтобы скука от пребывания в Дармштадте была единственным или главным побуждением к тому, что есть в ее поведении несвойственного молодости.
Удовольствия, танцы, наряды, общество подруг, игры, наконец, все, что обыкновенно пробуждает живость страстей, не достигает до нее.
Среди всех этих удовольствий принцесса остается сосредоточенною в себе самой, и когда принимает в них участие, то дает понять, что делает это более из угождения другим, чем по вкусу.
Есть ли это нечувствительность или руководит ею в этом случае боязнь показаться ребенком? Не знаю, что сказать и простодушно сознаюсь, что основные черты этого характера для меня еще покрыты завесою. Никто на нее не жалуется; ей оказывают такое же доверие, как ее сестрам; мать отличает ее; наставники хвалят способности ее ума и обходительность нрава; она не выказывает капризов, она хотя холодна, но одинакова со всеми, и ни один из ее поступков не опровергнул еще моего мнения, что сердце ее чисто, сдержанно и добродетельно, но что ее поработило честолюбие. С тех пор как ей толкуют о путешествии в Петербург, она охотнее принимает участие в разговорах, и, видимо, с желанием обогатить себя познаниями. Без сомнения, она более, чем ее сестры, интересуется этим путешествием. Более оживленные предметы, иная среда, иные развлечения, более важные обязанности, более разнообразные мысли дадут более простора ее душе, которая некоторым образом заснула от излишнего однообразия теперешних ее занятий… Насколько я знаю принцессу Вильгельмину, сердце у нее гордое, нервическое, холодное, быть может, несколько легкомысленное в своих решениях, но, что еще вернее, открытое и послушное силе верного суждения и привлекательности благоразумного честолюбия. Ее нрав и манеры приобрели некоторую небрежность, но они смягчатся, сделаются приятнее и ласковее, когда она будет жить с людьми, которые особенно привлекут ее сердце. Ожидаю того же от направления ее ума, ныне недеятельного и привязанного к небольшому числу местных идей и невнимательного более по привычке, чем по естественной наклонности, серьезного и подчиненного некоторым предубеждениям, но который в иной местности и при иных обязанностях должен будет приобрести более обширности, прелести, верности и прочности. Принцесса захочет нравиться. Она из всего молодого дармштадтского семейства имеет наиболее грации и благородства в манерах и в характере, точно так же как она имеет всего более находчивости ума. Эти преимущества уравновешиваются недостатком здоровья и красоты и большою неровностью и крутостью нрава.
Из переписки Екатерины II:
Сын мой обзавелся домом; он намерен жить скромно… не покидает ни на шаг своей жены, и оба они служат примером наилучшей дружбы в свете. Великая княгиня золотая женщина: она наделена самыми солидными качествами; я ею очень довольна; муж ее обожает, и все окружающие ее любят. […]
…у этой дамы [жены Павла Петровича, Натальи Алексеевны] везде крайности; если мы делаем прогулку пешком — так в двадцать верст, если танцуем — так двадцать контрдансов, столько же менуэтов, не считая алемандов[21]; дабы избегнуть тепла в комнатах — мы их не отапливаем вовсе; если другие натирают себе лицо льдом, у нас все тело делается сразу лицом; одним словом, золотая середина очень далека от нас. Боясь злых, мы не доверяем никому на свете, не слушаем ни добрых, ни дурных советов; словом сказать, до сих пор нет у нас ни в чем ни приятности, ни осторожности, ни благоразумия, и бог знает, чем все это кончится, потому что мы никого не слушаем и решаем все собственным умом. После более чем полутора года мы не знаем ни слова по-русски; мы хотим, чтобы нас учили, но мы ни минуты в день старания не посвящаем этому делу; все у нас вертится кубарем; мы не можем переносить то того, то другого; мы в долгах в два раза противу того, что мы имеем, а мы имеем столько, сколько едва ли кто-нибудь имеет в Европе. […]
Великий князь был у меня и сказал, что он опасается, чтоб до меня не дошло и чтоб я не прогневалась. Пришел сам сказать, что на него и на великую княгиню долг опять есть. Я сказала, что мне это неприятно слышать и что желаю, чтоб тянули ножки по одежке и излишние расходы оставили. Он мне сказал, что ее долг там от того, от другого, на что я ответствовала, что она имеет содержание (и он также), как никто в Европе, что сверх того сие содержание только на одни платья и прихоти, а прочее — люди, стол и экипаж — им содержится и что сверх того она еще платьем и всем года на три снабдена была… Она просит более двадцати тысяч, и сему, чаю, никогда конца не будет… […]
Я думаю… что если ослепленный великий князь инако не может быть приведен в резон насчет Разумовского[22], то не может ли Панин уговорить его, чтоб он Разумовского услал в море, дабы слухи городские, ему противные, упали. […]
Вы желали, чтобы мое паломничество к Троице произвело чудо… Моления ваши услышаны: великая княгиня беременна, и здоровье ее, кажется, укрепилось.
Из донесения английского дипломата Р. Гунинга от 29 апреля 1774 г.:
Какие бы беспокойства ни испытывала Екатерина за последнее время, несомненно, что поведение Павла Петровича не имеет на это влияния и что в настоящее время она имеет полное основание быть им довольною. Недавно она выразилась, что обязана великой княгине тем, что она возвратила ей сына, и что постоянная забота ее жизни будет состоять в том, чтобы рассчитаться с нею за это одолжение. Действительно, она пользуется каждым случаем быть приятною великой княгине, которая, несмотря на то что не так умна, как ее супруг, приобрела большое на него влияние. В настоящую минуту Павел Петрович находит себя счастливым только в ее обществе, куда допускается один лишь молодой граф Андрей Разумовский. Желание сделаться популярным, которое проявлялось в поведении великого князя, кажется, исчезло и заменилось другою крайностью: отсутствием самого простого внимания к его окружающим. В положении, в котором находится Павел Петрович, трудно определить его характер по его поступкам, и можно сказать, что до настоящего времени у него не было характера: он легко воспринимает впечатления, но они легко и забываются. Таким образом Екатерина могла, до известной степени, внушать ему, чрез посредство лиц, к нему приставленных, те чувства, которые она желала бы в нем видеть.
Из «Записок» Михаила Александрович Фонвизина, племянника писателя:
Мой покойный отец рассказывал мне, что в 1773 или 1774 году, когда цесаревич Павел достиг совершеннолетия и женился на дармштадтской принцессе, названной Натальей Алексеевной, граф Никита Иванович Панин, брат его, фельдмаршал П. И. Панин, княгиня Екатерина Романовна Дашкова, князь Н. В. Репнин, кто-то из архиереев, чуть ли не митрополит Гавриил и многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину II и вместо нее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своей подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие.
Душою заговора была супруга Павла, великая княгиня Наталья Алексеевна, тогда беременная. При графе Панине были доверенными секретарями Денис Иванович Фонвизин и Бакунин, оба участники в заговоре. Бакунин из честолюбивых, своекорыстных видов решился быть предателем. Он открыл любовнику императрицы князю Г. Г. Орлову все обстоятельства заговора и всех участников — стало быть, это сделалось известным и Екатерине. Она позвала к себе сына и гневно упрекала ему его участие в замыслах против нее. Павел испугался, принес матери повинную и список всех заговорщиков. Она сидела у камина и, взяв список, не взглянув на него, бросила бумагу в камин и сказала: «Я не хочу знать, кто эти несчастные». Она знала всех по доносу изменника Бакунина.
Единственной жертвою заговора была великая княгиня: полагали, что ее отравили или извели другим образом.
Молодая великая княгиня в весьма короткое время вполне овладела умом великого князя, что одинаково не понравилось как императрице, так и народу; первой потому что она ей показалась интриганкой, а второму потому что она им видимо пренебрегала. Никто тогда не предвидел, что ее карьера скоро кончится, так как никто не знал, что ее мать скрыла то обстоятельство, которое препятствовало ей дать престолу наследника. Мне впоследствии в Германии сообщили об этом следующее: принцесса родилась с неестественным наростом хвостца, который увеличивался с ростом и становился весьма тревожным. По этому поводу были спрошены первые хирурги Европы, но безуспешно. Наконец, явился какой-то шарлатан из Брауншвейга, осмотрел ребенка и обещал удалить этот нарост. Он велел изготовить род сиденья из железа и посадил туда бедную крошку с такою силою, что хвостец переломился и провалился вовнутрь тела. Девочка чуть не умерла от этой ужасной операции, но, хотя ее тогда вылечили, она должна была умереть с выходом замуж; действительно, при первых же родах ребенок был остановлен внутренним препятствием, о котором никто не знал и которое нельзя было устранить. Великая княгиня выказала в последние минуты необычайный героизм, требуя, чтобы ею пожертвовали ради ребенка. Это был сын, но жертва матери не могла его спасти. Это происшествие описывалось различно, но то, что я рассказываю, — истина… Горе великого князя не знало границ.
Вторая женитьба
Из переписки Екатерины II:
Я начала с того, что предлагала [овдовевшему великому князю Петру Петровичу] путешествия и всяческие способы, дабы рассеяться, но в конце концов сказала; мертвые мертвы, и надобно думать о живых. Потеряв веру в счастье, не лучше ли вновь попытаться обрести ее? Посмотрим на что-нибудь другое. Да у меня уже и припасено кое-что в кармане, истинное сокровище. Неужели ему не любопытно, каково оно? Брюнетка или блондинка, большая или маленькая?
Из письма великого князя Павла Петровича Екатерине II из Берлина, 1776 г.:
Мой выбор сделан. Препоручаю невесту свою в милость Вашу и прошу о сохранении ее ко мне. Что касается до наружности, то могу сказать, что я выбором своим не остыжу Вас; мне о сем дурно теперь говорить, ибо, может быть, я пристрастен. Но сие глас общий. Что же касается до сердца ее, то имеет она его весьма чувствительное и нежное, что я видел из разных сцен между роднею и ею.
Из письма великого князя Павла Петровича невесте, принцессе Вюртембергской Софии Доротее:
Всякое проявление твоей дружбы, мой милый друг, крайне драгоценно для меня, и клянусь тебе, что с каждым днем все более люблю тебя. Да благословит Бог наш союз так же, как Он создал его.
Из письма принцессы Вюртембергской Софии Доротеи, в будущем великой княгини Марии Федоровны, жениху, великому князю Павлу Петровичу:
Я не могу лечь, мой дорогой и обожаемый князь, не сказавши Вам еще раз, что я до безумия люблю и обожаю Вас; моя дружба к Вам, моя любовь, моя привязанность к Вам еще более возросла после разговора, который был у нас сегодня вечером. Богу известно, каким счастьем представляется для меня вскоре принадлежать Вам; вся моя жизнь будет служить Вам доказательством моих нежных чувств; да, дорогой, обожаемый, драгоценный князь, вся моя жизнь будет служить лишь для того, чтобы явить Вам доказательства той нежной привязанности и любви, которые мое сердце будет постоянно питать к Вам….
Из письма великой княгини Марии Федоровны подруге:
Великий князь, очаровательнейший из мужей, кланяется вам. Я очень рада, что вы его не знаете, вы не могли бы не полюбить его, и я стала бы его ревновать. Дорогой мой муж — ангел. Я люблю его до безумия.
Из дипломатической депеши Джеймса Гарриса от 3 октября 1778 г.:
Так как характер настоящей великой княгини совершенно противуположен нраву покойной, то и великий князь является теперь в совершенно ином свете. Мария Федоровна кротка, приветлива и глубоко проникнута сознанием супружеских уз.
Из переписки Екатерины II:
Я пристрастилась к этой очаровательной принцессе, в буквальном смысле слова пристрастилась. Она именно такова, какую желали: стройность нимфы; цвет лица — цвет лилии, с румянцем розы; прелестнейшая кожа в свете; высокий рост с соразмерною полнотою, и при этом легкость поступи; кротость, доброта сердца и искренность выражаются на ее лице. Все от нее в восторге, и тот, кто ее не полюбит, будет не прав, так как она создана для того и делает все, чтобы быть любимою. Одним словом, моя принцесса представляет собою все, чего я желала, и я довольна.
Из воспоминаний французского дипломата Луи Филиппа Сегюра о Павловске:
Никогда ни одно честное семейство не встречало так непринужденно, любезно и просто гостей: на обедах, балах, спектаклях, празднествах — на всем лежал отпечаток приличия и благородства, лучшего тона и самого изысканного вкуса.
Из письма великого князя Павла Петровича архиепископу о. Платону 1777 г., накануне рождения первого сына Александра:
Молите теперь Бога о подвиге, которым счастие и удовольствие мое усугубляется удовольствием общим. Начало декабря началом будет отеческого для меня звания. Сколь велико оное по пространству новых возлагаемых чрез сие от Бога на меня должностей!.. Мы, слава Богу, здоровы и наслаждаемся взаимною дружбой спокойствием, происходящим от чистой совести. Пожелайте и молите Бога, чтоб Он нам навеки ее сохранил, без чего ни пользы, ни славы быть не может.
Из переписки Иосифа II Австрийского:
Великий князь гораздо более достоин внимания, чем думают за границею; его супруга очень хороша собою и как бы создана для занимаемого ею положения; они живут в полном согласии: украшением этого брака служат два сына[23]. Императрица много занимается последними; им предоставлено столько свободы, сколько нужно для развития их умственных способностей и для укрепления их здоровья. […]
Чем короче я знакомлюсь с нею [великой княгиней Марией Федоровной], тем более я ее уважаю. Она отличается редким характером и умом, к тому же очень хороша собою и держит себя отлично. Если бы я десять лет тому назад мог найти или вообразить себе подобную ей принцессу, я бы женился на ней без затруднения; она соответствовала бы моему положению; мне кажется, что сказать более нельзя.
Нежность и любовь между великим князем и его супругою были совершены. Невозможно, кажется, пребывать в сожитии согласнее, как они долгое время пребывали. Мы не могли на столь счастливое супружество довольно нарадоваться, и сие имело великое влияние над петербургскою публикою и усугубило во всех усердие и любовь к их будущему государю. […]
Когда мы, придворные кавалеры, дежурили у их высочеств, в Павловске или в Гатчине, надобно было иногда поостерегаться, хотя обхождение с нами было милостивое. О государыне Марии Федоровне я смело скажу, что редко я видывал особы благонравнее и добродетельнее. Терпение же ее в иных случаях было примерное. Она была всегда ровна. Я могу о себе сказать, что получал от нее нередко знаки ее благоволения. Она жаловала всегда читать и нередко изволила брать у меня книги и со мною советоваться. Распределение времени ее было так аккуратно, что она никогда без занятия не оставалась. Любимое ее упражнение было гравировать на камнях, и она до большого совершенства изволила достигнуть в сем искусстве. Порядок, установленный у великого князя, был, если можно сказать, в такой уже точности, что все распределено было по часам, и он сам тому служил примером. Если изволит приказать прийти в четыре часа поутру, чтобы ехать верхом, то верно, как скоро ударят часы, он уже готов и выйдет. Впрочем, придворным было приятно. Оба сии увеселительные дворца отделаны с большим вкусом; сады прекрасные, и даже чудно, что под таким суровым климатом и на такой неплодородной и болотистой земле, помощью искусства и сбережения, могли их привести до такого совершенства.
Его вторая жена далеко не обладала умом первой, но у нее были все те качества, которых недоставало первой: беспредельное восхищение перед императрицей, большое пристрастие к представительству и к придворной жизни и чрезвычайное благоволение к нации, языку которой она поспешила выучиться и религию которой она приняла с искренним умилением и верою в нее. Как известно, русские великие князья могут жениться только на принцессах, принявших православие. […]
Постоянная вспыльчивость великого князя уравновешивалась мирными занятиями у домашнего очага, ибо великая княгиня любила товарное искусство[24] и гравирование, которые чередовались интересным чтением вслух…
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Сама великая княгиня была чрезвычайно красивая женщина, весьма скромная в обращении, а по мнению некоторых, даже излишне степенная, даже до того, что казалась суровой и скучной, насколько могли ее сделать таковой добродетель и этикет.
Письмо великого князя Павла Петровича к Марии Федоровне накануне его отъезда в действующую армию в 1788 г.:
Любезная жена моя!
Богу угодно было на свет меня произвесть для того состояния, которого хотя и не достиг, но не менее во всю жизнь свою тщился сделаться достойным.
Промысел Его соединил меня с тобою, любезная супруга, в такое время для нас обоих, которое никакое человеческое проницание предназначить не могло, и тем самым показал на нас обоих беспосредственным образом волю Свою и запечатлел ее, исполнив наш союз любви и согласия и дав нам залог оной, детей, любезных нам. Таковой Его особливой милости мы ничем не заслужили, а относить ее должно к попечению Его об отечестве. О, великие обязательства возложены на нас! Обоих их тебе, о дражайшая супруга, исполнять, а мне тебе, при последнем моем часе, советами помогать. Но прежде, нежели приступлю к сему важному вспомоществованию, должен тебе отворить сердце свое. Тебе самой известно, сколь я тебя любил и привязан был. Твоя чистейшая душа пред Богом и человеки стоила не только сего, но почтения от меня и от всех. Ты мне была первою отрадою и подавала лучшие советы. Сим признанием должен пред всем светом о твоем благоразумии. Привязанность к детям залогом привязанности и любви ко мне была. Одним словом, не могу довольно тебе благодарности за все сие сказать, равномерно и за терпение твое, с которым сносила состояние свое, ради меня и по человечеству случающиеся в жизни нашей скуки и прискорбия, о которых прошу у тебя прощения, и за все сие обязан тебе следующими советами. Будь тверда в законе, который ты восприяла, и старайся о соблюдении непорочности его в государстве. Не беспокой совести ничьей. Государство почитает тебя своею, ты сие заслуживаешь, и ты его почитай Отечеством. Люби его и споспешествуй благу его. […] Здесь предстоит награждение добродетелей твоих наибольшее, слава, которую ты приобретешь, делая то для Отечества, что тебе остается и на которое намерение ты с таковою решимостью и охотою поступила. Благоразумие твое тебя наставит на путь правый, и Бог благословит твои добрые намерения. Старайся о благе прямом всех и каждого. Детей воспитай в страхе Божием как начале премудрости, в добронравии как основании всех добродетелей. Старайся о учении их наукам, потребным к их званию, как о том, что, преподавая знания, открываешь рассудок. Не пренебрегай и телесных выгод, ибо от них здоровье к понесению трудов и наружность благообразная, пленяющая глаза. Все сие клони к поспешествованию бодрости и твердости духа, который будучи напряжен к добру всем качествам души. Укрепи их в намерении моем о наследстве и законе оного и в приведении в порядок прочих частей, но старайся им внушить, что человек всякий должен подчинять себя рассудку, а особливо такой, который Богом призван подчинять страсти других и управлять людьми и целым государством и народом. Таким только себя подчинением может удержать других во оном, а особливо своих собственных потомков, подавая им пример, а свою же совесть успокоить. Отличай тех, кто нам верные были и привязаны. […] Будь милостива и снисходительна и следуй в сем своей душе благодетельной. Награди всех тех, кто у нас служили. Воспитавших и тебя, и меня особливо награди. […] Бог да благословит всю жизнь твою. Прости, друг мой, помни меня, но не плачь о мне; повинуйся воле того, который к лучшему все направляет. Приими мою благодарность. Твой всегда верный муж и друг
Павел.
С.-Петербург.
Генваря 4-го дня 1788 г.
Мать и сын
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
С внешней стороны великий князь постоянно оказывал своей матери величайшее уважение, хотя все хорошо знали, что он не разделял тех чувств любви, благодарности и удивления, которые русский народ питал к этой монархине. Великая княгиня, его супруга, однако же любила Екатерину как нежная дочь, и привязанность эта была вполне взаимная. […]
Вспыльчивый по природе и горячий, Павел был крайне раздражен отстранением от престола, который, согласно обычаю посещенных им иностранных дворов, он считал принадлежащим ему по праву. Вскоре сделалось общеизвестным, что великий князь с каждым днем все нетерпеливее и резче порицает правительственную систему своей матери.
Из дипломатического донесения Виктора Фридриха фон Сольмса от 4 сентября 1772 г.:
Императрица видит сына чаще прежнего, больше узнала его и находит удовольствие в его обществе. Великий князь, в свою очередь, держит себя с матерью свободнее, нежели прежде. Он отзывчив на ее ласки, благодарен за расположение и удовольствия, которые она ему доставляет, и в настоящее время между этими обеими державными особами царствует искренняя дружба, как в простых семействах, и обоюдное доверие, радующее всех.
Я не смею утверждать, не кроется ли тут притворство или, по крайней мере, принужденность со стороны императрицы, так как все ее речи, особенно с нами, иностранцами, сводятся к разговору о великом князе.
Из дипломатического донесения Виктора Фридриха фон Сольмса от 9 февраля 1773 г.:
…очень многие здесь подозревают притворство в поведении императрицы. Уверены все, что зла она ему [сыну] не желает, но не верят в нежную дружбу, которую она показывает. Думаю, что все это условленная игра… что показывает она столько любви к наследнику единственно для того, чтобы примирить с собой народ, который его чрезвычайно любит… Я знаю из верного источника, что великий князь и сам не верит в чрезмерную любовь к нему императрицы-матери… но так как молодой князь прекрасно воспитан, он настолько умеет владеть собой, что по внешности нельзя положительно судить о том, что он думает…
Из переписки Екатерины II с сыном:
Публика смотрит на вас во все глаза, а она — судия строгий. Простонародие во всех странах не умеет делать различия между молодым человеком и великим князем, и поведение первого слишком часто служит к помрачению чести второго. Женитьбою окончилось ваше воспитание; невозможно было оставлять вас долее в положении ребенка и в двадцать лет держать под опекою. Перед публикою ответственность теперь падает на вас одного; публика жадно следить будет за вашими поступками. Эти люди все подсматривают, все подвергают критике, и не думайте, чтобы оказана была пощада как вам, так и мне. Обо мне скажут, она предоставила этого неопытного молодого человека самому себе на его страх; она допустила к нему молодых людей и льстивых царедворцев, которые вскружат ему голову и испортят его ум и сердце. О вас будут судить, смотря по благоразумию или неосмотрительности ваших поступков, но, поверьте мне, это будет уже моим делом помочь вам и унять эту публику, льстивых царедворцев и резонеров, которым хочется, чтобы вы, в двадцать лет, были Катоном и которые стали бы негодовать, коль скоро вы бы им сделались. Обращайтесь ко мне за советом всякий раз, когда найдете это нужным: я буду говорить вам правду со всею искренностью, к какой только способна, и вы будете довольны, выслушав ее. Вдобавок и чтобы занятия ваши, в угоду публике, были значительнее, я назначу час или два в неделю, по утрам, в которые вы будете приходить ко мне одни для слушания дел. Таким образом вы ознакомитесь с ходом дел, с законами страны и с моими правительственными принципами.
Из дипломатической депеши Джеймса Гарриса от 31 декабря 1778 г.:
Охлаждение между императрицею и великим князем увеличивается со дня на день. Она обращается с ним с полнейшим равнодушием, можно сказать с пренебрежением; он же не дает себе труда скрывать свое неудовольствие и, когда смеет, выражает его свободно и в самых резких словах.
Из «Записок» Федора Николаевича Голицына:
Императрица не всегда обходилась с ним как бы должно было, и он никак в делах не соучаствовал. Она вела его не так, как наследника; ему было только приказано ходить к ней дважды в неделю по утрам, чтобы слушать депеши, полученные от наших, при иностранных дворах находящихся, министров. Впрочем, он не бывал ни в Совете, ни в Сенате. Почетный чин генерал-адмирала был дан ему единственно для наружности, управление же морских сил до него не принадлежало… Прискорбно было всем видеть сие неискреннее обхождение и ни малейшей горячности и любви между сими двумя августейшими особами. Великий же князь к родительнице своей всегда был почтителен и послушен. Когда об этом размышляешь, не можешь довольно надивиться, разве только подвести ту одну причину, что восшествие императрицы, переворотом соделанное, оставило в сердце ее некоторое беспокойство и ненадежность на постоянную к себе преданность вельмож и народа.
Из переписки Иосифа II Австрийского:
Великий князь сообщил мне кое-что о неловкости своего положения… Это свидетельствует о некотором доверии; трудно, однако, угодить обеим сторонам. Великий князь одарен многими качествами, которые дают ему полное право на уважение; не легко, однако, быть вторым лицом при такой государыне.
Из переписки великого князя Павла Петровича:
Все мое влияние [при дворе Екатерины II], которым я могу похвалиться, состоит в том, что мне стоит только упомянуть о ком-нибудь или о чем-нибудь, чтобы повредить им.
Из «Записок» Августа Коцебу:
Известно, что Екатерина II не любила своего сына и, при всем ее величии во многих отношениях, была не в состоянии скрыть этого пятна. При ней великий князь, наследник престола, вовсе не имел значения. Он видел себя поставленным ниже господствовавших фаворитов, которые часто давали ему чувствовать свое дерзкое высокомерие. Достаточно было быть его любимцем, чтобы испытывать при дворе холодное и невнимательное обращение. Он это знал и глубоко чувствовал. […]
Великий князь являлся при дворе только на куртагах; на малые собрания в Эрмитаже его не приглашали: мать удаляла сына, когда хотела предаваться непринужденной веселости. Он не имел голоса в воспитании своих детей… Придворные фавориты оскорбляли его в его родительских правах, так как им приписывал он, и часто не без основания, то, что делала его мать. Можно ли порицать его за это душевное настроение?
Из дипломатического донесения Сабатье де Кабра от 20 апреля 1779 г.:
Императрица, которая жертвует для приличия всем остальным, не соблюдает никакого в отношении к сыну. Для него у нее всегда вид и тон государыни, и она часто прибавляет к этому сухость и обидное невнимание, которые возмущают молодого великого князя. Она никогда не относилась к нему как мать; перед нею он всегда почтительный и покорный подданный. Заметно, что эта манера, неприличная и жестокая, происходит исключительно от ее сердца, а не от того, чтобы она желала дать ему строгое воспитание. Она оказывает сыну только те внешние знаки внимания, которые вынуждаются необходимостию.
Из воспоминаний Фридриха Цезаря Лагарпа, наставника великого князя Александра Павловича:
С конца 1793 года шла речь о лишении престолонаследия великого князя Павла Петровича… Главная трудность состояла в том, чтобы приготовить к катастрофе великого князя Александра. Я один мог иметь на него желаемое влияние, и потому необходимо было или заручиться мною, или удалить меня. Екатерина, зная доверие и любовь ко мне своего внука, желала меня испытать. Она неожиданно потребовала меня к себе 18-го октября 1793 года… разговор мой с императрицею продолжался два часа; говорили о разных разностях и от времени до времени, как бы мимоходом, государыня касалась будущности России и не упустила ничего, чтобы дать мне понять, не высказывая прямо, настоящую цель свидания. Догадавшись, в чем дело, я употребил все усилия, чтобы воспрепятствовать государыне открыть мне задуманный план и вместе с тем отклонить от нее всякие подозрения, что я проник в ее тайну. К счастью, мне удалось и то и другое. Но два часа, проведенные в этой нравственной пытке, принадлежат к числу самых тяжелых в моей жизни, и воспоминание о них отравляло все остальное пребывание мое в России.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
…достоверно известно, что в последние годы царствования Екатерины между ее ближайшими советниками было решено, что Павел будет устранен от престолонаследия, если он откажется присягнуть конституции уже начертанной, в каковом строе был бы назначен наследником его сын, Александр, с условием, чтобы он соблюдал новую конституцию.
Слово «конституция»… не должно быть понимаемо в обычном, слишком тесном, смысле парламентского представительства, еще менее в смысле демократической формы правления. Оно обозначает не более как великую хартию, благодаря которой верховная власть императора перестала бы быть самодержавной.
Слухи о подобном намерении ходили беспрестанно, хотя еще не было известно ничего достоверного. Втихомолку, однако, говорили, что 1 января 1797 года должен быть обнародован весьма важный манифест и в то же время было замечено, что великий князь Павел стал реже появляться при дворе, и то лишь в торжественные приемы, и что он все более оказывает пристрастия к своим опрусаченным войскам и ко всем своим гатчинским учреждениям.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Я был допущен к малым собраниям у императрицы — беспримерный случай ввиду моей молодости. Она привыкла видеть меня около себя; я рисовал, читал ей вслух и поэтому располагал собственным апартаментом в Царском Селе, что составляло весьма редкое отличие. Таким образом, когда я отправлялся на службу к великому князю, я не досаждал императрице… Но великий князь, которому всякое изъявление почтения его державной матери причиняло муки и который был счастлив, когда ему удавалось опечалить человека, бывшего в глазах его фаворитов не более как самозванцем, придумал, в первый же раз как я явился в Павловск на дежурство, арестовать меня в моей комнате и держать меня под домашним арестом в течение целых двенадцати дней. Императрица, видя, что я не возвращаюсь, рассердилась. Она велела отправить обер-камергеру приказ, коим я освобождался от всякой службы как при ней, так и в другом месте, а великий князь, узнав об этом, велел меня выпустить. По этому поводу не последовало никаких объяснений и помимо того, что мне впоследствии пришлось дорого расплатиться за это освобождение, которое меня оградило от причуд великого князя, я некоторое время оставался в стороне от придворных интриг. […]
Я помню, что когда однажды в личных апартаментах императрице рассказывали про какую-то новую выходку великого князя, граф Зубов [Платон Александрович] сказал со свойственной ему откровенностью:
— Он сумасшедший.
Императрица ему на это ответила:
— Я это знаю не хуже вас, но, к несчастью, он недостаточно безумен, чтобы защитить государство от бед, которые он ему готовит.
Дети
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Дети Павла, юные великие князья и великие княжны, воспитывались под надзором их бабки-императрицы, которая во всех случаях советовалась с их матерью. […]
Генералы Протасов и Сакен были воспитателями великих князей, а баронесса Ливен — гувернанткой великих княжон и доверенным другом их матери.
Из «Записок» Александра Александровича Башилова, в юности состоявшего пажом при дворе Екатерины II:
Она [Екатерина II] любила великого князя Александра Павловича до неизъяснимости, и вправду — было за что любить: кротость, красота, доброта, ласковость составляли черты прекрасного его лица. Великий князь Константин Павлович был резвее, предприимчивее, похож был чрезвычайно на Павла Петровича, и следовательно, не красавец, но всегда был стройный молодец. Царское семейство состояло из сих двух великих князей и из великих княжон: Александры Павловны — портрет живой Александра I, Елены Павловны — также очаровательной, прекрасной, и Марии Павловны — если не такой красавицы, но столько привлекательной, доброй, что на нее смотрели как на ангела. Императрица когда летом жила в Царском Селе, то все семейство царское жило с нею, а государь Павел Петрович жил с супругою в Павловском. Вид его был строгий, недовольный (и было чем). Он приезжал с почтеньем раз в неделю, в назначенные дни.
Из переписки Екатерины II; комментарий к рисунку великой княгини Марии Федоровны, изобразившей групповой профильный портрет своих детей; 1790 г.:
Господин Александр [великий князь Александр Павлович], как телом, так и сердцем, и умом, и личность редкая по красоте, доброте и смышлености; он жив и обдумчив, скор и рассудителен, с глубокими идеями и замечательной легкостью во всем, что делает; можно бы сказать, что он только то и делал на своем веку; для своих лет он высок и крепок и при этом ловок и проворен; словом, этот мальчик — соединение множества противоположностей, отчего и происходит, что он чрезвычайно всеми любим; его сверстники легко соглашаются с его мнением и охотно за ним следуют. Относительно его я вижу одну только опасность: это женщины; за ним будут бегать, и невозможно, чтобы этого не случилось, потому что у него такая наружность, которая всех увлекает; впрочем, он не знает, что он красавец, и даже до сих пор не очень дорожит своей красотою… никто и не старается сделать из него фата. Для своих лет он очень сведущ; говорит на четырех языках; хорошо знаком со всеобщей историек», охотно читает; никогда не бывает праздным; все удовольствия, свойственные его возрасту, ему нравятся и приходятся по вкусу, если я с ним говорю серьезно, он внимателен, слушает и отвечает одинаково мило; если я заставляю его играть в жмурки — он и на это готов. Вообще все… им одинаково довольны; его наставник Лагарп говорит, что он превосходный юноша; в настоящее время он занимается с ним математикою, которая ему так же легко дается, как и все прочее. Одним словом, представляю вам господина Александра как личность, которую следует отличить от ему подобных, потому что если он не будет иметь успеха, то я уж и не знаю, кто бы мог рассчитывать на успех. Заметьте, что когда господин Александр болен, или прихварывает, или утомлен, что случается не часто, или когда время идет к вечеру, он окружает себя произведениями искусств: забавляется эстампами, медалями и резными камнями.
…господин Константин; его резвость близко подходит к дерзости, у него доброе сердце и много ума, он все делает урывками, и в характере его нет столько последовательности, как у старшего его брата, который обладает этим качеством вполне, но он заставит о себе говорить. Он также болтает на четырех языках; но взамен того, что старший знает по-английски, этот усвоил себе все оттенки языка греческого и говорит братцу; «Что это за дурные французские переводы читаете вы, братец; я читаю подлинники». Увидя в моей комнате Плутарха, он сказал: «Такое-то и такое место переведены очень дурно; я переведу лучше и покажу вам», — и действительно, принес мне несколько отрывков, которые перевел по-своему и на которых написал: переведено Константином. Я чрезвычайно люблю беседу Константина; от природы он очень воинственен и преимущественно любит морское дело… одним словом, это личность радующая.
…девица Александра в течение шести лет нимало не казалась интересною, но года с полтора сделала чрезвычайные успехи; не только стала очень хорошенькою, но приобрела осанку и выросла выше своих лет; она говорит на четырех языках, тщательно пишет и рисует, играет на фортепьяно, поет, танцует, всему учится легко, проявляет в характере большую кротость…
…Елена… будет красавицею в полном смысле этого слова; все ее черты редкой правильности, она стройна, ловка и проворна, грациозна от природы; шалунья и ветреница; сердце у нее доброе, и за веселость она любима всеми сестрами…
…Мария… должна бы родиться мальчиком; оспа совершенно ее испортила, черты ее лица погрубели; она сущий драгун, ничего не боится, все ее наклонности и игры мальчишечьи; не знаю, что из нее выйдет. Любимая ее поза — подбочениться обеими руками. Так она и разгуливает.
…[Екатерина], которой еще только два года…. это толстый белесоватый ребенок, с хорошенькими глазками, который забьется в угол, обложит себя игрушками и целый день болтает, не проранивая слова, достойного быть замеченным.
Из переписки Екатерины II 1795 г.:
…сегодня вечером на одном любительском концерте… будут играть на скрипке великий князь Александр и граф Платон Зубов. Великая княгиня Елизавета [супруга Александра Павловича] и великие княжны Александра и Елена будут петь, Мария, которой девять лет от роду и которая уже окончила у Сарти генерал-бас, так как она отличается необыкновенной любовью к музыке, будет аккомпанировать на клавикордах. Сарти говорит, что она наделена большим талантом к музыке и что вообще она проявляет во всем большой ум и способность и будет разумной девицей… Она любит читать и проводить за чтением по несколько часов в день; при всем том она очень веселая и оживленная и танцует, как ангел. Вообще это довольно милая семья. Тяжелый багаж[25] двинулся в Гатчину три дня тому назад. Баста. Когда кошки нет дома, то мыши пляшут по столам и чувствуют себя счастливыми и довольными.
Путешествие в Европу
Из путевых заметок великой княгини Марии Федоровны:
Сегодня в воскресенье 19 сентября [1781 г.] душа моя была живо взволнована. Сожаления о покидаемых детях, друзьях и отечестве угнетают меня, но сколь утешительно видеть повсюду слезы печали от расставания с нами и чувствовать любовь к себе всех; мы должны оправдать сии чувства нашими делами; слезы мои иссякнут лишь после возвращения.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Она [Екатерина II] вскоре послала сына путешествовать вместе с супругой и отдала самые строгие приказания, дабы не щадить денег, чтобы сделать эту прогулку по Европе столь же блистательной, сколь интересной, как этого только можно достигнуть при помощи влияния на дворы, которые им придется посетить. Путешествовали они инкогнито, под именем графа и графини Северных, и хорошо известно, что остроумие графа, красота графини и обходительность обоих оставили самое благоприятное впечатление в странах, которые они посетили.
Из переписки Иосифа II Австрийского:
Великий князь и великая княгиня соединяют с не совсем обыкновенными талантами и с довольно обширными знаниями желание обозревать и поучаться и в то же время иметь успех и нравиться всей Европе. Так как можно рассчитывать на их скромность и честность, то ничем нельзя более обязать их, как доставляя им возможность осматривать все без подготовки и без прикрас, говорить с ними с полною откровенностью, не скрывать от них недостатков, которые и без того не ускользнули бы от их проницательности, и обращать их внимание на добрые намерения, которыми вы одушевлены, хотя бы они еще и не выразились фактически. Так как они, не столько по характеру, сколько по обстоятельствам, несколько недоверчивы, то нужно заботливо избегать всего, что могло бы иметь вид уловки или играть пред ними комедию.
Их весьма интересуют все предметы, действительно замечательные по их древности, редкости в природе, размеру или богатству сооружения…
Они с интересом изучают общественные учреждения, как благотворительные, так и учебные, и как притом желают обратить на пользу все, что обозревают… Знакомство с лицами, наиболее просвещенными и известными, составляет главный предмет их любознательности.
Они соблюдают очень строго и точно свое инкогнито; даже в частном разговоре не следует называть их иначе как графом и графинею Северными.
Хорошая музыка и хороший спектакль, в особенности если они непродолжительны и не затягиваются до позднего вечера, доставляют им, кажется, удовольствие. Военное и морское дело, конечно, составляет один из любимых предметов их занятий, точно так же как и торговля, промышленность и мануфактуры…
Из дневника парижанина Луи Башомона:
21-го мая 1782 г.[26]
18-го числа прибыли в Париж русский великий князь и великая княжна под именем графа и графини дю Нор [Северных] и остановились в доме русского посольства, так называемом отеле Леви, что в улице Грашон, поблизости бульваров. С тех пор народ постоянно окружает отель. Графа действительно находят некрасивым, зато графиня великолепна; по полноте она истая немка… Говорят, будто здесь у них будет расходов ни три миллиона. […]
…наша чернь заставила его [великого князя] испытать одни оскорбления. На каждом шагу до слуха его доходили отзывы вроде этого: «Ах! Какой дурнышка!»
Все это он сносил спокойно и по-философски. Однако раз, обратясь к кому-то из свиты, он заметил довольно громко, но весьма сдержанно: «Конечно, если бы я ранее не был убежден, что я дурен собою, то узнал бы это от этого народа». […]
2 июня 1782 г. Граф дю Нор, который не пропускает ни одного замечательного памятника, навестил в Сорбонне могилу известного кардинала Ришелье. Ученый, сопровождавший графа при обозрении церкви, напомнил ему у этой гробницы замечательные слова, некогда сказанные тут царем Петром I-м: «Великий человек! — воскликнул он. — Как жаль, что тебя нет в живых! Я отдал бы тебе половину моего царства, только бы ты поучил меня, как управлять другою!», на что молодой великий князь живо возразил: «Ах, сударь, да потом же он отнял бы у вас и эту!» […]
14 июня 1782 г. В промежутках празднеств граф и графиня Нор постоянно посещают который-либо из наших памятников или кого-нибудь из наших великих людей. Прежде всех собраний хотелось им побывать во Французской академии. Они присутствовали на одном из частных заседаний в понедельник, 27 мая. Г-н де Лагарп прочел стихотворение в честь графа дю Нора, в котором он довольно неточно сравнивает графа с царем Петром, потому что между ними нет ничего общего, кроме путешествия. […]
21 июня 1782 г. Граф и графиня дю Нор уезжают из Парижа, оставляя в парижанах дорогую память о себе. Граф возбудил живейшее участие в каждом, кто только имел счастие приблизиться к нему и говорить с ним. Он милостив, предупредителен с достоинством, по качествам своим он обнаруживает самый счастливый характер, и нельзя было ему не успеть в стране, где прежде всего ценят любезность.
Из «Ежедневной записки» князя Александра Борисовича Куракина о пребывании Павла Петровича и Марии Федоровны в Париже:
Его величество король разговаривал с князем Иваном Сергеевичем [Барятинским], спрашивая его, «нравится ли их высочествам здешнее пребывание? А я, — продолжал король, — с моей стороны, нахожу их весьма приятными». Князь Иван Сергеевич уверял, что их императорские высочества весьма чувствительны ласкою, благовоспитанностью и приветствиями его величества, королевы, всей фамилии и публики. Что, конечно, и ее императорскому величеству весьма приятно будет, что их высочества так здесь приняты. Король сими точно словами заключил с ним разговор: «Mais en vérité ils sont très aimables, et vous pouvez assurer Sa Majesté Impériale, que je suis charmé d’avoir fais leurs connaissances, et je les aime beaucoup»[27].
Из переписки немецкого публициста Фридриха Мельхиора Гримма:
В Версале казалось, что он [граф Северный] так же хорошо знает французский двор, как и свой собственный. В мастерских наших художников он обнаруживает всесторонние знания, и его лестные отзывы делают художникам честь. В наших лицеях и академиях он показывал своими похвалами и вопросами, что не существует дарований или работ, которые бы его не интересовали.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Я никогда не мог выяснить, что именно заставило Екатерину отправить великого князя в путешествие. Последствия в достаточной степени доказали неосновательность мотивов, которые ей тогда приписывали, между прочим — будто она хотела от него отделаться. Сам великий князь позволил себе распространить эти некрасивые слухи и придать им правдоподобность своими нескромными разговорами и странными сценами. Так, например, во Флоренции, обедая в тесном семейном кругу и без соблюдения этикета у великого герцога Леопольда, он вдруг вскочил из-за стола и, сунув все свои пальцы в рот, чтобы вызвать рвоту, стал кричать, что его отравили. Великогерцогская семья, крайне обиженная в своей мещанской простоте, все же старалась всеми средствами его успокоить; но потому ли, что Павел действительно воображал, что он находится в опасности, или же потому, что он притворялся, — его удалось успокоить лишь с большим трудом. В Неаполе, когда однажды зашла речь о правительстве, королева сочла нужным сказать, что не следует говорить о законах в присутствии принца, привыкшего к самому совершенному законодательству, которое существует на свете. На это великий князь воскликнул:
— Законы в России! Законы в такой стране, где та, кто царствует, может удержаться на троне только в силу того, что она законы топчет ногами!
Все ужаснулись — как мне впоследствии передавала сама королева — и постарались скорее переменить разговор. […]
Однажды в его честь устроили бал в большой галерее в Версале, где уже много лет не давались празднества, и король рассчитывал, что произведет этим большое впечатление на великого князя. Когда граф дю Нор вошел, он раскланялся и стал, как всегда, разговаривать с придворными.
— Посмотрите-ка на моего дикаря, — сказал Людовик XVI, потеряв терпение, графу де Бретелю, — ничему он не удивляется.
— Это потому, — ответил министр, — что он каждое воскресенье видит то же самое у своей матери.
Бретель, который потом был послом в России, мне сам рассказал этот эпизод, и он говорил правду. Если же, как я думаю, цель, преследуемая Екатериной, когда она своего наследника отправила путешествовать, была просветительная, то она в ней ошиблась, ибо он вернулся таким же, каким уехал; в ее присутствии он по-прежнему был неловкий царедворец, а за ее спиной неудачно выражал свое недовольство. И действительно, никто из тех, кто наблюдал за ним в Европе, не удивился его поведению после того, как он взошел на престол. […]
Когда он хотел, великий князь умел, впрочем, быть очень любезным, и во Франции это с ним часто случалось. Передают много остроумных изречений, принадлежащих ему. Я приведу одно из них, характеризующее сразу двух лиц: в Трианоне герцог, впоследствии маршал, де Коаньи, весьма модная в то время личность, стоя облокотившись на камин, спросил великого князя, не меняя своего положения, как он находит французов.
— Они очень милы, — ответил Павел, — хотя немного фамильярны.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
В Вене, Неаполе и Париже Павел Петрович пропитался теми высокоаристократическими идеями и вкусами, впоследствии столь мало согласными с духом времени, которые довели его до больших крайностей в его усилиях поддержать нравы и обычаи старого порядка, в то время как французская революция стирала все с лица Европы.
Екатерина Ивановна Нелидова
Из «Записок» Федора Николаевича Голицына:
Меня уверяли, что барон Сакен… подучен был и настроен, чтобы отвлечь великого князя от всех тех советов, которые великая княгиня ему нередко подавала, будучи окружена как она, так и он, людьми им преданными… Сих-то людей ему описали, что они владеют великою княгинею, которая их слушается, а от нее и он некоторым образом, по чужим внушениям, беспрестанно поступать должен и водим совершенно ими. Его самолюбие, уже и без того стесненное обыкновенным его положением, будучи встревожено наущениями, привело его не токмо в неудовольствие и не токмо разорвало сей драгоценный союз, но первая возродившаяся в нем мысль и желание были, чтобы доказать великой княгине, что она никакого влияния над ним иметь не может. И на сей конец выбрал он г-жу Нелидову, фрейлину великой княгини, и начал к ней иметь особое внимание и отличать ее; а чрез это самое унижать, сколько возможно, свою добродетельную супругу. […]
Фрейлина Нелидова вела себя похвально и не причиняла великой княгине дальних огорчений; но не менее ее высочество, лишась искренности и любви своего супруга, принуждена была вести себя совсем не по-прежнему и в обращении и речах быть скромнее и осторожнее. Здесь можно беспристрастно сказать в похвалу сей августейшей особе, что нельзя более употреблять терпения и снисхождения, как она употребляла. Оттого в продолжительности она возвратила к себе если не любовь, так дружбу своего супруга. Он к ней был всегда внимателен. Его привязанность к Екатерине Ивановне страстью никак назвать было нельзя. Его это занимало, забавляло; а когда случалось, что она не приезжала по вечерам во дворец, то я находил его еще веселее.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
В числе фаворитов великого князя… был Вадковский, который, как все дураки, хотел ловить рыбу в мутной воде. Г-жа Нелидова… не довольствуясь своим положением на втором месте после немки [Марии Федоровны], подстрекала его к осуществлению задуманного им проекта — смешать карты. Не было ничего легче — для этого надо было только сказать великому князю, что в глазах всего света им управляет великая княгиня… Как только это слово было произнесено, все здание рушилось; великая княгиня вообразила себе, что можно остановить разруху высокомерием; безумие дошло до того, что ее уговорили дать почувствовать мужу, что она, как виртембергская принцесса, сделала ему слишком большую честь, прибыв с конца света, чтобы выйти за него замуж, тогда как его происхождение не дало бы ему даже права на прием в любой дворянский институт. Эти подробности я слышал от самого великого князя. Ему посоветовали подзадорить великую княгиню, притворяясь, что он ухаживает за Нелидовой, которая была уже немолода и настолько некрасива, что не могла представлять опасности для законных прав. […]
Великий князь подпал под власть Нелидовой, которая, несмотря на невинность их отношений, стала держать себя публично как фаворитка. Наконец, в один осенний вечер, когда мы все находились в Гатчине, бомба лопнула… меня с графом Мусиным-Пушкиным послали к великой княгине, которая, погруженная в печаль, приняла нас лишь после особого приказания сыграть с нами, как всегда, партию. Мы не успели сесть за карточный стол в кабинете, расположенном в башне, думая, конечно, все трое меньше всего о картах, — как увидели в стеклянную дверь великого князя и г-жу Нелидову, устроившихся рядом и весело хохотавших. Это мучение продолжалось до самого ужина, от которого бедная принцесса наотрез отказалась. […]
Другой раз меня привели в одну из отдаленных комнат, где на столе был сервирован великолепный завтрак. Я был очень заинтригован, как вдруг вошел великий князь, смеясь над моим удивлением, и пожелал сам прислуживать мне за завтраком. Весь день он меня осыпал милостями. Вечером, войдя в свою комнату, я заметил, что кровать как-то не прочна, и велел ее боковые доски прикрепить веревками к столбам. Я уже лежал около получаса, как вдруг почувствовал сильное сотрясение, затем второе, еще более сильное. В то же время я услышал шаги в алькове. Я вскочил, позвонил, приказал осмотреть комнату, но безуспешно, и кончил тем, что лег спать на диван. На следующее утро я еще находился в нерешимости, следует ли мне говорить о том, что я принял за землетрясение или за попытку вторжения воров, как явился один из преданных мне слуг и рассказал мне, что эта комната раньше была ванной… и что ванна еще теперь находится под кроватью. Г-жа Нелидова, чтобы развлечь великого князя, велела под постелью устроить качалку с таким расчетом, чтобы я — если бы мне не пришло в голову принять меры предосторожности — сразу опрокинулся в ванну, наполненную водой. Великий князь был крайне недоволен, что эта шутка не удалась и что он понапрасну оказал мне столько милостей, которые были предназначены для того, чтобы убаюкать меня насчет конца приключения. Я же счел более достойным и осторожным притвориться ничего не знающим.
Из переписки дипломата графа Никиты Петровича Панина 1799 г.:
В 1791 году приехал я в Петербург служить при дворе камер-юнкером, но в императорской фамилии[28] не было и помину о том счастливом согласии, каковое видел я после возвращения из армии[29]. Уже воцарилась Нелидова, а великая княгиня была оставлена, пренебрежена и унижена всеми льстецами и угодниками. Я, однако же, не последовал сему примеру, и поведение мое никак не могло понравиться. Великий князь употреблял вначале ласкательства, потом холодность, потом угрозы, дабы сподвигнугь меня в число обожателей его идола. Ласкательства не прельстили меня, а угрозы не запугали. Прибегли тогда к лукавым и отвлеченным рассуждениям для убеждения в том, что благосклонность будущего государя явится наградой за смелое повиновение, иначе говоря, за почитание Нелидовой и пренебрежение к великой княгине. Я ответствовал, что не разумею мистический язык, отчего [великий князь] изволил гневаться еще более. Поскольку все сии внушения делались через посредство людей весьма недостойных, просил я у великого князя объяснений, каковые и были даны мне, но после чего упал я окончательно в его глазах. Невозможно доверить перу все то, что произошло при сем разговоре, случившемся в августе 1791 года; достаточно лишь сказать вам, что нежелание мое навлекло на меня из собственных уст императора[30] таковые грозные слова: сударь, избранный вами путь ведет или за дверь, или на плаху. Я ответствовал, что не сойду с дороги чести, и вышел из кабинета, даже не дождавшись того кивка головы, который означает: идите.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Самой яркой звездой на придворном горизонте была молодая девушка, которую пожаловали фрейлиной в уважение превосходных дарований, выказанных ею во время ее воспитания в Смольном монастыре: ее звали Екатерина Нелидова. По наружности она представляла полную противоположность с великой княгиней, которая была белокура, высокого роста, склонна к полноте и очень близорука. Нелидова же была маленькая, смуглая, с темными волосами, блестящими черными глазами, с лицом, исполненным выразительности. Она танцевала с необыкновенным изяществом и живостью, разговор ее при совершенной скромности отличался изумительным остроумием и блеском.
Павел недолго оставался равнодушным к стольким прелестям. Впрочем, надо заметить, что великий князь отнюдь не был человеком безнравственным, напротив того, он был добродетелен как по убеждению, так и по намерениям. Он ненавидел распутство, был искренне привязан к своей прелестной супруге и не мог себе представить, чтобы какая-нибудь интриганка могла когда-либо увлечь его до того, чтобы влюбить в себя без памяти. Поэтому он свободно предался тому, что считал чисто платонической связью, и это было началом его странностей. […]
Екатерина Ивановна Нелидова… вскоре сделалась приятельницей великой княгини, оставаясь в то же время платоническим кумиром Павла.
Двор наследника
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
В качестве великого князя Павел Петрович имел великолепные апартаменты в Зимнем дворце, а также во дворце Царскосельском. Здесь происходили их выходы и приемы, и тут же они давали пышные обеды, вечера и балы, оказывая постоянно чрезвычайную любезность своим гостям. Все высшие чины их двора, равно как и прислуга, принадлежали к штату императрицы, поочередно в течение недели дежурили в обоих дворцах, причем все издержки уплачивались из Кабинета ее величества. В этих приемах своего сына императрица Екатерина обыкновенно весьма милостиво сама принимала участие и после первого выхода радушно присоединялась к обществу, не допуская обычного этикета, установленного при ее собственном дворе. […]
Кроме названных апартаментов у великого князя был еще очень удобный дворец — Каменноостровский, расположенный на одном из островов на Неве. Здесь великий князь и его супруга также давали избранному обществу весьма веселые празднества, на которых происходили так называемые jeux d’esprit (игры ума), театральные представления, словом, все то, что придумали остроумие и любезность старого французского двора.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
…в продолжение двух последних лет царствования Екатерины II (1794–1796)… он [великий князь] постоянно был окружен группой лиц, называемых «гатчинцами», почти не выезжал из Гатчины и появлялся в городе лишь в торжественных случаях.
Из «Записок» Августа Коцебу:
Он жил обыкновенно в Гатчине, своем увеселительном замке. Там, по крайней мере, он хотел быть господином и был таковым. Того, кто ему не нравился, он удалял от своего маленького двора, причем случалось, что он приказывал посадить его ночью в кибитку, перевезти чрез близкую границу и высадить на большой дороге, откуда изгнанник уже должен был сам добраться до первого встречного дома.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
…он имел еще великолепный дворец и имение в Гатчине, в 24 верстах от Царского Села. К Гатчине были приписаны обширные земли и несколько деревень. Супруга великого князя имела такое же имение в Павловске с обширными парками и богатыми деревнями. Этот дворец находился всего в трех верстах от Царского Села. В этих двух имениях великий князь и его супруга обыкновенно проводили большую часть года одни, имея лишь дежурного камергера и гофмаршала. Здесь великий князь и великая княгиня обыкновенно не принимали никого, исключая лиц особо приглашенных. […]
Во время поездок… в Гатчину и в Павловск я… живо помню то странное впечатление, которое производило на меня все то, что я здесь видел и слышал. Все было как бы в другом государстве, особенно в Гатчине, где был выстроен форштадт[31], напоминавший мелкие германские города. Эта слобода имела заставы, казармы, конюшни, и все строения были точь-в-точь такие, как в Пруссии. Что касается войск, здесь расположенных, то можно было побиться об заклад, что они только что пришли из Берлина. […]
Когда Павел был еще очень молод, императрица, пожелавшая дать ему громкий титул, не сопряженный, однако, с каким-либо трудом или ответственностью, пожаловала его генерал-адмиралом российского флота; впоследствии он был назначен шефом превосходного Кирасирского полка, с которым прослужил одну кампанию против шведов, причем имел честь видеть, как над головой его пролетали пушечные ядра во время одной стычки с неприятелем. Поселившись в Гатчине в качестве генерал-адмирала, великий князь потребовал себе батальон морских солдат с несколькими орудиями, а как шеф кирасиров — эскадрон этого полка, с тем чтобы образовать гарнизон города Гатчины.
Оба желания великого князя были исполнены, и таким образом положено начало пресловутой «Гатчинской армии», впоследствии причинившей столько неудовольствий и вреда всей стране. […]
Во всех гатчинских войсках офицерские должности были заняты людьми низкого происхождения, так как ни один порядочный человек не хотел служить в этих полках, где господствовала грубая прусская дисциплина. […]
…все происходившее в Гатчине тотчас делалось известным при большом дворе и в публике, и будущая судьба России подвергалась свободному обсуждению и не совсем умеренной критике. […]
Мы, офицеры, часто смеялись между собой над гатчинцами. В 1795–1796 годах я был за границей и, проведя несколько недель в Берлине, порядочно ознакомился с прусской выправкой. По возвращении моем домой мои товарищи часто заставляли меня подражать или, вернее, передразнивать прусских офицеров и солдат. В то время мы и не помышляли, что скоро все будем обречены на прусскую обмундировку, выправку и дисциплину.
Из переписки принцессы Августы Саксен-Кобургской:
Мы были очень любезно приняты [при дворе Павла Петровича в Гатчине], но здесь я очутилась в атмосфере, совсем не похожей на петербургскую. Вместо непринужденности, господствующей при императорском дворе, я нашла здесь стеснение; все было натянуто и безмолвно. Великий князь, который, впрочем, очень умен и может быть приятным в обхождении, если он того желает, отличается непонятными странностями, между прочим дурачеством устраивать все вокруг себя на старопрусский лад. В его владениях тотчас встречаются шлагбаумы, окрашенные в черный, красный и белый цвет, как это имеет место в Пруссии; при шлагбаумах находятся часовые, которые опрашивают проезжающих подобно пруссакам. Всего хуже, что это солдаты русские, переодетые в пруссаков; эти прекрасные на вид русские, наряженные в мундиры времен короля Фридриха Вильгельма I, изуродованы этой допотопной формой. Русский должен оставаться русским.
Он сам это сознает, и каждый находит, что он в своей одежде, в коротком кафтане, с волосами, остриженными в кружок, несравненно красивее, чем с косою и в мундире, в котором он в стесненном и несчастном виде представляется в Гатчине. Офицеры имеют вид, точно они срисованы из старого альбома. За исключением языка они во всем прочем вовсе не похожи на русских. Нельзя сказать, чтобы эта метаморфоза была умно придумана. Мне было больно видеть эту перемену, потому что я чрезвычайно люблю этот народ.
Из дипломатического донесения Джеймса Гарриса от 3 октября 1778 г.:
Политика Павла Петровича в настоящее время совершенно прусская, и, если он не переменится, то сделается столь же странен своим пристрастием к прусскому королю, как и его отец.
В ожидании трона
Великий князь Павел Петрович. «Размышления, пришедшие мне в голову по поводу выражения, которым мне часто звенели в уши: о «принципах правительства»», 1772 г.:
После многих размышлений, перебродивших у меня в голове об этом предмете, я принялся внимательно рассматривать значение этих двух слов порознь, вне всякого иного их значения, и нашел, что первое из них: «принцип» — означает начало или основу чего бы то ни было, служащее как бы источником того, что видим впоследствии, и как бы шпилем (стержнем), на котором все вертится. Вот моя мысль о слове «принцип».
Второе слово: «правительство» — означает власть, установленную для управления или государством, или просто людьми… Теперь дело в том, чтобы рассмотреть оба слова в их сочетании. […] Итак, под словами «принципы правительства» разумеют начало и в то же время основание власти… Власть… первоначально происходит от физической силы, потому что в естественном состоянии сильнейший, победив слабейших, давал им закон — и это источник власти. Люди, собранные в обществе и вследствие этого сделавшись образованнее, увидели, что жить вместе не могут, не будучи управляемы по причине разности их характеров и избрали себе тогда начальников, которым (отдались, вручили себя) добровольно, предоставив ему (им) волю управлять ими. Эти начальники, сделавшись всемогущими и не видя ничего, что могло бы положить предел их страстям, начали увлекаться ими и совершать бесчинства. Тогда общество помыслило, чем бы умерить эту власть, определив ей границы, — (и) вот начало законов. Законы — основа всему, ибо без нашей свободной воли они показывают, чего должно избегать, а следовательно, и то, что мы еще должны делать. Основа этих законов, в их применении к стране или государству, служить руководством правительственной власти, и ее называют принципом правительства.
Я не говорю здесь о злоупотреблениях законов и власти, ибо желать говорить о злоупотреблениях — то же, что желать сосчитать капли в море.
Великий князь Павел Петрович. Из «Рассуждения о государстве относительно числа войск, потребного для защиты оного и касательно обороны всех пределов», 1774 г.:
Государство наше теперь в таком положении, что необходимо подобен ему покой. Война… изнуряет государство людьми, а через то и уменьшает хлебопашество, опустошая земли… Теперь остается только желать долгого мира, который доставил бы нам совершенный покой, дабы возобновить тишину, привести вещи в порядок и наконец наслаждаться совершенным покоем… наш же народ таков, что малейшее удовольствие заставит его забыть годы неудовольствия и самое бедствие.
По сие время мы, пользуясь послушанием народа и естественным его счастливым сложением, физическим и моральным, все из целого кроили, не сберегая ничего[32]; но пора помышлять о сохранении сего драгоценного и редкого расположения…
Показав… что к равновесию потребно… совершил намерение себя сделать полезным государству, писав сие от усердия и любви к отечеству, а не по пристрастию или корысти…
Великий князь Павел Петрович. Из «Собственноручной записки о гвардии», после 1774 г.:
Гвардию нахожу весьма великою и весьма неспособною ко всякому делу, не говоря о прочих неудобствах, которые каждый чувствует, но не станет о сем говорить. Вовсе быть без нее нельзя, ибо как достоинство, обычай, так и привычка глаз… делают ее необходимой, ибо и в безделицах опасно идти противу обычая и привычки.
Для всего сего мысль моя о ней такова. Оставить название всех полков и мундир оных. Но довести пехотные три [полка] нижеследующим образом, чтоб под всяким было не более баталиона, составленного из гренадерской и четырех мушкетерских рот… А дабы дух своевольный вывести из нее, раздающийся от праздной и одноместной жизни, то каждый год посылать их в разные места… и сим средством будут они от марта месяца до августа в походе, в сии пять месяцев не до своевольства будет, а остальные семь пройдут в отдыхании да в сборах.
Конную же [гвардию] можно оставить как и была, ибо оной немного… Офицеров же гвардии производить, как и ныне, но наличных [находящихся на месте предписания службы в наличии], а тех, которые вновь производиться будут, то жаловать армейскими прапорщиками и вести армейскими чинами[33].
Из писем великого князя Павла Петровича к Марии Федоровне накануне его отъезда в действующую армию в 1788 г.:
Любимая жена моя! […]
Воображая возможность происшествий, могущих случиться в мое отсутствие, ничего для меня горестнее, а для Отечества чувствительнее себе представить не могу, как если бы вышним провидением суждено было в самое сие время лишиться мне матери, а ему государыни. […]
Признаюсь тебе, что считаю оное таким ударом, которого возможность удалил бы я совсем из своей мысли для своего спокойствия, если бы любовь моя к Отечеству и долг мой пред ним не налагали на совесть мою обязательства огорчить себя воображением возможности сего происшествия для того, чтобы целость его и обезопасность в толь несчастный момент непоколебимы остались. […]
Во-первых, поручаю тебе, как скоро постиг бы момент сего несчастного случая, немедленно объявить Сенату, Синоду и первым трем коллегиям сие мое к тебе письмо, которого содержание в тот же самый час и возымеет силу моей точной воли и повеления, которым утверждаю тебя правительницею на время моего отсутствия, почему и обнародуй сие несчастное происшествие, а письмо сие объяви в Сенате при уверении о моем благоволении всех и каждого. Прикажи от имени моего Синоду, Сенату и первым трем коллегиям о принятии от всех должной присяги мне и сыну моему Александру как наследнику, обнадежа непременностью попечения моею о истинном всех благосостоянии. Объяви Синоду, Сенату и трем коллегиям, чтоб остались в прежней своего звания власти относительно до упражнения по государственным текущим делам.
Сенат, Синод, три первые коллегии, все прочие гражданские, военные и судебные места, шефы разных команд и установлений, словом сказать, все места и все шефы без изъятия должны без малейшей остановки отправлять, по их званиям, все обыкновенные текущие дела на узаконенных уже основаниях, которые все имеют оставаться до моего возвращения точно в прежнем положении, не вводя в них никаких и ни малейших новостей перемен, по каким бы то причинам и поводу ни было.
Тебе как правительнице смотреть бденным оком, чтоб оно везде и во всей точности наблюдаемо было.
Тебе, любезная жена, препоручаю особенно в самый момент предполагаемого несчастия, от которого удали нас Боже, весь собственный кабинет и бумаги государынины, собрав при себе в одно место, запечатать государственною печатью, приставить к ним надежную стражу и сказать волю мою, чтоб наложенные печати оставались в целости до моего возвращения.
Буде бы в каком-нибудь правительстве или в руках частного какого человека остались мне неизвестные какие бы то ни было повеления, указы или распоряжения, в свет не изданные, оным, до моего возвращения, остаться не только без всякого и малейшего действия, но и в той же непроницаемой тайне, в какой по тот час сохранялись.
Со всяким же тем, кто отважится нарушить или подаст на себя справедливое подозрение в готовности преступить сию волю мою, имеешь поступить по обстоятельствам как с сущим или как с подозреваемым государственным злодеем, предоставляя конечное судьбы его решение самому мне по моем возвращении, затем пребываю твоим верным твой верный
Павел.
С.-Петербург.
Генваря 4-го дня 1788 г.
Любезная жена моя! […]
Таковое происшествие [смерть Екатерины II] может последовать равномерно и… после моей смерти… […]
Поручаю тебе тогда немедленно объявить императором сына нашего большого Александра и сие мое к тебе письмо Сенату, Синоду и трем первым коллегиям. Если сын мой большой останется малолетен, то поручаю тебе правительство как правительнице и со оным опеку детей наших до совершеннолетия, сего требует порядок и безопасность государства. При тебе быть совету правительства, которому нет дела до опеки. Совету сему состоять из шести особ первых двух классов по выбору твоему. В сей совет правительства входить всем делам, подлежащим решению самого государя, и всем тем, которые как к нему, так и в совет его вступают; однако ты имеешь как правительница во всяком случае голос решительный. Совершеннолетие начинается в шестнадесять лет. Жениться и замуж идтить детям нашим не позволяю инако как с воли твоей, и, во всяком случае, надеюсь от детей своих и сверх сего повелеваю отдавать тебе, которая достоинствами и добродетелями преисполнена, которую любил, как самого себя, и ни в чем с собою не разлучал, по долгу к тебе большему, нежели ко мне, ибо ты их на свет произвела, и помня наш союз и любовь; то, чем они мне должны были, любить и почитать тебя и согласоваться с волею твоею. Тем более должны они тебе всем сим, что ты помогла утвердить на предбудущие веки тишину и спокойствие и тем самым блаженство государства. Их долг удвоить любовь и благодарность свою к тебе, сохранять свято противу тебя то, что Господь Бог в заповедях и Святом Писании предписал детям к родителям, и посвятить на то жизнь свою. […]
Сим письмом исполнив долг званья своего, совести и любви моей к тебе, пребываю твоим верным
Павел.
С.-Петербург.
Генваря 4-го дня 1788 г.
Царственный мистик
Рассказ великого князя Павла Петровича о видении в Санкт-Петербурге. Брюссель, 10 июля 1782 г.:
Однажды вечером, или, пожалуй, уже ночью, я в сопровождении Куракина и двух слуг шел по петербургским улицам. Мы провели вечер у меня во дворце за разговорами и табаком и вздумали, чтобы освежиться, сделать прогулку инкогнито при лунном освещении. Погода была не холодная; это было в лучшую пору нашей весны. Разговор наш шел не о религии и не о чем либо серьезном, а, напротив того, был веселого свойства, и Куракин так и сыпал шутками насчет встречных прохожих. Несколько впереди меня шел слуга, другой шел сзади Куракина, который следовал за мною в нескольких шагах позади. Лунный свет был так ярок, что можно было читать, и, следовательно, тени были очень густы. При повороте в одну из улиц я вдруг увидел в глубине подъезда высокую худую фигуру, завернутую в плащ вроде испанского и в военной, надвинутой на глаза шляпе. Он будто ждал кого-то. Только что я миновал его, он вышел и пошел около меня с левой стороны, не говоря ни слова. Я не мог разглядеть ни одной черты его лица. Мне казалось, что ноги его, ступая на плиты тротуара, производили странный звук, точно как будто камень ударялся о камень. Я был изумлен, и охватившее меня чувство стало еще сильнее, когда я ощутил ледяной холод в моем левом боку, со стороны незнакомца. Я вздрогнул и, обратясь к Куракину, сказал:
— Судьба послала нам странного спутника.
— Какого спутника? — спросил Куракин.
— Господина, идущего у меня слева, которого, кажется, можно заметить уже по шуму, им производимому.
Куракин в изумлении раскрыл глаза и возразил, что у меня с левой стороны никого нет.
— Как? Ты не видишь этого человека между мною и домовою стеною?
— Вы идете возле самой стены, и физически невозможно, чтобы кто-нибудь был между вами и ею.
Я протянул руку и ощупал камень. Но все-таки незнакомец был тут и шел со мною шаг в шаг, и звуки его шагов, как удары молота, раздавались по тротуару. Я посмотрел на него внимательнее прежнего, и под его шляпой блеснули такие блестящие глаза, каких я не видал никогда ни прежде, ни после. Они смотрели прямо на меня и производили во мне какое-то чарующее действие.
— Ах, — сказал я Куракину, — я не могу передать тебе, что я чувствую, но только во мне происходит что-то особенное.
Я дрожал не от страха, но от холода. Я чувствовал, как что-то особенное проницало все мои члены, и мне казалось, что кровь замерзала в моих жилах. Вдруг из-под плаща, закрывавшего рот таинственного спутника, раздался глухой и грустный голос:
— Павел!
Я был во власти какой-то неведомой силы и машинально отвечал:
— Что вам нужно?
— Павел! — сказал опять голос, на этот раз, впрочем, как-то сочувственно, но с еще большим оттенком грусти. Я не мог сказать ни слова. Голос снова назвал меня по имени. И незнакомец остановился. Я чувствовал какую-то внутреннюю потребность сделать то же.
— Павел! Бедный Павел! Бедный князь!
Я обратился к Куракину, который тоже остановился.
— Слышишь? — спросил я его.
— Ничего не слышу, — отвечал тот, — решительно ничего.
Что касается до меня, то этот голос и до сих пор еще раздается в моих ушах. Я сделал отчаянное усилие над собой и спросил незнакомца, кто он и что ему нужно.
— Кто я? Бедный Павел! Я тот, кто принимает участие в твоей судьбе и кто хочет, чтобы ты не особенно привязывался к этому миру, потому что ты не долго останешься в нем. Живи по законам справедливости, и конец твой будет спокоен. Бойся укора совести: для благодарной души нет более чувствительного наказания.
Он прошел снова, глядя на меня все тем же проницательным взором. И если я прежде остановился, когда остановился он, так и теперь я почувствовал желание пойти, потому только, что пошел он. Он не говорил, и я не чувствовал особого желания обратиться к нему с речью. Я шел за ним, потому что он теперь направлял меня. Это продолжалось более часа. Где мы были, я не знал…
Наконец мы пришли к большой площади, между мостом через Неву и зданием Сената. Он пошел прямо к одному как бы заранее отмеченному месту площади, где в то время воздвигался монумент Петру Великому[34]; я, конечно, следовал за ним и затем остановился.
— Прощай, Павел, — сказал он, — ты еще увидишь меня опять здесь и кое-где еще.
При этом шляпа его поднялась как бы сама собою, и глазам моим представился орлиный взор, смуглый лоб и строгая улыбка моего прадеда Петра Великого. Когда я пришел в себя от страха и удивления, его уже не было передо мною…
Часть II Император Павел I
Кончина Екатерины II
Из воспоминаний графа Федора Васильевича Ростопгина:
…она [Екатерина II] с лишком полчаса не выходила из гардероба, и камердинер Тюльпин, вообразив, что она пошла гулять в Эрмитаж, сказал о сем Зотову, но этот, посмотрев в шкаф, где лежали шубы и муфты императрицы (кои она всегда сама вынимала и надевала, не призывая никого из служащих), и видя, что все было в шкафу, пришел в беспокойство и, пообождав еще несколько, минут, решился идти в гардероб, что и исполнил. Отворив дверь, он нашел императрицу лежащею на полу, но не целым телом, потому что место было узко и дверь затворена, а от этого она не могла упасть наземь. Приподняв ей голову, он нашел глаза закрытыми, цвет лица багровым, и была хрипота в горле. Он призвал к себе на помощь камердинеров, но они долго не могли поднять тела по причине тягости и оттого, что одна нога подвернулась. Наконец, употребив еще несколько человек из комнатных, они с великим трудом перенесли императрицу в спальную комнату, но, будучи не в состоянии поднять тело на кровать, положили на полу, на сафьянном матрасе. Тотчас послали за докторами. […]
К великому князю-наследнику от князя Зубова [Платона Александровича] и от прочих знаменитых особ послан был с извещением граф Николай Александрович Зубов; а первый, кто предложил и нашел сие нужным, был граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.
В тот самый день наследник кушал на гатчинской мельнице, в 5 верстах от дворца его. Перед обедом, когда собрались дежурные и прочие особы, общество гатчинское составлявшие, великий князь и великая княгиня рассказывали… случившееся с ними тою ночью. Наследник чувствовал во сне, что некая невидимая и сверхъестественная сила возносила его к небу. Он часто от этого просыпался, потом засыпал и опять был разбужаем повторением того же самого сновидения; наконец, приметив, что великая княгиня не почивала, сообщил ей о своем сновидении и узнал, к взаимному их удивлению, что и она то же самое видела во сне и тем же самым несколько раз была разбужена. […]
…Петербург не знал еще о приближающейся кончине императрицы Екатерины. Быв в английском магазине, я возвращался пешком домой и уже прошел было Эрмитаж, но, вспомнив, что в следующий день я должен был ехать в Гатчино, вздумал зайти проститься с Анною Степановною Протасовой. Вошед в ее комнату, я увидел девицу Полетику и одну из моих своячениц в слезах: они сказали мне о болезни императрицы и были встревожены первым известием об опасности. […]
…пришел… великий князь Александр Павлович. Он был в слезах, и черты лица его представляли великое душевное волнение. Обняв меня несколько раз, он спросил, знаю ли я о происшедшем с императрицею… Он подтвердил мне, что надежды ко спасению не было никакой, и убедительно просил ехать к наследнику для скорейшего извещения, прибавив, что хотя граф Николай Зубов и поехал в Гатчину, но я лучше от его имени могу рассказать о сем несчастном происшествии. […]
…наследник [Павел Петрович, направлявшийся в Петербург] вышел из кареты. Я привлек его внимание на красоту ночи. Она была самая тихая и светлая; холода было не более 3°; луна то показывалась из-за облаков, то опять за оные скрывалась. Стихии, как бы в ожидании важной перемены в свете, пребывали в молчании, и царствовала глубокая тишина. Говоря о погоде, я увидел, что наследник устремил взгляд свой на луну, и, при полном ее сиянии, мог я заметить, что глаза его наполнялись слезами и даже текли слезы по лицу… Я не мог воздержаться от повелительного движения и, забыв расстояние между ним и мною, схватив его за руку, сказал:
— Ah, Monseigneur, quel moment pour Vous![35]
На это он отвечал, пожав крепко мою руку:
— Attendez, mon cher, attendez. J’ai vécu quarante deux ans Dieu m’a soutenu; peut-être, donnera-t-il la force et la raison pour supporter l’état, au quel il me destine. Esperons tout de Sa bonté[36].
Вслед за сим он тотчас сел в карету и в 8 с половиною часов вечера въехал в С.-Петербург, в котором еще весьма мало людей знали о происшедшем. […]
Наследник, зашед на минуту в свою комнату в Зимнем дворце, пошел на половину императрицы. Проходя сквозь комнаты, наполненные людьми, ожидающими восшествия его на престол, он оказывал всем вид ласковый и учтивый. Прием, ему сделанный, был уже в лице государя, а не наследника. Поговорив несколько с медиками и расспросив о всех подробностях происшедшего, он пошел с супругою в угольный кабинет и туда призывал тех, с коими хотел разговаривать или коим что-либо приказывал. […]
Между тем все ежеминутно ожидали конца жизни императрицы, и дворец более и более наполнялся людьми всякого звания. […]
С трех часов пополудни слабость пульса у императрицы стала гораздо приметнее, раза три или четыре думали доктора, что последует конец, но крепость сложения и множество сил, борясь со смертью, удерживали и отдаляли последний удар.
Тело лежало в том же положении, на сафьянном матрасе, неподвижно, с закрытыми глазами. Сильное хрипение в горле слышно было и в другой комнате, вся кровь поднималась в голову, и цвет лица был иногда багровый, а иногда походил на самый живой румянец. У тела находились попеременно придворные лекари и, стоя на коленях, отирали ежеминутно материю, текшую изо рта, сперва желтого, а под конец черноватого цвета. […]
Помещу здесь одно из моих примечаний: войдя в комнату, называемую дежурной, я нашел князя Зубова сидящего в углу; толпа придворных удалялась от него, как от зараженного, и он, терзаемый жаждою и жаром, не мог выпросить себе стакана воды. […]
В 9 часов пополудни Роджерсон, войдя в кабинет, в коем сидели наследник и супруга его, объявил, что императрица кончается. Тотчас приказано было войти в спальную комнату великим князьям, княгиням и княжнам… Сия минута до сих пор и до конца жизни моей пребудет в моей памяти незабвенною. По правую сторону тела императрицы стояли наследник, супруга его и их дети; у головы призванные в комнату Плещеев и я; по левую сторону доктора лекари и вся услуга Екатерины. Дыхание ее сделалось трудно и редко; кровь то бросалась в голову и переменяла совсем черты лица, то, опускаясь вниз, возвращала ему естественный вид. Молчание всех присутствующих, взгляды всех, устремленные на единый важный предмет, отдаление на сию минуту от всего земного, слабый свет в комнате — все сие обнимало ужасом, возвещало скорое пришествие смерти. Ударила первая четверть одиннадцатого часа. Великая Екатерина вздохнула в последний раз и, наряду с прочими, предстала пред судом Всевышнего.
Казалось, что смерть, пресекши жизнь сей великой государыни и нанеся своим ударом конец и великим делам ее, оставила тело в объятиях сладкого сна. Приятность и величество возвратились опять в черты лица ее и представили еще царицу, которая славою своего царствования наполнила всю вселенную. Сын ее и наследник, наклоня голову пред телом, вышел, заливаясь слезами, в другую комнату, спальная комната в мгновение ока наполнилась воплем женщин, служивших Екатерине.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
В четверг, 6 ноября 1796 года, я прибыл по обыкновению к Загряжским. К семи часам вечера на столе было приготовлено лото, и я предложил себя, чтобы первому вынимать номера. Г-жа Загряжская отвечала более холодным тоном, чем обыкновенно: «Хорошо», — и я начал игру. Играющие, однако, думали, по-видимому, о чем-то другом, так что я даже слегка пожурил их за то, что они не отмечают номеров.
Между тем г-жа Загряжская вдруг отозвала меня в сторону и сказала:
— Vous êtes un singulier homme, Sabloukoff!
— En quoi done, madame? — возразил я.
— Vous ne savez done rien?
— Mais qu’y a-t-il à savoir?
— Comment done, l’Imperatrice a eu un coup d’apoplexie et on la croit morte…[37]
Я чуть не свалился с ног и так побледнел, что г-жа Загряжская очень встревожилась за меня. Как только я пришел в себя, побежал с лестницы, бросился в мой экипаж и отправился в дом моего отца. Оказалось, что он уже уехал в Сенат, куда его вызвали. Катастрофа действительно совершилась, сомнений быть не могло. Екатерина скончалась. […]
По дороге мне попадались люди разного звания, которые шли пешком или ехали в санях и каретах и все куда-то спешили. Некоторые из них останавливали на улице своих знакомых и со слезами на глазах высказывали свое горе по поводу случившегося. Можно было думать, что у каждого русского умерла нежно любимая мать. […]
…около полуночи [в Зимний дворец] прибыл великий князь. В течение ночи был составлен манифест, в котором оповещалось для всеобщего сведения о кончине императрицы Екатерины и о вступлении на престол императора Павла I. Акт этот был также прочитан в Сенате, и была принесена обычная присяга. […]
Никогда не забуду я этого дня и ночи, проведенных мной в карауле во дворце. Что эта была за суета, что за беготня вверх и вниз, взад и вперед! Какие странные костюмы! Какие противоречивые слухи!
Императорское семейство то входило в комнату, в которой лежало тело покойной императрицы, то выходило из оной. Одни плакали и рыдали о понесенной потере, другие самонадежно улыбались в ожидании получить хорошие места. Я должен, однако же, признаться, что число последних было невелико.
Из «Записок» Александра Александровича Башилова:
В 1796 году, помню, что в ноябре, чуть ли не 6-го числа, в 3 часа, стали поговаривать, что императрица Екатерина нездорова и что с ней сделался удар. Вы можете посудить о смятении всех и каждого. Кто из видов сожалел, кто из боязни, а кто из любви; к сему последнему обстоятельству мы, невинные твари, были причастны. […] Государь Павел Петрович прибыл около 9-го часа; а в 9 часов и 55 минут уже дух Екатерины парил на небесах. Какая ужасная картина! Какая суматоха, и какие поделались у всех лица; у иного длинное в аршин, у иного сплюснутое в вершок, и перемена правления была такая загадка, после того что после царствования женщины стал царствовать государь хотя мудрый, но строгий.
Воцарение
Из воспоминаний Федора Васильевича Ростопчина:
Слезы и рыдания не простирались далее той комнаты, в которой лежало тело государыни. Прочие наполнены были людьми знатными и чиновными, которые во всех происшествиях, и счастливых и несчастных, заняты единственно сами собой, а сия минута для них всех была тем, что Страшный суд для грешных. Граф Самойлов, вышедши в дежурную комнату, натурально с глупым и важным лицом, которое он тщетно принуждал изъявлять сожаление, сказал: «Милостивые государи! Императрица Екатерина скончалась, а государь Павел Петрович изволил взойти на всероссийский престол». […]
Обер-церемониймейстер Валуев, который всегда занят единственно церемониею, пришел с докладом, что в придворной церкви все готово к присяге. Император со всею фамилиею, в сопровождении всех съехавшихся во дворец, изволил пойти в церковь. Пришедши, стал на императорское место, и все читали присягу вслед за духовенством. После присяги императрица Мария, подошедши к императору, хотела броситься на колена, но была им удержана, равно как и все дети.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Наконец он взошел на престол и был в восторге от перешедшей к нему полноты власти.
Из воспоминаний князя Петра Михайловича Волконского, записанных А. В. Висковатовым:
С 6 на 7 ноября 1796 г., после полуночи, собраны были все гвардейские полки на своих полковых дворах для присяги вступившему на престол императору Павлу I, где получили приказ императора, что наследник престола Александр Павлович назначен шефом лейб-гвардии Семеновского полка. Известие сие чрезвычайно обрадовало весь полк.
…генерал-поручик В. И. Левашов приказал мне быть при относе знамен из полка в Зимний дворец, куда мы с ним отправились наперед. По прибытии в Зимний дворец на половину наследника В. И. Левашов пошел к его высочеству и по выходе от него приказал мне идти вниз дожидаться знамен, о прибытии коих доложить наследнику.
Сошед с подъезда, называемого тогда Салтыковским, я пошел на Дворцовую площадь навстречу роте; но, увидев ходящих близ средних ворот Зимнего дворца нескольких офицеров в мундирах нового покроя, пошел к ним из любопытства; каково же было мое удивление, видев самого наследника [Александра Павловича] в 2 часа ночи, в мундире лейб-гвардии Семеновского полка нового покроя, в Андреевской ленте и шарфе по кафтану…
Николай Михайловиг Карамзин. Из «Оды на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому, самодержцу всероссийскому»:
Что слышу? Громы восклицаний, Сердечных, радостных взываний!.. Что вижу? Весь народ спешит Во храм, украшенный цветами; Спешит с подъятыми руками — Вступает… новый гром гремит, И слезы счастия лиются!.. Се россы добрые клянутся, Теснясь к святому алтарю, В любви и верности царю. Итак, на троне Павел Первый? Венец российския Минервы Давно назначен был ему… Я в храм со всеми поспешаю, Подъемлю руку, восклицаю: «Хвала творцу, хвала тому, Кто правит вышними судьбами! Клянуся сердцем и устами, Усердьем пламенным горя, Любить российского царя!» Мы все друг друга обнимаем, Россию с Павлом поздравляем. Друзья! Он будет наш отец; Он добр и любит россов нежно! То царство мирно, безмятежно, В котором царь есть царь сердец; От неба он венцом украшен И только злым бывает страшен; Для злых во мраке туч гремит, Благим как Бог благотворит. Неправда, лесть! навек сокройся! Святая искренность, не бойся К царю приблизиться теперь!..Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Последовал приказ вырыть останки Петра III. Это казалось весьма просто: он был похоронен на кладбище Александро-Невской лавры. Старый монах указал место. Но рассказывают, что тело можно было распознать только по одному сапогу… Как бы то ни было, кости вместе с этим сапогом были вложены в гроб, который по внешности точь-в-точь походил на гроб императрицы и был установлен рядом с последним на одном и том же катафалке. Это произвело громадное впечатление: дураки рукоплескали, благоразумные потупляли свои взоры: но первых больше всего поразило то обстоятельство, что для оказания почестей праху Петра III выбрали именно тех людей, которые подготовили его смерть: из них выделялись князь Орлов, герой Чесмы, и обер-гофмаршал князь Барятинский [Федор Сергеевич]. Первый был стар и уже долгие годы разбит на ноги, так что, когда погребальное шествие должно было тронуться с места, — а предстоял длинный путь, — он стал извиняться невозможностью участвовать в этой церемонии. Но Павел, присутствовавший при этом и наслаждавшийся этим, несомненно, заслуженным, но не особенно приличным возмездием, приказал вручить ему императорскую корону на подушке из золотой парчи и крикнул ему громким голосом: «Бери и неси». […]
По возвращении из Москвы [после коронации 5 апреля 1797 г.] император проявлял больше самоуверенности и, главное, чувствовал себя более повелителем. Каждый день приносил неожиданные милости и опалы, о причинах коих никто не мог догадаться.
Из воспоминаний адъютанта великого князя Павла Петровича, Николая Осиповича Кутлубицкого, записанных А. И. Ханенко[38]:
По смерти императрицы Екатерины [Платон] Зубов оставался во дворце по-прежнему. Между тем Павел приказал купить на Морской улице дом и отделал его, как дворец, только не велел ставить императорского герба. Когда дом был готов, убран и снабжен всем столовым серебром, столовым золотым прибором на несколько персон, экипажами, лошадьми, тогда, накануне [дня] рождения Зубова, государь послал к нему Кутлубицкого сказать, что он дарит ему этот дом ко дню его рождения и завтра с императрицею будет у него пить чай, Зубов поблагодарил и переехал со дворца в подаренный ему дом.
На следующий день император с Марией Федоровной в сопровождении Капцевича и Кутлубицкого (на запятках) после обеда отправился к Зубову, который встретил их на лестнице и упал к ногам их. Государь и государыня подняли его и пошли с ним под руку по лестнице, причем Павел сказал ему: «Кто старое помянет, тому глаз вон[39]». В гостиной подали шампанского; государь сказал графу: «Сколько здесь капель, столько желаю тебе всего доброго», — и, обращаясь к государыне, сказал: «Выпей все до капли». И, выпивши, сам разбил бокал, причем опять Зубов падал к ногам его и был поднят с повторением: «Я тебе сказал, кто старое помянет, тому глаз вон». Потом подали самовар. Государь сказал Марии Федоровне: «Разлей чай, у него ведь нет хозяйки». По чашке чаю подано было также Капцевичу и Кутлубицкому, стоявшим в другой комнате, но видевшим и слышавшим все в открытую дверь. Они выпили и, по обыкновению тогдашнего времени, опрокинули на блюдца чашки, выражая этим, что они пить более не желают. Государь, заметив это, сказал: «Ведь вы дома, вероятно, пьете по две чашки и не хотите беспокоить государыню: она нальет вам и по другой». После чаю государь и государыня уехали, сопровождаемые Зубовым по лестнице. Считаясь больным, он был в сюртуке. Вскоре потом князь Зубов уехал за границу.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Пасха в этом году [1797 г.] приходилась 5-го апреля, и этот день был выбран для коронования. Помазанник Господень должен был появиться на троне в то же время, как Господь появляется на престоле. Павел льстил себя надеждой приобрести благодаря этому в глазах своего народа сугубое освящение. […]
Я здесь привожу копию из моего дневника, который отличается большою точностью, так как ведь я тогда был церемониймейстером.
15 марта. Их величества отбыли из С.-Петербурга; их путешествие в Москву продлится пять дней. Оно совершается в мундире при шпаге.
Их величества были встречены под Москвой, в Петровском дворце, придворным штатом, тайным советом и дамами трех первых классов. Как только духовенство совершило установленные священнодействия, их величества удалились во внутренние покои. При встрече, между прочим, присутствовал знаменитый Платон, митрополит Московский, которому надлежало, по праву его сана, совершить чин коронования; но государь его недолюбливал и, не желая его оставлять в сомнении на этот счет, объявил, что он не хочет быть им коронованным. Гавриил, митрополит Новгородский, должен был его заменить. Платон, стоявший выше подобного оскорбления, сказал, что он в таком случае будет присутствовать на короновании как простой иерей, и Павел не чувствовал в себе достаточной самоуверенности, чтобы запретить ему это. Будучи очень болен, Платон велел перенести себя на руках в Петровский дворец. Никто из присутствовавших в продолжение всего времени, которое нам пришлось ожидать высочайшего приезда, не подходил к нему. Я один, знавший его хорошо, так как я устоял против его красноречия, когда он, по поводу моей женитьбы, хотел обратить меня в православие[40], — я стал около него. Это его растрогало, и он сказал мне, улыбаясь: «Во всей этой толпе благочестивых христиан я могу рассчитывать только на одного еретика!» […]
25 марта. Первое публичное провозглашение коронования. Кортеж, верхом, собрался под начальством генерала Архарова у Тверских ворот. Герольды были в костюмах, наш герольд [Павел] — в богато расшитом бархатном камзоле с шарфом, в штиблетах из белого атласа с лисьими хвостами и в треуголке военного образца с султаном. Те, у которых были высшие ордена, имели ленту через плечо. Первая остановка была у Петровского дворца… Второе провозглашение — в Кремле, третье — в Торговых рядах. Здесь кортеж разделился на две части, из которых каждая направилась в свою сторону согласно полученному ордену.
26 марта. Второй объезд, сходный с первым.
28 марта. Торжественный въезд их императорских величеств в Москву. Порядок шествия: лейб-казаки, лейб-гусары, экипажи московских вельмож, молодые дворяне верхом, придворные чины, конная гвардия, кавалергарды. Его величество император и великие князья верхом, камергеры и камер-юнкеры верхом. Ее величество императрица в карете с великими княгинями Елисаветой Алексеевной и Еленой Павловной. Гвардейские полки, придворные дамы. Шествие тянулось от Петровского дворца до Кремля и продолжалось от часа дня до пяти часов вечера. Холод в этот день был очень чувствителен, а великолепие церемонии не допускало принятия против этого мер предосторожности.
29 марта. Поутру третье и последнее провозглашение коронования. Большой прием с участием дипломатического корпуса. Польский король [Станислав Понятовский] обедал у их императорских величеств.
30 марта. После обеда аудиенция папского нунция.
1 апреля. Поутру император перенес в Кремль знамена гвардии и поселился в этом старинном дворце. […]
3 апреля. Репетиция церемоний коронований. Император на ней присутствует. Эта репетиция была одна из наиболее пикантных сцен в числе стольких других, в которых мы участвовали до изнеможения. Император вел себя как ребенок, который в восторге от приготовляемых для него удовольствий, и выказывал такое послушание, какое только можно ожидать от этого возраста. Надо было обладать большой дозой страха или осторожности, чтобы не изобразить на своем лице нечто большее, чем удивление. После обеда он хотел произвести вторую репетицию в тронном зале, чтобы наставить императрицу. Когда он ей сделал знак, чтобы она заняла место рядом с ним под балдахином, она, по незнанию или же из рассчитанной скромности, поднялась по боковым ступенькам, но он сказал ей строгим тоном: «Так не восходят на трон, сударыня, сойдите и поднимитесь снова по средним ступенькам!» Не было ни минуты времени для отправления простых и естественных нужд: с раннего утра и до позднего вечера мы постоянно находились при исполнении обязанностей службы, а так как Москва огромный город и придворные чины жили далеко от Кремля, то никто не имел возможности отлучиться. Что касается меня лично, то я только знаю, что в три последние дня перед коронованием мне оставалось всего несколько часов для ночного отдыха и что постоянные переодевания совершались в коридорах монастыря или в одном из многочисленных углов этих древних царских хором. […]
5 апреля. День Св. Пасхи и коронования. Около восьми часов утра шествие тронулось. Путь от дворца до собора в Кремле так короток, что для его удлинения шествие обогнуло колокольню Ивана Великого. Император был в мундире и высоких сапогах, императрица в платье, сотканном из серебристой парчи и расшитом серебром, и с открытой головой.
Церемония была продолжительна, и за ней следовало множество других, которые император и обер-церемониймейстер выдумывали для забавы. По окончании коронования был сервирован обед под балдахином, во время которого нам было вменено в обязанности делать реверансы на манер дам, как это раньше было принято во Франции при проходе чрез залу парламента во время судебного заседания. Блюда разносились полковниками в сопровождении двух кавалергардов, которые брали на караул, когда блюда ставили на стол. После обеда происходила большая раздача милостей; они действительно были необычайные и, можно даже сказать, безмерно велики. […]
Император, недовольный предстоящим окончанием коронационных торжеств, придумал еще церемонию настолько нелепую, что я чуть было не просил аудиенции, чтобы ее предупредить. Она состояла в том, чтобы поочередно, одну за другою, снять с их величеств царские регалии, прежде чем отнести их, в торжественном шествии, в сокровищницу. Мы увидели, как государь и государыня явились, облеченные в коронационные наряды, и взошли на троны. Сановники стали отнимать у них одну за другой царские регалии: короны, скипетры, державу, цепи орденов и мантии. В конце концов они остались такими обнаженными, что под влиянием чувств, в которых мне теперь трудно разобраться, в глазах у меня выступили слезы… […]
Два крупных акта ознаменовали эпоху коронования. Первым был установлен закон о престолонаследии. Он был достоин государя, бывшего вместе с тем отцом многочисленного семейства, и оградил империю с этой стороны от всякой неустойчивости. Другим актом ордена Св. Андрея Первозванного, Св. Екатерины, Св. Михаила и Св. Анны были наделены богатыми пенсиями. Оба акта вызвали всеобщий восторг, но увы! — мы впоследствии видим, что первый из них не мог ничего предупредить, а второй остался мертвою буквой за неимением денег.
Из указа о престолонаследии:
АКТ
высочайше утвержденный в день священной коронации его императорского величества и положенный для хранения на престол Успенского собора
Мы, Павел Первый, наследник, цесаревич и великий князь и мы, супруга его Мария, великая княгиня… постановили сей акт наш общий, которым по любви к Отечеству избираем наследником, по праву естественному, после смерти моей, Павла, сына нашего большего Александра, а по нем все его мужское поколение. По пресечению сего мужского поколения наследство переходит в род второго моего сына, где и следовать тому, что сказано о поколении старшего моего сына, и так далее, если бы более у меня сыновей было; что и есть первородство…
Внешность
Из «Записок» Августа Коцебу:
Наружность его можно назвать безобразною, а в гневе черты его лица возбуждали даже отвращение. Но когда сердечная благосклонность освещала его лицо, тогда он делался невыразимо привлекательным: невольно охватывало доверие к нему, и нельзя было не любить его.
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского, племянника императрицы Марии Федоровны:
…пройдя целый ряд зал и великолепных покоев, мы достигли заповедных дверей… Двери растворились, и предо мною воочию предстал император, совершенно такой, каким я уже давно знал его по множеству портретов. Это был сухопарый человек среднего роста с крайне невзрачными чертами бледно-желтого лица; крошечные глаза, верхняя губа обвисла, нижняя выпятилась вперед, нос короткий и приплюснутый. На нем был старомодный синевато-зеленый мундир с простым красным воротником и такими же обшлагами, без лацканов, без золотых пуговиц и аксельбантов, и белого сукна панталоны в высоких ботфортах. Голова густо напудрена, но коса не очень длинна. В прорези мундира вдета шпага. Одежда императора не имела шитья, но левая сторона груди была украшена двумя звездами.
Несмотря на странное и неприятное впечатление, производимое его внешностью во всей ее совокупности, взор императора не имел ничего устрашающего и даже показался мне добрым.
Из «Путешествия в Петербург» аббата Жана Франсуа Жоржеля:
Фигура у Павла I непредставительная, лицо его с приплюснутым носом неприятно, но его походка, его вид, выражение лица, взгляд внушают уважение и говорят о непреклонном характере; все трепещет под его скипетром как при его дворе, так и на обширном пространстве его империи.
Из жизнеописания Павла I, составленного офицером русской армии Георгом Танненбергом:
Природа не столько особу Павлову, как дух его наделила лучшими своими дарами. Росту он был невысокого, но поступки его были приятны, сила и деятельность его сказывались во всех мужеских упражнениях, и он с самых юных лет до кончины строгим наблюдением домашних добродетелей, целомудрия и умеренности сохранил нерасстроенною крепость телесных сил своих.
Характер
Из «Записок» сенатора Александра Николаевича Вельяминова-Зернова:
Павел был по природе великодушен, открыт и благороден; он помнил прежние связи, желал иметь друзей и хотел любить правду, но не умел выдерживать этой роли. Должно признаться, что эта роль чрезвычайно трудна. Почти всегда под видом правды говорят царям резкую ложь, потому что она каким-нибудь косвенным образом выгодна тому, кто ее сказал.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
…это был человек в душе вполне доброжелательный, великодушный, готовый прощать обиды, повиниться в своих ошибках. Он высоко ценил правду, ненавидел ложь и обман, заботился о правосудии и беспощадно преследовал всякие злоупотребления, в особенности же лихоимство и взяточничество. К несчастью, все эти похвальные и добрые качества оставались совершенно бесполезными как для него лично, так и для государства благодаря его несдержанности, чрезвычайной раздражительности, неразумной и нетерпеливой требовательности беспрекословного повиновения. Малейшее колебание при исполнении его приказаний, малейшая неисправность по службе влекли за собой жестокий выговор и даже наказание без всякого различия лиц. На Павла нелегко было иметь влияние, так как, почитая себя всегда правым, он с особенным упорством держался своего мнения и ни за что не хотел от него отказаться. Он был чрезвычайно раздражителен и от малейшего противоречия приходил в такой гнев, что казался совершенно исступленным. А между тем он сам вполне сознавал это и впоследствии глубоко этим огорчался, сожалея собственную вспыльчивость; но несмотря на это, все-таки не имел достаточной силы воли, чтобы победить себя. […]
Стремительный характер Павла и его чрезмерная придирчивость и строгость к военным делали эту службу весьма неприятной. Нередко за ничтожные недосмотры и ошибки в команде офицеры прямо с парада отсылались в другие полки и на весьма большие расстояния. Это случалось настолько часто, что у нас вошло в обычай, будучи в карауле, класть за пазуху несколько сот рублей ассигнациями, дабы не остаться без денег в случае внезапной ссылки. Мне лично пришлось три раза давать взаймы деньги своим товарищам, которые забыли принять эту предосторожность. Подобное обращение, естественно, держало офицеров в постоянном страхе и беспокойстве, благодаря чему многие совсем оставили службу и удалялись в свои поместья, другие же переходили в гражданскую службу.
Легко себе представить положение тех семейств, сыновья которых были офицерами в эту эпоху: они, естественно, находились в постоянном страхе и тревоге, опасаясь за своих близких, так что можно без преувеличения сказать, что Петербург, Москва и даже вся Россия были погружены в постоянное горе. […]
Павел был весьма склонен к романтизму и любил все, что имело рыцарский характер. При этом он имел расположение к великолепию и роскоши, которыми восторгался во время пребывания в Париже и других городах Западной Европы. […]
Несомненно, что в основе характера императора Павла лежало истинное великодушие и благородство, и, несмотря на то что был ревнив к власти, он презирал тех, кто раболепно подчинялся его воле в ущерб правде и справедливости, и, наоборот, уважал людей, которые бесстрашно противились вспышкам его гнева, чтобы защитить невинного. […]
Хотя вспыльчивый характер Павла и был причиной многих прискорбных случаев (многие из которых связаны с воспоминанием о Гатчине), но нельзя не высказать сожаления, что этот безусловно благородный, великодушный и честный государь, столь нелицеприятный, искренно и горячо желавший добра и правды, не процарствовал долее и не очистил высшую чиновную аристократию, столь развращенную в России, от некоторых ее недостойных членов. […]
Павел Первый всегда рад был слышать истину, для которой слух его всегда был открыт, а вместе с ней он готов был уважать и выслушать то лицо, от которого он ее слышал.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Самое достопримечательное событие произошло в разгар лета [1799 г.], когда двор находился в Павловске. Оно обратило на себя особенное внимание лиц, следивших за развитием характера императора. Престарелый адмирал Чичагов [Василий Яковлевич], которого политика Екатерины так широко вознаградила за ошибки, допущенные им во время войны со Швецией, имел сына, контр-адмирала [Чичагов Павел Васильевич], человека с талантом и характером. Он почему-то не понравился гатчинцам, которые стали к нему придираться, так что ему не оставалось ничего другого, как испросить свою отставку под предлогом, что ему надо поехать в Англию, чтобы там жениться. Министр отказал ему в этом разрешении, но английский посланник сэр Чарльз Витворт [Уитворд] заступился за него. Император прежде всего потребовал, чтобы он снова поступил на службу. Адмирал не отказывался, но поставил условием, чтобы с него не взыскивали за прошлое. Этот вопрос обсуждался в большом кабинете государя. Полчаса спустя слышно было, как гробовой голос императора все более возвышался; наконец дверь отворилась, и адмирал вышел. Он казался спокойным, но сюртук, лента и даже галстук были с него сорваны. Не подлежало сомнению, что он был постыдно избит. В таком виде он посреди аванзалы ждал решения своей участи. Флигель-адъютант государя накинул ему на плечи казачью шинель и передал ему приказ отправиться прямо в крепость. Когда он, под сильным караулом, выходил из комнаты, он обернулся к обер-гофмаршалу Нарышкину и сказал с благородным жестом: «Александр Львович, будьте так любезны вынуть из кармана моего сюртука ассигнацию в пятьдесят рублей и мой бумажник; я не думаю, чтобы государь хотел меня лишить этих вещей, и, так как я не знаю, куда меня ведут, то я, может быть, буду в них нуждаться». Он храбро вытерпел в своей тюрьме несколько недель, несмотря на все старания смирить его, пока наконец не почувствовали некоторого стыда, главным образом перед английским королем, и не согласились на его условия. Тогда он, с своей стороны, согласился опять поступить на службу, а так чтобы там жениться, то ему, ради приличия, поручили командование над русской эскадрой, действовавшей тогда совместно с английским флотом. Это дело доставило Чичагову большую известность. В следующее царствование он был назначен морским министром и, как говорят, хорошо исполнял эту должность[41]. […]
Однажды, когда у графа N был большой прием, на котором я тоже присутствовал… вдруг раскрылись двери и было объявлено о приезде императора. Мне невозможно было увернуться и, что бы ни случилось, я решил остаться. Император меня скоро заметил и устремился на меня с наиболее сосредоточенным выражением гнева, который когда-либо изображался на его лице, и сказал мне, как всегда, с увертками и изворотами:
— Не правда ли, граф, что очень пикантно и неприятно, когда вместо ожидаемого удовольствия получается отказ, который вы не простили бы человеку, наносящему вам оскорбление вместо милости, о которой вы его просили бы?
Не уразумев вполне, куда он метит и не понимая вообще ничего в этом длинном вступлении, казавшемся мне темным и не находящим также объяснения в моем положении в данный момент, я ответил:
— Конечно, это так, как ваше величество изволите сказать, но я не совсем понимаю…
— Я хочу этим сказать, граф, — продолжал он тоном, несколько менее слащаво-гневным, — что, если бы я вас попросил сделать мне удовольствие и поужинать со мною, вы наверное бы мне в этом отказали. Я должен уберечься от такой просьбы, а впрочем, я знаю, что есть лица более счастливые, чем я, которые обыкновенно имеют счастье пользоваться вашим присутствием, и было бы несправедливо лишать их дольше вашего общества.
При этих словах он слегка наклонил голову в мою сторону, на что я ответил глубоким поклоном. В то же время окружающие нас расступились, чтобы дать мне дорогу, и я этим воспользовался, Бог знает, с каким усердием и со всею скоростью, дозволяемою придворным этикетом. Я отступил спиною к дверям, отвешивая установленные три поклона. О, каким чистым и приятным показался мне воздух, который я жадно вдыхал в коридорах и на лестнице! Я им наслаждался вдоволь!
Из «Записок» Августа Коцебу:
Император Павел имел искреннее и твердое желание делать добро. Все, что было несправедливо или казалось ему таковым, возмущало его душу, а сознание власти часто побуждало его пренебрегать всякими замедляющими расследованиями; но цель его была постоянно чистая; намеренно он творил одно только добро. Собственную свою несправедливость сознавал он охотно. Его гордость тогда смирялась, и, чтобы загладить свою вину, он расточал и золото, и ласки. Конечно, слишком часто забывал он, что поспешность государей причиняет глубокие раны, которые не всегда в их власти залечить. Но, по крайней мере, сам он не был спокоен, пока собственное его сердце и дружественная благодарность обиженного не убеждали его, что все забыто. […]
До самого зрелого возраста он был приучен к тому, что на него не обращали никакого внимания и что даже осмеивали всякий знак оказанного ему почтения; он не мог отрешиться от мысли, что и теперь достоинство его недостаточно уважаемо; всякое невольное или даже мнимое оскорбление его достоинства снова напоминало ему его прежнее положение; с этим воспоминанием возвращались и прежние ненавистные ему ощущения, но уже с сознанием, что отныне в его власти не терпеть прежнего обращения, и таким образом являлись тысячи поспешных, необдуманных поступков, которые казались ему лишь восстановлением его нарушенных прав. […]
Схвативши твердою рукою бразды правления, Павел исходил из правильной точки зрения; но найти должную меру трудно везде, всего труднее на престоле. Его благородное сердце всегда боролось с проникнувшею в его ум недоверчивостью. Это было причиною тех противоречащих действий, которые однажды один шутник изобразил на рисунке, представлявшем императора с бумагою в каждой руке: на одной бумаге написано: ordre, на другой: contre-ordre, на голове государя: desordre[42]. Я не знаю, хороший ли правитель Павел I, но ему нельзя отказать в очень больших достоинствах; его вспыльчивый, резкий и властный характер — большой недостаток, он не выносит возражений, тем не менее он неоднократно изменял свои решения и чистосердечно сознавался в своих ошибках. […]
…ничто не действовало вернее на этого монарха, как удовольствие видеть себя любимым… […]
К несчастию, его только ненавидели и боялись, и, конечно, при самых честных намерениях он часто заслуживал это нерасположение. Множество мелочных распоряжений, которые он с упрямством и жестокостью сохранял в силе, лишили его уважения тех, которые не понимали ни великих его качеств, ни твердости и справедливости его характера. То были большею частик» меры, не имевшие никакого влияния на благоденствие подданных, собственно говоря, одни только стеснения в привычках; и их следовало бы переносить без ропота, как дети переносят странности отца. Но таковы люди: если бы Павел в несправедливых войнах пожертвовал жизнью нескольких тысяч людей, его бы превозносили, между тем как запрещение носить круглые шляпы и отложные воротники на платье возбудило против него всеобщую ненависть. […]
Дух мелочности, нередко заставлявший его нисходить до предметов, недостойных его внимания, мог происходить от двух причин: во-первых, от желания совершенно преобразовать старый двор своей матери так, чтобы ничто не напоминало ему об ее временах; во-вторых, от преувеличенного уважения ко всему, что делал прусский король Фридрих II. […]
Наконец, утверждали, что, когда государь был в дурном расположении духа, не следовало ему попадаться на глаза под опасением за честь и свободу. Это была низкая клевета, как я в том убедился из неоднократного собственного опыта. Наблюдения мои внушили мне доверие к характеру государя, и я полагаю, что некоторая скромная смелость и прямой взгляд спокойной совести никогда не были ему неприятны. Только робость и застенчивость перед ним могли возбудить его подозрительность, и тогда, если к этой подозрительности присоединялось дурное расположение духа, он в состоянии был действовать опрометчиво. Поэтому я поставил себе за непременное правило никогда не избегать его присутствия, и, когда я с ним встречался, непринужденно останавливался и скромно, но прямо смотрел ему в глаза. Не раз случалось со мною, когда я находился в одной из его комнат, что лакеи вбегали впопыхах и кричали как мне, так и другим, что император идет и что мы должны поскорее удалиться. Обыкновенно исчезала большая часть присутствовавших, часто даже все; я один всегда оставался. Государь, проходя мимо меня, иногда просто кивал мне головою, но чаще всего обращался ко мне с несколькими милостивыми словами.
Я именно помню, что в одно утро со мною был подобный случай и что обер-гофмаршал сказал мне потом: «Вы можете похвалиться своим счастием: государь был сегодня в самом дурном расположении духа». Я улыбнулся, потому что убежден, что это счастие выпало бы на долю каждого, у кого сияла бы в глазах чистая совесть. […]
Характер Павла представлял бы непостижимые противоречия, если бы надлежало основывать свои суждения на одних только подобных чертах, не принимая во внимание побочных смягчающих обстоятельств. […]
Императору Павлу ставили в упрек, что почти ко всем тем, которые некогда окружали его мать, он питал нерасположение, одинаково распространявшееся на виновных и невинных и нередко побуждавшее его обращаться не по-царски с вернейшими слугами государства. Упрек этот был справедлив.
Из «Записок» сенатора Ивана Владимировича Лопухина:
В императоре Павле, можно сказать, беспримерно соединялись все противные одно другому свойства до возможной крайности; только острота ума, чудная деятельность и щедрость беспредельная являлись в нем при всех случаях неизменно. Пылкость гнева его никогда, однако же, не имела последствий невозвратных. К строгости побуждался он точно стремлением любви, правды и порядка, коего расстройство увеличивалось иногда в глазах его предубеждением. Сильное впечатление в нраве его делало, конечно, то, что от самого детства напоен он был, так сказать, причинами к страхам и подозрениям и что безмерная деятельность его стеснялась невольным бездействием до тех немолодых уже лет, в которых вступил он на престол. Я уверен, что при редком государе больше, как при Павле I, можно было бы сделать добра для государства, если бы окружавшие его руководствовались усердием к отечеству, а не видами собственной корысти.
Из переписки дипломата Семена Романовича Воронцова:
…слова ваши касательно характера покойного императора, являвшего собой смесь наилучших качеств с крайней жестокостью, каковая и возобладала под конец, совершенно справедливы; однако надобно присовокупить сюда и то, что приступы жестокости все усиливались и повлияли на его рассудок, ибо вполне очевидно, что в последние 8–10 месяцев впал он в явное безумие. Вызов, сделанный им нескольким государям выйти на поединок и опубликованный по его велению в газетах, равно как и многие другие черты, неопровержимо свидетельствуют о расстройстве ума. Вследствие чего я не отношу на сей счет дурного сердца его деяния тиранства и жестокости, кои омрачили последнее время царствования. Я более склонен сожалеть, нежели обвинять, и никогда не забуду его благодеяний в первые два года правления…
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
По данному мне наставлению я должен был преклонить одно колено перед самодержцем, но это никак мне не удавалось. Напрасно силясь согнуть жесткое голенище высокой ботфорты на левой ноге, я внезапно рухнулся на оба колена. От императора не укрылось, чего стоило мне все это усилие и как твердо преодолевал я оное. Он улыбнулся, поднял меня обеими руками вверх, опустил на стул и сказал своим особенным хриплым голосом:
— Садитесь, милостивый государь! Как вы провели ночь у нас? Что вам снилось?
Ответ мой: «Ничего, ваше величество!» — по-видимому, совершенно поразил генерала Дибича.
— Да, да, — поспешил я прибавить, подмигивая Дибичу. — Я слишком устал и потому не видел никакого сна.
Дибич побледнел; но так как император принял мой ответ милостиво, то взор его прояснился.
— Вам понравится у нас, — сказал Павел, оглядывая меня с ног до головы. — Сколько вам лет?
— Тринадцать, ваше величество.
— Видели свет?
— Я имел честь вам доложить, что увидел его тринадцать лет тому назад.
— Не о том речь, — возразил с улыбкою император, — я спрашиваю, случалось ли вам путешествовать? Видали ль людей и…
На этом я прервал его. Дибич побледнел снова: но я, не обращая на него внимания, объявил, что мало еще видал посторонних людей и никогда почти не покидал своего местожительства; «но, — прибавил я, — люди везде одинаковы, и здесь такие же, как у нас».
— Я этому рад, — возразил, от души засмеявшись, император, и черты Дибича озарились счастьем. — Я рад, что вы так скоро освоились с нами; а чего еще не знаете, тому скоро научитесь.
— Ах, боже мой! — воскликнул я. — Жизнь слишком коротка, чтобы научиться всему, чему мы должны и чему хотели бы научиться.
— Браво! — вскричал император, значительно взглянув на Дибича и милостиво подмигнув ему. Затем он быстро встал со стула и, послав мне поцелуй рукою, вышел, приговаривая: «Очень рад, милостивый государь, нашему знакомству. Подождите: я доложу о вас императрице».
До слез растроганный Дибич воспользовался этим промежутком, чтобы дать исход переполнившим его чувствам. «Благодарение Богу! Государь к нам милостив!» — воскликнул он. И правда, в это время он [Павел I] не проявил ни малейшего следа болезни, в существование которой меня посвятила нескромность дяди моего в Риге. Он говорил со мной по-немецки совершенно чисто и был любезен, нисколько не роняя своего императорского достоинства. […]
Он [Павел I]… одобрительно потер руки и подал знак, чтоб садились. Сам он сел с императрицею на софе; все прочие уселись вокруг стоявшего перед ним круглого стола, я же должен был поместиться прямо против государя. Он часто взглядывал на меня, милостиво подмигивая, и почти вовсе не говорил со своим семейством, а с одним только графом Строгановым. Даже мой ребяческий ум был поражен при этом разговоре удивительными неожиданностями в суждениях императора, и я должен сознаться, что они всегда служили мне материалом разнообразнейших вопросов, которые я предлагал генералу Дибичу на возвратном пути. Хитрый придворный приходил от них в немалое смущение.
Из «Записок» фрейлины высочайшего двора Марии Сергеевны Мухановой:
Император Павел каждое утро спрашивал, с какой стороны дует ветер, и с этим вопросом обращался к великому князю Александру Павловичу, к моему отцу и к Кутайсову поочередно, и если они разногласили между собою, то очень гневался, особенно доставалось великому князю. Во избежание такой неприятности эти три лица согласились между собою каждое утро выходить на воздух и, уверившись, с какой стороны ветер, докладывать о том государю. […]
Бесчисленные его прихоти известны всем. Несмотря на благородные свойства его души и на природную его доброту, он возбудил к себе всеобщую ненависть, которая и привела его к несчастной кончине. Я расскажу здесь несколько случаев, которые мне приходят на память. Однажды отец мой, следуя издалека за ним и за великим князем Александром Павловичем, увидал, что великий князь махал несколько минут треугольною шляпой и потом бросил ее далеко от себя; после этого батюшка спросил великого князя, что это значит. Он отвечал, что государь колебался, уволить или нет Архарова, и потому загадал, которым концом шляпа упадет на землю. […]
Государь любил показывать себя человеком бережливым на государственные деньги для себя. Он имел одну шинель для весны, осени и зимы. Ее подшивали то ватою, то мехом, смотря по температуре, в самый день его выезда. Случалось, однако, что вдруг становилось теплее требуемых градусов для меха; тогда поставленный у термометра придворный служитель натирал его льдом до выхода государя, а в противном случае согревал его своим дыханием. Государь не показывал вида, что замечает обман, довольный тем, что исполнялась его воля. Он, кажется, поступал так по принципу, для поддержания и усиления монархического начала, тогда ниспровергнутого французскою революцией. Жалкое средство, придуманное человеком от природы умным! Точно так же поступали и в приготовлении его опочивальни. Там вечером должно было быть не менее четырнадцати градусов тепла, а печь оставаться холодною. Государь почивал головою к печке. Как в зимнее время согласить эти два условия? Во время ужина расстилались в спальне рогожи, и всю печь натирали льдом. Государь, входя в комнату, тотчас смотрел на термометр — там четырнадцать градусов, трогал печку — она холодная, и довольный ложился в постель. Утешенный исполнением его воли, он засыпал спокойно, хотя впоследствии печь и делалась горячею.
Из воспоминаний Петра Михайловича Волконского:
По окончании парада пароль и приказ отдавался в первые дни на дворе Зимнего дворца, потом, по случаю больших морозов, приказ отдавался всем адъютантам вверху, в комнате возле конногвардейского караула, на половине императрицы Марии Федоровны, в присутствии государя императора; приказ диктовал всегда наследник по званию своему с. — петербургского военного губернатора. В один из сих дней случилось быть дежурным при его величестве флигель-адъютанту князю Андрею Ивановичу Горчакову, племяннику фельдмаршала графа Суворова, который никак не мог успевать следовать диктации наследника и ничего не написал; по заведенному же тогда обычаю должен был флигель-адъютант, писавший приказ, прочитывать оный вслух государю императору; князь Горчаков, подойдя к императору, сказал его величеству на ухо пароль, но, начав читать приказ, остановился, потому что ничего не писал. Государь император закричал на него: «Читайте, сударь!»
Князь Горчаков, оробев, совсем ничего не мог читать; тогда государь, оборотясь ко мне, сказал: «Пожалуйте, сударь, прочитайте мне приказ».
По счастью моему, я писал всегда сокращенно и верно; я прочитал приказ, государь изволил поклониться мне в пояс и сказал: «Благодарю вас, сударь, что заменили моего адъютанта, который так плох, что и читать не умеет».
Обратясь же к князю Горчакову, сказал; «Что ты о себе вздумал, что ты племянник Суворова, обвешан крестами, знай, что у меня крестов много в гардеробе висит на гвоздиках: учись, сударь, читать и делать свое дело».
Сказав сие, откланялся всем и вошел в комнаты к императрице.
Из «Записок» польского аристократа Адама Ежи Чарторыйского:
Император Павел царствовал порывами, минутными вспышками, не заботясь о последствиях своих распоряжений, как человек, не дающий себе никогда труда размыслить, взвесить все обстоятельства дела, за и против, который приказывает и требует только немедленного исполнения всякой фантазии, какая ему придет в голову.
Мировоззрение и привычки
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Особенное внимание было обращено на религиозное воспитание великого князя [Павла Петровича], который до самой своей смерти отличался набожностью.
Еще до настоящего времени показывают места, на которых Павел имел обыкновение стоять на коленах, погруженный в молитву и часто обливаясь слезами. Паркет положительно протерт в этих местах. […]
Офицерская караульная комната, в которой мне приходилось сидеть во время моих дежурств в Гатчине, находилась рядом с частным кабинетом Павла, и я часто слышал вздохи императора во время его молитвы. […]
Павел подражал Фридриху в одежде, в походке, в посадке на лошади. Потсдам, Сан-Суси, Берлин преследовали его подобно кошмару. К счастью Павла и для России, он не заразился бездушной философией этого монарха и его упорным безбожием. Но этого Павел не мог переварить, и, хотя враг насеял много плевел, доброе семя все-таки удержалось. […]
Император Павел, как я уже говорил, был искренним христианином, человеком глубоко религиозным, отличался с раннего детства богобоязненностью и благочестием. По взглядам своим это был совершенный джентльмен, который знал, как надо обращаться с истинно порядочными людьми, хотя бы они и не принадлежали к родовой или служебной аристократии.
Я находился на службе в течение всего царствования этого государя, не пропустил ни одного учения или вахтпарада и могу засвидетельствовать, что, хотя он часто сердился, но я никогда не слышал, чтобы из уст его исходила обидная брань. […]
Как доказательство его рыцарских, доходивших даже до крайности воззрений может служить то, что он совершенно серьезно предложил Бонапарту дуэль в Гамбурге с целью положить этим поединком предел разорительным войнам, опустошавшим Европу… Несмотря на всю причудливость и несовременность подобного вызова, большинство монархов, не исключая самого Наполеона, отдали полную справедливость высокогуманным побуждениям, руководившим русским государем, сделавшим столь рыцарское предложение с полной искренностью и чистосердечием.
Из «Записок» Федора Гавриловича Головкина:
Французская революция произвела на него сильнейшее впечатление; он был от нее в ужасе. Однажды он мне сказал: «Я думаю о ней лихорадочно и говорю о ней с возмущением». С тех пор все, что раньше ему только не нравилось, стало его раздражать. Неурядицы, неизбежные при всяком большом управлении, показались ему величайшими преступлениями и малейшая забывчивость — умышленным проступком. Это был удобный момент, чтобы успокоить его мысли, смягчить его нрав и убедить его в том, что мягкость в связи с твердостью составляет самое могущественное оружие для государя.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
Кто не имеет недостатков? Павел I, несомненно, обладает ими. Он, по-видимому, не любит ни наук, ни искусств. Наука управления страной, тайна умения поднять на должную высоту могущество своей державы — вот что занимает его всецело.
Он умерен в еде и удовольствиях, одевается просто и признает пышность и роскошь только для церемониала, где императорское величие должно быть представлено в полном блеске. Если его деспотическая воля подчас изменчива и склонна к причудам, если вспышки его гнева, похожие на припадки сумасшествия, заслуживают сурового и справедливого порицания, то это порицание должно быть смягчено ввиду целой массы блестящих достоинств. Павел I, об образовании которого очень заботились, обладает умением распознавать людей и применять кстати их таланты. В интимном обществе он отличается любезностью и обаятельностью в разговоре. Я читал письма, написанные его рукой, где уму и благородству суждений соответствует стиль, достойный высшего сана.
Государь встает ежедневно в пять часов утра, министр полиции и военный комендант С.-Петербурга, один вслед за другим, являются в его кабинет с докладом, в восемь часов он идет на парад, затем производит смотр одному из гвардейских батальонов или полков городского гарнизона; в десять часов он возвращается, чтобы идти в церковь, по окончании обедни он верхом или в коляске едет осматривать военные посты, чтобы лично удостовериться в исполнительности офицеров. Иногда он наблюдает за постройкой новых казарм, так как он заботится о хорошем помещении для офицеров и солдат. По возвращении он обедает, после обеда катается в коляске; возвращаясь около трех-четырех часов, он зовет к себе в кабинет министров, генералов и лиц, с которыми желает работать или беседовать о государственных делах.
Около шести часов он отправляется к императрице, где собираются лица, принятые в ее интимном кругу. Когда бывает представление в театре, то не устраивается игр, спектакль обыкновенно начинается в шесть часов; иногда на него приглашают иностранных послов и посланников, а также некоторых вельмож, которые не несут службы при дворе. Вот повседневная жизнь при дворе Павла I, однообразное течение ее нарушается только праздниками или большими маневрами. […]
Некоторые русские вельможи, хорошо осведомленные об интимной жизни Павла I, уверяли меня, что этого могущественного и самодержавного владыку обычно мучат двоякого рода опасения, которые обусловливают деспотический образ его правления и заставляют его применять террор, этими необычайными опасениями как говорят, объясняются его приказания, которые менее осведомленные люди приписывают одни — расстройству умственных способностей, другие — вечной смене настроений, властно влияющих на его волю. Павлу чудятся то заговоры при дворе с целью его низложения, то тайное распространение иллюминатства[43] и якобинства в его империи — моральной чумы, более гибельной, чем все болезни, посылаемые нам небом. Если этот факт верен, то легко объяснить себе, почему Павел I так внимательно следит за тем, чтобы во дворце и даже в тесном кругу его семьи все собрания происходили только в его присутствии. […]
Итак, нечего удивляться чрезвычайным предосторожностям и беспрестанно возобновляемым суровым приказам…
Из «Записок» Александра Александровича Башилова:
Обратимся к тому порядку, какой хотел ввести государь — чтоб караулы караулили, а не спали. Гарнизонная служба приучает солдата к трудам; главные и визитерные рунды[44] были для того, чтоб солдат не дремал, а офицер караульный не ездил бы с караула на обед или бал, это бывало прежде, стало быть — требовалось прекратить сей беспорядок. Сам царь подавал пример. Жизнь его была заведенные часы: все в одно время, в один час; воздержанность непомерная; обед — чистая невская водица и два, три блюда самые простые и здоровые. Стерляди, матлоты[45], труфели и прочие яства, на которые глаза разбегутся, ему подносили их показать; он, бывало, посмотрит и часто мне изволил говорить: «Сам кушай». После говядины толстый мундшенк[46] подносил тонкую рюмочку вина — кларета бургонского. Это не так, как ныне: иной выпьет три бутылки… и ни в одном глазе.
Государь вставал рано и в 6 часов был одет, в четверть седьмого кушал чашку левантского кофе и сейчас садился за работу; после — к разводу, после — верхом по городу, после — обед; после обеда — в коляске или санях, но всегда на какой-либо предмет, в больницу или какое богоугодное заведение; в 6 часов вечера — cercle[47], в 9 часов — ужин, в 10 часов почивать. Труды, так расположенные, были систематически исполняемы, и стоило только вникнуть, и никогда в ответ не попадешь.
Я был год с небольшим камер-пажем, и что более — бессменным, ни разу не попался под гнев; какая-то планета меня хранила свыше…
Семья
Из «Записок» Августа Коцебу:
Он [Павел I] охотно отдавался мягким человеческим чувствам. Его часто изображали тираном своего семейства, потому что, как обыкновенно бывает с людьми вспыльчивыми, он в порыве гнева не останавливался ни перед какими выражениями и не обращал внимания на присутствие посторонних, что давало повод к ложным суждениям о его семейных отношениях. Долгая и глубокая скорбь благородной императрицы после его смерти доказала, что подобные припадки вспыльчивости нисколько не уменьшили в ней заслуженной им любви. […]
Мелкие черты из его частной, самой интимной жизни, черты, важные для наблюдателя, изучающего людей, — доказывают, что его жена и дети постоянно сохраняли прежние права на его сердце. Виолье, честный человек и доверенный чиновник при императоре, был однажды вечером в ее комнатах, когда Павел вошел и еще в дверях сказал:
— Я что-то несу тебе, мой ангел, что должно доставить тебе большое удовольствие.
— Что бы то ни было, — отвечала императрица, — я в том заранее уверена.
Виолье удалился, но дверь осталась непритворенною, и он увидел, как Павел принес своей супруге чулки, которые были вязаны в заведении для девиц, состоявшем под покровительством императрицы. Потом государь поочередно взял на руки меньших своих детей и стал с ними играть. Это не ускользнет от наблюдателя. Император, оказывающий своей супруге столь нежное внимание, что среди вихря дел и развлечений не пренебрегает принести ей пару чулок, потому что тем надеется доставить ей удовольствие, такой император наверно не семейный тиран!
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
…я… приехал в императорский дворец, с тем чтобы увидеть тетушку [императрицу Марию Федоровну]… […] Я поцеловал ее платье… она крепко обняла меня. […]
Вслед за тем я приветствовал моих милых кузин. Из них Мария [Мария Павловна, великая княжна] была уже 15-ти лет и, стало быть, для меня особа внушающая, но тем не менее такая кроткая и добрая, что я сейчас же почувствовал к ней сердечное влечение. Она обладала сочувственным, нежным сердцем. Непреложным доказательством того служило ее всегдашнее опасливое пребывание настороже, чтобы заблаговременно предупреждать всякий возможный с моей стороны промах и тем предохранять меня от затруднительного положения. Ее сестра Екатерина, одних лет со мною [13-ти], нравилась мне менее. Мрачная и скрытная, но преждевременно развитая и сознававшая это, она отталкивала меня своею чопорностью. Обе великие княжны были прекрасны. Первая имела черты матери; вторая, когда говорила, была похожа на отца, но, к удивлению, наперекор этому сходству — все-таки очаровательна. […]
В течение этих первых дней моей петербургской жизни я был представлен великим княгиням Елизавете и Анне, супругам Александра и Константина. Первая, бывшая принцесса Баденская, была прекрасна и любезна и в то же время отличалась самым кротким характером. Последняя была, пожалуй, еще больше поразительной красоты, но все же не могла заслонить собою прелестей Елизаветы. […]
Вечерние собрания императора, присутствовать на которых я также получил приказание, состояли большею частью из всех членов царской фамилии, находившихся налицо в Петербурге, за исключением великой княжны Анны и ее двух братьев, Николая и Михаила, которые, за малолетством, оставались в детских комнатах. […]
Всякий раз до начала собрания вся императорская фамилия заходила в покои к моей тетушке… …Ровно в половине седьмого с шумом распахивались обе половинки двери и появлялся император… потом, с легким наклонением головы, проходя мимо собравшихся, отдавал низкий поклон императрице, ласково кивал великой княгине Анне и затем почти всегда с особым благоволением быстро подходил ко мне, много меня расспрашивал, часто смеялся над моими ответами, иногда хлопал в ладоши и, вдруг повернувшись к императрице, подавал ей руку и открывал шествие в гостиную. […]
Будучи… верным воспроизведением привычек Фридриха II, эти собрания сами по себе не представляли ничего замечательного и состояли лишь в том, что беспрерывно разносились разные закуски, причем император выпивал несколько рюмок вина и бывал словоохотлив. И так как все у него делалось по часам, то вдруг он поднимался с места, и в то же время все, как бы вследствие электрического тока, вскакивали на ноги. Тогда он удалялся на одну минуту и, возвратясь, подавал императрице руку, чтобы идти к столу, накрытому в соседнем зале.
Ужин начинался в половине девятого и оканчивался ровно в девять. […] За каждым стулом стоял паж, за стулом императора — два камер-пажа в малиновых кафтанах (украшенные малым крестом Мальтийского ордена; они ожидали выпуска в армию капитанскими чинами). На одном конце стола стоял, облокотившись на свою трость, пажеский гофмейстер[48], чином полковник, на противоположном — обер-гоффурьер Крылов, тоже в чине полковника, и оба мальтийские рыцари.
Разговаривали за ужином мало: блюда в таком обилии следовали одно за другим, что не то чтоб разговаривать, а едва доставало времени отведать кушанья. Легкое прикосновение императора к стоявшему против него блюду с разным мороженым служило обыкновенно предварением близкого вставания из-за стола, что и происходило неизбежно по первому удару заповедных девяти часов.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
Павел I держит свою семью в полном порабощении: императрица не может без разрешения императора пригласить к себе ни двух своих женатых сыновей, ни двух невесток: великий князь Александр не может даже пойти к своей матери, не предупредив отца. […]
Великий князь Константин представляет разительную противоположность своему старшему брату: он совершенно лишен… обаяния и обходительности своего брата; он известен отвращением к наукам, причудами, вспыльчивостью, резкостью, буйным нравом, грубостью. Он женат на очаровательной, умной, молодой и красивой женщине[49], которая чувствует себя очень несчастной. Его ненавидят даже солдаты.
Императрица Мария Федоровна
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Императрица не менее, чем ее супруг, наслаждалась торжествами коронования. Туалеты были ее элементом. То, что доводило других дам до изнеможения, не доставляло ей никакого труда. Даже в положении беременности она сохраняла свой бальный туалет с утра до вечера и между обедом и балом, оставаясь затянутой в корсет, занималась, как всегда, в капоте, своей перепиской или вышивала на пяльцах, а иногда даже работала с медальером и резчиком на камне Леберехтом. Ее участь значительно улучшилась с тех пор, как она последовала совету своей матери — расположить к себе хорошим обращением г-жу Нелидову. А так как эта фаворитка не была ни развратна, ни корыстолюбива и к тому же была чрезвычайно умна, то доверие к ней государыни, которая могла на нее смотреть как на свою соперницу, ее тронуло и в то же время расположило государя к своей супруге. […]
Императрица по своему характеру не была зла, но желание иметь влияние заставило ее натворить в это царствование много бед. Будучи сама добродетельной и дорожа верностью своего мужа, она полагала, что лучшее средство привязать его к себе должно состоять в передаче ему, в интимности супружеской жизни, всяких верных и неверных сведений, сопровождаемых ее хорошими и дурными советами, которые ее подозрительный ум жадно подбирал. В эти минуты откровенности все средства были хороши; друзья и враги одинаково приносились в жертву, и, теснимая вопросами по поводу разных событий, она не щадила никого. Ее приближенные предупредили меня об этом. Мне рекомендовали обратить внимание на дни, следующие за вечерами, когда императрица прощалась с императором словами: «Дорогой друг, я хотела бы поговорить с вашим величеством о многих вещах, если вы позволите». На другой день после такой фразы следовала всегда какая-нибудь немилость, малая или большая. Эта оригинальная фраза определяла комнату, где государь ляжет спать, и императрица бывала так уверена в своем деле, что она в этот день не торопилась заканчивать свою игру.
Из переписки Федора Васильевича Ростопчина:
На государя сильно влияет императрица, она вмешивается во все дела… Чтобы усилить свою роль, она соединилась с мадемуазель Нелидовой, ставшей ее лучшей подругой после 6 ноября[50].
Из «Записок» Августа Коцебу:
Много было говорено о тиранских намерениях, которые Павел будто бы питал против своего семейства. Рассказывали, что он хотел развестись с императрицей и заточить ее в монастырь. Если бы даже Мария Федоровна не была одною из красивейших и любезнейших женщин своего времени, то и тогда ее кротость, благоразумие и уступчивый характер предотвратили бы подобный соблазн.
Людей вспыльчивых, не умеющих сдерживать себя при посторонних, принимают за дурных мужей, между тем как весьма часто именно такие люди наиболее любимы женами, которые лучше кого-либо знают их характер.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
Императрица, известная своими добродетелями и красотой, обожаемая своими детьми и всеми, кто имел счастье к ней приблизиться, лишена всяких удовольствий и не имеет никакого влияния. Император относится к ней с наружным уважением, подобающим ее званию; но жизнь ее протекает среди всяких стеснений, и она лишена всего, что должно быть уделом супруги могущественного монарха.
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
Императрица приняла меня радушно. Эта 40-летняя женщина имела величественную осанку, и на первый взгляд, в особенности издали, в ней было больше торжественной важности, чем приветливости. Глаза ее сверкали, и выражение лица менялось; но при ближайшем знакомстве оказывалось, что самыми кроткими чувствами одушевлялись прекрасные, правильные и как зеркало светлые черты ее лица. Она была высокого роста, крепкого, но в то же время изящного сложения; всегда безукоризненный наряд, в соединении с прекрасным станом, придавал ей вид моложавости. […]
…она была исполнена самой горячей материнской любви ко мне. С одинаковой силой она была привязана к ребенку, юноше, взрослому мужу, и беззаветная эта привязанность, заставлявшая ее гласно называть себя моей второй матерью, так же ясно высказалась в нежности, с какой она теперь прижимала меня к сердцу, как и в последних строках, которые она посвящала мне, уже лежа на смертном одре!
Из «Записок» Дарьи Христофоровны Ливен:
Императрица-мать пользовалась большим почтением и любовью своих детей. Никогда никакая женщина лучше не постигала и безукоризненнее не выполняла всех своих обязанностей. Ничто не может сравниться с ее жалостью, разумным милосердием и постоянством в привязанностях. Она любила свой сан и умела поддерживать свое достоинство. Она обладала сильным умом и возвышенным сердцем. Она была горда, но приветлива. Она была еще очень красива и, высокая ростом, производила внушительное впечатление.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Павловск, принадлежавший лично Марии Федоровне, был устроен чрезвычайно изящно. И всякий клочок земли здесь носил отпечаток ее вкуса, наклонностей, воспоминаний о заграничных путешествиях и т. п. Здесь был павильон роз, напоминавший трианонский; шале, подобные тем, которые она видела в Швейцарии; мельница и несколько ферм наподобие тирольских; были сады, напоминавшие сады и террасы Италии. Театр и длинные аллеи были заимствованы из Фонтенебло, и там, и сям виднелись искусственные развалины. Каждый вечер устраивались сельские праздники, поездки, спектакли, импровизации, разные сюрпризы, балы и концерты, во время которых императрица, ее прелестные дочери и невестки своею приветливостью придавали этим развлечениям восхитительный характер. Сам Павел предавался им с увлечением…
Наследник Александр Павлович
Из дневника Александра Яковлевича Протасова, воспитателя великого князя Александра Павловича:
…замечается в Александре Павловиче много остроумия и способностей, но совершенная лень и нерадение узнавать о вещах, и не только чтоб желать ведать о внутреннем положении дел, как бы требовали некоторые насилия в познании, но даже удаление читать публичные ведомости и знать о происходившем в Европе.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
Великий князь [Александр Павлович]… походит на свою мать ростом, красотою, кротостью и доступностью; поэтому его обожают в С.-Петербурге; он благоразумно решил избегать общества. Он живет в уединении со своей супругой, которую нежно любит; великая княгиня не может не внушать прочной привязанности благодаря своей грации, основательности своего ума и своим душевным качествам. Екатерина II хотела сделать Александра своим преемником; если бы она прожила еще один или два месяца, то Павел I никогда не взошел бы на русский престол. Это решение императрицы было известно всем и долгое время заставляло императора сторониться своего сына, но послушание великого князя, его почтительность и предупредительность ослабили это чувство неприязни. Александр окружен лишь людьми, которые покорно исполняют волю его отца. Чтобы не вызвать неудовольствия отца, он не устраивает никаких приемов, не говорит ни с одним иностранным послом, ни с одним высокопоставленным лицом иначе как в присутствии императора. Он не имеет никаких сношений с министрами.
Из «Записок» Августа Коцебу:
Великий князь Александр Павлович, юноша благороднейший и достойнейший любви, не избегал подозрений, которые глубоко оскорбляли его прямодушие.
Ничтожное происшествие навлекло на него взрыв отцовского гнева. Несколько гвардейских офицеров не оказали должного внимания при салютовании и были за то отправлены в крепость на несколько дней или часов. Вскоре выпущенные на свободу, они громко насмехались над этим наказанием. Это дошло до государя. Нельзя было… нанести ему более чувствительного оскорбления, как дав ему повод полагать, что издеваешься над его достоинством; вследствие сего он приказал этих офицеров снова посадить в крепость и угрожал им наказанием кнутом. Оба великие князья желали спасти невинных и низошли до того, что просили заступничества графа Кутайсова, любимца государя… Кутайсов действительно говорил императору в пользу этих офицеров, но, вероятно, не довольно горячо или не в надлежащую минуту, потому что потом советовал великим князьям более в это дело не вмешиваться… Благородный Александр… не удовольствовался этим жестокосердным ответом и решился лично обратиться к своему отцу с серьезными, но почтительными представлениями. Государь, кипя гневом, закричал: «Я знаю, ты давно уже ведешь заговор против меня!» — и поднял на него палку. Великий князь отступил назад, а супруга его бросилась, чтобы его заслонить, и громко сказала: «Пусть он сперва ударит меня». Павел смутился, повернулся и ушел.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Александр был назначен шефом Семеновского, а Константин Измайловского полка. Александр, кроме того, был назначен военным губернатором Петербурга. Ему были подчинены военный комендант города, комендант крепости и петербургский обер-полицмейстер. Каждое утро в семь часов и каждый вечер в восемь великий князь подавал императору рапорт. При этом необходимо было отдавать отчет о мельчайших подробностях, относящихся до гарнизона, до всех караулов города, до конных патрулей, разъезжавших в нем и в его окрестностях, и за малейшую ошибку давался строгий выговор. Великий князь Александр был еще молод, и характер его был робок: кроме того, он был близорук и немного глух; из сказанного можно заключить, что эта должность не была синекурой и стоила Александру многих бессонных ночей. Оба великих князя смертельно боялись своего отца, и когда он смотрел сколько-нибудь сердито, они бледнели и дрожали как осиновый лист. При этом они всегда искали покровительства у других, вместо того чтобы иметь возможность самим его оказывать, как это можно было ожидать, судя по высокому их положению. Вот почему они внушали мало уважения и были непопулярны.
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
…я наконец столкнулся в первый раз и с наследником престола. Сколько доброты и любезности светилось во взорах Александра!
Прелестный 23-летний юноша мимоходом проговорил мне какую-то любезность, более чтоб сделать удовольствие своему отцу, чем во внимание к моей собственной маленькой личности; но его обращение со всеми окружающими внушило мне к нему полнейшее обожание. Кружок, в котором я его приветствовал, был полон государственными сановниками. Между ними я услыхал фамилию одного героя, прославившегося под командою Суворова в Италии, и восторженно воскликнул: «Так это знаменитый князь Багратион?» Александр улыбнулся моему, может быть, несвоевременно выраженному любопытству, однако же подвел меня к нему [Багратиону], и князь, которому, как я видел, моя восторженность понравилась, взял меня ласково за руку и, указывая на великого князя, сказал: «Если вы хотите, принц, видеть что-нибудь замечательное, то вот смотрите на восходящее солнце России».
Константин, младший брат наследника, мускулистого, коренастого телосложения, с цветущим румянцем на щеках, очень походил на отца и считался вообще уступающим в кротости Александру.
Из «Записок» Марии Сергеевны Мухановой:
Государь-наследник Александр Павлович прислал к отцу моему доверенное лицо спросить его, может ли он отвечать за скромность своих офицеров, если он будет присылать им кушанье со своего стола. Отец мой благодарил за милость, но не принял предложения, говоря: хотя он и может поручиться за скромность офицеров, но между тем знает, что они скорее согласились бы вместо хлеба глодать камни, нежели подвергнуть великого князя гневу его отца.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Случайно я… присутствовал при сцене, которая, может быть, не поразила бы другого, но мне доставила большое удовольствие. Это было 3 февраля [1798 г.], в день празднования ордена Св. Анны. После обедни государь, бывший в парадном мундире, удалился в свои покои в ожидании обеда и разрешил принявшим участие в церемонии немного отдохнуть. В комнате, кроме государя, находились только великий князь Александр и я. После небольшого молчания государь сказал своему сыну: «Что бы ни говорил Дюваль, эта корона очень тяжела». Когда великий князь на это ничего не ответил, государь продолжал: «Вот возьми ее и попробуй сам». В этих словах, я уверен, не было никакого умысла, но великий князь, по-видимому, понял это иначе, сильно смутился, пробормотал что-то, кашлянул и не осмелился высказать свое суждение о тяжести короны. […]
Великий князь наследник, вообразивший при восшествии на престол отца, что перед ним раскроется небо, и проявлявший до нескромности радость по поводу того, что ему не надо более слушаться старухи [Екатерины II] — я передаю только это выражение! — с первого же года царствования отца убедился, насколько его положение было хуже в сравнении с тем, коим пользовался его отец при тех же условиях. Ему было назначено содержание в 500 000 рублей в год, а великой княгине, его супруге, — 150 000 рублей, но, кроме квартиры, он не пользовался ничем другим. Он имел свой собственный придворный штат, свой стол, свою конюшню, и за все это должен был сам платить. Он был шефом 2-го гвардейского полка, генерал-инспектором, председателем военного и морского департаментов, высшим начальником государственной полиции и первоприсутствующим в Сенате; все это составляло как будто вполне определенное премьерство, но никто не обращал внимания ни на его мнимый авторитет, ни на его милость. Он не мог никого ни назначать, ни увольнять, не мог подписывать от своего имени без особого разрешения, которое не имел даже права испрашивать. Питомец и жертва гатчинцев, он должен был терпеть от них обращения не как начальник и не как сын императора, а как воспитанник, которого то бранят, то вовсе не замечают. Обремененный работою, вынужденный во всякую погоду исполнять обязанности командира своего полка, уверенный в своем обеде только тогда, когда ему удавалось обедать у императора; отдыхая в сутки лишь несколько часов от изнеможения, рядом с одной из прекраснейших женщин на свете[51], доходя часто до отчаяния, но не осмеливаясь жаловаться, не решаясь даже изъявлять свое благоволение к другим из страха, что это может быть причиной их изгнания, — он наконец раскрыл глаза и стал укорять самого себя за то, что осуждал великую государыню, трон которой предстояло со временем занять и ему; он понял, что представляет собой лишь чучело, посаженное для торжества других и без пользы для себя. В конце первого года можно было еще помочь этой беде, если бы великий князь воспользовался умом, коим он был одарен от природы, и, соображая хорошо свои действия, проявил бы свойственную ему смелость, сдерживал бы фамильярность фаворитов и лакеев и занялся бы не мелочами военного муштрования, а важнейшими вопросами администрации, что дало бы ему возможность, не нарушая почтительности сына и верности подданного, приобрести значение и заслужить уважение императора, а также симпатию народа — но он не сумел это сделать. Император, заметив это и пользуясь этим, обращался с ним публично грубо до такой степени, что лишил его возможности предупредить ужасную катастрофу, от которой одно сердце юного великого князя могло предохранить отца.
Из переписки великого князя Александра Павловича:
Мое положение меня вовсе не удовлетворяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравятся исключительно тишина и спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу, для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места…
Одним словом, я сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим образом.
…Мой план состоит в том, чтобы, по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок этого отречения), поселиться с женой на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастие в обществе друзей и в изучении природы.
Из «Записок» Марии Сергеевны Мухановой:
Свойства Александра Павловича известны; о недостатках же его я умолчу. Восшествие его на престол было всеобщим праздником, уподобляющимся только Светлому Воскресению Христову: люди целовались на улице и поздравляли друг друга.
Женщины вокруг императора
Из «Записок» вице-адмирала Александра Семеновича Шишкова:
Мне случилось на бале… видеть, что государь чрезвычайно рассердился на гофмаршала[52] и приказал позвать его к себе, без сомнения, с тем, чтобы сделать ему великую неприятность. Катерина Ивановна [Нелидова] стояла в это время подле него, а я — за ними. Она, не говоря ни слова и даже не смотря на него, заложила свою руку за спину и дернула его за платье. Он тотчас почувствовал, что это значило, и отвечал ей отрывисто: «Нельзя воздержаться!» Она опять его дернула. Между тем гофмаршал приходит, и Павел изъявил ему свое негодование, но гораздо кротчайшим образом, нежели как по первому гневному виду его ожидать надлежало.
Из «Записок» Николая Александровой Саблукова:
Как-то раз, в то время когда я находился во внутреннем карауле, во дворце произошла забавная сцена. Выше я упоминал, что офицерская караульная комната находилась близ самого кабинета государя, откуда я часто слышал его молитвы. Около офицерской комнаты была обширная прихожая, в которой находился караул, а из нее шел длинный узкий коридор, ведший во внутренние апартаменты дворца. Здесь стоял часовой, который немедленно вызывал караул, когда император показывался в коридоре. Услышав внезапно окрик часового «караул вон!», я поспешно выбежал из офицерской комнаты. Солдаты едва успели схватить свои карабины и выстроиться, а я обнажить свою шпагу, как дверь коридора открылась настежь, и император, в башмаках и шелковых чулках, при шляпе и шпаге, поспешно вошел в комнату и в ту же минуту дамский башмачок с очень высоким каблуком полетел через голову его величества, чуть-чуть ее не задевши.
Император через офицерскую комнату прошел в свой кабинет, а из коридора вышла Екатерина Ивановна Нелидова, спокойно подняла свой башмак и вернулась туда же, откуда пришла.
На другой день, когда я сменялся с караула, его величество подошел ко мне и шепнул:
— Mon cher, nous avons eu du grabuge hier.
— Oui, Sire[53], — отвечал я. […]
…в тот же день, вечером, на балу, император подошел ко мне как к близкому приятелю и поверенному и сказал:
— Mon cher, faites danser quelque chose de joli[54].
Я сразу смекнул, что государю угодно, чтобы я протанцевал с Екатериной Ивановной Нелидовой. Что можно было протанцевать красивого, кроме менуэта или гавота сороковых годов? Я обратился к дирижеру оркестра и спросил его, может ли он сыграть менуэт, и, получив утвердительный ответ, я просил его начать и сам пригласил Нелидову, которая, как известно, еще в Смольном отличалась своими танцами. Оркестр заиграл — и мы начали. Что за грацию выказала она, как прелестно выделывала па и повороты, какая плавность была во всех движениях прелестной крошки, несмотря на ее высокие каблуки — точь-в-точь знаменитая Лантини, бывшая ее учительница! Со своей стороны и я не позабыл уроков моего учителя Канциани и при моем кафтане a la Frederic le Grand[55], мы оба точь-в-точь имели вид двух старых портретов. Император был в полном восторге и, следя за нашими танцами во все время менуэта, поощрял нас восклицаниями: «C’est charmante, c’est superbe, c’est délicieux!»[56].
Из «Записок» Александра Николаевича Вельяминова-Зернова:
Нелидова, для большей безопасности от его [Павла I] преследований, поселилась в Смольном монастыре. Однажды Павел, находясь в Смольном с своей фамилией на детском бале, вдруг среди оного пошел из танцевальной залы по коридорам монастыря. Эконом этого заведения, граф Кутайсов и еще кто-то третий последовали за ним; он скорыми шагами прошел в комнаты Нелидовой, отдернул занавесы ее кровати и с восторгом восклицал: «Это храм добродетели! Это храм непорочности! Это божество в образе человеческом!», стал на колени, несколько раз поцеловал ее постель, а потом отправился назад. Нелидова находилась в это время в танцевальной зале при императрице. Мне сказывал это один из очевидцев.
Из «Записок» Федора Николаевича Голицына:
На место девицы Нелидовой к государю вошла в милость княжна Лопухина. Продолжение такого поведения нанесло ему еще больший вред: ибо, отдаляясь более и более от своей августейшей супруги, в нраве своем становился он час от часу свирепее и от малых причин мог быть раздражен; а императрица, по своей кротости и благонравию, была во всяком случае нужна своему августейшему супругу, дабы утолять его непомерной гнев и смягчать сердце. До отдаления еще девицы Нелидовой, государыня, приметя ее почтительное обращение и удостоверяся, что со стороны государя настоящей любовной страсти в связи сей не было, обратилась к ней и стала с нею милостиво обходиться. Сия перемена произвела в государе желаемый успех, и приметили тогда, что он гнев свой стал иногда умерять. Но сие положение, к несчастию, не продолжилось. Новый и уже настоящий предмет любви (княжна Лопухина), возродив в нем новую страсть, приводил его еще более и чаще прежнего в волнование.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Со времени коронования император стал обращать внимание на старшую из дочерей московского сенатора Лопухина [Петра Васильевича]. Благодаря разным обстоятельствам ему пришлось с ней встретиться вторично. Он полагал, что для того, чтобы походить на Франциска I, Генриха IV или Людовика XIV, надо было иметь официальную фаворитку, или, точнее выражая его мнение на этот счет, иметь «даму своих мыслей», и Анна Лопухина, хотя она не была ни хороша собой, ни особенно любезна, соединяла, в его глазах, все, что можно было требовать для столь блестящего положения. […]
…добродетель Анны Петровны оставалась непоколебимой… Она отказывалась от всех предложений императора и заявила ему наконец, что ее сердце принадлежит князю Гагарину. Павел довершил свое великодушие тем, что не воспротивился этому браку. Свадьба молодой пары была отпразднована в присутствии двора, и княгиня Гагарина стала если и не фавориткой, то во всяком случае другом государя, который продолжал ее осыпать своими милостями. […]
Все при дворе изменило свой облик. Семья императора превратилась лишь в декорацию театра, предназначенного для торжества фаворитки. […]
…гроза разразилась. Около десяти часов император послал за великим князем наследником и приказал ему отправиться к императрице и передать ей строжайший запрет когда-либо вмешиваться в дела. Великий князь сначала отклонил это поручение, старался выставить его неприличие и заступиться за свою мать, но государь, вне себя, крикнул: «Я думал, что я потерял только жену, но теперь я вижу, что у меня также нет сына!» Александр бросился отцу в ноги и заплакал, но и это не могло обезоружить Павла. Его величество прошел к императрице, обошелся с ней грубо, и говорят, что если бы великий князь не подоспел и не защитил бы своим телом мать, то неизвестно, какие последствия могла иметь эта сцена. Несомненно то, что император запер жену на ключ и что она в течение трех часов не могла ни с кем сноситься. Г-жа Нелидова, которая считала себя достаточно сильной, чтобы выдержать эту грозу, и настолько влиятельной, чтобы управиться с нею, пошла к рассерженному государю, но вместо того, чтобы его успокоить, она имела неосторожность — довольно странную со стороны особы, воображавшей, что она его так хорошо изучила, — осыпать его упреками. Она указала ему на несправедливость его поведения с столь добродетельной женой и столь достойной императрицей и стала даже утверждать, что знать и народ обожают императрицу…
Далее она стала предостерегать государя, что на него самого смотрят как на тирана, что он становится посмешищем в глазах тех, кто не умирает от страха, и, наконец, назвала его палачом. Удивление императора, который до сих пор слушал ее хладнокровно, превратилось в гнев: «Я знаю, что я создаю одних только неблагодарных, — воскликнул он, — но я вооружусь полезным скипетром, и вы первая будете им поражены, уходите вон!» Не успела г-жа Нелидова выйти из кабинета, как она получила приказание оставить двор.
Из «Записок» Николая Александрович Саблукова:
Однажды на одном из балов, данных в Москве по случаю его приезда в 1798 году, император был совершенно очарован огненными черными глазами девицы Анны Лопухиной. Кутайсов, которому Павел сообщил о произведенном на него впечатлении, немедленно же рассказал об этом отцу девицы, с которым и был заключен договор, имевший целью пленить сердце его величества.
Анна Петровна Лопухина вскоре была пожалована фрейлиной и приглашена жить в Павловске. Для нее было устроено особое помещение, нечто вроде дачи, в которую Павел мог легко пройти из Розового павильона, не будучи никем замеченным. Он являлся туда каждый вечер, как он вначале сам воображал, с чисто платоническими чувствами восхищения: но брадобрей [Кутайсов] и Лопухин-отец лучше знали человеческую натуру и вернее смотрели на будущее. Им постепенно удалось разжечь чувства Павла к девушке путем упорного ее сопротивления желаниям его величества, что, впрочем, она и делала вполне искренно, так как, будучи еще в Москве, она испытывала довольно серьезную привязанность к одному князю Гагарину, служившему майором в армии и находившемуся теперь в Италии, в войсках Суворова. Однажды в один из вечеров, когда Павел оказался более предприимчивым, чем обыкновенно, Лопухина неожиданно разрыдалась, прося оставить ее, и призналась государю в своей любви к Гагарину. Император был поражен, но его рыцарский характер и врожденное благородство тотчас проявили себя: он немедленно же решил отказаться от любви к девушке, сохранив за собой только чувства дружбы, и тут же захотел выдать ее замуж за человека, к которому она питала такую горячую любовь. Суворову немедленно посланы были приказания вернуть в Россию князя Гагарина. В это самое время последний только что отличился в каком-то сражении, и его поэтому отправили в Петербург с известием об одержанной победе. Я находился во дворце, когда князь Гагарин прибыл ко двору, и вынес о нем впечатление как об очень красивом, хотя и невысокого роста, человеке. Император тотчас же наградил его орденом, сам привел к его возлюбленной и в течение всего этого дня был искренно доволен и преисполнен гордости от сознания своего действительно геройского самопожертвования.
И вечером на «маленьком дворцовом балу» он имел положительно счастливый и довольный вид, с восторгом говорил о своем красивом и счастливом сопернике и представил его многим из нас с видом искреннего добродушия. Со своей стороны я лично ни на минуту не сомневался в искренности Павла, благородная душа которого одержала победу над сердечным влечением.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
…свадьба [Лопухиной и Гагарина] была блестяще отпразднована при дворе; император подарил княжне великолепный, богато обставленный дворец. Граф Шереметев, камергер его величества, родственник новобрачной, устроил в своем роскошном дворце празднество, стоившее сто тысяч рублей: первый стол на двадцать приборов, за которым надеялись видеть императора, был накрыт золотой посудой, два других на пятьдесят приборов — вызолоченной, а два последних на пятьдесят приборов каждый — серебряной.
Длинная анфилада палат, обставленных с азиатской роскошью и европейским вкусом, изобиловала бриллиантами, драгоценностями и разными диковинками.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Не будь Кутайсова и Лопухина-отца, которые из личных выгод потакали дурным страстям императора и привлекли в эту интригу даже самого Гагарина, не будь всего этого — нет никакого сомнения, что княгиня Анна Гагарина, рожденная Лопухина, никогда не была бы maitresse еп titre[57] Павла в момент убийства этого злополучного государя. […]
Кутайсов, исполнявший свою роль Фигаро при гроссмейстере Мальтийского ордена [Павле I], продолжал служить для любовных поручений, вследствие чего он из брадобреев был пожалован в графы и сделан шталмейстером ордена. Он купил себе дом по соседству с дворцом княгини Гагариной и поселил в нем свою любовницу, французскую актрису Шевалье. Я не раз видел, как государь сам привозил его туда и затем заезжал за ним, возвращаясь от своей любовницы. […] Достойно внимания и то обстоятельство, что Е. И. Нелидова, которой Павел так восторженно увлекался, сохранила дружбу и уважение императрицы Марии Федоровны до последних дней ее жизни. Не есть ли это лучшее доказательство того, что до того времени, когда он попал в сети Гагариной и ее клеврета, он действительно был нравственно чист в своем поведении?
Из переписки Федора Васильевича Ростопгина:
Это увлечение времен рыцарства, и никогда император ее [Анну Лопухину] не видит иначе, как публично или в присутствии ее отца или ее мачехи.
Из «Мемуаров» фрейлины Варвары Николаевны Головиной:
В ожидании императора были все признаки страсти влюбленного двадцатилетнего юноши. Он сделал великого князя [Александра Павловича] поверенным своих чувств, только и говорил ему, что про Лопухину…
«Вообразите, до чего доходит моя страсть, — сказал он однажды своему сыну, — я не могу смотреть на маленького горбуна Лопухина, не испытывая сердцебиения, потому что он носит ту же фамилию, что и она». Лопухин, о котором идет речь, был одним из придворных; он был горбат и приходился дальним родственником м-ль Лопухиной. […]
У нее [Анны Лопухиной] были красивые глаза, черные брови и такие же волосы, прекрасные зубы и приятный рот, маленький вздернутый нос. Лицо — с добрым и ласковым выражением. Она действительно была добра и неспособна пожелать или сделать кому-нибудь злое; но она была не очень умна и без всякого воспитания… без всякой грации в манерах… ее влияние выражалось только в испрашиваемых ею милостях… Часто она получала от государя прощение невинных, с которыми он жестоко поступил в момент дурного настроения. Она плакала тогда или капризничала и получала таким образом, что она желала. Государыня, из угождения супругу, обходилась с ней очень хорошо; великие княжны ухаживали за ней так, что это неприятно было видеть…
Император придал своей страсти и всем ее проявлениям рыцарский характер, почти облагородивший ее… Мадемуазель Лопухина получила Мальтийский орден, это была единственная женщина, которой была предоставлена эта милость… Имя Анны, в котором открыли мистический смысл Божественной милости[58], стало девизом государя… Малиновый цвет, любимый Лопухиной, стал излюбленным цветом государя, а следовательно, и двора… Государь подарил Лопухиной огромный дом на Дворцовой набережной. Он ездил к ней ежедневно два раза в карете, украшенной только мальтийским крестом и запряженной парой лошадей, в сопровождении лакея, одетого в малиновую ливрею. Он считался в этом экипаже инкогнито, но в действительности всем было известно, что это едет государь…
Балы давались часто, чтобы удовлетворить страсть к танцам мадемуазель Лопухиной. Она любила вальсировать, и этот невинный танец, запрещенный до сего времени как неприличный, был введен при дворе. Придворный костюм мешал танцевать Лопухиной… и появился приказ, чтобы дамы в выборе костюма руководились только своим личным вкусом… приказ, которому вся молодежь подчинялась с самым большим удовольствием.
Из «Записок» Александра Николаевича Вельяминова-Зернова:
…Всем известно, как страстно обожал Павел Анну Петровну Лопухину, позже княгиню Гагарину; гренадерские шапки, знамена, флаги кораблей и самые корабли украшены были именем «благодати», потому что Анна по-гречески значит «благодать». Сколько было жертв его ревности и сколько милостей к ее родству.
Из «Записок» Николая Александровой Саблукова:
Княгиня Гагарина [Лопухина] оставила дом своего мужа и была помещена в новом дворце [Михайловском замке] под самым кабинетом императора, который сообщался посредством особой лестницы с ее комнатами, а также с помещением Кутайсова.
Окружение
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Но какие тогда были друзья у того, кто царствовал над таким обширным государством? Кто мог тогда иметь такое сильное влияние на судьбы Европы? Князь Куракин? — он был так глуп, как только можно, и, начав с полного ничтожества, достиг, путем лести, высших почестей. Камергер Вадковский? — человек злостный до ослепления. Князь Николай Алексеевич Голицын, впоследствии обер-шталмейстер? — новообращенный вольнодумец, воображающий себя государственным мужем и утешавший великого князя по поводу сцен ревности, которые ему устраивала его супруга тем, что, сделавшись императором, он сможет ее заключить в монастыре. Граф Эстергази, состоявший раньше при наследнике французского короля и принимавший участие во всех ошибках, закончившихся французской революцией? Он имел обыкновение говорить, мрачно покачивая головою: «Только посредством своевременного кровопускания можно предупредить возмущение в большом государстве». Вот те советчики, окружавшие государя, умственные способности которого все больше суживались в кругу домашних споров между его женой, г-жой Нелидовой и их приверженцами.
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
Из других обыкновенно присутствовавших [на семейных императорских обедах] лиц, между которыми гофмейстерина графиня Ливен была единственною дамою, я помню только военного генерал-губернатора графа Палена, статного, высокого господина преклонных лет, с приятным, хитрым, но в то же время внушительным лицом; графа Строганова, Нарышкина и графа Кутайсова. Действительный тайный советник и сенатор старик Строганов, казалось, был любимцем монарха. Он слыл за остряка и очень умного человека, а низенькая, сухопарая и скорченная фигура придавала ему вид настоящего дипломата. Обер-камергер Нарышкин, которого в императорском кружке часто называли в шутку кузеном (так как мать Петра Великого была из его фамилии, чем он немало чванился), почитался и тогда уже привилегированным придворным шутником. Он был тучен и приземист, на устах его, как у балетных танцовщиков, всегда порхала любезная улыбка. Все эти господа, за исключением графа Палена, носившего белый мундир, являлись в костюме мальтийских рыцарей.
Александр Борисович Куракин
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
…Александр Куракин, племянник графа Панина, бывшего гувернера императора… был близким другом Павла с самого детства, но он оставался в милости лишь благодаря лести и потому, что Павел привык его видеть и что он не возбуждал беспокойства в других. Он любил блистать, не в силу своих заслуг или внушаемого им доверия, а своими брильянтами и своим золотом, и стремился к высоким местам лишь как к удобному случаю, чтобы постоянно выставлять их напоказ. Он достиг всего и не сумел воспользоваться ничем…
Иван Павлович Кутайсов
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Камердинер императора Кутайсов, турецкого происхождения… Быстрота его карьеры была поистине поразительна: 6 декабря 1798 года — обер-егермейстер; 22 февраля 1799 года — барон; 9 января 1800 года — граф.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Раньше всех следует упомянуть об Иване Павловиче Кутайсове, турчонке, взятом в плен в Кутайсе и которого Павел, будучи великим князем, принял под свое покровительство, велел воспитать на свой счет и обучить бритью. Он впоследствии сделался императорским брадобреем и в качестве такового ежедневно имел в руках императорский подбородок и горло, что, разумеется, давало ему положение доверенного слуги. Это был чрезвычайно смышленый человек, обладавший особенной проницательностью в угадывании слабостей своего господина. Надо, однако, сознаться, что он по возможности всегда старался улаживать все к лучшему, предупреждая тех, которые являлись к императору, о настроении духа своего господина.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
Постоянно видя подле себя Кутайсова, великий князь заинтересовался своим лакеем; этот интерес породил доверие и дружбу. Великий князь поверял Кутайсову свои мысли, свои страсти, свои огорчения и недовольство матерью. Кутайсов сопровождал Павла в качестве лакея, когда тот путешествовал по Европе… Он продолжал служить в этой должности и по возвращении великого князя.
…Этот турок принял религию своего повелителя… Его высокий рост, прекрасная фигура, благородное лицо, мужественная осанка, хорошие манеры, гибкий и уступчивый характер, его склонность ко всем телесным упражнениям — все это заставляло великого князя дорожить им. Вспышки горячего и необузданного характера Павла, сдерживаемые на глазах у матери, разражались без всякого удержу перед любимым лакеем. Меня даже заверяли, что в припадке гнева Павел беспощадно колотил Кутайсова.
Как только великий князь взошел на престол, он вывел Кутайсова из положения низшего слуги, сделав его обер-шталмейстером с чином генерал-майора.
…Вскоре после этого Кутайсов был сделан графом и ему были пожалованы обширные поместья. Во всех своих дворцах Павел I отвел Кутайсову помещение, смежное с тем, которое занимал он сам. Павел пожаловал ему красную ленту св. Александра Невского — орден второй степени в империи. Когда Павел I стал великим магистром ордена Св. Иоанна Иерусалимскаго, он дал Кутайсову рыцарский крест, затем сделал его командором и, наконец, рыцарем Большого креста.
…граф Кутайсов, подобно многим его [императора] окружавшим, часто опутывал его ложными подозрениями, для того только, чтобы увеличить или сохранить свое собственное, никакою заслугою не оправданное влияние. Кутайсов был родом из Турции, где-то взят в плен еще мальчиком и подарен великому князю Екатериною. Павел послал его в Париж для обучения камердинерской службе. Выучившись завивать волосы и брить бороду, он поступил камердинером к великому князю, и в похвалу ему говорили, что он в этой должности отличался непоколебимою преданностью своему господину. Рассказывают, что когда Павел находился при армии в Финляндии и, вероятно, без основания опасался быть умерщвленным, Кутайсов каждую ночь спал на пороге его комнаты, дабы не могли пройти к великому князю иначе, как чрез его труп. […]
Со вступлением Павла на престол Кутайсов предался самому пошлому чванству.
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
Этот господин [Кутайсов] в красном мундире Мальтийского ордена, с белоснежным хохлом, как у попугая, был первым любимцем государя… Он вырос на глазах императора в числе низшей придворной прислуги и был возведен в камердинеры, потом в обер-гофмейстеры. В России его ненавидели, но понапрасну, так как ничем не доказано, чтоб он сделал какое-либо зло. Он показался мне добродушным.
Когда в 1798 году Павел получил титул гроссмейстера Мальтийского ордена, Кутайсов был возведен в звание обершталмейстера ордена.
Петр Христофорович Обольянинов
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Другой честный, услужливый, добрый и благочестивый человек был генерал-майор Обольянинов, сделанный генерал-адъютантом при восшествии на престол Павла. В течение своей жизни этот человек много сделал для того, чтобы смягчать последствия вспыльчивости и строгости Павла. В конце его царствования он был сделан генерал-прокурором Сената и в этой должности много старался о том, чтобы восстановить беспристрастие в судах. Павел любил и уважал его до такой степени, что никогда не заподозривал людей, близких с Обольяниновым, который и сам ни в ком не заподозривал никогда ничего дурного. Это всем известное обстоятельство сделало впоследствии его дом сборным пунктом всех тех, которые приняли участие в заговоре против Павла. Странно сказать, что я, будучи в большой милости у Обольянинова, ни разу не был ни на одном из его вечеров, хотя мой отец бывал тут почти каждый вечер, чтобы играть с ним в вист. Этот прекрасный человек пользовался таким всеобщим уважением, что когда после смерти Павла он удалился в Москву, то был избран там губернским предводителем дворянства и занимал эту почетную должность до конца своей жизни.
…генерал-прокурор Обольянинов… с величайшим хладнокровием приказывал исполнять и даже усугублять то, что государь повелевал, когда с умыслом возбуждали его гнев.
Алексей Андреевич Аракчеев
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Из всех этих лиц… особенного внимания, однако, заслуживает одна личность, игравшая впоследствии весьма важную роль. Это был полковник гатчинской артиллерии Аракчеев, имя которого, как страшилища Павловской и особенно Александровской эпохи, несомненно, попадет в историю. По наружности Аракчеев походил на большую обезьяну в мундире. Он был высокого роста, худощав и мускулист, с виду сутуловат, с длинной тонкой шеей, на которой можно было бы изучить анатомию жил, мускулов и т. п. В довершение всего он как-то особенно сморщивал подбородок, двигая им как бы в судорогах. Уши у него были большие, мясистые; толстая, безобразная голова, всегда несколько склоненная набок. Цвет лица у него был земляной, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, большой рот и нависший лоб. Чтобы закончить его портрет, скажу, что глаза у него были впалые, серые и вся физиономия его представляла странную смесь ума и злости. […]
В Гатчине Аракчеев… обратил на себя внимание Павла и благодаря своему уму, строгости и неутомимой деятельности сделался самым необходимым человеком в гарнизоне… Надо сказать правду, что он был искренно предан Павлу, чрезвычайно усерден к службе и заботился о личной безопасности императора. У него был большой организаторский талант и во всякое дело он вводил строгий метод и порядок, которые старался поддерживать строгостью, доходившей до тиранства. Таков был Аракчеев. При вступлении на престол императора Павла он был произведен в генерал-майоры, сделан шефом Преображенского полка и назначен петербургским комендантом. […]
…у Аракчеева было два больших достоинства. Он был действительно беспристрастен в исполнении суда и крайне бережлив на казенные деньги. В царствование Павла Аракчеев был, несомненно, из тех людей, которые возбудили неудовольствие общественного мнения против правительства; но император Павел, по природе человек великодушный, проницательный и умный, сдерживал строгости Аракчеева и наконец удалил его…
Из «Записок» Августа Коцебу:
О жестокости генерала Аракчеева рассказывали, что он однажды совершенно спокойно бил одного солдата по голове до тех пор, пока тот не упал мертвый.
Петр Алексеевич Пален
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
…граф Пален был вызван в Петербург, назначен командиром конной гвардии и инспектором тяжелой кавалерии. Впоследствии он был сделан военным губернатором Петербурга, управляющим иностранными делами и почтовым ведомством, вследствие чего в его руках находились ключи от всех государственных тайн, так что в столице никто не мог предпринять чего-либо без его ведома.
Из «Записок» Августа Коцебу:
Этот человек [Петр Алексеевич Пален], которого обстоятельства вынудили быть участником в столь отвратительном деле [в заговоре], мог в то время быть изображен одними только светлыми красками. При высоком росте, крепком телосложении, открытом, дружелюбном выражении лица, он от природы был одарен умом быстрым и легко объемлющим все предметы. Эти качества соединены были в нем с душою благородною, презиравшею всякие мелочи. Его обхождение было жестокое, но без суровости. Всегда казалось, что он говорит то, что думает; выражений он не выбирал… Он охотно делал добро, охотно смягчал, когда мог, строгие повеления государя, но делал вид, будто исполнял их безжалостно, когда иначе не мог поступать, что случалось довольно часто.
Почести и звания, которыми государь его осыпал, доставили ему весьма естественно горьких завистников, которые следили за каждым его шагом и всегда готовы были его ниспровергнуть. Часто приходилось ему отвращать бурю от своей головы, и ничего не было необычайного в том, что в иные недели по два раза часовые то приставлялись к его дверям, то отнимались. Оттого он должен был всегда быть настороже и только изредка имел возможность оказывать всю ту помощь, которую внушало ему его сердце. Собственное благоденствие и безопасность была, без сомнения, его первою целью, но в толпе дюжинных любимцев, коих единственною целью были их собственные выгоды и которые равнодушно смотрели, как все вокруг них ниспровергалось, лишь бы они поднимались все выше и выше, — можно за графом Паленом признать великою заслугою то, что он часто сходил с обыкновенной дороги, чтобы подать руку помощи тому или другому несчастному.
Везде, где он был в прежние времена, генералом ли в Ревеле или губернатором в Риге, его все знали и любили как честного и общественного человека. Даже на вершине своего счастия он не забыл своих старых знакомых, не переменился в отношении к ним и был полезен, когда мог.
Никита Петрович Панин
Из «Записок» Александра Николаевича Вельяминова-Зернова:
Никита Петрович, выросши вместе с Павлом и часто отнимая от него игрушки, думал продолжать ту же короткость и сохранять ту же силу воли и против императора царствующего.
Из «Записок» Адама Ежи Чарторыйского:
Этот человек был, по-видимому, создан более, чем кто-либо другой, играть выдающуюся роль в делах империи. Он обладал всеми необходимыми для этого качествами: громким в России именем, недюжинными способностями и большим честолюбием. Будучи совсем молодым человеком, он уже сделал блестящую карьеру. Назначенный русским посланником в Берлин, он вскоре был призван императором Павлом в коллегию иностранных дел под начальство князя Александра Куракина. […]
Прослужив несколько месяцев в иностранной коллегии, граф Никита Петрович вызвал чем-то неудовольствие императора, был отрешен от должности и выслан на жительство в Москву. Но… граф сумел воспользоваться этим коротким промежутком времени и повлиять заметным образом на судьбы своей страны. Известие о кончине Павла он принял с нескрываемою радостью и тотчас приехал в Петербург с самыми радужными надеждам на будущее.
* * *
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
…низость и злоба второстепенных царедворцев окончательно погубили, нравственно и физически, этого несчастного государя. […]
Как только началось новое царствование — появилась партия, существовавшая в России уже давно и располагавшая большим влиянием, о чем, несмотря на чутье русских в интригах, лишь немногие имели ясное понятие. Эта партия, связанная со двором многими нитями, что, однако, мало показывалось там, и в этом, вероятно, заключается причина, почему ее так мало замечали и никто о ней не говорил. Я назову ее «немецкой партией», она родилась еще при Петре Великом из желания руководить цивилизацией и состояла в последующие царствования из лиц разных национальностей, разных чинов и разного пола, образовавших молча союз против всех остальных… При воцарении Павла эта партия вошла опять в силу, и нижеследующий список ее членов даст лучшее понятие о ней, чем все, что я мог бы сказать; сама императрица, граф Пален, граф Панин [Никита Петрович], граф Петр Головкин, обер-егермейстер барон Кампенгаузен, барон Гревенитц, г-жа Ливен [Шарлотта Карловна] и др. В числе этих лиц было немало таких, которые никогда не видели друг друга и никогда не беседовали между собою; у них не было ни общего плана действий, ни совещаний для обсуждения такового, но они на слово верили друг другу и составляли как бы одну секту. Опасность, грозящая одному, приводила в движение других, а многие даже не подозревали, до какой степени они принадлежали к этой партии и вдохновлялись ею. Не знаю, удалось ли мне передать ясно мою мысль о «немецкой партии» в России, но внимательный наблюдатель ее не пропустит, и существования ее нельзя отрицать, хотя на это и нет явных доказательств.
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
Гости встречали монарха в не очень просторной парадной гостиной [Михайловского замка] с натянутым благоговением. Долее всех разговаривал он обыкновенно с военным генерал-губернатором [П. А. Паленом] и часто шептал ему на ухо что-то, причем граф Пален принужден был наклоняться к нему, обменивался несколькими словами с графом Строгановым и потом каждый раз наклонялся к генералу Дибичу, к великой досаде, как я ясно видел, всех остальных присутствующих, отводил его в сторону и, часто указывая на меня и пожимая ему руку, обнадеживал заверениями в своей благосклонности.
Лишь только император оборачивал лицо, тотчас же просветлялись мрачные черты всех гостей и вновь представляли выражение полнейшего удовольствия. Однажды Строганов и Нарышкин пустились взапуски друг перед другом любезничать со мной; я же, помня умное наставление моего гувернера [И. И. Дибича] ни с кем, кроме самого императора, не быть слишком разговорчивым, отделывался одними «да» и «нет» и, наконец, на слишком назойливые вопросы отвечал, что «считаю себе не по плечу разговоры с дипломатами и остряками, так как я еще только начинающий службу драгун».
Эта выдержка из упражнений, которые задавались мне в школе моего лукавого гувернера и были так удачно рассчитаны на весь придворный персонал, произвела самое благоприятное впечатление на сердце императора. […]
Едва прибыл я домой, как мне передал камер-паж от имени императора Мальтийский орден (высшее отличие, которое только мог пожаловать мне государь), и вслед за тем покои мои наполнились бесчисленными посетителями. Когда наконец весь этот рой придворных и высших военных чинов отхлынул, я обратился к генералу Дибичу с очень естественным вопросом: «Что, собственно, вся эта комедия означает? За что все эти незаслуженные почести и разве так приказано императором?»
Генерал сообщил мне, что его величество, когда я остался один с императрицей, призвал его к себе, благосклонно пожал ему руку и сказал: «Благодарю вас, генерал, за сопровождение принца; он теперь мой навсегда. Он превосходит мои ожидания и будет, я уверен, вполне соответствовать моим намерениям. Я теперь приставлю вас к нему; вы должны быть всегда с ним, никогда без него. Ваше усердие для меня весьма важно; я полагаюсь на вас и пребываю к вам благосклонен».
— Что при таких обстоятельствах, — продолжал Дибич, — Люди за вами ухаживают, будет вам понятно. Но позвольте одно замечание: не доверяйте никому, ибо они все лукавы, как кошки, и до тех только пор не выпускают когтей, пока над ними плеть господина…
«Ах ты лисица! — подумал я. — Ты смеешься над русскими вельможами; а сам, выскочка, того не замечаешь, как ты себя унизил этой лестью перед 13-летним мальчиком, которую ты расточаешь ему из одного уважения к милостям императора».
И правда: если бы русские повально ненавидели всех иностранцев, это было бы им простительно благодаря образу действий Павла I. В его царствование все высшие должности были открыты чужеземным проходимцам, тогда как оскорбленный русский человек в справедливом негодовании, с уязвимым чувством гордости скрывался в отдаленных углах своей родины. […]
Во мне, ребенке, вдруг признали нового царского любимца, и ничто так не подтверждало этого мнения, как низкие поклоны придворных.
Когда я с генералом моим [Дибичем] сходил с лестницы, то он, задыхаясь от счастья, бросился мне на шею, и при этом радостном движении с него слетел парик. Готовность, с которою я поспешил услужить ему, подняв парик, доставила мне при этом случае даже поцелуй в руку от моего гувернера, в глазах которого кончик пальца, осчастливленный прикосновением императора, был уже своего рода святынею.
Из «Записок» Августа Коцебу:
Что Павел приказывал со строгостию, то исполнялось его недостойными слугами с жестокостию. Страшно сказать, но достоверно: жестокость обращена была в средство лести. Его сердце о том ничего не знало. Он требовал только точного исполнения во всем, что ему казалось справедливым, и каждый спешил повиноваться. Но этого недостаточно было для вероломных слуг.
Им нужно было, чтобы государь чувствовал необходимость держать их при себе, и чтобы он чувствовал ее все более и более; с этою целью они старательно поддерживали его подозрительность и пользовались всяким случаем, чтобы подливать масла в огонь. Неумолкаемое поддакивание вошло в обычай, окончательно извратило нрав государя и с каждым днем делалось ему необходимее. […]
…из тех, которые обыкновенно приближались к нему [Павлу I], редкий человек мог скрыть свое коварство: к ногам его повергалась одна лишь корыстолюбивая, всегда косо смотрящая подлость; все это притворство не могло, конечно, не казаться противным этому прямодушному человеку, и невольно вспыхивало его негодование. Самую тягостную обязанность для государя составляет изучение людей, потому что оно приводит к презрению человечества. […]
Не по недостатку рассудка Павел подпал под влияние льстецов, а вследствие их адского искусства не давать уснуть его подозрительности и представлять как преступление всякое правдивое противоречие. Последствием этого было то, что все честные люди замолкли даже в тех случаях, когда по долгу совести им надлежало говорить. […]
Когда его ослепляли подозрительность и заносчивость, льстецы и искатели счастья, которые его окружали, спешили еще более затемнять его рассудок, дабы ловить рыбу в мутной воде. Но в следующие за тем минуты, как только государь снова приходил в себя, никто не мог быть уверен, что удастся продолжить обман, и потому все желали перемены: одни чтобы сохранить добытое всевозможными происками, другие чтобы получить от нового государя знаки его милости, а третьи — чтобы сыграть какую-нибудь роль.
Нововведения
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Едва мы дошли до Дворцовой площади [утром в день воцарения Павла I] как уже нам было сообщено множество новых распоряжений. Начать с того, что отныне ни один офицер ни под каким предлогом не имел права являться куда бы то ни было иначе как в мундире; а надо заметить, что наша форма была очень нарядна, дорога и неудобна для постоянного ношения. Далее нам сообщили, что офицерам вообще воспрещено ездить в закрытых экипажах, а дозволяется только ездить верхом, или в санях, или в дрожках. Кроме того, был издан ряд полицейских распоряжений, предписывавших всем обывателям носить пудру, косичку… и запрещавших ношение круглых шляп, сапог с отворотами, длинных панталон, а также завязок на башмаках и чулках, вместо которых предписывалось носить пряжки. Волосы должны были зачесываться назад, а отнюдь не на лоб; экипажам и пешеходам велено было останавливаться при встрече с высочайшими особами, и те, кто сидел в экипажах, должны были выходить из оных, дабы отдать поклон августейшим лицам. Утром 8 ноября 1796 года значительно ранее 9 часов утра усердная столичная полиция успела уже обнародовать все эти правила. […]
Но вот пробило наконец десять часов, и началась ужасная сутолока. Появились новые лица, новые сановники. Но как они были одеты! Невзирая на всю нашу печаль по императрице, мы едва могли удержаться от смеха, настолько все нами виденное напоминало шутовской маскарад. Великие князья Александр и Константин Павловичи появились в своих гатчинских мундирах, напоминая собой старинные портреты прусских офицеров, выскочившие из своих рамок. […]
Мы все вернулись домой, получив строгое приказание не оставлять своих казарм, и вскоре затем новые пришельцы из Гатчинского гарнизона были представлены нам. Но что это были за офицеры! Что за странные лица! Какие манеры! И как странно они говорили! Это были по большей части малороссы. Легко представить себе впечатление, которое произвели эти грубые бурбоны на общество, состоявшее из ста тридцати двух офицеров, принадлежавших к лучшим семьям русского дворянства. Все новые порядки и новые мундиры подверглись строгой критике и почти всеобщему осуждению. Вскоре, однако, мы убедились, что о каждом слове, произнесенном нами, доносилось куда следует. […]
В эпоху кончины Екатерины и вступления на престол Павла Петербург был, несомненно, одной из красивейших столиц в Европе… Как по внешнему великолепию, так и по внутренней роскоши и изяществу вкуса ничто не могло сравниться с Петербургом в 1796 году: таково было, по крайней мере, мнение всех знаменитых иностранцев, посещавших в то время Россию и которые проводили там многие месяцы, очарованные веселостью, радушием, гостеприимством и общительностью, которые Екатерина с особенным умением проявляла во всей империи.
Внезапная перемена, произошедшая с внешней стороны в этой столице в течение нескольких дней, просто невероятна. Так как полицейские мероприятия должны были исполняться со всевозможной поспешностью, то метаморфоза совершилась чрезвычайно быстро и Петербург перестал быть похожим на современную столицу, приняв скучный вид маленького немецкого города за два или за три столетия тому назад. К несчастью, перемена эта не ограничилась одной внешней стороной города: не только экипажи, платья, шляпы, сапоги и прическа подчинены были регламенту, самый дух жителей был подвержен угнетению. Это проявление деспотизма, выразившееся в самых повседневных, банальных обстоятельствах, сделалось особенно тягостным ввиду того, что оно явилось продолжением эпохи сравнительно широкой личной свободы. […]
…Павел всюду ввел гатчинскую дисциплину. Он смотрел на арест как на пустяк и применял его ко всем слоям общества, не исключая даже женщин. Малейшее нарушение полицейских распоряжений вызывало арест при одной из военных гауптвахт, вследствие чего последние иногда бывали совершенно переполнены.
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
На возвратном пути из губернаторского дома мне встретилась императорская лейб-гвардия, роскошно освещенная лучами солнца. Офицеры были в зеленых мундирах, украшенных довольно простым шитьем и аксельбантами, в белых панталонах и ботфортах и имели на головах шляпы с узкими галунами, а в правой руке так называемые эспонтоны[59]; зеленые мундиры рядовых были, напротив того, богато испещрены галунами, а заостренные старопрусские, из томпаковой жести шапки придавали им поистине величественный вид и так блестели на солнце, что ослепляли зрителя. Но, с другой стороны, дальнейшие принадлежности этого наряда в виде густо напудренной прически и кос длиною в аршин, равно как и старомодный покрой мундиров, придавали всему зрелищу, если смотреть на него вблизи, вид собравшейся на потеху публике толпы комедиантов. Однако возникновение этой идеи тотчас же подавлялось страшной серьезностью, написанной на всех лицах; а строго размеренный, торжественный шаг, как бы нарочно удалявший близкую цель марша в беспредельное пространство, скорее заставлял думать, что они совершают похоронное шествие или сопровождают на казнь преступника, а не идут на ежедневную смену караула.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
…император, освободившись от своих опасений [что ему не придется царствовать], думал только о том, как бы проявлять побольше свою власть, а фавориты заботились меньше о здоровье государя и о счастье подданных, чем о благополучии их собственных карманов. […]
…появилась целая группа простоватых и ничтожных лиц, одетых в невидимые до тех пор мундиры, украшенные неизвестными орденами, без хороших манер, но со смелостью в походке и взгляде, и без имени, и когда спрашивали, кто эти люди, ответ гласил: «Это гатчинцы», — то есть люди, выдрессированные самим императором и одетые на его манер в то время, когда он — в течение долгих лет — проживал в Гатчине. […]
В числе тысячи указов, следовавших один за другим, был один столь необыкновенный, чтобы не сказать ненавистный, для высших классов и вместе с тем столь комичный по своим результатам, что большинство обитателей столицы не имели возможности его исполнить, и вследствие этого улицы опустели и в них разыгрывались маскарадные сцены. Этим указом было запрещено выходить во фраке и можно было появляться на улице не иначе как в мундире, присвоенном по должности, и со всеми орденами, если таковые имелись. Круглые шляпы, панталоны, сапоги с отворотами — все это было строго запрещено, и указ этот подлежал немедленному исполнению, так что у многих не хватило времени и материальных средств, чтобы исполнить его. Одни были вынуждены скрываться у себя дома, другие появлялись на улицах, одетые, как кто мог: в маленьких круглых шляпах, переделанных наскоро посредством булавок в треуголки, во фраки, с которых сняли отложные воротники, а потом нашили на них клапаны, в панталоны, подобранные изнутри и прилаженные к коленям, с обрезанными кругом и напудренными волосами и с привязанной сзади косой. Я устроился так, чтобы по утрам выезжать только в коляске, вне района надзора, и гулять там в обыкновенном костюме: но скоро я заметил, что играю слишком опасную игру…
Иностранцы, в особенности англичане, считали себя изъятыми от этого закона, но полиция обошлась с ними так круто, а власти обратили так мало внимания на жалобы тех, против которых были направлены строгости, что они сочли более благоразумным подчиниться. Даже франкмасоны, столь покровительствуемые Павлом, когда он был еще великим князем и к которым он как будто даже хотел присоединиться, стали теперь для него не более как привилегированными бунтовщиками, которых желательно было удалить из империи. […]
Страсть Павла к церемониям почти равнялась его страсти к военщине. С утра до вечера — всегда бывали поводы, чтобы не дать вздохнуть придворным. Церковные празднества, тезоименитства членов императорской семьи, орденские праздники — все это казалось ему недостаточным. После обеда он отправлялся торжественно в церковь, чтобы принимать от купели всех новорожденных солдатских детей; но скоро это занятие ему надоело и понемногу эти обязанности перешли от имени его величества к обер-гофмаршалу. Государеву руку целовали и становились перед ним на одно колено при всяком случае и не так, как раньше, только для вида; требовалось, чтобы государь слышал стук колена об пол и чувствовал поцелуй на своей руке. […]
Вход ко двору, считавшийся раньше большим отличием, был теперь предоставлен стольким лицам, что прием у его величества превратился в какое-то сборище. Все присутствующие допускались к целованию руки и по два проходили мимо государя и государыни; а напротив стояли обер-гофмаршал и церемониймейстер, которые напоследок сами удостаивались этой чести и несли ответственность за шум и неловкости, проявляемые всем этим народом. От страха люди с приближением момента целования руки цеплялись друг за друга, а потом извинялись друг перед другом; в то же время другие приготовлялись к этой чести и громко сморкались, так что от всей этой толпы доносился шум, который приводил императора в ярость. То он нам приказывал учить других, как они обязаны вести себя перед ним, то, выходя из терпения от недостаточного успеха наших увещаний, или вернее, наших просьб — ибо мы весь этот народ умоляли сжалиться над нами, — он восклицал своим гробовым голосом: «Тише!» — что заставляло бледнеть наиболее храбрых. Я помню, что однажды, когда я заканчивал церемонию, целуя ему, в свою очередь, руку, он довольно добродушно заметил, как странно, что нельзя заставить людей почтительно относиться к такому случаю. Думая, что он в хорошем расположении духа, я ему ответил:
— Ваше величество, к сожалению, нет ничего более шумного, как молчание шестисот человек.
На это он, покрасневши от гнева и выпрямившись во весь рост, ответил:
— Я нахожу, что с вашей стороны очень смело заниматься остротами, когда вы существуете только для того, чтобы слушаться моих приказаний!
Из «Записок» Августа Коцебу:
Малейшее отступление от формы было проступком, который навлекал неизбежное наказание. Эти наказания постигали и гражданских чиновников. Никто не мог показываться иначе как в мундире, в белых штанах, в больших ботфортах, с коротенькою тростью в руке. Однажды государь, прогуливаясь верхом, встретил чиновника, который, будучи уверен, что мундир его в совершенной исправности, бодро стал перед ним во фронт. Но от зоркого взгляда императора не ускользнуло, что чиновник этот не имел трости. Павел остановился и спросил у него:
— Что следует иметь при таких сапогах?
Тот затрепетал и онемел.
— Что следует иметь при таких сапогах? — повторил император уже несколько громче. Испуганный чиновник совсем потерялся и, не понимая смысла сделанного ему вопроса, отвечал:
— Ваксу, ваше императорское величество!
Тут Павел не мог удержаться от смеха.
— Дурак, — сказал он, — следует иметь трость, — и поехал дальше.
Счастлив был этот чиновник, что его глупость развеселила государя, а то ему, без сомнения, пришлось бы прогуляться на гауптвахту.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
Всякий проходящий перед фасадом дворца, где живет император, должен в знак почтения снимать шляпу.
Когда император следует по улицам С.-Петербурга пешком, что редко случается, или верхом, или в коляске, что бывает ежедневно, то все обязаны останавливаться, снимать шляпу, снимать с себя шубу и низко кланяться, когда он проезжает мимо; те, кто едет в экипаже, обязаны выходить из него, какая бы ни была погода, и появляться перед императором без шубы; никто не освобождается от этого церемониала; сама императрица — я был сам тому свидетель — выходит из кареты: император ехал верхом, он сошел с коня, подал руку своей супруге и посадил ее обратно в карету.
Из «Записок» Августа Коцебу:
Не менее стеснительным было для столичных жителей повеление выходить из экипажей при встрече с императором. За исполнением этого повеления наблюдали с высочайшею строгостью, и, несмотря на глубокую грязь, разряженные дамы должны были выходить из своих карет, как только издали замечали императора. Я, однако, сам видел, как он однажды быстро подскакал к г-же Нарышкиной, готовившейся исполнить это повеление, и заставил ее остаться в карете; зато сотни других дам, когда они или их кучера не были достаточно проворны, подвергались сильным неприятностям. Так, например, г-жа Демут, жена известного содержателя гостиницы, должна была из-за этого отправиться на несколько дней в смирительный дом, и самые значительные люди, из опасения подобных обид, трепетали, когда их жены, выехавшие со двора, не возвращались к назначенному времени. […]
Как только на большом расстоянии замечали императора, поскорее сворачивали в другую улицу. Это в особенности делали офицеры. Государю это было в высшей степени неприятно. Он не хотел, чтобы его боялись. Незадолго до своей смерти он увидел двух офицеров в санях, которые преспокойно свернули в боковую улицу, и, хотя он тотчас же послал за ними в погоню своего берейтора, но они скрылись из виду благодаря быстроте своих лошадей. Он был этим сильно разгневан, и я был свидетелем того затруднения, в котором находился граф Пален, получивший приказание непременно представить этих офицеров, а между тем не знавший, по каким приметам их разыскать. […]
Всякий, у кого не было спешного дела, предпочитал, во избежание неприятности, оставаться дома в те часы, когда император имел обыкновение выезжать из дворца.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Прелестная столица, где можно было раньше двигаться так же свободно, как в воздухе, где не было ни ворот, ни часовых, ни таможенной стражи, превратилась в обширную тюрьму, куда можно было проникнуть только через калитки, а дворец сделался обиталищем террора, мимо которого, даже в отсутствие монарха, нельзя было проходить иначе как обнажая голову; красивые и широкие улицы опустели; старые дворяне не допускались иначе к исполнению своих служебных обязанностей, как по предъявлении в семи различных местах полицейских пропусков — вот в каком положении очутилась столица.
Из воспоминаний Петра Ивановича Полетики, офицера из свиты Павла I:
Это было в 1799 или 1800 году. В один день, когда я вышел из дома… и поднимался вверх по Почтовой улице к Малой Морской, я завидел вдали едущего мне навстречу верхом императора и с ним ненавистного Кутайсова. Таковая встреча была тогда для всех предметом страха. Желая избегнуть опасности, я успел заблаговременно укрыться за деревянным обветшалым забором, который, как и теперь, окружал Исаакиевскую церковь. Когда, смотря в щель забора, я увидел проезжающего государя, то стоявший неподалеку от меня инвалид, один из сторожей за материалами, сказал:
— Вот-ста наш Пугач едет!
Я, обратясь к нему, спросил:
— Как ты смеешь так отзываться о своем государе?
Он, поглядев на меня, без всякого смущения отвечал:
— А что, барин, ты, видно, и сам так думаешь, ибо прячешься от него.
Отвечать было нечего.
Из «Записок» ординарца Павла I Александра Михайловича Тургенева:
На другой день [после присяги императору Павлу I] человек 200 полицейских солдат и драгун, разделенных на три или четыре партии, бегали по улицам и во исполнение (особого) повеления срывали с проходящих круглые шляпы и истребляли их до основания; у фраков обрезывали отложные воротники, жилеты рвали по произволу и благоусмотрению начальника партии, капрала или унтер-офицера полицейского. Кампания быстро и победоносно кончена: в 12 часов утром не видали уже на улицах круглых шляп, фраки и жилеты приведены в несостояние действовать, и тысяча жителей Петрополя брели в дома их жительства с непокровенными главами и в раздраенном одеянии, полунагие. […]
Двери, ставни окон и все, что деревянное в строении выходило на улицу, было в одни сутки раскрашено в шахматы; вид сей и до сего времени [1848 г.] напоминают нам будки гауптвахт и фонарные столбы. […]
В день объявления войны соединенным врагам России, круглым шляпам, фракам и жилетам я сам был на волос от беды, мог быть признан за лазутчика, посланного неприятелем для разведывания о состоянии войска, и, конечно, молитва доброй моей матери спасла меня от бед и напастей.
Пред рассветом на 7-е число дали мы присягу воцарившемуся государю на верность службы; нам объявили приказ не надевать кроме мундира другого платья, — в царствование Екатерины вне службы все были одеты во фраки; всем было приказано не отлучаться с квартир, быть во всегдашней готовности.
Я достоин был быть наказанным — не исполнил приказа; но молодость и любопытство, сильные двигатели в 18-тилетнем возрасте, заставили меня преступить заповедь. Я надел теплую кирейку (так тогда называли сюртук), голову прикрыл конфедераткой (шапочка, обыкновенно черного сукна, удобная, покойная и красивая) а la Костюшко, и пошел из полка, расположенного тогда за Таврическим дворцом, по прямой линии к Смольному монастырю. Я прошел благополучно, без страха и опасения, до невской набережной, не встретил даже ни одного обесшляпенного и оборванного высланным войском рыцарствовать, но взойдя на мост, перекинутый через канал у бывшего дома Бецкого[60], увидел с моста сильный натиск на носителей круглых шляп, фраков и жилетов. Первая мысль у меня была уклониться благовременно от нашествия. Я вспомнил о приказании не надевать другого платья кроме мундира, не отлучаться из расположения полка; меня пугала и конфедератка на голове. К счастию моему, я был в 10 шагах от двери квартиры почтенного друга моего, Василия Алексеевича Плавильщикова, жившего тогда в доме Бецкого… я и юркнул к нему, как чиж в западню; хозяин велел подать кофе, и мы, будучи вне опасности подвергнуться оскорблению полицейских солдат, смотрели в окно на героев полицейских, не скажу с удовольствием, но не могли удержаться от смеха!
В этом представлении мелодрамы являлись столь странные и карикатурные позы, что и одержимый тяжкою болезнью, увидев их, забыл бы свою боль тела и расхохотался. Один, лишенный шляпы, удостоенный изорвания фрака и жилета, в недоумении, что с ним сделали, ограждал себя знамением креста, которое и сохраняло пострадавшего от дальнейших и вящих оскорблений; вступивших же в спор и состязание с рыцарствующей полицией героев приветствовали полновесными ударами палкой. Жалобам не внимали, суда не давали, а из бока или спины награждения полученного не вынешь, — это такой формуляр, которого [никакая] власть не может выскоблить: что на спине или на боку оттиснуто, с тем и в могилу ляжешь. […]
В. А. Плавильщиков давно уже послал слугу к театральному бутафору просить какой-нибудь старой театральной трехугольной шляпы; если бы кто предложил 100 000 руб. за трехугольную шляпу, то и тогда не мог бы получить ее: во всех лавках, шляпами торгующих, и о заводе трехугольных шляп помысла не было. Слуга Плавильщикова замедлил; вот уже два часа пополудни, а слуги еще нет! В тогдашнюю эпоху всякая безделица наводила беспокойство; но скоро мы услышали большое словопрепирание, крик и всегда сему сопутствующую брань. Мы оба потихоньку сошли с лестницы, приложили уши к двери, чтобы дознать причину словопрения и услышали следующий разговор:
Слуга Плавильщикова:
— Да что вы за бестолочь, не пускаете меня в дом, где я живу; меня посылал мой господин вот за шляпою, видите вот она, он меня дожидается.
Начальник когорты отвечал:
— Да хотя бы сам Гавриил митрополит тебя дожидался, и тогда не пропущу; ты слеп разве, посмотри хорошенько буркалами, видишь дверь мажут, а мазать двери повелел государь, и нам приказано до вечера все двери, ставни, квасни, фонарные столбы непременно вымазать в шахматы по данному образцу, а кто не вымажет назначенной лепорции [пропорции], тому посулена стоика богатая — 500 палок на спину; так я такого сытного угощения не желаю, и коли ты еще будешь нам мешать мазать, так я тебя так чупрысну по мордасу, что ты все звезды на небе пересчитаешь!
Василий Алексеевич закричал слуге:
— Что ж делать, дожидайся, пока окончат мазанье!
Вечером, часов в 9, мне наняли сани, и я благополучно доехал домой. Лишь только я перешагнул порог в мою комнату, Филипп, дядька, объявил мне, что дежурный вахтмейстер… присылал гефрейтора с приказом, чтобы я в 5 часов утра явился на ротный двор просто в плаще, а там будут меня одевать по новой форме, что я наряжен на ординарцы к его величеству государю. Весть эта меня как морозом охватила; нечего делать — в 5 часов утра я был уже на ротном дворе; двое гатчинских костюмеров, знатоков в высшей степени искусства обделывать на голове волоса по утвержденной форме и пригонять амуницию по уставу, были уже готовы; они мгновенно завладели моею головою, чтобы оболванить ее по утвержденной форме, и началась потеха. Меня посадили на скамью посредине комнаты, обстригли спереди волосы под гребенку, потом один из костюмеров… начал мне переднюю часть головы натирать мелко истолченным мелом; если Бог благословит мне и еще 73 года жить на сем свете, я этой проделки не забуду!
Минут 5 и много 6 усердного трения головы моей костюмером привело меня в такое состояние, что я испугался, полагал, что мне приключилась какая-либо немощь: глаза мои видели комнату, всех и все в ней находившееся вертящимися. Миллионы искр летали во всем пространстве, слезы текли из глаз ручьем. Я попросил дежурного вахмистра остановить на несколько минут действие г-на костюмера, дать отдых несчастной голове моей. Просьба моя была уважена, и г-н профессор оболванения голов по форме благоволил объявить вахт-мейстеру, что сухой проделки [т. е. пудры] на голове довольно, теперь только надобно смочить да засушить; я вздрогнул, услышав приговор костюмера о голове моей. Начинается мокрая операция. Чтобы не вымочить на мне белья, меня… окутали рогожным кулем; костюмер стал против меня ровно в разрезе на две половины лица и, набрав в рот артельного квасу, начал из уст своих, как из пожарной трубы, опрыскивать черепоздание мое; едва он увлажил по шву головы, другой костюмер начал обильно сыпать пуховкою на голову муку во всех направлениях; по окончании сей операции прочесали мне волосы гребнем и приказали сидеть смирно, не ворочать головы, дать время образоваться на голове клестер-коре; сзади в волоса привязали мне железный… прут для образования косы по форме, букли приделали мне войлочные, огромной натуры, посредством согнутой дугою проволоки, которая огибала череп головы и, опираясь на нем, держала войлочные фальконеты [букли] с обеих сторон, на высоте половины уха. К 9 часам утра составившаяся из муки кора затвердела на черепе головы моей, как изверженная лава вулкана, и я под сим покровом мог безущербно выстоять под дождем, снегом несколько часов, как мраморная статуя, поставленная в саду. Принялись за облачение тела моего и украсили меня не яко невесту, но яко чучело, поставляемое в огородах для пугания ворон. Увидав себя в зеркале, я не мог понять, для чего преобразовали меня из вида человеческого в уродливый вид огородного чучелы. […]
Я был одет уже по новой [гатчинской форме]. Плац-адъютант провел меня в предкабинетную комнату и сказал: «Будь здесь неотлучно». Брадобрей царский, Иван Павлович Кутайсов… подошел сам ко мне и начал преподавать правила, как я должен исполнять свою должность [ординарца Павла I].
…Вскоре после сего наставления Иван Павлович Кутайсов вышел из кабинета царского и сказал мне:
— Император сейчас изволит ехать верхом. Ты поедешь за ним, ступай скорее, чтобы твоя лошадь была готова.
Я только что успел приготовить лошадь свою, как государь уже сходил с лестницы под большими средними воротами въезда на большой двор; Фрипон[61], верный слуга и товарищ во всех походах, сражениях и атаках, в окружности Гатчины и Павловска, стоял у крыльца как вытесанный из мрамора. Его величество изволил осмотреть мундштук, заложил цепочку и с соблюдением правила экитационного искусства[62] ступил ногою в стремя и взобрался на коня. Мне было приказано ехать с правой стороны, в расстоянии, чтобы голова моей лошади равнялась с бедром коня царского; с левой стороны в таком же порядке ехал камер-гусар. Свиту составляли генерал-адъютанты, флигель-адъютанты и военный губернатор Архаров: толстое туловище с огромнейшим пузом, как турецкий барабан, и на рыжем иноходце — карикатурнее ничего быть не может этой фигуры.
Государь, по выезде из ворот, изволил шествовать по прямой дирекции в Луговую-Миллионную улицу, потом по Невскому проспекту до Казанского собора. Переехав мост, поворотил налево, по берегу Екатерининского канала, и прибыл на Царицын луг; здесь изволил подъехать к Оперному дому (большой деревянный театр, на котором представляли оперу итальянскую), объехал три раза вокруг и, остановясь пред входом (обычным), охрипло сиповатым голосом закричал:
— Николай Петрович! (военный губернатор Архаров).
Архаров подъехал в царю; его величество, указав на театр, соизволил повелеть Архарову, «чтобы его (театра), сударь, не было!» […]
Павел Петрович толкнул Фрипона в левый бок шпорой и курц-галопом благополучно прибыл в Зимний дворец; сойдя с коня и дав Фрипону, верному коню, несколько кусков сахару, изволил шествовать в свой кабинет, а я — к дверям кабинета, стоять под сонетом[63]. […]
Вдруг над головою у меня задребезжал сонет; я в ту же минуту вошел в кабинет к его величеству. Государь изволил стоять подле литавр конногвардейских, поставленных пред штандартами; изволил сказать мне:
— Подойди сюда.
Я подошел. Государь начал речь сими словами:
— Вот здесь на литаврах должна всегда лежать труба штаб-трубача; поезжай скорее к генералу Васильчикову, возьми у него трубу штаб-трубача, привези ко мне, а ему скажи, что он дела своего не знает!
Поскакал я в конную гвардию к генералу Васильчикову, дорога меня вела мимо Царицына луга. Вообразите мое удивление: оперного дома как будто никогда тут не было: 500 или более рабочих ровняли место… Это событие дало мне полное понятие о силе власти и ее могуществе в России.
Из воспоминаний Николая Осиповича Кутлубицкого, записанных А. И. Ханенко:
В царствование императора Павла в Петербурге было только семь французских модных магазинов: он не позволял больше открывать, говоря, что терпит их только по числу семи смертных грехов.
Распоряжения разных лет относительно правил поведения горожан:
1798 г.
Января 7-го. Запрещается всем чинам впредь без маскарадного платья ездить в маскарад, а ежели впредь кто случится в собственном кафтане или мундире… таковых брать под караул.
Января 20-го. Воспрещается всем ношение фраков, позволяется иметь немецкое платье с одним стоящим воротником, шириною не менее как в три четверти вершка [3,3 см], обшлага же иметь того цвету, какого и воротники, а сертуки [сюртуки], шинели и ливрейные слуг кафтаны остаются по настоящему их употреблению. Запрещается носить всякого рода жилеты, а вместо оных немецкие камзолы.
Не носить башмаков с лентами, а иметь оные с пряжками; также сапогов, ботинками именуемых, и коротких стягиваемых впереди снурками [шнурками] и с отворотами.
Не увертывать шею безмерно платками, галстуками или косынками, а повязывать оные приличным образом без излишной толстоты.
Апреля 3-го. Чтоб портные из немоченого сукна военнослужащим мундиров отнюдь не делали, а в противном случае таковых портных брать под караул.
Как носка перьев на шляпах принадлежит единственно чинам придворного штата, то и запрещается лакеям и кучерам партикулярных людей носить на шляпах перья и плюмажи, а также банты, какого бы то цвету ни было.
Октября 2-го. Дозволяется употреблять здесь в городе для езды желающим дрожки.
Всем служащим и отставным с мундирами офицерам запрещается в зимнее время носить шубы, а вместо их позволяется носить шинели, подбитые мехом, не служащим же в войске и без мундира отставленным шинели с разноцветными и отложными воротниками не носить, а иметь таковые с умеренными стоячими воротниками.
Запрещается всем вообще употреблять шапки стеганые, тафтяные или другой материи.
1799 г.
Февраля 18-го. Запрещается танцевать вальс.
Апреля 2-го. Запрещается иметь тупей[64], на лоб опущенный.
Октября 26-го. Дабы младшие пред старшими где бы то не было снимали шляпы.
Майя 6-го. Запрещается дамам носить через плечо разноцветные ленты наподобие кавалерских.
Июня 17-го. Запрещается всем носить низкие большие пукли [букли].
Июля 28-го. Чтоб малолетние дети на улицу из домов выпущаемы не были без присмотру.
Августа 12-го. Чтоб те, кто желает иметь на окошках горшки с цветами, держали бы оные по внутренную сторону окон, но если по наружную, то не иначе, чтоб были решетки.
И запрещается носить жабо. Чтоб никто не имел бакенбард.
Сентября 4-го. Чтоб никто не носил ни немецких кафтанов, ни сертуков с разноцветными воротниками и обшлагами; но чтоб они были одного цвета.
Сентября 25-го. Подтверждается, чтоб в театрах сохраняем был должный порядок и тишина.
Сентября 28-го. Подтверждается, чтоб кучера и форейторы ехавши не кричали.
Чтоб мастеровые и ремесленники, приемля от кого бы то ни было из обывателей работы, оканчивали оные непременно в назначенное ими время…
Ноября 28-го. Воспрещается ношение синих женских сертуков с кроеными воротниками и белою юбкою.
Декабря 15-го. Чтоб всякий выезжающий из города куда бы то ни было публиковался в газетах 3 раза сряду.
1800 г.
Января 6-го. Чтоб публичные собрания не именовались клубами.
Января 23-го. Запрещается носить косы штаб-и обер-офицерам, не обрезывая на конце, равно отпущать тонкие на конце косы.
Чтоб отставленные без мундира от службы оных носить нигде не дерзали, отставным с мундиром запрещается носить ботфорты.
Февраля 6-го. Подтверждается, чтоб никто не дерзал производить запрещенные игры.
Февраля 22-го. Чтоб хозяева, имеющие надобность иметь собак, отнюдь не выпущали их на улицу, прочие же были со знаками.
Марта 2-го, апреля 22-го. Чтоб все те, которые ордена имеют на сертуках, шубах и прочем, носили звезды.
Чтоб никто цугом в извозчичьих экипажах не ездил, кроме как парою или в 4 лошади.
Июня 1-го. Чтоб никто с собою курьеров не имел.
Июня 17-го. Подтверждается, чтоб портные отнюдь не шили мундиров с высокими воротниками и не по форме.
Распоряжение относительно театральной дисциплины, 1800 г.:
Его императорское величество с крайним негодованием усмотреть изволил во время последнего в Гатчине бывшего театрального представления, что некоторые из бывших зрителей, вопреки прежде уже отданных приказаний по сему предмету, принимали вольность плескать руками, когда его величеству одобрения своего изъявлять было не угодно, и напротив того воздерживались от плескания, когда его величество своим примером показывал желание одобрить игру актеров. Равно и то, что при самом дворе его величества женский пол не соблюдает в одежде того вида скромности и благопристойности, приличного их званию и состоянию, относит все такие упущения против предпочтения и нравственности, духу своевольному и неблаговоспитанию, почему принужденным нашелся всему двору своему и гарнизону города Гатчины отказать вход в театр и церковь, кроме малого числа имеющих вход на вечерние собрания и, наказав удалением от своего присутствия в собраниях, в знак справедливого своего негодования, приказать соизволил сделать приглашение всему городу для предосторожности жителей столицы. А дабы вследствие сего извещения здешняя публика во время представлений театральных воздерживалась от всяких неблагопристойностей, как то стучать тростями, топать ногами, шикать и аплодировать во время пения или действия и тем отнимать удовольствие у публики безвременным шумом, а потому его высокопревосходительство предложил здесь в городе живущим объявить, что если и за каким предлогом кто-либо осмелится вопреки вышеписаному учинить, тот предан будет яко ослушник суду.
Российский самодержец
Из «Записок» Федора Николаевича Голицына:
Государь император Павел, при восшествии своем на престол, питая издавна в сердце своем чувствительные неудовольствия, хотя ознаменовал начало своего царствования знаками щедрости, но имея от природы большую в свойствах горячность, начал поступать нередко с несовместною с проступками суровостию. Сей быстрый переход из кроткого и милосердого в столь строгое правление привел Россиян в ужас и негодование. Для меня непонятно сделалось, отчего государь возымел к своему народу такую недоверчивость. В России пред его восшествием все было спокойно; хотя большая часть Европы от французского переворота восколебалась, у нас неприметно было никакой наклонности к переменам. Государыня [Екатерина II] спокойно царствовала, не страшилась якобинцев и их пагубоносных правил. Приписывают, однакож, бедственной судьбе, постигшей Людовика XVI[65] и его семейство, строгие поступки государя с его подданными. Мне рассказывали, что он, рассуждая о сих несчастиях, еще будучи великим князем, относил все сие к слабости в правлении короля французского… Вторая причина — ненависть ко всему, что учреждено было императрицей, подавшая случай к большим и напрасным переменениям.
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Первое выступление его в делах внутренней администрации… повело за собою поступки, доказавшие такое невежество, что трудно понять, как тогда могло найтись столько людей, восхвалявших этого государя как великого праведника. […]
Между прочим, он издал указ, от которого его ненависть к покойной императрице ожидала большого успеха, но который только вызвал всеобщее удивление, а именно: он разрешил приносить жалобы на прошлое и обращаться, с полным доверием, к ступеням трона с претензиями, прекращенными при предшествующем царствовании, — но никто не являлся, и принятые меры тоже не привели никого в комиссию, учрежденную для рассмотрения таких претензий. Несколько дней спустя выскочки, из которых состоял Тайный совет, желая нанести чувствительный удар дворянству, коим они уже начинали пугать государя, убедили его издать указ, предоставляющий крепостным право возбуждать жалобы против своих господ. Огонь не действует быстрее. Возмущение в Новгородской и Тверской губерниях так разрослось, что надо было поспешить отправкою туда князя Репнина с шеститысячным отрядом, чтобы обуздать восставших…
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Упомянув о предосудительной и смешной стороне тогдашней правительственной системы, необходимо, однако, указать и на некоторые похвальные меры, принятые для благоденствия народа. Спустя несколько дней после вступления Павла на престол во дворце [Зимнем] было устроено обширное окно, в которое всякий имел право опустить свое прошение на имя императора. Оно помещалось в нижнем этаже дворца под одним из коридоров, и Павел сам хранил у себя ключ от комнаты, в которой находилось это окно. Каждое утро в седьмом часу император отправлялся туда, собирал прошения, собственноручно их помечал и затем прочитывал или заставлял одного из своих статс-секретарей прочитывать их себе вслух. Резолюции или ответы на эти прошения всегда были написаны им лично или скреплены его подписью и затем публиковались в газетах для объявления просителю. Все это делалось быстро и без замедления. Бывали случаи, что просителю предлагалось обратиться в какое-нибудь судебное место или иное ведомство и затем известить его величество о результате этого обращения.
Этим путем обнаружились многие вопиющие несправедливости, и в таковых случаях Павел был непреклонен. Никакие личные или сословные соображения не могли спасти виновного от наказания… […]
Не припомню теперь в точности, какое преступление совершил некто князь Сибирский, человек высокопоставленный, сенатор, пользовавшийся благосклонностью императора. Если не ошибаюсь, это было лихоимство. Проступок его, каков бы он ни был, обнаружился через прошение, поданное государю вышеописанным способом, и князь Сибирский был предан уголовному суду, приговорен к разжалованию и к пожизненной ссылке в Сибирь. Император немедленно же утвердил этот приговор, который и был приведен в исполнение, причем князь Сибирский, как преступник, публично был вывезен из Петербурга через Москву, к великому ужасу тамошней знати, среди которой у него было много родственников. Этот публичный акт справедливости очень встревожил чиновников, но произвел весьма благоприятное впечатление на народную массу.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
Русское правительство нельзя уподобить или сравнить ни с каким европейским правительством; оно носит чисто азиатский характер, то есть воля императора является верховным законом; поэтому он носит название автократа, что значит самодержец. […]
Эта неограниченная власть является, может быть, единственной формой правления, при которой можно держать в повиновении огромный народ, рассеянный по обширным областям, жители которых различаются одеждою, языком и верованиями и которые тянутся от берегов польского Мемеля до Камчатки, гранича на востоке с Америкой, на севере — с Ледовитым океаном, на западе — с Европой, на юге — с Турцией, Персией, Тибетом, Великой Монголией и Китайской Монголией. Во всем мире не существует деспота, который царствовал бы над столь значительной территорией. К счастью для спокойствия Европы и Азии, необъятные страны Азиатской России населены реже европейских стран, ибо во всей этой обширной империи насчитывают лишь от тридцати трех до тридцати четырех миллионов. Европейская Россия является опорой могущества империи и средоточием ее населения. Азиатская Россия, за исключением больших торговых городов вроде Тобольска в Сибири, Иркутска, Оренбурга, Казани, Астрахани, представляет лишь разбросанные там и сям селения, состоящие из хижин охотников и рыбаков и кочевых бродячих орд, казаков, калмыков, откуда русские вербуют иррегулярные войска. В этих странах можно найти красного зверя [т. е. волков и лисиц], который доставляет меха, пастбища, на которых пасутся табуны низкорослых неутомимых коней, богатые золотые и серебряные рудники, неистощимые медные и железные руды; наконец, лес для постройки судов и коноплю для канатов и веревок. При Екатерине II была начата, но не доведена до конца постройка нескольких городов. Если император найдет способ создать города в этих странах и если население будет в них постепенно возрастать, то наступит день, когда Россия станет диктовать законы Европе и Азии. […]
Во главе Министерства иностранных дел, всегда находившегося в руках великого канцлера, был поставлен молодой камергер, сначала впавший в немилость, а затем снова призванный к власти. Его знания уступают его уму, который отличался тонкостью, гибкостью, проницательностью и изворотливостью. Он занял этот пост, ничего не понимая в дипломатии, но его гибкость понравилась Павлу I и заменила ему знания, которых он был лишен; это граф Ростопчин. Ему подчинен вице-канцлер и вся коллегия, или чиновники Министерства иностранных дел. Чтобы сосредоточить в своих руках все влияние и окружить свою политику непроницаемой тайной, он заставил Павла I усвоить крайне странную манеру при дипломатических сношениях. Ни один посланник, ни один иностранный министр не может говорить с императором; даже министр иностранных дел не дает им аудиенции. Бесполезно требовать свидания для переговоров с ним; надо обращаться к вице-канцлеру. Последний делает доклад министру, а министр — императору. Ответ государя передается министром вице-канцлеру, который сообщает его послу. Вице-канцлер не может беседовать лично с государем; он сотрудничает лишь с министром. […]
Так как император — самодержавный государь, то его воля является верховным законом; не существует высшей инстанции, которая могла бы его отменить. Я видел высокопоставленных лиц, занимавших первые должности при дворе или в империи, пользовавшихся величайшей благосклонностью императора, живших с ним в самой близкой дружбе и вдруг терявших всякое значение; они оказывались вынужденными покидать двор и уезжать на жительство в свои имения; другие, иностранцы, часто должны против своей воли оставлять пределы империи. […]
Князь Димитрий Голицын, генерал-лейтенант, командующий конной гвардией, однажды утром узнает, вставая, что он лишен чинов и должности и обязан удалиться в свои поместья, отдав предварительно отчет относительно хозяйственной части корпуса, которым он командовал. Накануне он ужинал с императором; но в разговоре с ним он выразил слишком откровенно свое мнение о недавней опале одного лица, судьба которого его живо интересовала. […]
Когда в С.-Петербург прибывает иностранец, за ним всюду следует агент тайной полиции; находят средство узнавать все, что он говорит и делает; не существует ни одного дома, где бывает много гостей, в котором полиция не имела бы состоящих у нее на жаловании тайных агентов, которые ежедневно доносят обо всем чиновникам сыскной полиции, размещенным в различных кварталах города. Если кто-нибудь из этих агентов задумает сделать ложный донос, чтобы повредить другому, то правительство, которое весьма внимательно следит за этим, налагает на виновных в таком доносе чрезвычайно суровые наказания. […]
Его [Павла I] политика и управление поражают своею неустойчивостью, которая не вяжется с глубиной взглядов и мудростью, которую я хотел бы предполагать в нем. Хорошо изучив русский народ, он, без сомнения, чувствует себя обязанным простирать над всеми железный скипетр. […]
С.-Петербургская полиция действует с беспримерной исполнительностью и строгостью. Ежедневно в семь часов утра губернатор является в кабинет императора с докладом относительно всего, что происходило за истекшие сутки. Кроме многочисленных тайных агентов, которых губернатор имеет в своем распоряжении и которые, будучи развеяны и размещены по всем кварталам, заняты лишь доставлением всех необходимых сведений относительно того, что сказал или сделал тот или иной обыватель, существует еще вооруженная конная и пешая полиция, которая беспрестанно разъезжает и днем, и ночью, наблюдая за исполнением полицейских предписаний и арестуя нарушителей их.
Все содержатели гостиниц или ресторанов, трактирщики и хозяева увеселительных заведений, купцы и наемная прислуга обязаны ежедневно доставлять полиции сведения относительно того, что они слышали или заметили. […]
…не допускается въезд и выезд иностранцев без разрешения, подписанного рукой самого императора, и воспрещается ввоз книг, нот и всего, что посылается из Франции или выходит из фабрик и мастерских этой развращенной нации. Все иностранные газеты воспрещены. Те, которые получаются посланниками иностранных дворов, подвергаются самой суровой цензуре, их уничтожают, если в них заключаются факты, которые желают скрыть, или зачеркивают в них то, что не подлежит огласке. Несмотря на эти мудрые и спасительные меры, якобинство нашло способ проникнуть в дома вельмож, иллюминатство достигло ступеней трона и прокралось в кабинеты министров.
Из «Записок» тайного советника Александра Ивановича Рибопьера:
Во время царствования Павла Петровича Петербург был вовсе невеселым городом. Всякий чувствовал, что за ним наблюдали, всякий опасался товарища и собрания, которые, кроме кое-каких балов, были редки. На балах этих, однако, молодые люди встречались с молодыми девицами, и любовь не теряла прав своих. Я подобно другим заплатил ей дань, и N. N., к которой пылал любовию, казалась ко мне благосклонною. Я стал находить, что в Петербурге очень хорошо живется, когда ревнивый соперник, влюбленный в ту же особу, стал искать случая завести со мною ссору. Мы нигде не встречались; никогда не случалось нам в то время быть вместе в одной и той же гостиной. Он написал мне письмо, в коем значилось, будто я позволил себе говорить дурно об особе, которую он обязан защищать, и что он сумеет заставить меня дать ему удовлетворение. Я поспешил к нему, чтобы узнать, в чем дело; но он никого не назвал и продолжал считать себя обиженным. Мы дрались с ним на шпагах, и в то время как я ему нанес удар выше локтя, он меня ранил в ладонь так сильно, что перервал артерию. Я принужден был вынести мучительную операцию, и едва успели сделать мне первую перевязку, как ко мне приехали обер-полицмейстер и генерал-губернатор граф Пален с повелением от императора сделать мне допрос. Говорят, будто кто-то донес государю, что соперник мой, взяв под свою защиту княгиню Анну Петровну Гагарину, о которой я будто говорил дурно, по-рыцарски вызвал меня на поединок. Государь, сам рыцарь в полном смысле этого слова… воспользовался этим случаем, чтобы выказать на мне всю свою строгость. Я никогда ничего не говорил против княгини Анны Петровны, и более трех лет не приходилось мне слова перемолвить с моим соперником. От природы скромный и осторожный, я жил в то время довольно уединенно в кругу близких мне людей. Государь исключил меня из службы; у меня отняли Мальтийский крест и камергерский ключ и засадили в крепость в секретном каземате.
Внешняя политика
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
На первом дипломатическом приеме, происходившем у нового государя, он обратился к присутствующим со словами: «Господа, я не унаследовал ссор моей матери и прошу вас сообщить об этом вашим дворам». Он сказал еще: «Я — солдат и не вмешиваюсь ни в администрацию, ни в политику…» О политике Павла I я скажу только следующее: когда обстоятельства заставляли его заниматься насущными интересами государства, он поневоле впадал всегда в политические ошибки Екатерины.
Из жизнеописания Павла I, составленного Георгом Танненбергом:
Павел ознаменовал начало своего царствования миролюбными распоряжениями, а не военными приготовлениями. Хотя победительные войска его прошли внутрь самой Персии, завоевали Ширван и известные Железные ворота[66] и неудержимыми шагами угрожали уже Кандагарской области[67], — однако ж он послал… повеление прекратить тотчас враждебные действия и персидскому государю доставить весть о дружелюбном его расположении. С радостью принял сокрушенный персианин великодушное предложение императора и, плененный высоким образом мыслей победителя своего, беспрекословно заключил мир, который хотя не стоил ему ни сажени земли, но Российской империи доставил все те выгоды, для получения коих великий дух Екатеринин поднял оружие. […] Екатериною повеленный и с деятельною ревностью производимый рекрутский набор Павел тотчас отменил, утешительно обнадеживая, что таковые наборы не скоро потребны будут потому, что император хочет всегда следовать плану, ограждать достоинство империи без войны и не расширяя пределов ее, что император всеми достохвальными способами стараться будет склонить все державы к дружбе с ним и между собою, удостоверить свет, что Российская держава, не прельщаясь завоеваниями, может только подвигнута быть любовью порядка и правосудия и что он тем более уповает достичь счастливейшего успеха в сих стараниях, как законное достояние империи на столь твердом основании стоит, что не легко может опасаться враждебного покушения.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
Но что странно, так это его высокомерие, заносчивость и деспотизм по отношению ко всем державам. Дурное обращение с посланниками, несомненно, доказывает недостаток уважения к международному праву. Я понимаю, что разрывают сношения с каким-нибудь двором, когда можно жаловаться на его образ действия, но до тех пор, пока разрыв не произошел, пока посланник не отозван, он неприкосновенен. Между тем мы видели, что граф Кобенцль, чрезвычайный посланник императора [австрийского]… был удален от двора Павла I, подвергнут открытой опале и, вследствие этой опалы, жил в полном одиночестве, так как никто в С.-Петербурге не смел ни говорить с ним, ни видеть его, ни принимать у себя под угрозой немедленной ссылки. Витьворт [Уитворд], английский посол, человек безусловно достойный уважения, тоже подвергся целому ряду неприятностей, вызвавших его отозвание. В С.-Петербурге к послам и посланникам иностранных держав очевидно не относятся с тем вниманием и уважением, которыми они были окружены, как я видел, в былое время в Версале и Вене.
Из жизнеописания Павла I, составленного Георгом Танненбергом:
Властолюбивый двор лондонский и от него тогда зависевший венский, быв незнанием своих военачальников приведены в опасность неудачною, прекраснейшую часть Европы опустошавшею войною против с пять лет уже тогда республикой образовавшейся Франции, употребили вместе все положением их внушенные им способы убедить императора к деятельному участию в сей воине. Павел, коего дух стремился к великим делам и быв крайне пристрастен к славе воинской, согласился на приглашение обоих сих дворов.
Из «Записок» Федора Николаевича Голицына:
С начала своего воцарения государь как будто отрекся от союза с какою-либо в Европе державою, что и продолжалось несколько месяцев. Потом вошел в союз с Австрией) против французов….
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
…союз между Россией и Англией и всем континентом против революционной Франции был заключен. Суворов, вызванный из ссылки, назначен был генералиссимусом союзной русско-австрийской армии, действующей в Италии в феврале 1799 года. Другая армия, под начальством генерала Германа, была отправлена в Голландию для совместных действий с армией герцога Йоркского, имевшей целью атаковать Францию с севера.
Из «Записок» Федора Николаевича Голицына:
Сделавшись недоволен и не без причины венским двором, [Павел I] вошел в союз с Франциею, где между тем консульское правление действовало против Англии.
Из письма Павла I Наполеону Бонапарту от 18 декабря 1800 г.:
Господин Первый Консул. Те, кому Бог вручил власть управлять народами, должны думать и заботится об их благе… Я не говорю и не хочу пререкаться ни о правах человека, ни о принципах различных правительств, установленных в каждой стране. Постараемся возвратить миру спокойствие и тишину, в которых он так нуждается.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Зимой 1800 года в дипломатических кругах Петербурга царило сильное беспокойство: император Павел, недовольный поведением Австрии во время Итальянской кампании Суворова 1799 года и образом действий Англии в Голландии, внезапно выступил из коалиции и в качестве гроссмейстера Мальтийского ордена объявил Англии войну, которую собирался энергично начать весной 1801 года.
Из «Записок» Августа Коцебу:
16-го декабря [1800 г.]… граф Пален прислал мне приказание немедленно явиться к нему.
Когда я приехал, граф Пален сказал мне с улыбкою, что император решился разослать вызов или приглашение на турнир ко всем государям Европы и их министрам и что он избрал меня для того, чтобы изложить этот вызов и поместить его во всех газетах. […]
Я повиновался и через час принес графу составленный мною вызов. […] Мы отправились во дворец.
Граф вошел к нему [императору] с моею бумагою, довольно долго оставался там и вернулся не в духе. Проходя мимо меня, он сказал только: «Заходите опять ко мне в два часа; документ… недостаточно силен».
Я вернулся домой, убежденный, что не этим путем заслужу я милость монарха. Но не просидел я в моей комнате и получаса, как ко мне прибежал, запыхаясь, камер-лакей императора с приказанием немедленно к нему явиться. Я повиновался.
В ту минуту, когда я входил в его кабинет… он встал от письменного стола, сделал мне навстречу шага два и сказал мне с поклоном особенно приветливым: «Г-н Коцебу, прежде всего мне нужно примириться с вами». […]
…он приветливо приподнял меня, поцеловал меня в лоб и продолжал на прекрасном немецком языке:
«Вы слишком хорошо знаете свет, чтобы не следить за текущими политическими событиями; вы должны знать, какую я играл в них роль. При этом я часто поступал неловко, — продолжал он, смеясь. — Справедливость требует, чтобы я за то был наказан, и в этих видах я сам наложил на себя покаяние. Я желаю, чтобы это (указывая на бумагу, которую он держал в руках) было помещено в гамбургской газете и в других повременных листках».
Затем он конфиденциально взял меня под руку, подвел меня к окну и прочел эту бумагу, писанную им собственноручно на французском языке. […] «Нас извещают из Петербурга, что русский император, видя, что европейские державы не могут согласиться между собою и желая положить конец войне, уже одиннадцать лет терзающей Европу, хочет назначить место, в которое он пригласит всех прочих государей прибыть и сразиться между собою в турнире, имея при себе в качестве приспешников, судей и герольдов, самых просвещенных своих министров и искуснейших генералов… при чем он сам намерен взять с собою генералов Палена и Кутузова; не знают, верить ли этому; однако же известие это, по-видимому, не лишено основания, ибо носит отпечаток тех свойств, в которых часто его обвиняли». […]
Из писем Павла I Василию Петровичу Орлову, атаману Донского войска:
С.-Петербург, января 12-го 1801 года Англичане приготовляются сделать нападение флотом и войском на меня и на союзников моих — шведов и датчан; я готов их принять, но нужно их самих атаковать и там, где удар им может быть чувствительнее и где меньше ожидают. От нас ходу до Индии от Оренбурга месяца три, да от вас туда [от Дона до Оренбурга] месяц, итого четыре. Поручаю всю сию экспедицию вам и войску вашему… Соберитесь вы с оным и выступите в поход к Оренбургу, откуда любою из трех дорог или всеми пойдете с артиллериею прямо через Бухарию и Хиву[68] на реку Индус [Инд] и на заведения английские, по ней лежащие. Войска того края их такого же рода, как и ваше, так имея артиллерию, вы имеете полный авантаж[69]. […] Пошлите своих лазутчиков приготовить или осмотреть дороги; все богатство Индии будет нам наградою за сию экспедицию. Соберите войско к задним станицам, и тогда, уведомив меня, ожидайте повеления идти к Оренбургу, куда пришед, опять ожидайте другого — идти далее. Такое предприятие увенчает вас всех славою, заслужит… мое особенное благоволение, приобретет богатства и торговлю и поразит неприятеля в его сердце. […] Есмь ваш благосклонный Павел.
С.-Петербург, января 12-го 1801 года Англичане имеют… [в Индии] свои заведения торговые, приобретенные или деньгами, или оружием, то и цель все сие разорить, а угнетенных владельцев освободить и землю привесть России в ту же зависимость, в какой они у англичан, и торг обратить к нам. Сие вам исполнение поручая, пребываю вам благосклонный Павел.
С.-Петербург, января 13-го 1801 года […] Помните, что вам дело до англичан только, а мир со всеми теми, кто не будет им помогать; и так проходя, их уверяйте о дружбе России и идите от Инда на Гангес [Ганг] и там на англичан. Мимоходом утвердите Бухарию, чтоб китайцам не досталась. В Хиве высвободите столько-то тысяч наших пленных подданных. Если бы нужна была пехота, то пришлю вслед за вами, а не инако прислать будет можно. Но лучше, кабы вы то одни собою сделали. Ваш благосклонный Павел.
Из «Записок» Августа Коцебу:
Если и допустить, что в отношении к внешней политике он иногда принимал несоответственные меры, меры эти все-таки не были полумерами; а в такую эпоху, в которую все монархи, за исключением одного, боялись действовать решительно, это было с его стороны большою заслугою, и Россия неминуемо почувствовала бы благодетельные ее последствия, если бы жестокая судьба не удалила Павла от политической сцены. […]…Слово и оружие Павла много значили на весах европейской политики.
Рыцарь Мальтийского ордена
Из доклада полномочного министра Мальтийского ордена Юлия Помпеевича Литты великому магистру от 19 декабря 1796 г.:
Монсеньор!
С живейшим удовольствием уведомляю вашу светлость о самом благоприятном движении наших дел. Вследствие первого доклада, сделанного министерством его императорского величества согласно с моими предшествующими извещениями касательно интересов Мальтийского ордена, этот монарх [Павел I] обнаружил самые лучшие и самые благоприятные намерения относительно нас, оказывая нам то же правосудие и то же доброе расположение, которое он обращает на все предметы его империи. Граф Остерман и князь Куракин, лично принимающие в этом деле самое обязательное участие, поспешили мне об этом сообщить.
Его императорское величество намерено учредить здесь Мальтийский орден таким образом, чтобы он в России пользовался тем же блеском и тем же уважением, коими он по справедливости пользуется в владениях других держав, и что он поэтому желает, чтобы Мальтийский орден в России держался бы в точности своей конституции и законов как относительно управления и распоряжения своими имениями, так и соблюдения всех статутных правил в отношении личного состава.
Из Конвенции, заключенной с Державным орденом Мальтийским и его преимуществом гроссмейстером, об установлении сего ордена в России, 1797 г.:
Его величество император Всероссийский с одной стороны, соизволяя изъявить знаменитому ордену Мальтийскому свое благоволение, внимание и уважение и тем обеспечить, утвердить и распространить в областях своих заведение сего ордена, существовавшее уже в Польше, а особливо присоединенных ныне к Российской державе областях польских, и желая доставить собственным своим подданным, кои могут быть приняты в знаменитый Мальтийский орден, все выгоды, преимущества и почести, от того проистекающие, а с другой стороны Державный Мальтийский орден и его преимущество гроссмейстер, зная всю цену благоволения его императорского величества к ним, важность и пользу такового заведения в империи Российской и желая с своей стороны соответствовать мудрым и благотворительным расположениям его императорского величества всеми средствами и податливостию совместными с установлениями и законами ордена, с общего согласия условились постановить конвенцию для достижения предметов, обеими высокодоговаривающимися сторонами предположенных.
Из переписки великого магистра Мальтийского ордена Фердинанда Гомпеша с Павлом I:
Всепресветлейший государь!
Беспрепятственными происшествиями и переменами, небезызвестными вашему императорскому величеству, приведен я и весь орден мой в положение весьма критическое.
Лишение многих командорств, происходящие от того убытие доходов наших, необыкновенная дороговизна, доставка припасов и, наконец, молва об ужасных вооружениях и о предстоящей опасности — понуждает принять меры из ополчения в такое время, когда недостает способов их изготовить. Все сие давно бы меня сокрушило, если бы не оживляла меня надежда на многомощную защиту вашего императорского величества и милостивейшее покровительство ваше. Хотя я и не сомневаюсь, что ваше императорское величество, конечно, извещены от министров ваших о таковом моем положении, однако поставляю долгом представить вашему императорскому величеству, сколь горестно мне сносить оное.
Я положил твердое намерение употребить все возможное в пользу ордена моего, чтобы избегнуть впредь упреков в каком-либо упущении, а вашего императорского величества ознаменованное великодушие как лично на меня, так и на весь орден мой подает мне утешительную надежду, что ваше величество и вспомните нас в толь великой опасности, и премудростию вашею изыщете изспастись нашему способы [т. е. способы нашего спасения], зависящие от могущества вашего, тем скорее, чем ближе мы к несчастию. Поверяя с благоговением… сие мое объяснение, предаю себя и орден мой в высочайшую вашу милость и пребуду со всегда глубочайшей преданностию
вашего императорского величества
смиренный и послушнейший
Фердинанд (гроссмейстер).
Мальта.
Апреля 21,1798 г.
Воззвание Великого Приорства Российского (принято 7 ноября 1798 г.):
Мы, бальи[70], кавалеры Большого креста, командоры и рыцари Великого Российского Приорства и прочие члены ордена Св. Иоанна Иерусалимского, собравшиеся в Санкт-Петербурге, главном местопребывании нашего ордена, как от нашего имени, так и от имени других «языков», великих приорств вообще и всех членов в частности, присоединяющихся к нашим твердым принципам, провозглашаем его императорское величество императора и самодержца всея России Павла I Великим Магистром ордена Св. Иоанна Иерусалимского.
Следуя этому воззванию и в соответствии с нашими законами и установлениями, мы берем на себя священно и торжественно обязательство в повиновении, покорности и верности его императорскому величеству, его высокопреосвященству Великому Магистру.
Из дневника митрополита Станислава Богуша-Сестренцевича:
22 ноября [1798 г.]. Во дворце приорства было собрание капитула. Император объявил, что он принимает гроссмейстерство, а графа Литту назначает наместником ордена. […]
29 ноября. Мы вошли в Георгиевский зал, где их величества восседали уже на троне. Государь в императорской мантии, но без короны. Императрица тоже без короны. Князь Безбородко, как байли [бальи] ордена, в черной мантии принес корону, а другие кинжал веры, печать, оружие, статут — и все это было вручено государю. Были принесены также русский и мальтийский штандарты.
Кавалеры в красных бархатных воротниках, с белыми крестами, предшествовали попарно. Дальше шли все те, которые имели Большой крест Мальтийского ордена, в черных мантиях, мы же, три епископа, в белом коротком одеянии, застегнутом на все пуговицы, и мантиях, нунций и я с большими полотняными крестами на мантиях.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля[71]:
При выходе из кареты у подножья дворцовой лестницы господа депутаты увидели почетный караул, поставленный шпалерами до залы, где происходила аудиенция. Зала была великолепно декорирована. Император с короной на голове, в одеянии великого магистра со всеми знаками ордена восседал на троне, горевшем золотом и драгоценными камнями; справа от него находились великий князь Александр, Священный совет и рыцари Большого креста, слева — командоры в парадных костюмах; у стен залы стояли рыцари.
Великий рыцарь Пфюрдский — первый депутат, которого вел церемониймейстер и сопровождал баденский командор, приблизившись к трону, сделал три глубоких поклона. Его речь, содержание которой было заранее известно и одобрено, длилась от четырех до пяти минут; он сказал ее громко и явственно; речь эта имела успех; он подал верительные грамоты в золотом ларце, которые нес барон Баденский командор. Павел I дал ему поцеловать свою руку и передал грамоты великому канцлеру ордена, графу Ростопчину, который ответил на речь от имени великого магистра.
Из «Записок» Александра Ивановича Рибопьера:
Любя вообще простоту, Павел допускал пышность в одних лишь церемониях, до которых он был большой охотник. Я был свидетелем его вступления в должность гроссмейстера державного ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Он слишком серьезно взирал на это дело и слишком поспешно принял новый сан этот. Он роздал огромное число баильских (bailli), командорских и кавалерских крестов. Он заставил императрицу и всех великих княгинь и княжон носить мальтийские кресты. Он разрешил основание командорств и кавалерств во всех семействах, которые того просили. Он составил себе мальтийский двор и заказал для лакеев мальтийскую ливрею. Ему привезли частицу мощей Св. Иоанна, которая многие столетия хранилась на острове Мальте; он ее положил в Гатчине и учредил праздник в честь этого перенесения. Не обращая внимания на обеты безбрачия[72], он, сам супруг и отец, окружал себя женатыми мальтийцами. По обычаю гроссмейстеров, ему понадобились оруженосцы. Он их назначил из четырех гвардейских полков… Преображенского… Семеновского… Измайловского и меня из Конной гвардии. Нас нарядили в мальтийские мундиры, и с обнаженными палашами мы окружали государя, когда он шел церемониально или в придворную церковь, или в аудиенц-залу, где между прочим он принял так называемое Мальтийское посольство. Во главе оного находился граф Литта, с которого папа только что снял обет безбрачия и которого брат его кардинал Литта, в то время папский нунций в России, обвенчал с моей теткою. […]
Ничего не было страннее этого переряживания двора русского в мальтийцев. Сам государь поверх носимого им постоянно Преображенского мундира надевал далматик[73] из пунцового бархата, шитый жемчугом, а поверх широкое одеяние из черного бархата; с правого плеча спускался широкий шелковый позумент, называемый «страстями», потому что на нем разными шелками подробно изображены были страдания Спасителя. Слагая императорскую корону, он надевал в этих случаях венец гроссмейстеров и выступал рассчитанным, но в то же время отрывистым шагом…
Что касается до нас, гвардейских офицеров, которых сажали в тюрьму или выключали из службы за малейшее отступление от формы, за цвет сукна или подкладки, за не так пришитую пуговицу или буклю, выбившуюся из форменной прически, мы принуждены были снять свои мундиры, одеться в пунцовое одеяние с черными бархатными отворотами, вместо цветов империи носить мальтийскую кокарду и опоясаться мечом, вовсе не походившим на наши сабли. Однако решение сделаться мальтийским гроссмейстером скрывало в себе честолюбивую, но высокую цель, которая могла бы оказаться весьма плодотворною, если бы она могла быть достигнута. Цель эта была доставить русскому флоту надежную стоянку в Средиземном море и, кроме того, приобрести для России нравственную поддержку всего европейского дворянства, сильно заинтересованного сохранением целости Мальтийского ордена…
Из воспоминаний Федора Гавриловича Головкина:
Столица была наводнена настоящим дождем мальтийских крестов. Мои братья, мой двоюродный брат и я, будучи единственными русскими, имевшими законное право на этот крест как потомки по женской линии Альфонса дю Пюи, брата Раймонда, первого великого магистра, — удостоились специальной церемонии, в которой нас признали кавалерами по рождению ордена Св. Иоанна. Была образована особая гвардия великого магистра, команда над которой была поручена г-ну де Литта. В момент его назначения, когда он выходил из кабинета государя, а я находился в числе лиц, находившихся поблизости дверей кабинета, он мне объяснил, что его новая должность обязывает его никогда не расставаться с государем, и, желая, как всегда, немного похвастаться, он прибавил:
— Я был генералом на море, теперь мне приходится быть генералом на суше.
— Берегитесь, милостивый государь, — ответил я ему быстро, — как бы вам в один прекрасный день не пришлось быть генералом на воздухе!
Мои слова оказались для него пророческими. Ненависть и ревность, возбуждаемые им, увеличивались с почестями, которыми его осыпали.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
…едва ли не важнейшим событием было избрание императора гроссмейстером Мальтийского ордена, вследствие чего остров Мальта был взят под его покровительство. Павел был в восторге от этого титула, и это обстоятельство в связи с романтической любовью, овладевшей его чувствительным сердцем, привело его в совершенный экстаз.
Павел I и Александр Васильевич Суворов
Из переписки Павла I с А. В. Суворовым 1796 г.:
Поздравляю с Новым годом и зову приехать к Москве к коронации, если тебе можно. Прощай, не забывай старых друзей. Павел.
Приведи своих людей в порядок. Пожалуй.
Высочайший указ от 6 февраля 1797 г.:
Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь к его императорскому величеству, что так как войны нет и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы.
…без права ношения мундира и орденов, без пенсии местонахождением в селе Кончанское.
Из «Мемуаров» Варвары Николаевны Головиной:
Во время коронации [Павла I] князь Репнин [Николай Васильевич] получил от графа Михаила Румянцева, служившего тогда в чине генерал-лейтенанта под командой фельдмаршала Суворова, письмо. Граф Михаил был самый ограниченный, но очень гордый человек и, сверх того, сплетник не лучше старой бабы.
Фельдмаршал обращался с ним по его заслугам: граф оскорбился и решил отомстить. Он написал князю Репнину, будто фельдмаршал волновал умы, и дал ему понять, что готовится бунт.
Князь Репнин чувствовал всю ложность этого известия, но не мог отказать себе в удовольствии выслужиться и повредить фельдмаршалу, заслугам которого он завидовал. Поэтому он сообщил о письме графа Румянцева графу Ростопчину. Этот последний представил ему, насколько опасно возбуждать резкий характер императора. Доводы его не произвели, однако, никакого впечатления на Репнина, он сам доложил письмо Румянцева его величеству, и Суворов подвергся ссылке.
Из именного рескрипта Павла I А. В. Суворову 1799 г.:
Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Виновного Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться. А ваше спасти их [от французского нашествия]. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть. Павел.
Из жизнеописания Павла I, составленного Георгом Танненбергом:
Павел, восхищенный блестящими успехами своего оружия в Италии, где полководец и войско его, к ужасу врагов и во многих государствах рассеянных сообщников их, достославно показали обыкновенное свое мужество и деятельность в важных и маловажных сражениях, по просьбе сына своего, великого князя Константина Павловича, позволил ему быть волонтером в походе на юг. Он препоручил его осторожному полководцу своему графу Суворову-Рымникскому, которому он, приобретшему уже оказанными отечеству заслугами все блестящие отличия, в знак признательности своей послал с великим князем осыпанный большими бриллиантами портрет свой для ношения на шее. Нежная попечительность отца преодолела мерцающий блеск славы и ограничила стремительную храбрость сыновнюю строгими повелениями быть более наблюдателем, нежели сподвижником. Константин Павлович прибыл с отборною, но небольшою свитою испытанной верности, которую попечительное око отца избрало в советники своему сыну.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
Как бы то ни было, Россия гордилась тем, что создала такого великого генерала. Замечательные победы его в Италии, его чудесный переход через горы Швейцарии, несмотря на большой численный перевес французской армии, одержавшей победу под Цюрихом, побудили Павла принять решение оказать ему такие почести, каких не удостаивался еще ни один русский подданный. Указ, или императорский манифест, распубликованный по всей империи, возвещал, что высокие подвиги генералиссимуса, князя Италийского Суворова-Рымникского, настолько возвеличили славу русского оружия, что почти все европейские государи, пораженные удивлением, пожаловали его своими орденами; что Россия удостоила его высших воинских почестей и что государю остается лишь одно средство вознаградить его за столь выдающиеся заслуги: повелеть всем своим подданным оказывать генералиссимусу те же самые почести, какие оказываются самому императору, и оказывать их даже в присутствии его императорского величества. Таков точный смысл указа.
Когда Павел I, недовольный венским двором, решил вернуть свои войска в Россию, новый указ возвестил, что его императорское величество, желая доказать свое благоволение к генералиссимусу Суворову, повелевает ему совершить торжественный въезд в С.-Петербург; значительный отряд кавалерии, драгун, гусар и казаков должен был выехать к нему навстречу за несколько верст от императорской резиденции; двадцать тысяч пехоты должны были стоять шпалерами на его пути; все улицы С.-Петербурга должны были быть иллюминованы; герой-триумфатор должен был быть отвезен в императорской колеснице с величайшей пышностью во дворец его величества, чтобы занять там приготовленные для него покои; для увековечения памяти столь великого человека на большой военной площади С.-Петербурга должен был быть воздвигнут памятник из мрамора и бронзы, который воспроизводил бы черты героя и напоминал бы о его самых замечательных победах. Подобное распоряжение обессмертило царствование Павла I.
По возвращении в Россию Суворов заболел в одном из своих поместий в Литве. Встревоженный император поспешил послать к нему своего доктора, убедительно прося того ничего не жалеть для сохранения столь драгоценной жизни. Все готовились к встрече русского героя: Академия художеств сделала модель памятника; знаменитейшие скульпторы приняли участие в создании ее… […]
Как мы сказали, Павел I требует неукоснительного исполнения изданных им указов; никто не может безнаказанно нарушать их, если даже это лицо осыпано монаршими милостями, будь то сам наследник трона. Император велел распубликовать по армии указ, регламентировавший военную службу, генералиссимус должен был назначать поочередно одного из генералов армии дежурным генералом, обязанным передавать приказания генералиссимуса по назначению. Суворов не обращал внимания на этот закон, оставляя его без применения. Князь Багратион, единственный генерал, которого он считал заслуживающим доверия, был постоянно дежурным. Это предпочтение, стоявшее в прямом противоречии с указом, вызвало большое недовольство. Во время блестящих успехов генералиссимуса в Италии на него не осмеливались жаловаться, но, как только Суворов вернулся и распространился слух, что его болезнь по всем признакам смертельна, недовольные генералы соединились, чтобы жаловаться, говоря, что они были лишены возможности представить доказательства своего усердия, которых требовало от них милостивое внимание его величества. Этот факт был доведен до сведения императора; он был доказан; Павел I излил свой гнев в энергичных выражениях: «Как, — вскричал он, — мой указ открыто нарушается тем, кто должен наблюдать за его исполнением! Подобное презрение к моей власти требует примерного возмездия». Вскоре появился указ, прочитанный перед всеми полками, объявлявший, что генералиссимус князь Суворов заслуживает осуждения за то, что он сам нарушил императорский указ, исполнение которого было поручено ему, так как он был облечен высшею властью. С этого момента опала генералиссимуса приняла серьезный характер. Предназначенные для него покои во дворце были отданы принцу Мекленбургскому; приготовления к торжественному въезду были отменены, работы по сооружению памятника были запрещены. Офицеры генеральского штаба Суворова, прибывшие в С.-Петербург в полной уверенности, что они будут приняты с почетом и награждены, получили приказ немедленно вернуться к своим войсковым частям; вместе с тем им было запрещено являться ко двору.
Генералиссимус, несколько поправившись, двинулся в путь; он узнал о своей опале в Риге и был глубоко огорчен ею. Так как ему не было запрещено явиться в С.-Петербург, то он прибыл туда, так сказать, инкогнито. Он скромно остановился у своей племянницы, жившей в одном из зданий, прилегавших к дворцу. Так как указ, объявлявший его опальным, был опубликован во всеобщее сведение, то никто не осмелился явиться к нему для выражения своего сочувствия и почтения. Скорбь обострила его болезнь, и он велел позвать приходского священника, чтобы причаститься Св. Тайн. Император, узнав, что болезнь Суворова ухудшилась, послал камергера справиться о состоянии его здоровья; друзьям разрешено было навещать его; от него никто не слышал ни жалоб, ни ропота; он мужественно и спокойно ждал смерти и, помолившись за благоденствие империи, тихо скончался через шестнадцать дней по прибытии в С.-Петербург. Его смерть казалась всем великим бедствием; она повергла в ужас всех русских. Узнав о ней, император сказал своим приближенным: «Вот герой, отдавший дань природе; его неповиновение причинило мне горе, потому что заставило завянуть его лавры». […]
Набальзамированное тело было выставлено с открытым лицом в продолжение четырех дней на парадном ложе, вокруг которого на табуретах, покрытых парчой, виднелись шпага и фельдмаршальский жезл, усыпанные бриллиантами, дар Екатерины И, и все ордена, которыми был пожалован герой. Зал, где покоилось тело, был обтянут черной материей, и в нем горело множество свечей. Простонародье и знать направлялись туда поклониться его праху; толпа не убывала в течение всех четырех дней. Я видел его; он походил на спящего. Когда императора спросили о церемониале при погребении, то он ответил: «Пусть ему окажут те же почести, как фельдмаршалу Румянцеву[74]». Ответ этот рассматривался как продолжение опалы, ибо звание генералиссимуса и громкая слава Суворова заставляли ожидать более пышного церемониала. […]
День похорон Суворова был днем траура для всего С.-Петербурга; знать и простонародье собирались толпами на пути погребального шествия; улицы и окна были полны зрителей. Сам император показался на коне с немногочисленной свитой на углу одной улицы.
Конные и пешие городовые шли впереди; три батальона пехоты шли по бокам и сзади погребальной колесницы, покрытой парчой и запряженной шестеркой лошадей в черных попонах; многочисленное духовенство шло перед колесницей; офицеры несли ордена усопшего; двенадцать пушек с отрядом артиллеристов следовали за телом; несколько министров и придворных вельмож шли пешком в глубоком трауре вслед за колесницей вместе с родственниками генералиссимуса. Я был свидетелем этого погребального шествия; все лица выражали ужас и скорбь. Такова была кончина этого славного героя! Нет никакого сомнения, что огорчение, причиненное ему опалой, ускорило его смерть.
Двор императора
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
…тетушкин кабинетец, который находился в отдаленнейшем уголке дворца [Михайловского замка]… внезапно сменился величественным зрелищем залы, или, скорее, длинной галереи, где каждое воскресенье собирались военные чины двора. Офицеры всех гвардейских полков и высший генералитет выстраивались по чинам, и мне было назначено самое первое место. Возле меня стояли трое братьев Зубовых — Платон, Валериан и Николай; за ними много других генералов, к ним примкнул и Дибич. Ближе всех к противоположным дверям, откуда ожидался император, стояли все вновь произведенные в чины, все имеющие принести за что-либо благодарность и новички, ожидавшие представления… Немного спустя вошли великие князья и стали впереди офицеров своих полков; затем граф Пален сделал смотр всему представляемому персоналу и, в ожидании императора, поместился во главе его.
Лишь только распахнулись двери, слово «Государь!» пробежало по всему собранию и заставило всех инстинктивно вытянуться в струнку. […]
Как только император удалился из аудиенц-залы, тотчас все хлынуло в покои, где собрались для парадного представления дамы и где я должен был ожидать великих князей Александра и Константина, покуда еще занятых своей службой, чтобы вместе отправиться в сборную комнату царской фамилии.
Тут-то я имел случай наглядеться на этот блестящий, очаровательный кружок, и восхищение, в которое он поверг меня, совершенно изгладило из моей памяти неприятные часы раннего утра. Никогда не виданное великолепие туалетов поразило мои взоры, и высокое понятие дало оно мне о блеске русского двора и о несметном богатстве русских вельмож. Глядя на изящные формы дам и на их своеобразные костюмы, сверкавшие золотом, серебром и драгоценными камнями, я приходил к убеждению, что здесь обычаи давно прошедших веков и новейший вкус сочетались в общее стремление доставить красоте, к какому бы виду она ни принадлежала, подобающую ей дань удивления.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржем:
При дворе не существует ни одной должности без военного чина; например, всякий камергер — генерал-майор; заведующий царской кухней — полковник; кучер императора — майор; кавалеры орденов Св. Андрея и Св. Александра Невского — генерал-лейтенанты; различие этих рангов подчеркивается во время торжественных народных церемоний, и в особенности на Новый год. В этот день император дает в обширном мраморном зале своего Зимнего дворца обед на триста или четыреста персон: великих князей, вельмож империи, князей, министров, фельдмаршалов, митрополитов, епископов, лейтенантов, кавалеров двух первых орденов, рыцарей Большого креста и генералов ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Этот стол имеет форму полумесяца; в центре, на эстраде, находится стол, за которым сидит один император под богато украшенным балдахином, с короной на голове. Обед роскошно сервирован; все состоящие на государственной службе являются в парадных мундирах. Эта трапеза длится час. Лишь в этот день император обедает публично. В остальные дни он принимает пищу в обществе императрицы, царской фамилии и приглашенных вельмож. […]
Смена лиц на высших должностях империи и при дворе так часта в настоящее царствование, что в С.-Петербурге никого не удивляют падения и возвышения. За шесть месяцев моего пребывания там почти все лица, занимавшие высшие должности, были сменены; перебывало три генерал-прокурора. Эта полная неуверенность и быстрая смена держат в вечном страхе тех, кто занимает данную должность; часто они относятся небрежно к своим главным обязанностям, чтобы окружить себя всем, что может ослепить государя. Разве можно построить прочное здание на таком зыбком фундаменте? […]
В продолжение шести месяцев моего пребывания в С.-Петербурге при дворе не было ни одного бала, ни одного празднества или торжественного раута, ни одного собрания; тем не менее немногие дворы обладают таким обществом, как будто нарочно созданным для удовольствий и радостей жизни. Не говоря уже об императрице, супруги великих князей Александра и Константина очень интересны, обладают прелестными лицами и отличаются любезностью, которая не поддается описанию. […]
Развлечения… августейших особ сводятся к театру и прогулкам. Некоторые дни назначены для приема у императрицы; собираются в шесть часов вечера; император намечает тех, кто должен удостоиться этой чести, и присутствует там сам. Государь не любит ни балов, ни пышных развлечений; поэтому вельможи и частные лица позволяют себе их очень редко. На Масленице один француз, очень нуждавшийся в деньгах, намереваясь добыть их, объявил, что ему было разрешено устраивать праздник и бал дважды в неделю с прохладительными напитками и т. д. Офицерам гарнизона было запрещено появляться там; император велел объявить, что танцы несовместимы с военными упражнениями, которые происходят ежедневно с восходом солнца. Расходы этого француза намного превысили его сбор, и он был посажен в тюрьму на хлеб и воду до уплаты своего долга. […]
В царствование Екатерины II одежда высших военных чинов, камергеров и придворных была весьма богата; при Павле I роскошь была совершенно уничтожена: военный мундир является единственной парадной одеждой. Великие князья носят только форму тех полков, которые им принадлежат или шефами которых они состоят; император носит гвардейскую форму; каждый камергер имеет мундир, присущий его должности; рыцари Большого креста и командоры ордена Св. Иоанна Иерусалимского носят форму ордена — последняя одна из самых распространенных и почетных с тех пор, как Павел I стал великим магистром. […]
Существует обычай, который не может нравиться послам иностранных дворов: когда в воскресные и праздничные дни их предупреждают через церемониймейстера, что будет царский выход, они к одиннадцати часам утра собираются в большом зале дворца; министры и русские вельможи образуют ряд справа, иностранные послы выстраиваются слева. Император, идя с императрицей и августейшей семьей к обедне, проходит между этими двумя рядами; возвращаясь, он обыкновенно говорит несколько слов с иностранными послами; если он не проходит обратно, то аудиенция считается оконченной и начинается разъезд. В продолжение шести месяцев нашего пребывания в С.-Петербурге его величество ни одного раза не проследовал обратно. Нам сообщили причину этого: когда Павел I недоволен некоторыми дворами, он не возвращается через эту залу, так как не может не высказать своего недовольства послам этих дворов. Если Павел хочет отличить кого-нибудь, кто должен быть ему представлен в те дни, когда он не проходит обратно, то он зовет его в свой кабинет; таким образом представлялись до получения публичной аудиенции депутаты Великой Германской приории. В царствование Екатерины II устраивались при дворе торжественные рауты, на которые приглашались иностранные послы. При Павле I в императорской резиденции таких раутов более не бывает, иногда он разрешает их в то время, когда двор находится за городом.
Ропот дворянства и народная любовь
Из «Записок» Адама Ежи Чарторыйского:
…среди придворной молодежи считалось признаком хорошего тона критиковать и высмеивать действия Павла, составлять насмешливые эпиграммы на чудачества и несправедливые придирки императора Павла, изобретать самые замысловатые средства, чтобы защититься от его властительства. Это отвращение, которое нескромно выражали по всякому поводу, часто не трудясь его даже скрывать, было государственной тайной, доверенной всем, женщинам, светским людям; то был секрет, которого никто не скрывал, и это при самом подозрительном властителе, поощрявшем шпионство, доносы, не останавливавшемся ни пред какими средствами, чтобы проникать не только поступки, но и намерения, и мысли своих подданных. А между тем он ничего не знал о столь общем настроении и желании. Этот замечательнейший факт объясняет, как заговор в предложении, в теории распространился на всю страну. Замысел переворота тем настойчивее жил в умах и сердцах, чем больше приближались к столице и двору. Однако на деле он еще не существовал и воплотился почти в самый момент осуществления.
Из «Записок» Августа Коцебу:
Вообще язвительные насмешки над государем сделались как бы ежедневным занятием петербургского общества. Екатерина начала строить Исаакиевский собор из мрамора; Павел приказал докончить его просто из кирпича; эта небогатая отделка дала повод к следующему двустишию, которое нашли прибитым к церкви:
Се памятник двух царств, обоим им приличный: Низ мраморный, а верх кирпичный.Сочинили карикатуру, на которой император был представлен в полной форме, в мундире, усеянном вензелями Фридриха II; только на голове написано было: Павел I.
Самая смерть его, как ни ужасна она была, не прекратила этих шуток. Выдумали, будто в предсмертные минуты он умолял по крайней мере об отсрочке, чтобы изложить на бумаге весь церемониал своего торжественного погребения.
Таково было раздражение высших классов общества против государя, который имел одно только желание делать добро и поступать справедливо. […]
Народ был счастлив. Его никто не притеснял. Вельможи не смели обращаться с ним с обычною надменностью; они знали, что всякому возможно было писать прямо государю и что государь читал каждое письмо. Им было бы плохо, если бы до него дошло о какой-нибудь несправедливости; поэтому страх внушал им человеколюбие. Из 36 миллионов людей по крайней мере 33 миллиона имели повод благословлять императора, хотя и не все сознавали это. […]
Когда он изредка приезжал из Троицко-Сергиевской лавры в Москву, народ окружал его, как святыню. Однажды приехал он, чтобы отслужить обедню, и нашел церковь осажденною бесчисленною толпою, которую не пускала полиция. На вопрос его «почему»? ему отвечали, что церковь уже переполнена знатнейшими лицами города. Он рассердился и сказал весьма громко: «Я столько же пастырь бедных, как пастырь богатых». Народ обрадовался. Не удивительно, что после таких поступков народ был к нему привязан и высоко почитал его…
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Во время коронации в Москве он роздал многие тысячи государственных крестьян важнейшим сановникам государства и всем лицам, служившим ему в Гатчине, так что многие из них сделались богачами. Павел не считал этого способа распоряжаться государственными землями и крестьянами предосудительным для общего блага, ибо он полагал, что крестьяне гораздо счастливее под управлением частных владельцев, чем тех лиц, которые обыкновенно назначаются для заведывания государственными имуществами. Несомненно и то, что сами крестьяне считали милостью и преимуществом переход в частное владение. Моему отцу пожаловано прекрасное имение с пятьюстами крестьянами в Тамбовской губернии, и я очень хорошо помню удовольствие, выраженное по этому поводу депутацией от крестьян этого имения. […]
Несмотря на то что аристократия тщательно скрывала свое недовольство, чувство это, однако, прорывалось иногда наружу, и во время коронации в Москве император не мог этого не заметить. Зато низшие классы (миллионы) с таким восторгом приветствовали государя, что Павел стал объяснять себе холодность и видимую недоброжелательность со стороны дворянства нравственной испорченностью и якобинскими наклонностями.
Из «Записок» французского офицера на русской службе Александра Федоровича Ланжерона:
Достигнуть успеха[75] можно было, только подкупив или подняв гвардию целиком или хотя бы частью, а это было дело не легкое: солдаты гвардии любили Павла, первый батальон Преображенского полка в особенности был очень к нему привязан. Вспышки ярости этого несчастного государя обыкновенно обрушивались только на офицеров и генералов, солдаты же, хорошо одетые, пользовавшиеся хорошей пищей, кроме того, осыпались денежными подарками.
Михайловский замок
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Его величество со всем августейшим семейством оставил старый дворец и переехал в Михайловский, выстроенный наподобие укрепленного замка с подъемными мостами, рвами, потайными лестницами, подземными ходами, — словом, напоминал собой средневековую крепость…
Из «Записок» Александра Ивановича Рибопьера:
Перед отъездом своим на коронацию Павел I приказал сломать старый деревянный Летний дворец и на месте его строить новый, который он назвал Михайловским. Постройка эта поручена была архитектору Бренне под главным начальством графа Тизенгаузена, только что назначенного обер-гофмейстером. Окруженный каналами, над которыми устроены были подъемные мосты, дворец этот стал походить на замок. Толщина стен напоминала крепость — император всячески торопил строителей. Несмотря на сырость, от которой жить в новом дворце было крайне вредно для здоровья, он поспешно туда переехал со всем своим семейством и, объявив новый дворец загородным, учредил почту на немецкий образец, которая два раза в день, при звуке трубы, привозила письма и рапорты. В новом помещении государь дал большой праздник, который не удался по причине крайней сырости. Зажгли великое множество свечей, но тем не менее было темно, так как в комнатах образовался густой туман. Когда дворец был окончательно готов, надо было выбрать цвет для внешних стен. Не решаясь на выбор, государь попросил совета у княгини Гагариной, которая тоже не знала, какой цвет назначить. Тогда Павел взял одну из ее перчаток и сейчас же отправил ее к архитектору Бренне с приказом немедля окрасить дворец под цвет перчатки. Цвет этот был ярко-розовый, и на стенах дворца он принял кровяной оттенок. Странный во всем, император любил изъясняться загадочно. Слово, поразившее его в какой-нибудь фразе, побуждало его часто повторять всю фразу. Так, на фронтоне Михайловского замка он велел начертать мистическую фразу: «Дому Твоему подобает святыня Господня в долготу дней».
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
Снаружи этот дворец представляет правильный квадрат; его основание держится на сваях; фундамент — из огромных гранитных глыб. Фундамент этот… заключает сводчатые подземелья с отдушинами; первый этаж — тоже со сводами; второй довольно высок; третий похож на антресоли с маленькими широкими окнами в виде арок; крыша — итальянской архитектуры, крытая медными листами, она увенчана лепным карнизом, на котором виден вензель Павла I в русском стиле… над карнизом сделана мраморная балюстрада, на которой поставлены статуи и военные трофеи.
Маленький двор представляет правильный восьмиугольник; туда нельзя въехать ни в экипаже, ни верхом; чтобы достичь главного входа, который пестрит орнаментами, надо миновать три подъемных моста; несколько мраморных ступеней ведут к большому вестибюлю, выложенному разноцветным мрамором; в этом вестибюле находится большая великолепная лестница из серого мрамора с двойными перилами… Эту лестницу поддерживают круглые и квадратные колонны из цельного гранита… восьмиугольный двор не имеет другого выхода, кроме большой двери, ведущей в вестибюль, но из дворца можно спуститься на террасы, окружающие дворец, через несколько дверей — средняя дверь выше и лучше отделана, чем остальные, и выходит на канал [реку] Фонтанку. Дворец этот окружен водою; рвы облицованы гранитом; высокие мраморные колонны, образующие выступ в середине фасада, чрезмерно тонки; окна главного этажа слишком узки и недостаточно высоки, они не изящны и не пропорциональны, и по общему наружному виду этого дворца нельзя сказать, что это величественные царские покои; шесть тысяч рабочих были заняты там ежедневно, отделывая апартаменты. Зеркальные стекла окон вставлены в медную золоченую оправу; там можно найти порфировые камины, столы из ляпис-лазури, замки из золоченой бронзы. Это здание может поразить знатоков архитектуры, но не вызовет в них восторга; они пожалеют, что такие затраты были сделаны не на сооружение дворца, более достойного восхищения. Один итальянец назвал его феноменом — это подходящее слово для обозначения этого странного здания: редко можно найти такое соединение роскоши и безвкусицы. Снаружи дворец больше всего походит на Бастилию.
Перед подъемными мостами, через которые входят во дворец… с двух сторон широкой дороги выстроены два павильона с колоннадой; они предназначены для статс-дам и фрейлин. Генералитет будет занимать нижний этаж замка. Шпиль императорской часовни очень высок и покрыт так же, как на Адмиралтействе, червонным золотом. Эта часовня богато украшена и посвящена Михаилу архангелу. Дворец называется Михайловским.
То, что рассказывают в С.-Петербурге о причине постройки этого дворца, покажется басней здравомыслящим людям, — следующую историю передают как факт: один солдат, стоявший ночью на часах около старого Летнего дворца, деревянного дома, в котором жила Елизавета, клянется, что архангел Михаил явился ему и приказал возвестить Павлу I, что тот должен построить на этом месте церковь в честь его. Приведенный к царю, солдат повторяет то, что, по его словам, ему приказал архангел. Павел отвечает: «Приказ архангела Михаила будет исполнен». И тотчас же от десяти до двенадцати тысяч рабочих были употреблены на эту постройку… Русские суеверны и легковерны, но можно ли допустить, что царь, умный и образованный человек, мог поверить рассказу этого солдата? Гораций говорит: «Credat judaeus Apella, non ego»[76].
Сад этого дворца представляет обширное место, окруженное стеной… Там построены большие и просторные здания для теплиц, оранжерей и зимних садов. Павел I спешил с постройкой дворца и всех его служб, чтобы поселиться там.
Из «Записок» Адама Ежи Чарторыйского:
Император Павел только что окончил постройку Михайловского дворца. (Никогда ни при какой постройке не было более бесстыдного воровства. Главным архитектором был некто Б[ренна], итальянский каменных дел мастер… которого граф Станислав Потоцкий вывез из Италии и который из Варшавы перешел в Гатчину на службу к великому князю Павлу. Б[ренна] нажился беспредельно от всех построек, которыми руководил, и оставил огромное состояние мужу своей дочери и ее детям, ставшим русскими дипломатами.) Этот дворец, собственный замысел Павла, стоивший громадных денег, представлял собою тяжелое массивное здание, похожее на крепость, в котором император считал себя совершенно безопасным от всяких случайностей.
«Я никогда не был столь доволен, никогда не чувствовал себя более покойным и счастливым», — говорил он с удовлетворенным видом приближенным, после того как устроился в своем новом, едва оконченном дворце. Там он воображал себя в полнейшей безопасности; и никогда еще он не был более самовластен и безрассуден. Там он соединял беспорядочные наслаждения с полнейшим всемогуществом, которым, как ему казалось, он обладает и которое готовились у него похитить.
Из «Записок» сенатора Карла Генриха Гейкинга:
Стены [Михайловского замка] были еще пропитаны такой сыростью, что с них всюду лила вода; тем не менее они были уже покрыты великолепными обоями. Врачи попытались было убедить императора не поселяться в новом замке; но он обращался с ними как с слабоумными — и они пришли к заключению, что там можно жить. Здание это прежде всего должно было послужить монарху убежищем в случае попытки осуществить государственный переворот. Канавы, подъемные мосты и целый лабиринт коридоров, в котором было трудно ориентироваться, по-видимому, делали всякое подобное предприятие невозможным. Впрочем, Павел верил, что он находится под непосредственным покровительством архангела Михаила, во имя которого были построены как церковь, так и самый замок.
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
Я… отправился… в Михайловский дворец, недавно выстроенный Павлом I близ Марсова поля. Вид нового царского местопребывания, эта выкрашенная красной краской каменная масса, окруженная экзерциргаузами, представлял собою явную противоположность колоссальному Зимнему дворцу, мимо которого я только что проехал. То же можно сказать и о невзрачной статуйке Петра Великого[77], находившейся у подъезда Михайловского дворца сравнительно с памятником, сооруженным в честь основателя русского могущества Екатериной Второй близ Невского моста на Сенатской площади[78]. Этим памятником за несколько минут перед тем я любовался.
Из «Записок» Августа Коцебу:
Император поручил мне описать во всей подробности Михайловский дворец[79], этот чрезмерно дорогой памятник его причудливого вкуса и боязливого нрава. […]
Известно, с каким пристрастием Павел смотрел на Михайловский замок, воздвигнутый им как бы по волшебному мановению. Очевидно, пристрастие это происходило не от того, что какое-то привидение указало построить этот дворец, — об этой сказке он, может быть, и не знал, а если знал, то допустил ее для того только, чтобы в глазах народа оправдать затраченные на эту постройку деньги и человеческие силы. Его предпочтение к ней главным образом происходило от чистого источника, из кроткого человеческого чувства, которое за несколько дней до своей смерти он почти пророчески выразил г-же Протасовой в следующих словах: «На этом месте я родился, здесь хочу и умереть».
Заговор
Из «Записок» Августа Коцебу:
Давно уже яд начал распространяться в обществе. Сперва испытывали друг друга намеками; потом обменивались желаниями; наконец открывались в преступных надеждах. […]
Из «Записок» Александра Николаевича Вельяминова-Зернова:
Он [Павел I] поссорился со многими державами и хотел вдруг объявить войну пяти или шести государствам, а паче всех он раздражил Англию до такой степени, что она-то и нанесла ему последний смертельный удар.
Английским послом при петербургском дворе был в то время Уитворд. Не знаю, из Англии ли сообщена ему мысль об убиении Павла или она родилась в петербургском его приятельском обществе и лишь подкреплена из Лондона денежными пособиями, но знаю, что первый заговор о том сделан между ним и Ольгою Александровною Жеребцовою, сестрою Зубовых, с которой он был в любовной связи. Они решились посоветоваться об этом с графом Никитою Петровичем Паниным, который жил тогда в деревне, будучи в опале.
Из «Записок» Августа Коцебу:
В Петербурге число лиц, посвященных в заговор, доходило до 60-ти. Главнейшими из них были: граф Пален, князь [Платон] Зубов и его братья, Валериан Зубов и гусарский генерал Николай Зубов, человек грубый, генералы Беннигсен, Талызин, Уваров, Вильде, дядя Зубова Козицкий, адъютанты государя князь Долгоруков [Петр Петрович] и Аргамаков, различные гвардейские офицеры, между прочим грузинский князь Яшвиль и Мансуров, оба незадолго перед тем выключенные из службы, и несколько офицеров Измайловского полка, которые за проступки по службе были посажены в крепость и по заступничеству графа Палена выпущены на свободу, нарочно для поступления в число заговорщиков. […]
Может показаться удивительным, что, несмотря на множество заговорщиков, тайна их не была открыта. По всей вероятности, те, которые из раскаяния или страха могли бы ее открыть, удержаны были уверенностию, что даже доносчик не избежал бы мести Павла. […]
…государь нисколько не подозревал существования заговора. Он только сожалел, что предоставил графу Палену слишком много власти, ибо ясно видел, что в руках одного этого человека сосредоточены были средства и что единственно от его воли зависело употребить их во зло.
Из «Записок» саксонского посланника Карла Розенцвейга:
Пален не думал бы о смене монарха, если бы не был убежден, что благодаря непостоянству императора ему самому рано или поздно предстояло падение и что чем выше его положение, тем ниже ему придется падать.
Из «Записок» Александра Федоровича Лонжерона:
Пален был в то время генерал-губернатором Петербурга, состоял под начальством великого князя Александра, что отдавало всю высшую полицию в его руки и облегчало ему осуществление всего, что он желал предпринять.
Граф Панин [Никита Петрович], человек умный, даровитый и с характером, подходящим к характеру графа Палена, был в то время министром иностранных дел; он один из первых вступил в заговор и комбинировал вместе с Паленом все его градации и выполнение.
Пален нашел возможность сгладить все трудности, устранить все препятствия и достичь своей цели с невозмутимой, ужасающей настойчивостью.
Из рассказа Петра Павловича Палена, записанного А. Ф. Лонжероном:
Уже более шести месяцев были окончательно решены мои планы о необходимости свергнуть Павла с престола, но мне казалось невозможным (оно так и было в действительности) достигнуть этого, не имея на то согласия и даже содействия великого князя Александра, или, по крайней мере, не предупредив его о том. Я зондировал его на этот счет, сперва слегка, намеками, кинув лишь несколько слов об опасном характере его отца. Александр слушал, вздыхал и не отвечал ни слова.
Но мне не этого было нужно; я решился наконец пробить лед и высказать ему открыто, прямодушно то, что мне казалось необходимым сделать.
Сперва Александр был, видимо, возмущен моим замыслом; он сказал мне, что вполне сознает опасности, которым подвергается империя, а также опасности, угрожающие ему лично, но что он готов все выстрадать и решился ничего не предпринимать против отца.
Я не унывал, однако, и так часто повторял мои настояния, так старался дать ему почувствовать настоятельную необходимость переворота, возраставшую с каждым новым безумством, так льстил ему или пугал его насчет его собственной будущности, предоставляя ему на выбор — или престол, или же темницу или даже смерть, что мне наконец удалось пошатнуть его сыновнюю привязанность и даже убедить его установить вместе с Паниным и со мною средства для достижения развязки, настоятельность которой он сам не мог не сознавать.
Но я обязан, в интересах правды, сказать, что великий князь Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня предварительно клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца; я дал ему слово: я не был настолько лишен смысла, чтобы внутренне взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную; но надо было успокоить щепетильность моего будущего государя, и я обнадежил его намерения, хотя был убежден, что они не исполняться. Я прекрасно знал, что надо завершить революцию или уже совсем не затевать ее и что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темницы скоро откроются, произойдет страшнейшая реакция, и кровь невинных, как и кровь виновных, вскоре обагрит и столицу, и губернии. […]
Императору внушили некоторые подозрения насчет моих связей с великим князем Александром; нам это было небезызвестно. Я не мог показываться к молодому великому князю, мы не осмеливались даже говорить друг с другом подолгу, несмотря на сношения, обусловливаемые нашими должностями; поэтому только посредством записок (сознаюсь — средство неосторожное и опасное) мы сообщали друг другу наши мысли и те меры, какие требовалось принять; записки мои адресовались Панину: великий князь Александр отвечал на них другими записками, которые Панин передавал мне: мы прочитывали их, отвечали на них и немедленно сжигали.
Однажды Панин сунул мне в руку подобную записку в прихожей императора, перед самым моментом, назначенным для приема; я думал, что успею прочесть записку, ответить на нее и сжечь, но Павел неожиданно вышел из своей спальни, увидал меня, позвал и увлек в свой кабинет, заперев дверь; едва успел я сунуть записку великого князя в мой правый карман.
Император заговорил о вещах безразличных; он был в духе в этот день, развеселился, шутил со мною и даже осмелился залезть руками ко мне в карман, сказав:
— Я хочу посмотреть, что там такое, — может быть, любовные письма! […]
…я сказал императору:
— Ваше величество! что вы делаете? оставьте! ведь вы терпеть не можете табаку, а я его усердно нюхаю, мой носовой платок весь пропитан; вы перепачкаете себе руки, и они надолго примут противный вам запах.
Тогда он отнял руки и сказал мне:
— Фи, какое свинство! вы правы!
Вот как я вывернулся. […]
Когда великого князя [Александра] убедили действовать сообща со мною — это был уже большой выигрыш, но еще далеко не все: он ручался мне за свой Семеновский полк; я видался со многими офицерами этого полка, настроенными очень решительно; но это были все люди молодые, легкомысленные, неопытные, без испытанного мужества, необходимого для такого решения, и которые, в момент действия, могли бы вследствие слабости, ветрености или нескромности испортить все наши планы: мне хотелось заручиться помощью людей более солидных, чем вся эта ватага вертопрахов, я желал опереться на друзей, известных мне своим мужеством и энергией: я хотел иметь при себе Зубовых и Беннигсена. Но как вернуть их в Петербург? Они были в опале, в ссылке; у меня не было никакого предлога, чтобы вызвать их оттуда, и вот что я придумал.
Я решил воспользоваться одной из светлых минут императора, когда ему можно было говорить что угодно, разжалобить его насчет участи разжалованных офицеров, я описал ему жестокое положение этих несчастных, выгнанных из их полков и высланных из столицы и которые, видя карьеру свою погубленною и жизнь испорченною, умирают с горя и нужды за проступки легкие и простительные. Я знал порывистость Павла во всех делах, я надеялся заставить его сделать тотчас же то, что я представил ему под видом великодушия; я бросился к его ногам. Он был романтического характера, он имел претензию на великодушие. Во всем он любил крайности: два часа спустя после нашего разговора двадцать курьеров уже скакали во все части империи, чтобы вернуть назад в Петербург всех сосланных и исключенных со службы. Приказ, дарующий им помилование, был продиктован мне самим императором.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
До нас [в Царское Село] дошли слухи, что граф Пален получил пост министра иностранных дел и главноуправляющего почтовым ведомством, сохранив вместе с тем должность военного губернатора Петербурга и в качестве такового начальника гарнизона и всей полиции. Мы узнали, что все Зубовы, которые были высланы в свои деревни, вернулись в Петербург, а вместе с ними г-жа Жеребцова, рожденная Зубова, известная своей связью с лордом Уитвортом, что все они приняты ко двору. […]
По возвращении в Петербург я был самым радушным образом принят старыми друзьями и даже самим графом Паленом, генералом Талызиным и многими другими, а также Зубовыми и Обольяниновыми. Меня стали приглашать на интимные обеды, причем меня всегда поражало одно обстоятельство: после этих обедов по вечерам никогда не завязывалось общего разговора, но всегда беседовали отдельными кружками, которые тотчас расходились, когда к ним подходило новое лицо. Я заметил, что генерал Талызин и другие подошли ко мне, как будто с намерением сообщить мне что-то по секрету, а затем остановились, сделались задумчивыми и замолкли. Вообще по всему видно было, что в этом обществе затевалось что-то необыкновенное. Судя же по той вольности, с которой императора порицали, высмеивали его странности и осуждали его строгости, я сразу догадался, что против него затевается заговор. […] Когда однажды за обедом у Палена я нарочно довольно резко выразился об императоре, граф посмотрел мне пристально в глаза и сказал: «Jean f… qui parle et brave homme qui agit»[80]. Всего этого было достаточно, чтобы рассеять мои сомнения, и обстоятельство это глубоко меня расстроило. Я вспомнил свой дом, свою присягу на верность, помнил многие добрые качества Павла и в конце концов почувствовал себя очень несчастным. Между тем все эти догадки не представляли ничего определенного: не было ничего осязательного, на основании чего я мог бы действовать или даже держаться известного образа действий.
Из рассказа Петра Павловича Палена, записанного А. Ф. Лонжероном:
Мы назначили исполнение наших планов на конец марта: но непредвиденные обстоятельства ускорили срок: многие офицеры гвардии были предупреждены о наших замыслах, многие их угадали. Я мог всего опасаться от их нескромности и жил в тревоге.
Из мемуаров участника заговора Леонтия Леонтьевича Беннигсена:
Убежденный, что нельзя терять ни минуты, чтобы спасти государство и предупредить несчастные последствия общей революции, граф Пален опять явился к великому князю Александру, прося у него разрешения выполнить задуманный план, уже не терпящий отлагательства. Он прибавил, что последние выходки императора привели в величайшее волнение все население Петербурга различных слоев и что можно опасаться самого худшего.
Наконец, принято было решение овладеть особой императора и увезти его в такое место, где он мог бы находиться под надлежащим надзором и где бы он был лишен возможности делать зло.
Из «Записок» Дарьи Христофоровны Ливен:
Рассказывали не раз, будто великий князь был несколько посвящен в заговор, так как заговорщики для обеспечения себе безопасности должны были принять в этом направлении некоторые предосторожности.
Великий князь был молод, все видели, что он скорбит и терзается за других, оплакивая жертвы подозрительной тирании, действие которой отражалось прежде всего на нем самом. Его, быть может, и уверили в том, что обращение к императору решительных и энергичных требований от особ, приближенных к престолу и преданных служению родине и славе империи, образумит наконец императора и он отменит прежние жестокие указы и вернется к более умеренному образу действий. Неопытность могла заставить Александра поверить таким обещаниям. Только в таких пределах и мог он санкционировать действия заговорщиков, направляемые к такой именно цели. Но это и все. Для всякого, кто знал ангельскую чистоту характера Александра, не может быть никаких сомнений в том, что дальше благонамеренных пожеланий его воображению ничто другое и не рисовалось, а самые порывы отчаяния, каким государь предавался вслед за неожиданной катастрофой, устранили в многочисленных свидетелях этих ужасных минут всякую тень сомнений в этом отношении.
Из «Записок» Александра Николаевича Вельяминова-Зернова:
Александр упорно настаивал, чтобы не лишать отца его жизни. Хотя это ему и обещали, но он должен был предвидеть, что лишить самодержавного государя престола, оставя ему жизнь, дело немыслимое.
Из «Записок» Адама Ежи Чарторыйского:
Граф Панин и граф Пален, инициаторы заговора, были, несомненно, в то время две самые сильные головы империи, правительства и двора. Их взор видел яснее и дальше остальных членов совета Павла, в состав которого они оба входили. Они сговорились между собой и решили привлечь на свою сторону Александра. В самом деле, не заручившись согласием и одобрением наследника престола, осторожные люди, думающие о конечном итоге столь опасного предприятия и желающие обеспечить собственную безопасность, не могли ничего предпринять. Горячие головы, отважные и самоотверженные энтузиасты, действовали бы, может быть, иначе. Не замешивая сына в низложение его отца, жертвуя собою, идя на самую смерть, они, без сомнения, лучше бы послужили и России, и тому, кто, призванный к правлению, должен быть свободен от всякого соучастия в преступлении, столь разительном для России. Но такой образ действий был почти немыслим и требовал от заговорщиков или беззаветной отваги, или античной доблести, что весьма редко встречается между людьми. […]
Генерал Пален, который в качестве военного губернатора Петербурга имел всегда возможность видеться с Александром, убедил великого князя согласиться на тайное свидание с Паниным. Это первое свидание произошло в ванной комнате. Панин изобразил Александру в ярких красках плачевное состояние России и те невзгоды, которые можно ожидать в будущем, если Павел будет продолжать царствовать. Он старался доказать ему, что содействие перевороту является для него священным долгом по отношению к отечеству и что нельзя приносить в жертву судьбу миллионов своих подданных взбалмошным прихотям и несчастному слабоумию одного человека, даже в том случае, если этот человек его отец. Он указал ему, что жизнь, по меньшей мере свобода, его матери, его личная и всей царской семьи находится в опасности благодаря тому отвращению, которое Павел питал к своей супруге; с последней он совсем разошелся и свою ненависть, которая все возрастала, он даже не скрывал и естественно мог при таком настроении принять самые суровые и крутые меры; что дело идет ведь только о низвержении Павла с престола, дабы воспрепятствовать ему подвергнуть страну еще большим бедствиям, спасти императорское семейство от угрожающей ему опасности, создать самому Павлу спокойное и счастливое существование, вполне обеспечивающее ему полную безопасность от всевозможных случайностей, которым он подвержен в настоящее время; что, наконец, дело спасения России находится в его, великого князя, руках, и что, ввиду этого, он нравственно обязан поддержать тех, кто озабочены теперь спасением империи и династии. […]
Пален, говорю я, после возвращения Панина в Москву приступил уже к личному воздействию на великого князя путем всевозможных намеков, полуслов и словечек, понятных одному Александру, сказанных под видом откровенности военного человека — каковая манера говорить являлась отличительным свойством красноречия этого генерала (Пален слыл всегда за самого тонкого и хитрого человека, обладавшего удивительною способностью выворачиваться из положений самых затруднительных, особенно когда дело шло о быстром движении корабля его фортуны). […]
Нельзя не сожалеть, что благодаря всем этим роковым обстоятельствам Александр, который всегда стремился к добру и который обладал такими качествами для осуществления, не остался чуждым этой ужасной катастрофе, положившей предел жизненному поприщу его отца. […]
Таким образом, заговор с некоторого времени приготовлялся всеми: все общество, так сказать, было в заговоре, чувствами, поддержкой, опасениями, общением. Оно было утомлено непрестанным ужасом и тревогой. То было личное томление и страдание каждого, не знавшее мгновения отдыха и исцеления, в конце концов ставшее невыносимым и долженствовавшее привести к катастрофе. […]
Многие уверяли, что успеху заговора способствовало английское золото. Я лично этого не думаю. Если даже допустить, что тогдашнее британское правительство было лишено всяких нравственных принципов, то и тогда обвинение его в соучастии в заговоре едва ли основательно, так как событие 11 марта 1801 г. вызвано вполне естественными причинами. Со времени вступления на престол Павла в России существовало хотя и смутное, но единодушное предчувствие вероятной скорой, давно желанной перемены, о которой говорили вполголоса, которой непрестанно ожидали, не зная, когда она наступит.
Часть III Цареубийство 11 марта 1801 года
Накануне
Из рассказа Петра Павловича Палена, записанного А. Ф. Ланжероном:
7-го марта [1801 г.] я вошел в кабинет Павла в семь часов утра, чтобы подать ему, по обыкновению, рапорт о состоянии столицы. Я застаю его озабоченным, серьезным; он запирает дверь и молча смотрит на меня в упор минуты с две, и говорит наконец:
— Г-н фон Пален! вы были здесь в 1762 году? […]
— Да, ваше величество, — но что вам угодно этим сказать?
— Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола и жизни?
— Ваше величество, я был свидетелем переворота, а не действующим лицом, я был очень молод, я служил в низших офицерских чинах в Конном полку. Я ехал на лошади со своим полком, ничего не подозревая, что происходит: но почему, ваше величество, задаете вы мне подобный вопрос?
— Почему? вот почему: потому что хотят повторить 1762 год.
Я затрепетал при этих словах, но тотчас же оправился и отвечал:
— Да, ваше величество, хотят! Я это знаю и участвую в заговоре.
— Как! вы это знаете и участвуете в заговоре? Что вы мне такое говорите!
— Сущую правду, ваше величество, я участвую в нем и должен сделать вид, что участвую, ввиду моей должности, ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам? Но не беспокойтесь — вам нечего бояться: я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно. Не старайтесь проводить сравнений между вашими опасностями и опасностями, угрожавшими вашему отцу. Он был иностранец, а вы русский; он ненавидел русских, презирал их и удалял от себя; а вы любите их, уважаете и пользуетесь их любовью; он не был коронован, а вы коронованы; он раздражил и даже ожесточил против себя гвардию, а вам она предана. Он преследовал духовенство, а вы почитаете его; в его время не было никакой полиции в Петербурге, а нынче она так усовершенствована, что не делается ни шага, не говорится ни слова помимо моего ведома: каковы бы ни были намерения императрицы[81], она не обладает ни гениальностью, ни умом вашей матери; у нее двадцатилетние дети, а в 1762 году вам было только 7 лет.
— Все это правда, — отвечал он, — но, конечно, не надо дремать.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Затем император благодарил Палена и спросил его, не признает ли он, со своей стороны, нужным посоветовать ему что-нибудь для его безопасности, на что тот отвечал, что ничего больше не требуется: «Разве только, ваше величество, удалите вот этих якобинцев (причем он указал на дверь, за которой стоял караул от Конной гвардии) да прикажите заколотить эту дверь» (ведущую в спальню императрицы). Оба эти совета злополучный монарх не преминул исполнить. Как известно, на свою собственную погибель.
Из рассказа Петра Павловича Палена, записанного А. Ф. Ланжероном:
На этом наш разговор и остановился, я тотчас же написал про него великому князю, убеждая его завтра же нанести задуманный удар: он заставил меня отсрочить его до 11-го, дня, когда дежурным будет 3-й батальон Семеновского полка, в котором он был уверен еще более, чем в других остальных. Я согласился на это с трудом и был не без тревоги в следующие два дня.
Из «Записок» Августа Коцебу:
В последний день своей жизни император был весел и здоров. Около полудня 11-го марта я сам еще встретил его в сопровождении графа Строганова на парадной лестнице Михайловского замка у статуи Клеопатры. Он несколько минут ласково разговаривал со мною.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
11 марта 1801 года эскадрон, которым я командовал и который носил мое имя, должен был выставить караул в Михайловский замок. Наш полк[82] имел во дворце внутренний караул, состоявший из 24 рядовых, трех унтер-офицеров и одного трубача. Он находился под командой офицера и был выстроен в комнате перед кабинетом императора спиной к ведущей в него двери. […]
Через две комнаты стоял другой внутренний караул от гренадерского батальона Преображенского полка, любимого государева полка, который был ему особенно предан. […]
Главный караул во дворе замка (а также наружные часовые) состоял из роты Семеновского великого князя Александра полка и находился под командой капитана из гатчинцев, который подобно марионетке исполнял все внешние формальности службы, не отдавши себе, по-видимому, никакого отчета, для чего они установлены.
В 10 часов утра я вывел свой караул на плац-парад, а между тем как происходил развод, адъютант нашего полка Ушаков сообщил мне, что по именному приказанию великого князя Константина Павловича я сегодня назначен дежурным полковником по полку. Это было совершенно противно служебным правилам, так как на полковника, эскадрон которого стоит в карауле и который обязан осматривать посты, никогда не возлагается никаких иных обязанностей. Я заметил это Ушакову несколько раздраженным тоном и уже собирался немедленно пожаловаться великому князю, но, к удивлению всех, оказалось, что ни его, ни великого князя Александра Павловича не было на разводе. Ушаков не объяснил мне причин всего этого, хотя, по-видимому, он их знал.
Из воспоминаний Николая Осиповича Кутлубицкого, записанных А. И. Ханенко:
В последнее время император Павел чувствовал себя не совсем здоровым, а в последний день своего царствования, проснувшись, еще лежа в постели, позвал к себе Кутлубицкого и послал его за генерал-губернатором Паленом. Когда он с ним возвратился, император был уже одет. После обеда (обед при дворе был тогда в 2 часа пополудни), отдохнувши, т. е. посидевши с книгою около часа в кресле, государь обыкновенно ходил к императрице, где пил кофе, и потом заходил к детям. Но в этот день вместо того он приказал позвать детей к себе; когда их привели, а некоторых принесли на руках, Павел сбросил шпагу и, бросивши на пол с дивана подушку, играл с ними на полу. Потом, когда он их отпустил, воротил опять великую княжну Анну Павловну: «Аннушку ко мне!» — закричал он. И когда няня принесла ее опять, государь снял со стены небольшой образ Пресвятой Богородицы, влезши для этого на приставленный им стол, перекрестил ее несколько раз образом и, положив его ей за пазуху, отпустил.
Из «Записок» Августа Коцебу:
…Как мало Павел подозревал в этот вечер какую-либо опасность, видно также из следующего. Знаменитый декоратор Гонзага в одном из последних балетов, представленных в Эрмитаже, поставил превосходную архитектурную декорацию, которая так понравилась государю, что ему пришла мысль выполнить ее во всей точности из камня в Летнем саду. Я находился у обер-гофмаршала в то самое время, когда его позвали к государю для получения приказаний по этому предмету. Несколько архитекторов были немедленно потребованы, и с крайнею поспешностью они составили проект, исполнение которого должно было обойтись в 80 000 рублей. Павел его утвердил, и эта издержка была последним проявлением его расточительности.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
В 8 часов вечера, приняв рапорты от дежурных офицеров пяти эскадронов, я отправился в Михайловский замок, чтобы сдать мой рапорт великому князю Константину как шефу полка.
Выходя из саней у большого подъезда, я встретил камер-лакея у собственных его величества апартаментов, который спросил меня, куда я иду. Я хорошо знал этого человека и, думая, что он спрашивает меня из простого любопытства, отвечал, что иду к великому князю Константину.
— Пожалуйста, не ходите, — отвечал он, — ибо я тотчас должен донести об этом государю.
— Не могу не пойти, — сказал я, — потому что я дежурный полковник и должен явиться с рапортом к его высочеству; так и скажите государю.
Лакей побежал по лестнице на одну сторону замка, я поднялся на другую.
Когда я вошел в переднюю Константина Павловича, Рутковский, его доверенный камердинер, спросил меня с удивленным видом;
— Зачем вы пришли сюда?
Я ответил, бросая шубу на диван:
— Вы, кажется, все здесь с ума сошли! Я — дежурный полковник.
Тогда он отпер дверь и сказал:
— Хорошо, войдите.
Я застал Константина в трех-четырех шагах от двери… он имел вид очень взволнованный. Я тотчас отрапортовал ему о состоянии полка. Между тем, пока я рапортовал, великий князь Александр вышел из двери, прокрадываясь как испуганный заяц. В эту минуту открылась задняя дверь… и вошел император propria persona[83], в сапогах и шпорах, со шляпой в одной руке и тростью в другой, и направился к нашей группе церемониальным шагом, словно на параде.
Александр поспешно убежал в собственный апартамент; Константин стоял пораженный, с руками, бьющими по карманам, словно безоружный человек, очутившийся перед медведем. Я же, повернувшись по уставу на каблуках, отрапортовал императору о состоянии полка. Император сказал: «А, ты дежурный!» — очень учтиво кивнул мне головой, повернулся и пошел к двери… Когда он вышел, Александр немного открыл свою дверь и заглянул в комнату. Константин стоял неподвижно.
Когда вторая дверь в ближайшей комнате громко стукнула, как будто ее с силой захлопнули, доказывая, что император действительно ушел, Александр, крадучись, снова подошел к нам.
Константин сказал:
— Ну, братец, что скажете вы о моих? — указывая на меня. — Я говорил вам, что он не испугается!
Александр спросил:
— Как? Вы не боитесь императора?
— Нет, ваше высочество, чего же мне бояться? Я дежурный, да еще вне очереди; я исполняю мою обязанность и не боюсь никого, кроме великого князя, и то потому, что он мой прямой начальник, точно так же, как мои солдаты не боятся его высочества и боятся одного меня.
— Так вы ничего не знаете? — возразил Александр.
— Ничего, ваше высочество, кроме того, что я дежурный вне очереди.
— Я так приказал, — сказал Константин.
— К тому же, — сказал Александр, — мы оба под арестом.
Я засмеялся. Великий князь сказал:
— Отчего вы смеетесь?
— Оттого, — ответил я, — что вы давно желали этой чести.
— Да, но не такого ареста, какому мы подверглись теперь. Нас обоих водил в церковь Обольянинов присягать в верности.
— Меня нет надобности приводить к присяге, — сказал я, — я верен.
— Хорошо, — сказал Константин, — теперь отправляйтесь домой и смотрите, будьте осторожны.
Я поклонился и вышел.
В передней, пока камердинер Рутковский подавал мне шубу, Константин Павлович крикнул:
— Рутковский, стакан воды.
Рутковский налил, и я заметил ему, что на поверхности плавает перышко. Рутковский вынул его пальцем и, бросив на пол, сказал:
— Сегодня оно плавает, но завтра потонет. […]
В три четверти десятого мой слуга Степан вошел в комнату и ввел ко мне фельдъегеря.
— Его величество желает, чтобы вы немедленно явились во дворец.
— Очень хорошо, — отвечал я и велел подать сани.
Получить такое приказание через фельдъегеря считалось в те времена делом нешуточным и плохим предзнаменованием. Я, однако же, не имел дурных предчувствий и, немедленно отправившись к моему караулу, спросил офицера Андреевского, все ли обстоит благополучно. Он ответил, что совершенно благополучно; что император и императрица три раза проходили мимо караула, весьма благосклонно поклонились ему и имели вид очень милостивый. Я сказал ему, что за мной послал государь и что я не приложу ума, зачем бы это было.
Андреевский также не мог догадаться, ибо в течение дня все было в порядке.
В шестнадцать минут одиннадцатого часовой крикнул: «Вон!», и караул вышел и выстроился. Император показался из двери, в башмаках и чулках, ибо он шел с ужина. Ему предшествовала любимая его собачка шпиц, а следовал за ним Уваров, дежурный генерал-адъютант. Собачка подбежала ко мне и стала ласкаться, хотя прежде того никогда меня не видела. Я отстранил ее шляпой, но она опять кинулась ко мне, и император отогнал ее ударом шляпы, после чего шпиц сел позади Павла Петровича на задние лапки, не переставая пристально глядеть на меня.
Император подошел ко мне (я стоял шагах в двух от караула) и сказал по-французски:
— Vous êtes des Jacobins.
Несколько озадаченный этими словами, я ответил:
— Oui, Sire!
Он возразил:
— Pas vous, mais le régiment.
На это я возразил:
— Passe encore pour moi, mais Vous Vous trompez pour le régiment[84].
Он ответил по-русски:
— А я лучше знаю. Сводить караул!
Я скомандовал:
— По отделениям направо! Марш!
Корнет Андреевский вывел караул через дверь… и отправился с ним домой. Шпиц не шевелился и все время во все глаза смотрел на меня. Затем император, продолжая разговор по-русски, повторил, что мы якобинцы. Я вновь отверг это обвинение. Он снова заметил, что лучше знает, и прибавил, что он велел выслать полк из города и расквартировать его по деревням…
Затем, обращаясь к двум лакеям, одетым в гусарскую форму, но не вооруженным, он сказал: «Вы же два займите этот пост», — указывая на дверь. Уваров все это время за спиной государя делал гримасы и усмехался, а верный шпиц, бедняжка, все время серьезно смотрел на меня. Император затем поклонился мне особенно милостиво и ушел в свой кабинет…
Из воспоминаний Петра Ивановича Полетика:
Меньший брат мой Аполлон, бывший тогда камер-пажем при великом князе Константине Павловиче, должен был служить по званию своему у вечернего стола государя в Михайловском замке. Возвратясь домой в 11 часу, он рассказывал мне, что за ужином употреблен был в первый раз новый фарфоровый прибор, украшенный разными видами Михайловского замка. Государь был в чрезвычайном восхищении, многократно целовал рисунки на фарфоре и говорил, что это был один из счастливейших дней в его жизни. Чрез час или два его не стало!
Из «Записок» Марии Сергеевны Мухановой:
В последний день жизни императора Павла отец мой ужинал у государя и оставил его в 11 часов. Государь был весел, разговорчив и любезен, хвалил свой Михайловский замок и сказал: «Я нашел наконец себе тихое пристанище». Замечательно, что его собака, маленький шпиц, беспрестанно выла и вертелась около его ног, сколько он ни отгонял ее.
Из «Записок» Адама Ежи Чарторыйского:
Говорят… что несколько анонимных писем все-таки возбудили подозрения императора и накануне своей смерти он велел тайно вызвать в Петербург Аракчеева, чтобы доверить ему пост генерал-губернатора Петербурга и выслать Палена. Прибудь Аракчеев вовремя в столицу — в Петербурге произошли бы самые трагические события. Это был человек, преданный духу приказа, поведения, мелочей, обладая энергией, которая порою становилась зверством. Вместе с Аракчеевым явился бы и Ростопчин, и Павел, вероятно, был бы спасен. […]
Первый из них находился в это время в своем имении недалеко от Петербурга и мог прибыть в столицу в 24 часа. Если бы эти два человека находились около императора Павла, он мог бы некоторое время в полной безопасности продолжать еще свои причуды, которые они постарались бы умерить и уменьшить; но, по всей вероятности, старания их остались бы напрасными, чтобы остановить жестокости, которые он желал применить к нескольким членам императорской фамилии. Положение заговорщиков становилось действительно опасным, и всякое промедление, всякое колебание угрожало теперь страшными бедствиями.
Из «Записок» Карла Генриха Гейкинга:
Осуществление переворота было назначено в ночь с четверга на пятницу, но когда Пален явился в понедельник к государю с рапортом, Павел сказал ему резким тоном:
— Вы не знаете ничего нового?
— Нет, ваше величество.
— Хорошо, в таком случае я сообщу вам, что что-то затевается.
Опустив глаза на бумаги, которые он держал в руках (большая часть этих подробностей сообщена самим Паленом. Он, между прочим, сказал: «Если бы Павел положил мне руку на сердце, то он открыл бы все; но чело мое не омрачилось, и это спасло меня благодаря бумагам, которые были у меня в руках»), Пален выгадал несколько секунд, чтобы овладеть собою, после чего ответил, улыбаясь:
— Если что-нибудь и затевается, то я должен быть осведомлен об этом, я сам должен быть участником. Следовательно, вы, ваше величество, можете не беспокоиться. Впрочем, ваше величество могли бы уполномочить меня арестовать безразлично всякого по моему усмотрению, если б я счел это необходимым.
— Конечно, я вас уполномочиваю на это, даже в том случае, если б пришлось арестовать великого князя или императрицу.
— Соблаговолите, ваше величество, дать мне этот приказ письменно, так как я напал на след некоторых обстоятельств, о которых я доложу вашему величеству завтра достоверные сведения.
Государь написал приказ, и Пален удалился с спокойным видом, хотя и сильно взволнованный: он уведомил заговорщиков, что нельзя терять ни минуты.
Из воспоминаний Николая Осиповича Кутлубицкого, записанных А. И. Ханенко:
За несколько месяцев вперед Пален сказал императору, что, рапортуя ему ежедневно о благосостоянии города, ему бы необходимо было знать о благосостоянии дворца как части города. Посему государь приказал Кутлубицкому, как коменданту дворца, предварительно доносить о благосостоянии оного генерал-губернатору.
Николай Осипович и делал это поздно вечером, иногда сам, а чаще посылая с рапортом о том к Палену своего адъютанта. В этот день после обыкновенного так называемого собрания во дворце, на котором присутствовал государь, Николай Осипович сам приехал в 10 часов к Палену, застал большое общество и некоторых из бывших с Паленом тем же вечером во дворце, как то [Платона] Зубова и других.
Он их застал за шампанским, как ему сказали, по случаю именин или рождения Палена. Николай Осипович с ними выпил также стакан шампанского за здоровье виновника торжества, хозяина, и вышел, чтобы отправиться домой, но его провожал Пален и в передней сказал ему: «Генерал, пожалуйте вашу шпагу, государь приказал вас арестовать». На возражение Николая Осиповича, что он ни в чем не виноват и что он просит позволения поехать объясниться к государю, который, вероятно, еще не спит, Пален отвечал: «Разве вы не знаете порядка?» Таким образом, Николай Осипович должен был отдать ему шпагу и отвезен был адъютантом Палена на гауптвахту. На другой день возвратили ему шпагу, объяснив ему, что государь ночью скончался от апоплексического удара.
Из мемуаров Леонтия Леонтьевича Беннигсена:
11-го марта 1801 г., утром, я встретил князя [Платона] Зубова в санях, едущим по Невскому проспекту. Он остановил меня и сказал, что ему нужно переговорить со мной, для этого он желает поехать ко мне на дом. Но, подумав, он прибавил, что лучше, чтобы нас не видели вместе, и пригласил меня к себе ужинать. Я согласился, еще не подозревая, о чем может быть речь, тем более что я собирался на другой день выехать из Петербурга в свое имение в Литве. Вот почему я перед обедом отправился к графу Палену просить у него, как у военного губернатора, необходимого мне паспорта на выезд. Он отвечал мне: «Да отложите свой отъезд, мы еще послужим вместе. — И добавил: — Князь Зубов вам скажет остальное». Я заметил, что все время он был очень смущен и взволнован. Так как мы были связаны дружбой издавна, то я впоследствии очень удивлялся, что он не сказал мне о том, что должно случиться: хотя все со дня на день ожидали перемены царствования, но, признаюсь, я не думал, что время уже настало. […]
…часов в десять [я] приехал к Зубову. Я застал у него только его брата, графа Николая, и трех лиц, посвященных в тайну, — одно было из Сената, и это лицо должно было доставить туда приказ собраться, лишь только арестуют императора. Граф Пален позаботился о том, чтобы были заготовлены необходимые приказы, начинавшиеся словами «По высочайшему повелению» и предназначенные для арестования нескольких лиц в первый же момент.
Князь Зубов сообщил мне условный план, сказав, что в полночь совершится переворот. Моим первым вопросом было: кто стоит во главе заговора? Когда мне назвали это лицо, тогда я не колеблясь примкнул к заговору, правда, шагу опасному, однако необходимому, чтобы спасти нацию от пропасти, которой она не могла миновать в царствование Павла. До какой степени эту истину все сознавали, видно из того, что, несмотря на множество лиц, посвященных в тайну еще накануне, никто, однако, ее не выдал. […]
Немного позже полночи я сел в сани с князем Зубовым, чтобы ехать к графу Палену. У дверей стоял полицейский офицер, который объявил нам, что граф у генерала Талызина и там ждет нас. Мы застали комнату полной офицеров; они ужинали у генерала, причем большинство находилось в подпитии, — все были посвящены в тайну. Говорили о мерах, которые следует принять, а между тем слуги беспрестанно входили и выходили из комнаты. Кто-нибудь из них, руководимый желанием составить себе блестящую карьеру, легко мог бы незаметно проскользнуть вон из дому, броситься в Михайловский замок и там предупредить о заговоре. После узнали, что накануне множество лиц в городе знали о готовящемся ночью событии, и все-таки никто не выдал тайны: это доказывает, до какой степени всем опротивело это царствование и как все желали его конца.
Условились, что генерал Талызин соберет свой гвардейский батальон во дворе одного дома, неподалеку от Летнего сада; а генерал Депрерадович — свой, также гвардейский, батальон на Невском проспекте, вблизи Гостиного двора. Во главе этой колонны будут находиться военный губернатор и генерал Уваров, а во главе первой — князь Зубов, его два брата, Николай и Валериан, и я; нас должны были сопровождать несколько офицеров, как гвардейских, так и других полков, стоявших в Петербурге, офицеров, на которых можно было положиться. Граф Пален с своей колонной должен был занять главную лестницу замка, тогда как мы с остальными должны были пройти по потайным лестницам, чтобы арестовать императора в его спальне.
Роковая ночь[85]
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Вечером 11 марта заговорщики разделились на небольшие кружки. Ужинали у полковника Хитрова, у двух генералов Ушаковых, у Депрерадовича (Семеновского полка) и у некоторых других. Поздно вечером все соединились вместе за одним общим ужином, на котором присутствовали генерал Беннигсен и граф Пален.
Было выпито много вина, и многие выпили более, чем следует. В конце ужина, как говорят, Пален будто бы сказал: «Rappelez-vous, messieurs, que pour manger d’une omelette il faut commencer par casser les oeufs»[86]. […]
Около полуночи большинство полков, принимавших участие в заговоре, двинулись ко дворцу. Впереди шли семеновцы, которые и заняли внутренние коридоры и проходы замка.
Заговорщики встали с ужина немного позже полуночи. Согласно выработанному плану, сигнал к вторжению во внутренние апартаменты дворца и в самый кабинет императора должен был подать Аргамаков, адъютант гренадерского батальона Преображенского полка, обязанность которого заключалась в том, чтобы докладывать императору о пожарах, происходящих в городе. Аргамаков вбежал в переднюю государева кабинета, где недавно еще стоял караул от моего эскадрона, и закричал: «Пожар!»
В это время заговорщики числом до 180 человек бросились в дверь. Тогда Марин, командовавший внутренним пехотным караулом, удалил верных гренадер Преображенского лейб-батальона, расставив их часовыми, а тех из них, которые прежде служили в лейб-гренадерском полку, поместил в передней государева кабинета, сохранив таким образом этот важный пост в руках заговорщиков.
Два камер-гусара, стоявшие у двери, храбро защищали свой пост, но один из них был заколот, а другой ранен. Найдя первую дверь, ведшую в спальню, незапертой, заговорщики сначала подумали, что император скрылся по внутренней лестнице (и это ему легко бы удалось)… Но когда они подошли ко второй двери, то нашли ее запертой изнутри, это доказывало, что император, несомненно, находился в спальне.
Взломав дверь… заговорщики бросились в комнату, но императора в ней не оказалось. Начались поиски, но безуспешно, несмотря на то что дверь… ведшая в опочивальню императрицы, также была заперта изнутри.
Поиски продолжались несколько минут, когда вошел генерал Беннигсен, высокого роста флегматичный человек, он подошел к камину, прислонился к нему и в это время увидел императора, спрятавшегося за экраном. Указав на него пальцем, Беннигсен сказал по-французски: «Le voilà!»[87], после чего Павла тотчас вытащили из его прикрытия.
Князь Платон Зубов, действовавший в качестве оратора и главного руководителя заговора, обратился к императору с речью. Отличавшийся обыкновенно большой нервностью, Павел на этот раз, однако, не казался особенно взволнованным и, сохраняя полное достоинство, спросил, что им всем здесь нужно.
Платон Зубов отвечал, что деспотизм его сделался настолько тяжелым для нации, что они пришли требовать его отречения от престола.
Император, преисполненный искреннего желания доставить своему народу счастье, сохранять нерушимо законы и постановления империи и водворить повсюду правосудие, вступил с Зубовым в спор, который длился около получаса и который в конце концов принял бурный характер. В это время те из заговорщиков, которые слишком много выпили шампанского, стали выражать нетерпение, тогда как император в свою очередь говорил все громче и сильно начал жестикулировать. В это время шталмейстер граф Николай Зубов, человек громадного роста и необыкновенной силы, будучи совершенно пьян, ударил Павла по руке и сказал: «Что ты так кричишь!»
При этом оскорблении император с негодованием оттолкнул левую руку Зубова, на что последний, сжимая в кулаке массивную золотую табакерку, со всего размаху нанес правой рукой удар в левый висок императора, вследствие чего тот без чувств повалился на пол. В ту же минуту француз — камердинер Зубова вскочил с ногами на живот императора, а Скарятин, офицер Измайловского полка, сняв висевший над кроватью собственный шарф императора, задушил его им. Таким образом его прикончили.
Из «Записок» Александра Николаевича Вельяминова-Зернова:
Долго не могли умертвить Павла — он был полон жизни и здоровья. Наконец сняли шарф с Аргамакова — он один только был в шарфе — и, сделав глухую петлю, задушили. На лице осталось много знаков от нанесенных ему ударов.
Из «Записок» Николая Александровой Саблукова:
На основании другой версии, Зубов, будучи сильно пьян, будто бы запустил пальцы в табакерку, которую Павел держал в руках. Тогда император первый ударил Зубова и таким образом сам начал ссору. Зубов будто бы выхватил табакерку из рук императора и сильным ударом сшиб его с ног. Но это едва ли правдоподобно, если принять во внимание, что Павел выскочил прямо из кровати и хотел скрыться. Как бы то ни было, во всяком случае несомненно, что табакерка играла в этом событии известную роль.
Итак, произнесенные Паленом за ужином слова «qu’il faut commencer par casser les oeufs»[88] не были забыты и, увы, приведены в исполнение.
Называли имена некоторых лиц, которые выказали при этом случае много жестокости, даже зверства, желая выместить полученные от императора оскорбления на безжизненном его теле, так что докторам и гримерам было нелегко привести тело в такой вид, чтобы можно было выставить его для поклонения согласно существующим обычаям. Я видел покойного императора лежащего в гробу. На лице его, несмотря на старательную гримировку, видны были черные и синие пятна. Его треугольная шляпа была так надвинута на голову, чтобы по возможности скрыть левый глаз и висок, которые были зашиблены. […]
Говорят (из достоверного источника), что, когда дипломатический корпус был допущен к телу, французский посол, проходя, нагнулся над гробом и, задев рукой за галстук императора, обнаружил красный след вокруг шеи, сделанный шарфом.
Из мемуаров Леонтия Леонтьевича Беннигсена:
Проводником нашей колонны [заговорщиков] был полковой адъютант императора Аргамаков, знавший все потайные ходы и комнаты [Михайловского замка], по которым мы должны были пройти, так как ему ежедневно по несколько раз случалось ходить по ним, принося рапорты и принимая приказания своего повелителя. Этот офицер повел нас сперва в Летний сад, потом по мостику и в дверь, сообщающуюся с этим садом, далее по лесенке, которая привела нас в маленькую кухоньку, смежную с прихожей перед спальней Павла. Там мы застали камер-гусара, который спал крепчайшим сном, сидя и прислонившись головой к печке. Из всей толпы офицеров, сначала окруживших нас, осталось теперь всего человека четыре; да и те, вместо того чтобы вести себя тихо, напали на лакея; один из офицеров ударил его тростью по голове, и тот поднял крик.
Пораженные, все остановились, предвидя момент, когда общая тревога разнесется по всем комнатам. Я поспешил войти вместе с князем Зубовым в спальню, где мы действительно застали императора уже разбуженным этим криком и стоящим возле кровати, перед ширмами. Держа шпаги наголо, мы сказали ему:
— Вы арестованы, ваше величество!
Он поглядел на меня, не произнеся ни слова, потом обернулся к князю Зубову и сказал ему:
— Что вы делаете, Платон Александрович?
В эту минуту вошел в комнату офицер нашей свиты и шепнул Зубову на ухо, что его присутствие необходимо внизу, где опасались гвардии: что один поручик не был извещен о перемене, которая должна совершиться. Несомненно, что император никогда не оказывал несправедливости солдату и привязал его к себе, приказывая при каждом случае щедро раздавать мясо и водку в петербургском гарнизоне. Тем более должны были бояться этой гвардии, что граф Пален не прибыл еще со своей свитой и батальоном для занятия главной лестницы замка, отрезавшей всякое сообщение между гвардией и покоями императора.
Князь Зубов вышел, и я с минуту остался с глазу на глаз с императором, который только глядел на меня, не говоря ни слова. Мало-помалу стали входить офицеры из тех, что следовали за нами… Тогда я вышел, чтобы осмотреть двери, ведущие в другие покои; в одном из них, между прочим, были заперты шпаги арестованных офицеров. В эту минуту вошли еще много офицеров. Я узнал потом те немногие слова, какие произнес император, по-русски — сперва:
— Арестован, что значит — арестован?
Один из офицеров отвечал ему:
— Еще четыре года тому назад с тобой следовало бы покончить!
На это он возразил:
— Что я сделал?
Вот единственные произнесенные им слова.
Офицеры, число которых еще возросло, так что вся комната наполнилась ими, схватили его и повалили на ширмы, которые были опрокинуты на пол. Мне кажется, он хотел освободиться от них и бросился к двери, и я дважды повторил ему: «Оставайтесь спокойным, ваше величество, дело идет о вашей жизни!»
В эту минуту я услышал, что один офицер, по фамилии Бибиков, вместе с пикетом гвардии вошел в смежную комнату, по которой мы проходили. Я иду туда, чтобы объяснить ему, в чем будет состоять его обязанность, и, конечно, это заняло не более нескольких минут. Вернувшись, я вижу императора, распростертого на полу. Кто-то из офицеров сказал мне: «С ним покончили!» Мне трудно было этому поверить, так как я не видел никаких следов крови. Но скоро я в том убедился собственными глазами. Итак, несчастный государь был лишен жизни непредвиденным образом и, несомненно, вопреки намерениям тех, кто составлял план этой революции, которая, как я уже сказал, являлась необходимой. Напротив, прежде было установлено увезти его в крепость, где ему хотели предложить подписать акт отречения от престола. […]
Я отправил немедленно офицера к князю Зубову, чтобы известить его о случившемся. Он застал его с великим князем Александром, обоими братьями Зубовыми и еще несколькими офицерами перед фронтом дворцовой гвардии. Когда объявили солдатам, что император скончался скоропостижно от апоплексии, послышались громкие голоса: «Ура! Александр!»
Новый государь велел позвать меня в свой кабинет, где я застал его с теми же лицами, которые окружали его со времени нашего вступления в замок. Ему угодно было поручить мне командование войсками, призванными для охранения порядка в Зимнем дворце, куда он тотчас же проследовал вместе с великим князем Константином.
Из рассказа Петра Павловича Палена, записанного А. Ф. Лонжероном:
Наконец наступил роковой момент: вы знаете все, что произошло. Император погиб и должен был погибнуть: я не был ни очевидцем, ни действующим лицом при его смерти. Я предвидел ее, но не хотел в ней участвовать, так как дал слово великому князю[89].
Из «Записок» Дарьи Христофоровны Ливен:
Еще в полночь в замке и около него царила глубочайшая тишина. По несчастному затемнению ума, император Павел, подозревая всех, с недоверием относился даже и к императрице, преданнейшей ему и почтенной женщине, которую даже вопиющие гласные измены мужа не отвратили от ее страстной привязанности государю.
Он запер на ключ и преградил сообщение между апартаментами императрицы и своими. Поэтому, когда в 12 1/2 часов ночи заговорщики постучались к Павлу в опочивальню, он сам же лишил себя единственного шанса к бегству. Известно, что, не найдя Павла в постели, заговорщики сочли свое дело почти проигранным, но тут один из них открыл Павла, притаившегося за ширмами… Чрез десять минут императора уже не стало. Успей Павел спастись бегством и покажись он войскам, солдаты бы его охранили и спасли.
Весть о кончине Павла была тотчас же доведена до сведения графа Палена, который расположился на главной аллее у замка с несколькими батальонами гвардии. Войска были собраны по его приказу, чтобы, глядя по обстоятельствам, или явиться на подмогу императору, или послужить для провозглашения его преемника. И в том, и в другом случае граф Пален питал уверенность, что ему на долю достанется первенствующая роль. Он поспешил отправиться к великому князю Александру и склонился пред ним на колени.
Из «Записок» Адама Ежи Чарторыйского:
…выполнение заговора было назначено в ночь на 11 марта 1801 года. Вечером в тот же день князь Платон Зубов устроил большой ужин, на который были приглашены все генералы и высшие офицеры, взгляды которых были хорошо известны. Большинство из них только в это вечер узнали всю суть дела, на которое им придется идти тотчас после ужина. Надо сознаться, что такой способ, несомненно, следует считать наиболее удачным для заговора: все подробности его были известны лишь двум-трем руководителям, все остальные же участники этой драмы должны были узнать их в самый момент его выполнения, чем, естественно, лучше всего обеспечивались сохранение тайны и безопасность от случайного доноса.
За ужином Платон Зубов сказал речь, в которой, описав плачевное положение России вследствие сумасшествия царствующего государя, указал на бедствия, угрожающие и государству, и каждому частному лицу. Он указал, что должно ожидать каждый час новых выходок, на безрассудность разрыва с Англией, благодаря которому нарушаются жизненные интересы страны и ее экономическое благосостояние: доказывал, что при таком положении нашей внешней политики балтийским портам и самой столице может грозить неминуемая опасность, что, наконец, никто из присутствующих не может быть уверен в личной безопасности, не зная, что его ожидает на следующий день.
Затем он стал говорить о прекрасных душевных качествах великого князя Александра, указывал на блестящую будущность России под скипетром юного государя, подающего такие надежды и на которого славной памяти императрица Екатерина всегда смотрела как на истинного своего преемника и которому она, несомненно, передала бы империю, если бы не внезапная ее кончина. Свою речь Зубов закончил заявлением, что великий князь Александр, удрученный бедственным положением родины, решился спасти ее и что, таким образом, все дело сводится теперь лишь к тому, чтобы низложить императора Павла, заставив его подписать отречение в пользу наследника престола. Провозглашение Александра, по словам оратора, спасет отечество и самого Павла от неминуемой гибели. […]
Короче, с того момента, как все убедились, что действуют по желанию Александра, более не было колебаний. В ожидании бутылки шампанского переходили из рук в руки и опустошались, головы закружились. Пален, оставивший на время собрание, чтобы исполнить обязанности генерал-губернатора, поехал во дворец и вскоре вернулся, принеся известие, что ужин в Михайловском замке прошел спокойно, что император, по-видимому, ничего не подозревает и расстался с императрицей и великими князьями, как обыкновенно.
Лица, бывшие во время ужина во дворце, впоследствии вспоминали, что Александр в течение вечера за столом, прощаясь с отцом, не выказал при этом никакого волнения, несмотря на приближение события, подготовленного для этой ночи, и жестоко обвиняли его в бессердечии и двоедушии. Это глубоко несправедливо, так как в последующих моих беседах с императором Александром последний неоднократно рассказывал мне совершенно искренно о своем ужасном душевном волнении в эти минуты, когда сердце его буквально разрывалось от горя и отчаяния. […]
У Зубовых между тем, среди веселья, вызванного вином, которое каждый передавал своему соседу, часы для некоторых из сообщников протекли весьма быстро. Только главари заговора воздерживались, стараясь сохранить присутствие духа, столько необходимое в эти минуты, большинство же гостей были сильно навеселе, причем несколько человек уже едва держались на ногах. Наконец время, назначенное для исполнения заговора, наступило. В полночь все встали из-за стола и двинулись в путь. Заговорщики разделились на две шайки, в каждой из которых было до 60-ти генералов и офицеров. Первая группа, во главе которой находились братья Платон и Николай Зубовы и генерал Беннигсен, направились прямо к Михайловскому замку, другая шайка, под предводительством Палена, должна была проникнуть во дворец со стороны Летнего сада. Плац-адъютант замка (капитан Аргамаков), знавший все входы и выходы дворца по обязанности своей службы, шел во главе первого отряда с потаенным фонарем в руке и поднялся с заговорщиками до входа в уборные государя, ведущие к его опочивальне. […]
Молодой лакей, который был дежурным, не пропускал заговорщиков и стал звать на помощь. Защищаясь от наступавших на него заговорщиков, он был ранен и упал, обливаясь кровью. Между тем император заслышал крики и шум в передней, проснулся, быстро встал с кровати и направился к двери, ведшей в комнату императрицы, которая была завешена большой портьерой. К несчастью для него, в припадке отвращения к своей жене он приказал запереть и забаррикадировать эту дверь; самого ключа в ней не было, потому ли, что Павел сам вынул его, или кто-либо из его любимцев, враждебных императрице, им завладел, чтобы ему не пришла как-нибудь фантазия возвратиться к ней.
В самый этот момент крики, которые поднял верный служитель, единственный защитник, который нашелся тогда в момент величайшей опасности у самодержца, более чем когда-либо верившего в свое всемогущество и который, чтобы его обеспечить, окружился тройными стенами и караулами, криков, говорю я, этого единственного защитника было достаточно, чтобы внести ужас и смущение в среду заговорщиков. Они остановились в нерешительности на лестницах и стали совещаться. Шедший во главе колонны князь Зубов растерялся и уже хотел скрыться, увлекая за собою других; но в это время к нему подошел генерал Беннигсен и, схватив его за руку, сказал: «Как? Вы сами привели нас сюда и теперь хотите отступать? Это невозможно, мы слишком далеко зашли, чтобы слушаться ваших советов, которые нас ведут к гибели. Жребий брошен, надо действовать. Вперед!» Слова я эти слышал впоследствии от самого Беннигсена. […]
Таким образом, ганноверец Беннигсен благодаря своей решительности стал во главе события, имевшего такое важное влияние на судьбы империи и европейской политики. А между тем он принадлежал к числу тех, которые узнали о заговоре лишь в этот самый день.
Он решительно становится во главе отряда, и наиболее смелые или наиболее озлобленные на Павла первые следуют за ним. Они врываются в спальню императора и идут прямо к его кровати, но с ужасом видят, что Павла уже нет. Тревога снова охватывает заговорщиков: они ходят по комнате и со свечой ищут Павла.
Наконец, злополучный монарх найден за портьерой, куда он скрылся, заслышав шум. Его вытаскивают оттуда в рубашке, ни живого ни мертвого; воистину тогда ему воздали с ужасающей лихвой за весь тот ужас, который только он когда-либо внушал. Страх леденит его чувства, отнимает у него язык; он дрожит всем телом; его помещают на стул перед его бюро. Длинная, худая, бледная, угловатая фигура генерал Беннигсена, со шляпой на голове и со шпагой в руке, должна была ему показаться ужасным привидением.
«Государь, — говорит ему генерал, — вы мой пленник, и вашему царствованию наступил конец; откажитесь от престола, напишите и подпишите немедленно акт отречения в пользу великого князя Александра».
Император не был в состоянии отвечать; ему вкладывают перо в руку. Вероятно, акт был приготовлен за минуту до его отречения, чтобы дать ему переписать; дрожащий и почти без сознания, он готов повиноваться, но в это время за дверью снова раздаются крики. Генерал Беннигсен, принудив низложенного самодержавца к подписи, которую от него требовали, выходит, как он мне часто повторял, чтобы осведомиться, что это за крики были слышны, восстановить порядок и принять необходимые меры для безопасности императорского семейства, но едва он переступил порог, как произошла возмутительная сцена. Несчастный Павел остался наедине среди толпы заговорщиков, окруженный людьми, которые пылали жаждою личного мщения: одни за преследования, другие за оказанные им несправедливости, иные, наконец, за простые отказы на их просьбы. Тут начались над ним возмутительные издевательства со стороны этих людей, озверевших при виде жертвы, очутившейся в их власти. Возможно, что смерть была заранее решена наиболее мстительными и свирепыми заговорщиками; ужасную развязку, по-видимому, ускорили крики, раздавшиеся в коридоре и вызвавшие уход Беннигсена и которые наполнили заговорщиков, оставшихся в апартаменте, волнением и страхом за самих себя.
Граф Николай Зубов, человек атлетического телосложения… как говорят, первый наложил руку на своего государя, и после этого ничто уже не могло удерживать рассвирепевших заговорщиков. Теперь в лице Павла они видели только изверга, тирана, непримиримого врага: его уничижение, его полное смирение никого не обезоруживает и делает его в их глазах столь же презренным и смешным, сколь и ненавистным.
Его бьют. Один из заговорщиков, имени которого я теперь не припоминаю, отвязал свой офицерский шарф и накинул его на шею злополучного монарха. Последний стал отбиваться и по естественному чувству самосохранения, высвободив одну руку, просунув ее между шеей и охватывавшим ее шарфом, крича: «Воздуху! воздуху!» В это время, увидев красный конногвардейский мундир одного из заговорщиков и приняв последнего за своего [сына] Константина, император в ужасе закричал: «Ваше высочество, пощадите! Воздуху! Воздуху!» Но заговорщики схватывают руку Павла и затягивают шарф с безумной силой. Несчастный император уже испустил последний вздох, но озверевшие злодеи продолжают затягивать петлю и влекут безжизненное тело по комнате, бьют его руками и ногами.
Между тем более трусливые, бросившиеся было к выходу, снова возвращаются в комнату, принимают участие в убийстве и даже превосходят первоначальных убийц своим зверством и жестокостью. Генерал Беннигсен в это время возвращается. Не знаю, настолько искренно было его негодование при виде всего, что произошло в его отсутствие, но он поспешил положить конец этой возмутительной сцене. […]
Пален, во главе второй колонны заблудившийся, по-видимому, со своим отрядом в аллеях Летнего сада, прибыл со своей шайкой во дворец, когда все уже было кончено. Говорили, что он умышленно опоздал, с тем чтобы в случае неудачи заговора выступить в роли спасителя императора и при надобности арестовать своих единомышленников. Как бы то ни было, как только он явился на место действия, он постарался выказать величайшую деятельность, отдавая постоянно необходимые приказания в течение остальных событий ночи, одним словом, ничего не упустил, чтобы от него не было отнято первенство и достоинство командования предприятием, равно как усердие, проворство и решимость. […]
Можно сказать, не ошибаясь, что заговор был поставлен при почти единодушном согласии высших классов общества и преимущественно офицеров.
…императору Павлу было бы легко справиться с заговорщиками, если бы ему удалось вырваться из их рук хотя на минуту и показаться войскам. Найдись хоть один человек, который явился бы от его имени к солдатам — он был бы, быть может, спасен, а заговорщики арестованы. […]
Посмотрим теперь, что происходило в эту ужасную ночь в той части дворца, где помещалось императорское семейство. Великому князю Александру уже было известно, что в эту ночь его отцу будет предложено отречение от престола. Взволнованный разнообразными чувствами, переживая жесточайшие душевные муки, великий князь, не раздеваясь, бросился на постель. Ночью, в начале первого часа, раздался стук в его дверь, и на пороге появился Николай Зубов, всклокоченный, с диким, блуждающим взором, с лицом, изменившимся под влиянием вина и только что совершенного злодеяния, в беспорядочном костюме. Он подошел к великому князю и глухим голосом сказал:
— Все совершено.
— Что такое? Что совершилось? — спросил с испугом Александр. Великий князь плохо слышал и, быть может, боялся понять эти слова; с своей стороны, Зубов тоже не решался высказаться прямо, что совершилось.
Это несколько продолжило объяснение. Великий князь был так далек от мысли о смерти отца, что не допускал даже возможности такого исхода. Наконец, он обратил внимание, что в разговоре Зубов, не изъясняясь прямо, все время называл его «государь» и «ваше величество»… Тогда наконец Александр (рассчитывавший быть только регентом империи) понял ужасную истину и предался самой искренней неудержимой печали.
Из «Записок» Марии Сергеевны Мухановой:
В 1 час ночи 11 марта 1801 г. разбудили моего отца С. И. Муханова, беззаботно спавшего дома, и сказали ему, что у государя сделался апоплексический удар. Он велел оседлать лошадь и поехал во дворец, где нашел комнаты полными нетрезвых.
После трагедии
Из рассказа великого князя Константина Павловича, записанного А. Ф. Ланжероном:
Я ничего не подозревал и спал, как спят в 20 лет.
Платон Зубов, пьяный, вошел ко мне в комнату, поднял шум. (Это было уже через час после кончины моего отца). Зубов грубо сдергивает с меня одеяло и дерзко говорит: «Ну, вставайте, идите к императору Александру; он вас ждет». Можете себе представить, как я был удивлен и даже испуган этими словами. Я смотрю на Зубова: я был еще в полусне и думал, что мне все это приснилось. Платон грубо тащит меня за руку и подымает с постели; я надеваю панталоны, сюртук, натягиваю сапоги и машинально следую за Зубовым. Я имел, однако, предосторожность захватить с собой польскую саблю… я взял ее с целью защищаться в случае, если бы было нападение на мою жизнь, ибо я не мог себе представить, что такое произошло.
Вхожу в прихожую моего брата, застаю там толпу офицеров, очень шумливых, сильно разгоряченных, и Уварова, пьяного, как и они, сидящего на мраморном столе, свесив ноги. В гостиной моего брата я нахожу его лежащим на диване в слезах, как и императрица Елизавета. Тогда только я узнал об убийстве моего отца. Я был до такой степени поражен этим ударом, что сначала мне представилось, что это был заговор извне против всех нас.
В эту минуту пришли доложить моему брату о претензиях моей матери[90]. Он воскликнул: «Боже мой! еще новые осложнения!» Он приказал Палену пойти убедить ее и заставить отказаться от идей по меньшей мере весьма странных и весьма неуместных в подобную минуту. Я остался один с братом; через некоторое время вернулся Пален и увел императора, чтобы показать его войскам. Я последовал за ним, остальное вам известно[91].
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Несколько минут после часу пополуночи, 12 марта, Степан, мой камердинер… вошел в мою комнату с собственным ездовым великого князя Константина, который вручил мне собственноручную записку его высочества, написанную, по-видимому, весьма спешно и взволнованным почерком, в которой значилось следующее: «Собрать тотчас же полк верхом как можно скорее, с полною амуницией, но без поклажи и ждать моих приказаний. Константин Цесаревич».
Потом ездовой на словах прибавил:
— Его высочество приказал мне передать вам, что дворец окружен войсками и чтобы вы зарядили карабины и пистолеты боевыми патронами.
Я тотчас велел моему камердинеру надеть шубу и шапку и идти за мной. Я довел его и ездового до ворот казармы и поручил последнему доложить его высочеству, что приказания его будут исполнены. […]
Я знал то влияние, которое имею на солдат, и что без моего согласия они не двинутся с места; к тому же я был, очевидно, обязан ограждать их от ложных слухов. Наша казарма была дом с толстыми стенами, выстроенная в виде пустого четырехугольника, с двумя только воротами. Так как была еще зима и везде были вставлены двойные окна, то я легко мог сделать из этого здания непроницаемую крепость, заперев наглухо и заколотив гвоздями задние ворота и поставив у передних ворот парных часовых со строгим приказанием никого не впускать. […]
Между тремя и четырьмя часами утра меня вызвали к передовому караулу у ворот. Тут я увидел Ушакова, нашего полкового адъютанта.
— Откуда вы? Вы не ночевали в казарме? — спросил я его.
— Я из Михайловского замка.
— А что там делается?
— Император Павел умер, и Александр провозглашен императором.
— Молчите! — отвечал я и тотчас повел его к генералу [Тормасову], отпустив поставленный мной караул.
Мы вошли в гостиную, которая была рядом со спальней. Я довольно громко крикнул:
— Генерал, генерал, Александр Петрович!
Жена его проснулась и спросила:
— Кто там?
— Полковник Саблуков, сударыня.
— А, хорошо, — и она разбудила своего мужа.
Его превосходительство надел халат и туфли и вышел в ночном колпаке, протирая глаза, еще полусонный.
— В чем дело? — спросил он.
— Вот, ваше превосходительство, адъютант, он только что из дворца и все вам скажет…
— Что же, сударь, случилось? — обратился он к Ушакову.
— Его величество государь император скончался: он умер от удара…
— Что такое, сударь? Как смеете вы это говорить! — воскликнул генерал.
— Он действительно умер, — сказал Ушаков. — Великий князь вступил на престол, и военный губернатор [Пален] передал мне приказ, чтобы ваше превосходительство немедленно привели полк к присяге императору Александру.
Он сказал нам тоже, что Михайловский замок окружен войсками и что Александр с женой Елизаветой переехал в Зимний дворец под прикрытием кавалергардов, которыми предводительствовал сам Уваров.
Убедившись в справедливости сообщенного известия, генерал Тормасов сказал мне по-французски:
— Eh bien, mon cher colonel, faites sortir le régiment, préparez le prêtre et l’Evangile et réglez tout cela. Je m’habillerai et je descendrai tout de suite[92]. […]
12 марта между четырьмя и пятью часами утра, когда только что начинало светать, весь полк был выстроен в пешем строю на дворе казарм. Отец Иоанн, наш полковой священник, вынес крест и Евангелие на аналое и поставил его перед полком. Генерал Тормасов громко объявил о том, что случилось: император Павел скончался от апоплексического удара и что Александр I вступил на престол. Затем он велел приступить к присяге. Речь эта произвела мало впечатления на солдат: они не ответили на нее криками «ура!», как он того ожидал. Он затем пожелал, чтобы я в качестве дежурного полковника поговорил с солдатами. Я начал с лейб-эскадрона, в котором служил столько лет, что знал в лицо каждого рядового. На правом фланге стоял рядовой Григорий Иванов, примерный солдат, статный и высокого роста. Я сказал ему:
— Ты слышал, что случилось?
— Точно так.
— Присягнете вы теперь Александру?
— Ваше высокоблагородие, — ответил он, — видели ли вы императора Павла действительно мертвым?
— Нет, — ответил я.
— Не чудно ли было бы, — сказал Григорий Иванов, — если бы мы присягнули Александру, пока Павел еще жив?
— Конечно, — ответил я.
Тут Тормасов шепотом сказал мне по-французски:
— Cela est mal, arrangez cela[93].
Тогда я обратился к нему и громко по-русски сказал:
— Позвольте мне заметить, ваше превосходительство, что мы приступаем к присяге не по уставу: присяга никогда не приносится без штандартов. — Тут я шепнул ему по-французски, чтобы он приказал мне послать за ними.
Генерал сказал громко:
— Вы совершенно правы, полковник, пошлите за штандартами.
Я скомандовал первому взводу сесть на лошадей и велел взводному командиру, корнету Филатьеву, непременно показать солдатам императора Павла, живого или мертвого.
Когда они прибыли во дворец, генерал Беннигсен в качестве коменданта дворца велел им принять штандарты, но корнет Филатьев заметил ему, что необходимо прежде показать солдатам покойника. Тогда Беннигсен воскликнул:
— Mais c’est impossible, il est abime, fracasse, on est actuellement a le peindre et а l'arranger![94]
Филатьев ответил, что, если солдаты не увидят Павла мертвым, полк отказывается присягнуть новому государю.
— Ah, ma foi! — сказал старик Беннигсен, — s’ils lui sont si attaches, ils n’ont qu’a le voir[95].
Два ряда были впущены и видели тело императора.
По прибытии штандартов им были отданы обычные почести с соблюдением необходимого этикета. Их передали в соответствующие эскадроны, и я приступил к присяге. Прежде всего я обратился к Григорию Иванову:
— Что же, братец, видел ты государя? Действительно он умер?
— Так точно, ваше высокопревосходие, крепко умер!
— Присягнешь ли ты теперь Александру?
— Точно так… хотя лучше покойного ему не быть… А впрочем, все одно: кто ни поп, тот и батька.
Так окончился обряд [присяги], который по смыслу своему долженствовал быть священным таинством; впрочем, он всегда и был таковым… для солдат.
Из «Записок» Александра Федоровича Ланжерона:
Между тем войска гвардии выстроились во дворе и вокруг дворца [Михайловского замка]; как видно, в них не были уверены, и события это подтвердили. Молодой генерал Талызин командовал Преображенским полком, в котором всегда служил; он собрал его в одиннадцать часов вечера, приказал зарядить ружья и сказал солдатам:
— Братцы, вы знаете меня 20 лет, вы доверяете мне, следуйте за мною и делайте все, что я вам прикажу.
Солдаты пошли за ним, не зная, в чем дело, и убежденные, что они призваны для защиты своего государя; но когда они узнали, что от них скрыли, между ними поднялся тревожный ропот. […]
Император Александр предавался в своих покоях отчаянию, довольно натуральному, но неуместному. Пален, встревоженный образом действия гвардии, приходит к ним, грубо хватает его за руку и говорит:
— Будет ребячиться! Идите царствовать, покажитесь гвардии.
Он увлек императора и представил его Преображенскому полку. Талызин кричит: «Да здравствует император Александр!» — гробовое молчание среди солдат. Зубовы выступают, говорят с ними и повторяют восклицание Талызина — такое же безмолвие. Император переходит к Семеновскому полку, который приветствует его криками «ура!». Другие следуют примеру семеновцев, но преображенцы по-прежнему безмолвствуют. Император садится в сани с императрицей Елизаветой и едет в Зимний дворец; все следуют за ним. Он велит созвать войска на Дворцовую площадь, войска повинуются, но все тот же Преображенский полк ропщет и, очевидно, подозревает, что Павел еще жив.
(Это доказывает, что если б Павел не умер и был заточен в крепость, то гвардия освободила бы его — и тогда!!!). Когда же полк убедился в его смерти, он принес присягу Александру, как и остальные войска. (Уверяли, что принуждены были нескольким солдатам показать труп императора Павла.)
Наскоро созван был Сенат и все присутственные места; они также приведены были к присяге. Императрица Мария волей-неволей присоединилась к остальным подданным своего сына; в девять часов утра водворилось полное спокойствие, и император Александр упрочился на престоле.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Утром (12 марта) в 10 часов мы все были на параде, во время которого вся прежняя рутина была соблюдена. […]
Во время парада заговорщики держали себя чрезвычайно заносчиво и как бы гордились совершенным преступлением. Князь Платон Зубов также появился на параде, имея далеко не воинственный вид со своими улыбочками и остротами, за что он был особенно отличен при дворе Екатерины и о чем я не мог вспоминать без отвращения.
Офицеры нашего полка держались в стороне и с таким презрением относились к заговорщикам, что произошло несколько столкновений, окончившихся дуэлями. Это дало графу Палену мысль устроить официальный обед с целью примирения разных партий. […]
Что касается Александра и Константина, то большинство лиц, близко стоявших к ним в это время, утверждали, что оба великих князя, получив известие о смерти отца, были страшно потрясены, несмотря на то что сначала им сказали, что император скончался от удара, причиненного ему волнением, вызванным предложениями, которые ему сделали заговорщики [отречься от престола].
На следующий день, 13 марта, мы снова явились в обычный час на парад. Александр и Константин появились оба и имели удрученный вид. […]
Желая расположить общественное мнение в свою пользу, Пален, Зубов и другие вожаки заговора решили устроить большой обед, в котором должны были принять участие несколько сот человек. Полковник N. N., один из моих товарищей по полку, зашел ко мне однажды утром, чтобы спросить, знаю ли я что-нибудь о предполагаемом обеде. Я отвечал, что ничего не знаю.
— В таком случае, — сказал он, — я должен сообщить вам, что вы внесены в список приглашенных.
Пойдете ли вы туда?
Я отвечал, что, конечно, не пойду, ибо не намерен праздновать убийство.
— В таком случае, — отвечал N. N., — никто из наших также не пойдет.
С этими словами он вышел из комнаты.
В тот же день граф Пален пригласил меня к себе и, едва я вошел в комнату, он сказал мне:
— Почему вы отказываетесь принять участие в обеде?
— Parce que je n’ai rien commun avec ces messieurs[96], — отвечал я.
Тогда Пален с особенным одушевлением, но без всякого гнева сказал:
— Вы не правы, Саблуков, дело уже сделано, и долг всякого доброго патриота — забыть все партийные раздоры, думать только о благе родины и соединиться вместе для служения отечеству. Вы так же хорошо, как и я, знаете, какие раздоры посеяло это событие: неужели же позволять им усиливаться? Мысль об обеде принадлежит мне, и я надеюсь, что он успокоит многих и умиротворит умы. Но если вы теперь откажетесь прийти, остальные полковники вашего полка тоже не придут, и обед этот произведет впечатление, прямо противоположное моим намерениям. Прошу вас поэтому принять приглашение и быть на обеде.
Я обещал Палену исполнить его желание.
Я явился на этот обед и другие полковники тоже, но мы сидели отдельно от других и, сказать правду, я заметил весьма мало единодушия, несмотря на то что выпито было немало шампанского. Много сановных и высокопоставленных лиц, а также придворных особ посетили эту «оргию», ибо другого названия нельзя дать этому обеду. Перед тем чтобы встать со стола, главнейшие из заговорщиков взяли скатерть за четыре угла, все блюда, бутылки и стаканы были брошены в середину, и все это с большой торжественностью было выброшено через окно на улицу. После обеда произошло несколько резких объяснений… […]
…Константин [Павлович] при всей своей вспыльчивости не был лишен чувства горечи при мысли о катастрофе. Однажды утром спустя несколько дней после ужасного события мне пришлось быть у его высочества по делам службы. Он пригласил меня в кабинет и, заперев за собой дверь, сказал:
— Ну, Саблуков, хорошая была каша в тот день!
— Действительно, ваше высочество, хорошая каша, — ответил я, — и я очень счастлив, что в ней был ни при чем.
— Вот что, друг мой, — сказал торжественным тоном великий князь, — скажу тебе одно, что после того, что случилось, брат мой может царствовать, если это ему нравится; но если бы престол когда-нибудь должен был перейти ко мне, я несомненно бы от него отказался.
Мария Федоровна
Из «Записок» Дарьи Христофоровны Ливен:
В приемной [Зимнего дворца в ночь убийства] муж застал великого князя Константина и нескольких генералов. Великий князь заливался слезами, а генералы ликовали, опьяненные происшедшим избавлением. В каких-нибудь полминуты Ливен уже узнал, что императора Павла не стало и что ему предстоит приветствовать нового императора. Государь требует Ливена. Где Ливен? Мой муж бросается в кабинет, и император падает ему в объятия с рыданиями: «Мой отец! Мой бедный отец!» И слезы обильно текут по щекам. […]
Великий князь [Константин Павлович] приказал графу Палену от его имени отправиться к моей свекрови [Шарлотте Карловне Ливен], воспитательнице детей покойного императора, и, сообщив ей роковую весть, попросить подготовить к ней и императрицу-мать. Граф Пален без всяких предосторожностей вошел к г-же Ливен, разбудил ее сам и неожиданно объявил ей, что императора постиг апоплексический удар и чтобы она поскорее довела об этом до сведения императрицы.
Моя свекровь приподнялась с постели и тотчас же вскричала:
— Его убили!
— Ну да, конечно! Мы избавились от тирана.
Г-жа Ливен с омерзением оттолкнула графа Палена и сухо промолвила:
— Я знаю свои обязанности.
Она тотчас же встала и направилась в апартаменты императрицы. Сторожевой пост, расположенный внизу лестницы, скрестил штыки. Г-жа Ливен властно потребовала пропуска. В каждой зале она натыкалась на такие же препятствия, но умело их устраняла. Она была женщина очень решительная и властная. В последней зале, которая открыла доступ с одной стороны к апартаментам императрицы, а с другой — к покоям императора, запрет следовать дальше был выражен безапелляционно: стража тут была многочисленна и решительна.
Г-жа Ливен громко вскричала:
— Как вы смеете меня задерживать? Я отвечаю за детей императора и иду с докладом к государыне о великом князе Михаиле, которому нездоровится. Вы не смеете мешать мне в исполнении моей обязанности!
После некоторых колебаний дежурный офицер склонился перед властною старухою. Она вошла к императрице и, прямо подойдя к ее кровати, разбудила ее и предложила встать. Императрица, вскочив спросонья, перепугалась и воскликнула:
— Боже мой! Беда случилась? С Мишелем?
— Никак нет. Его высочеству лучше, он спит спокойно.
— Значит, кто-нибудь из других детей заболел?
— Нет, все здоровы.
— Вы меня, верно, обманываете. Катерина?
— Да нет же, нет! Только вот государь очень плохо себя чувствует.
Императрица не понимала. Тогда свекровь принуждена была сказать государыне, что ее супруг перестал жить. Императрица посмотрела на г-жу Ливен блуждающими глазами и словно не хотела понять истины. Тогда свекровь произнесла решительно:
— Ваш супруг скончался. Просите Господа Бога принять усопшего милостиво в лоно свое и благодарите Господа за то, что он вам столь многое оставил.
Тут императрица соскочила с постели, упала на колени и предалась молитве, но довольно машинально и по усвоенной ею привычке верить и уважать слова моей свекрови, так как г-жа Ливен неотразимо влияла на императрицу и на всех авторитетностью, которая всегда выказывает величие характера. Чрез несколько мгновений, однако же, императрица начала сознавать постигшую ее потерю, а когда поняла все, лишилась чувств. […]
Когда к императрице окончательно вернулось сознание, роковая истина предстала пред ее рассудком в сопровождении ужасающих подозрений.
Она с криком требовала, чтобы ее допустили к усопшему. Ее убеждали, что это невозможно. Она на это восклицала:
— Так пусть же и меня убьют, но видеть его я хочу!
Она бросилась к апартаментам, но роковые задвижки преграждали туда доступ. Тогда императрица направилась кружным путем через залы. Стража везде была многочисленная. Какой-то офицер подошел объяснить ей, что получил формальное приказание никого не пропускать в опочивальню к усопшему. Царица, не обращая на слова внимания, пошла дальше, но тут офицер принужден был ее остановить за руку. Императрица, впав в отчаяние, бросилась на колени: она заклинала всю стражу допустить ее к усопшему. Она не хотела подняться с колен прежде, чем не удовлетворят ее просьбы. Но это представлялось прямо невозможным. Обезображенное тело государя покоилось в соседней комнате. Никто не знал, что делать. Императрица продолжала стоять на коленях, близкая к обмороку. Какой-то гренадер подошел к ней с стаканом воды. Она его оттолкнула в испуге и горделиво поднялась на ноги. Старые гренадеры вскричали:
— Да ты, матушка, нас не бойся, мы все тебя любим! Императрица, побежденная наконец увещаниями моей свекрови, согласилась вернуться в свои покои, взяв, однако, формальное обещание, что ее допустят к усопшему.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Грубые солдаты рыдали при виде ее горя, но с твердостью исполнили приказ. Тогда императрица встала с достоинством и твердой походкой вернулась в свою спальню. Бледная и неподвижная как мраморная статуя, она опустилась в кресло и в таком состоянии ее одели.
Из «Записок» Александра Федоровича Лонжерона:
Часовые загородили ей проход; она вспылила и хотела пройти. Они оказали сопротивление. Полторацкий пришел сказать ей, что она не пройдет, что ему дано приказание не пропускать ее; она ответила резкостью, и наконец ей сделалось дурно. Один гренадер, по имени Перекрестов, принес стакан воды и подал ей; она отказалась. Тогда гренадер сказал; «Выкушайте, матушка, вода не отравлена, не бойтесь за себя». Он сам выпил часть воды и предложил ей остальное. Она выпила и вернулась в свои апартаменты. В эту минуту рассудок у нее совсем помутился, ее характер и честолюбие одержали верх над горестью, которую она должна была испытывать; она воскликнула, что она коронована, что ей подобает царствовать, а ее сыну принести присягу. Побежали доложить об этом императору Александру, а он послал Палена успокоить мать…
Из «Записок» Адама Ежи Чарторыйского:
Императрица Мария Федоровна предстала перед заговорщиками сильно взволнованною, и крики ее раздавались в коридорах, прилегающих к ее апартаментам. Увидев гренадер, она направилась к ним и сказала, повторив несколько раз: «Что же, раз нет более императора, который пал жертвою злодеев-изменников, то теперь я ваша императрица, я одна ваша законная государыня! Защищайте меня и следуйте за мною!» Генерал Беннигсен и граф Пален, которые привели во дворец преданный им отряд войск, с большим трудом уговорили императрицу вернуться в ее апартаменты.
Из «Записок» Дарьи Христофоровны Ливен:
Чрез несколько минут приехал граф Ливен для выполнения приказаний императора Александра. […]
Ливен тотчас же понял бесповоротность решения императрицы покинуть замок не раньше, чем она простится с прахом супруга. Поэтому Ливен ускорил приготовления, необходимые для того, чтобы показать императрице тело усопшего, по возможности не обнаруживая истинных причин его кончины.
Император Павел несколько минут боролся с заговорщиками, и эта борьба оставила особенно заметный след на лбу. Тело одели в мундир, нахлобучив шляпу по самые брови, и уложили в парадную постель.
В 7 часов утра императрица была наконец допущена к телу супруга. Сцена произошла раздирательная; она не хотела покинуть усопшего; наконец в 8 часов утра мужу удалось перевезти ее в Зимний дворец со всеми членами императорской фамилии.
Только в 11 часов утра допустила императрица к себе сына-императора. Свидание происходило без свидетелей. Государь вышел от императрицы-матери очень взволнованный. С этого мгновения вплоть до кончины император проявлял к своей родительнице самое восторженное почтение, внимательность и нежность, а она, в свою очередь, показывала страстную привязанность к своему первенцу.
Яркое солнце взошло над этим роковым и великим днем.
Из «Записок» Адама Ежи Чарторыйского:
Мне никогда не удалось узнать подробностей о первом свидании Александра с матерью после катастрофы…. Что они говорили? Какое объяснение произошло между ними по поводу происшедших ужасных событий? Несомненно, что впоследствии они поняли друг друга, но в эти первые ужасные минуты император Александр, подавленный всем тем, что ему пришлось пережить, был почти не в силах высказать что бы то ни было. С другой стороны, императрица-мать дошла до высшей степени экзальтации, сожаления и раздраженности, утеряв всякое чувство самообладания и рассудительности.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Рано утром (12 марта) из Зимнего дворца явился посланный, если я не ошибаюсь, это был сам Уваров. Именем императора и императрицы [Александра I и его жены Елизаветы Алексеевны] он умолял вдовствующую государыню переехать к ним.
— Скажите моему сыну, — отвечала императрица, — что до тех пор, пока я не увижу моего мужа мертвым собственными глазами, я не признаю Александра своим государем. […]
Можно было думать, что, получив упомянутый ответ от своей матери, которую он любил столь же нежно, как и был любим ею, Александр немедленно придет броситься в ее объятия. Но тогда он должен был бы разрешить ей взглянуть на тело ее убитого мужа, а этого, увы, нельзя было дозволить; нельзя было допустить императрицу к телу в том его виде, в каком его застали солдаты Конной гвардии. Уборка тела, гримировка, бальзамирование и облачение в мундир длились более 30-ти часов и только на другой день после смерти поздно вечером Павла показали убитой горем императрице. […]
Тело покойного императора, загримированное различными художниками, облаченное в мундир, высокие сапоги со шпорами и в шляпе, надвинутой на голову (чтобы скрыть правый висок), было положено в гроб… […]
Императрица находилась в своей спальне, бледная, холодная, наподобие мраморной статуи, точно такой же, как она была в самый день катастрофы. Александр и Елизавета прибыли из Зимнего дворца в сопровождении графини Ливен и Муханова. Я не знаю, был ли тут и Константин, но кажется, что его не было, а все младшие дети были со своими нянями. Опираясь на руку Муханова, императрица направилась к роковой комнате, причем за ней следовал Александр с Елизаветой, а графиня Ливен несла за ней шлейф. Приблизившись к телу, императрица остановилась в глубоком молчании, устремила свой взор на покойного супруга и не проронила при этом ни единой слезы.
Александр Павлович, который теперь сам впервые увидел изуродованное лицо своего отца, накрашенное и подмазанное, был поражен и стоял в немом оцепенении. Тогда императрица-мать обернулась к сыну и с выражением глубокого горя и видом полного достоинства сказала: «Теперь вас поздравляю — вы император». При этих словах Александр как сноп свалился без чувств, так что присутствующие на минуту подумали, что он мертв. […]
Вечером того же дня императрица снова вошла в комнату покойного, причем ее сопровождали только графиня Ливен и Муханов. Там, распростершись над телом убитого мужа, она лежала в горьких рыданиях, пока едва не лишилась чувств, невзирая на необыкновенную телесную крепость и нравственное мужество. Два верных спутника увели ее наконец или, вернее, унесли обратно в ее апартаменты. В следующие дни снова повторились подобные же посещения покойника, причем приезжал и император. После этого убитую горем вдовствующую императрицу перевезли в Зимний дворец, а тело покойного императора со всей торжественностью было выставлено для народа.
Из мемуаров Леонтия Леонтьевича Беннигсена:
Граф Пален взял на себя известить императрицу о кончине ее супруга. […]
Когда ей сказали, что отдано приказание не пропускать ее в покои императора, она отправилась к своим невесткам, супругам великих князей Александра и Константина. Мне доложили об этом, и я велел запереть двери, ведущие в апартаменты великих княгинь.
До сих пор императрица не была осведомлена, в чью пользу произведена эта революция. Ей сообщили, кому было поручено командование дворцовыми войсками. Когда она узнала, что командование поручено мне, она приказала мне явиться к ней. Я уже осведомился о приказаниях императора, который велел мне передать, чтобы я отправился к ней и посоветовал, попросил ее от его имени покинуть Михайловский замок и ехать в Зимний дворец, где ей будет сообщено все, что она пожелает узнать. Вследствие этого я отправился в апартаменты великих княгинь, где находилась императрица. Увидев меня, ее величество спросила, мне ли поручено командовать здешними войсками. На мой утвердительный ответ она осведомилась с большой кротостью и спокойствием душевным:
— Значит, арестована?
Я отвечал:
— Совсем нет, возможно ли это?
— Но меня не выпускают, все двери на запоре.
Ответ:
— Ваше величество, это объясняется лишь необходимостью принять некоторые меры предосторожности для безопасности императорской фамилии, здесь находящейся, или тем, что могут еще случиться беспорядки вокруг замка.
Вопрос:
— Следовательно, мне угрожает опасность?
Ответ:
— Все спокойно, ваше величество, и все мы находимся здесь, чтобы охранять особу вашего величества.
Тут я хотел воспользоваться минутой молчания, чтобы исполнить данное мне поручение. Я обратился к императрице со словами:
— Император Александр поручил мне…
Но ее величество прервала меня словами:
— Император! император! Александр! Но кто провозгласил его императором?
Ответ:
— Голос народа!
— Ах! я не признаю его, — понизив голос, сказала она, — прежде, чем он не отдаст отчета о своем поведении. — Потом, подойдя ко мне, ее величество взяла меня за руку, подвела к дверям и проговорила твердым голосом: — Велите отворить двери; я желаю видеть тело моего супруга! — и прибавила: — Я посмотрю, как вы меня ослушаетесь! […]
Я боялся, что если императрица выйдет, то ее крики могут подействовать на дух солдат, как я уже говорил, весьма привязанных к покойному императору. На все эти представления она погрозила мне пальцем со следующими словами, произнесенными довольно тихо: «О, я вас заставлю раскаяться».[…]
Тем временем я пригласил графа Палена прибыть на минуту во дворец, ввиду того, что он имеет счастье быть более знакомым императрице. В ту минуту, как она увидела его, она спросила:
— Что здесь произошло?
Граф отвечал со своим обычным хладнокровием:
— То, что давно можно было предвидеть.
Вопрос:
— Кто же зачинщики этого дела?
Ответ:
— Много лиц из различных классов общества.
Вопрос:
— Но как могло это совершиться помимо вас, занимающего пост военного губернатора?
Ответ:
— Я прекрасно знал обо всем и поддался этому, как и другие, во избежание более великих несчастий, которые могли бы подвергнуть опасности всю императорскую фамилию.
Он прибавил несколько добрых советов и затем удалился. […]
Она почувствовала, что переворот уже нельзя изменить. После некоторого молчания и размышления ее величество понизила голос и сказала мне:
— Ну хорошо, обещаю вам ни с кем не говорить.
С этого момента императрица вернулась к свойственной ей кротости, от которой она уже не отрешалась и которая делает ее столь достойной любви. Я приказал отпереть двери. Ее величество взяла меня под руку, чтобы подняться по лестнице, и сказала:
— Прежде всего я хочу видеть своих детей.
Когда она вошла в свои апартаменты, обе великие княжны, Екатерина и Мария-Анна[97], уже находились там с графиней Ливен.
Эта сцена была поистине самой трогательной из всех, какие мне случалось видеть. Великие княжны, обнимая свою мать, проливали слезы о смерти отца, и лишь с трудом их можно было оторвать от матери. Ее величество посидела еще некоторое время в этих покоях, потом встала и сказала мне:
— Пойдем, ведите меня.
Нам пришлось пройти лишь две комнаты, чтобы достигнуть той, где стояло тело покойного императора. Г-н Роджерсон и я находились возле ее величества, которую сопровождали обе великие княжны, графиня Ливен, две камер-юнгферы и камердинер. В последней комнате ее величество села на минуту, потом поднялась, и мы вошли в спальню покойного императора, лежавшего на своей постели в мундире своего гвардейского полка. Ширмы все еще заслоняли его постель со стороны той двери, в которую мы вошли. Ее величество несколько раз произносила по-немецки: «Боже, поддержите меня!» Когда наконец императрица увидела тело своего супруга, она громко вскрикнула. Г-н Роджерсон и я поддерживали ее под руки. Через минуту она стала приближаться к телу; встала на колени и поцеловала руку покойного, проговорив: «Ах, друг мой!» После этого, все стоя на коленях, она потребовала ножницы. Камер-юнгфера подала ей ножницы, и она отрезала прядь волос с головы императора. Наконец, поднявшись, она сказала великим княжнам: «Проститесь с отцом». Они встали на колени, чтобы поцеловать его руку. Обращение княжон, неподдельная печаль, написанная на их лицах, растрогали нас. Императрица уже сделала несколько шагов, чтобы удалиться, но, увидев обоих княжон еще на коленях, вернулась и проговорила: «Нет, я хочу быть последней». И опять опустилась на колени, чтобы поцеловать руку своему покойному супругу. Г-н Роджерсон и я просили ее не затягивать этой печальной сцены, которая могла бы повредить ее здоровью, столь драгоценному и столь нужному всей императорской фамилии. Мы взяли ее под руки, чтобы помочь ей встать, и затем вернулись в покои императрицы. Ее величество удалилась в уборную, где облеклась в глубочайший траур, и вскоре опять вышла к нам. Шталмейстер Муханов уже докладывал, что поданы экипажи для доставления императрицы с великими княжнами из Михайловского замка в Зимний дворец. Он просил меня еще раз напомнить об этом императрице. Мы желали, чтобы она покинула Михайловский замок еще до рассвета. Императрица, однако, затягивала отъезд с минуты на минуты до того, как совсем рассвело. Тогда она просила меня подать ей руку, спуститься с лестницы и довести ее до кареты. Можно себе представить, какая собралась толпа по всему пути до Зимнего дворца. Ее величество опустила стекла в карете. Она кланялась народу, собравшемуся по пути. Таким образом она доехала до дворца, чтобы остаться там.
Из «Записок» Марии Сергеевны Мухановой:
Императрица Мария Федоровна… была чужда всякого властолюбия, и все, что говорили о ее мнимом желании царствовать, совершенно ложно.
Из мемуаров Леонтия Леонтьевича Беннигсена:
Хотя она [Мария Федоровна] часто страдала от его суровости, от его вспыльчивости и дурного нрава, но она всегда неизменно была сильно привязана к своему супругу и выносила тяжелые минуты своей жизни с ангельским терпением; можно даже сказать, что она подавала нации пример доброй супруги и матери, творя во всех случаях столько добра, сколько позволяли ей ее средства, ее власть и кредит. Я был свидетелем ее глубокого горя и при этой катастрофе, при потере, близкой ее сердцу, однако благоразумные размышления и привязанность к народу вскоре сумели положить пределы этому личному горю.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Весной того же года вскоре после Пасхи императрица-мать выразила желание удалиться в свою летнюю резиденцию Павловск, где было не так шумно и где она могла пользоваться покоем и уединением. Исполняя это желание, император спросил ее величество, какой караул она желала бы иметь в Павловске.
Императрица отвечала:
— Друг мой, я не выношу вида ни одного из полков, кроме Конной гвардии.
— Какую же часть этого полка вы желали бы иметь при себе?
— Только эскадрон Саблукова, — отвечала императрица.
Я тотчас был командирован в Павловск… […]
Каждую ночь я, подобно сторожу, обходил все ближайшие к дворцу сады и цветники, среди которых разбросаны были всевозможные памятники, воздвигнутые в память различных событий супружеской жизни покойного императора. Здесь, подобно печальной тени, удрученная горем Мария Федоровна, одетая в глубокий траур, бродила по ночам среди мраморных памятников и плакучих ив, проливая слезы в течение долгих бессонных ночей. Нервы ее были до того напряжены, что малейший шум пугал ее и обращал в бегство. Вот почему моя караульная служба в Павловске сделалась для меня священной обязанностью, которую я исполнял с удовольствием.
Императрица-мать не искала в забвении облегчения своему горю, напротив, она как бы находила утешение, выпивая до дна горькую чашу душевных мук.
Сама кровать, на которой Павел испустил последнее дыхание, с одеялами и подушками, окрашенными его кровью, была привезена в Павловск и помещена за ширмами рядом с опочивальней государыни, и в течение всей своей жизни она не переставала посещать эту комнату. Недавно мне передавали, что эту кровать после ее смерти перевезли в Гатчину и поместили в маленькую комнату, в которой я так часто слышал молитвы Павла. Обе двери этой комнаты, говорят, были заколочены наглухо, равно как в Михайловском замке двери, ведущие в кабинет императора, где произошло убийство.
Ликование Петербурга
Из «Записок» Адама Ежи Чарторыйского:
Тотчас после совершения кровавого дела заговорщики предались бесстыдной, позорной, неумеренной и неприличной радости. Это было какое-то всеобщее оглупление и опьянение не только в переносном, но и в прямом смысле, ибо дворцовые погреба были опустошены, вино лилось рекою за здоровье нового императора и героев заговора. В течение первых дней после события было в моде показывать себя причастным к заговору, каждый желал быть отмеченным, каждый совался вперед, утверждал, что он был в такой-то или другой банде, шел одним из первых, присутствовал при роковой катастрофе. А среди этой всеобщей распущенности, этой шумной и непристойной радости император и его семейство, запертые во дворце, погруженные в горе и слезы, не показывались.
По мере того, однако, как постепенно улеглось возбужденное состояние умов, большинство убедилось, что вся великая радость, которую так открыто выказывали, не была средством успеть при дворе и что такого рода хвастовство, не обнаруживающее ни ума, ни сердца, противно; и хотя смерть Павла избавила государство от больших бедствий, во всяком случае каждому было выгоднее и желательнее не обнаруживать своего участия в деле. Главари заговора прикрывались высокими фразами, говоря, что для них главным и единственным побуждением были государственная необходимость и спасение России. Они усиливались создать этим для самих себя источник репутации, приближенности и кредита.
Из «Записок» Августа Коцебу:
Рано поутру, на рассвете, царствовала мертвая тишина. Передавали друг другу на ухо, что что-то случилось, но не знали, что именно, или, вернее, никто не решался громко сказать, что государь скончался, потому что, если бы он был еще жив, одно это слово, тотчас пересказанное, могло бы погубить.
Я сам встал на рассвете. Квартира моя была в… доме на большой площади, прямо напротив Зимнего дворца. Я подошел к окну и в первую четверть часа видел, как войска проходили через площадь в разных направлениях. Это меня не удивило; я думал, что назначено было учение, как это часто бывало. Вскоре после того пришел мой парикмахер. Его, видимо, тяготила какая-то тайна. Я едва успел присесть, как он шепотом спросил меня, знаю ли я, что государя отвезли в Шлиссельбург[98] или даже что он умер. Эти смелые слова меня испугали; я приказал ему молчать и сказал, что хочу притвориться, будто ничего не слышал от него.
Но он стал меня уверять, что, наверное, произошло что-то важное, потому что сам видел, как в 12 часов ночи гвардия прошла по Миллионной [улице] мимо его квартиры.
Я был взволнован; тотчас приказал подать экипаж и поехал в Михайловский замок. Дорогою, хотя и было довольно далеко, я ничего не заметил; народ был еще спокоен; на улицах, как обыкновенно, были прохожие. Но уже издали, у ворот, которые ведут во дворец и где обыкновенно стояли два часовых, я заметил целую роту под ружьем. Это было мне верным знаком, что произошло что-то необыкновенное. Я хотел, как всегда, въехать в ворота, но меня не пропустили и объявили, что дозволен проезд одним только придворным экипажам. Сначала я сослался на повеление государя, которое ставило мне в обязанность находиться каждое утро во дворце. Офицер пожал плечами. Я стал ему доказывать, что карета моя придворная, потому что поставлялась от двора. Но он мне объяснил, что покуда под названием «придворный экипаж» следует разуметь только такие кареты, у которых на дверцах императорский герб, а у моей кареты этого герба не было. «Для чего все это?» — спросил я наконец в недоумении. Он снова пожал плечами и замолчал.
Через несколько часов вход во дворец был свободен, и я поспешил к обер-гофмаршалу; но его нельзя было видеть. Через канцелярского чиновника я наконец получил первые достоверные сведения.
Ослепленная чернь предалась самой необузданной радости. Люди, друг другу вовсе незнакомые, обнимались на улицах и друг друга поздравляли. Зеленщики, продававшие свой товар по домам, поздравляли «с переменою», подобно тому, как они обыкновенно поздравляют с большими праздниками. Почтосодержатели на Московской дороге отправляли курьеров даром. Но многие спрашивали с боязнью; «Да точно ли он умер?» Кто-то даже требовал, чтоб ему сказали, набальзамировано ли уже тело; только когда его в том уверили, он глубоко вздохнул и сказал: «Слава Богу».
Даже люди, которые не имели повода жаловаться на Павла и получали от него одни только благодеяния, были в таком же настроении…
Около полудня я поехал к графу Палену без всякого дела, с единственною целью в его приемной делать наблюдения над людьми и, прежде всего, над ним самим. Его не было дома. Мы долго ждали. Наконец он приехал: волосы его были в беспорядке, но выражение лица было веселое и открытое.
Вечером у меня собралось небольшое общество. Мы стояли кружком посреди комнаты и болтали. Между тем почти совсем стемнело. Нечаянно обернулся я к окну и с ужасом увидел, что город был иллюминован. Никаких приказаний для иллюминации не было, но она была блистательнее, чем обыкновенно в большие праздники. Один только Зимний дворец стоял темною массою передо мной и представлял собою величественный контраст. Грусть овладела всеми нами.
Из воспоминаний Петра Ивановича Полетики:
…мы [Петр Полетика и его брат Аполлон]… рано утром были пробужены одним из наших мальчиков, который нам объявил, к сильному нашему удивлению, что государь скончался и что гвардейские полки присягают новому государю на Дворцовой площади. Сошед на двор к воротам, мы действительно увидели всю площадь покрытую войсками и слышали радостные их восклицания. В течение дня весь город был в движении, радость была общая. Нельзя, однако ж, не сознаться, что положение дел в последние годы царствования Павла I-го было для всех состояний нестерпимо и могло наконец возбудить общий бунт, коего последствия исчислить не можно. Но об этом предоставляем истории объяснить подробнее.
На второй или третий день трагического происшествия я ходил в Михайловский замок с генералом Клингером и его сыном, которому было тогда от 13 до 14 лет. Вошед в большую залу, мы увидели у дверей другой комнаты, в которую нам следовало войти, стоявшего генерала Беннигсена. Юноша, увидев его, сказал: «Вот наш Тезей, скоро мы увидим Минотавра». Острые, но дерзкие слова, за которые отец строго пожурил юношу. Вошед в комнату, где лежало тело императора, мы нашли оное лежащим в мундире на походной кровати…
В самый первый день нового царствования показались на улицах круглые шляпы и фраки, строго до того запрещенные, хотя разрешения не могло еще последовать; полагать можно, что для многих, мало рассуждающих о государственных переворотах, перемена одежды была главным наслаждением в последовавшем событии. Я должен также заметить, что природа, как бы участвуя в общей радости, изменилась в погоде, которая, быв до 12 марта сырая и пасмурная, совершенно прояснилась и продолжалась прекрасною в течение многих недель.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Следующий же день после ужасных событий 11 марта наглядно показал все легкомыслие и пустоту столичной, придворной и военной публики того времени. Одной из главных жестокостей, в которых обвиняли Павла, считалась его настойчивость и строгость относительно старомодных костюмов, причесок, экипажей и других мелочей. Как только известие о кончине императора распространилось в городе, немедленно же появились прически a la Titus[99], исчезли косы, обрезались букли и панталоны; круглые шляпы и сапоги с отворотами наполнили улицы. Дамы также, не теряя времени, облеклись в новые костюмы, и экипажи, имевшие вид старых немецких или французских attelages[100], исчезли, уступив место русской упряжи, с кучерами в национальной одежде и с форейтерами (что было строго запрещено Павлом), которые с обычной быстротой и криками понеслись по улицам. Это движение, вдруг сообщенное всем жителям столицы, внезапно освобожденным от строгостей полицейских постановлений и уличных правил, действительно заставило всех ощущать, что с рук их, словно по волшебству, свалились цепи и что нация, как бы находившаяся в гробу, снова вызвана к жизни и движению. […]
Публика, особенно же низшие классы, и в числе их старообрядцы и раскольники, пользовалась всяким случаем, чтобы выразить свое сочувствие удрученной горем вдовствующей императрице. Раскольники были особенно признательны императору Павлу как своему благодетелю, даровавшему им право публично отправлять свое богослужение и разрешившему им иметь свои церкви и общины. Как выражение сочувствия, образа с соответствующими надписями из Священного Писания в огромном количестве присылались императрице со всех концов России. Император Александр, постоянно навещавший свою горюющую мать по нескольку раз в день, проходя однажды утром через переднюю, увидел в этой комнате множество образов, поставленных в ряд. На вопрос Александра, что это за иконы и почему они тут расставлены, императрица отвечала, что все это приношения, весьма для нее драгоценные, потому что они выражают сочувствие и участие народа в ее горе; при этом ее величество присовокупила, что она уже просила Александра Александровича (моего отца, члена Опекунского совета) взять их и поместить в церковь воспитательного дома. Это желание императрицы и было немедленно исполнено моим отцом.
Из мемуаров Леонтия Леонтьевича Беннигсена:
Весть о кончине Павла с быстротою молнии пронеслась по всему городу еще ночью. Кто сам был очевидцем этого события, тому трудно составить себе понятие о том впечатлении и о той радости, какие овладели умами всего населения столицы. Все считали этот день днем избавления от бед, тяготевших над ними целых четыре года. Каждый чувствовал, что миновало это ужасное время, уступив место более счастливому будущему, какого ожидали от воцарения Александра I. Лишь только рассвело, как улицы наполнились народом. Знакомые и незнакомые обнимались между собой и поздравляли друг друга с счастьем — и общим, и частным для каждого порознь.
Из «Записок» Александра Николаевича Вельяминова-Зернова:
В 9 часов утра на улицах была такая суматоха, какой никогда не запомнят. К вечеру во всем городе не стало шампанского. Один не самый богатый погребщик продал его в тот день на 60 000 рублей. Пировали во всех трактирах. Приятели приглашали в свои кружки людей вовсе незнакомых и напивались допьяна, повторяя беспрестанно радостные клики в комнатах, на улицах, на площадях. В то же утро появились на многих круглые шляпы и другие запрещенные при Павле наряды; встречавшиеся, размахивая платками и шляпами, кричали им «браво». Весь город, имевший более 300 000 жителей, походил на дом умалишенных.
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
Утром 12 (24) марта г-н фон Требра встретил меня известием о кончине императора Павла, и еще в этот самый день узнал я от множества отовсюду стекавшихся к нам знакомых о ходе главнейших событий. Не раньше как через восемь дней появился я снова при дворе и был там свидетелем, как любезно держал себя со всеми молодой монарх. Кротость нового правления счастливила все сердца, и при этом повторилось то же, что в первые века христианства, то есть что злейшие враги мирились между собою.
Похороны
Из «Записок» Марии Сергеевны Мухановой:
Похороны же императора Павла[101] были очень печальны, но особенно тем, что никто не показывал никакого сожаления об его кончине. Плакал только мой отец, помнивший его расположение к себе, и еще один, неизвестно почему, гренадер. По возвращении с похорон императрица Мария Феодоровна спросила моего отца, какое впечатление на народ сделали эти похороны. Тут отец мой должен был один раз в жизни изменить правде. Всех более огорчалась этим равнодушием великая княжна Мария Павловна, которая во время отпевания несколько раз падала без чувств.
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
…не нахожу нужным обстоятельно изображать картину пышной церемонии при погребении императора. Длинный поезд двигался весьма дальним окольным путем из Михайловского дворца, через Васильевский остров, к крепостной церкви[102], новому месту погребения царей. Моя траурная шляпа своими длинными, низко спускавшимися полями заслонявшая мне зрение, и плащ, спутывавший мои ноги, мешали мне ступать во время шествия позади царской фамилии, которую я несколько раз, спотыкаясь, обгонял и потом валился с ног у самой похоронной колесницы. Окружающие ее, несмотря на трагический характер торжества, не могли воздержаться от смеха при всех этих несчастных случаях, беспрестанно со мной повторявшихся, и раз великий князь Константин сам отвел меня на мое место, говоря: «Держись за меня крепко, чтоб опять тебе не попасть в беду». Впрочем, еще до меня, говорят, случилось зловещее происшествие: с рыцарем, изображавшим радость по поводу нового воцарения, от тяжести его золотых доспехов сделалось дурно, и он упал с лошади, что было принято суеверным народом за дурное предзнаменование.
Судьба заговорщиков
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Однажды утром во время обычного доклада государю [императору Александру I] Пален был чрезвычайно взволнован и с нескрываемым раздражением стал жаловаться его величеству, что императрица-мать возбуждает народ против него и других участников заговора, выставляя напоказ в воспитательном доме иконы с надписями вызывающего характера. Государь, желая узнать, в чем дело, велел послать за моим отцом. Злополучные иконы были привезены во дворец, и вызывающая надпись оказалась текстом из Священного Писания, взятым, насколько помню, из Книги Царств[103].
Императрица-мать была крайне возмущена этим поступком Палена, позволившим себе обвинять мать в глазах сына, и заявила свое неудовольствие Александру. Император, со своей стороны, высказал это графу Палену в таком твердом и решительном тоне, что последний не знал, что отвечать, от удивления.
На следующем параде Пален имел чрезвычайно недовольный вид и говорил в крайне резком, несдержанном тоне. Впоследствии даже рассказывали, что он делал довольно неосторожные намеки на свою власть и на возможность «возводить и низводить монархов с престола». Трудно допустить, чтобы такой человек, как Пален, мог высказать такую бестактную неосторожность, тем не менее в тот же вечер об этом уже говорили в обществе.
Как бы то ни было, достоверно только то, что, когда на другой день в обычный час Пален приехал на парад… и собирался выходить из экипажа, к нему подошел флигель-адъютант государя и по высочайшему повелению предложил ему выехать из города и удалиться в свое курляндское имение.
Пален повиновался, не ответив ни единого слова.
В высочайшем приказе было объявлено, что «генерал от кавалерии граф Пален увольняется от службы», и в тот же день вечером князю [Платону] Зубову также предложено оставить Петербург и удалиться в свои поместья. Последний тоже беспрекословно повиновался.
Таким образом, в силу одного слова юного и робкого монарха сошли со сцены эти два человека, которые возвели его на престол, питая, по-видимому, надежду царствовать вместе с ним.
Из «Записок» Александра Федоровича Лонжерона:
Гвардейские офицеры, принимавшие участие в заговоре, один за другим попали в немилость и были удалены так, что по истечении года никого из заговорщиков не осталось в столице… […]
Падение Палена летом 1801 года было делом рук императрицы. Она знала достаточно о происходившем во время убийства Павла для того, чтобы страдать при мысли о том, что граф занимает выдающееся положение при непосредственной близости к Александру.
Из «Записок» Адама Ежи Чарторыйского:
Между тем молодой государь, оправившись после первых дней треволнений и упадка духа, стал чувствовать непреодолимое отвращение к главарям заговора, особенно же к тем из них, чьи доводы заставили его согласиться, что, присоединяясь к их намерениям, он не подвергает никакой опасности жизнь своего отца и что он решается единственно для спасения России низложить его, убедив Павла в необходимости самому сложить с себя бремя правления, отказавшись от власти в пользу сына, чему бывали неоднократные примеры среди государей Европы.
Император Александр сообщил мне, что первый, кто ему это сказал, был граф Панин, которому он никогда не простит этого. […]
…шла речь об увольнении графа Панина[104]. Государь сильно желал избавиться от него; Панин был ему в тягость, был ему ненавистен и возбуждал его подозрения. Государь не знал хорошенько, как удалить его. Дело рассматривалось серьезно и обстоятельно. Наконец, было решено заменить Панина графом Кочубеем. […]
Государь только что уволил графа Палена. Этот генерал, пользовавшийся безграничным доверием покойного императора Павла, был в концерте [т. е. в договоре] с графом Паниным, главным деятелем и душой заговора, прекратившего дни этого монарха и который никогда не осуществился бы, если бы Пален, имевший в руках власть и располагавший всеми средствами в качестве военного губернатора Петербурга, не стал во главе предприятия.
Из переписки дипломата Виктора Павловича Кочубея:
Государь [Александр I], насколько я заметил, имеет что-то против Панина из-за революции, которая возвела его на престол. Правда, Панин… первый говорил с ним о регентстве. Но теперь у государя явные угрызения совести. И он считает преступлением то, что он, государь, думал о регентстве.
Из «Записок» Дарьи Христофоровны Ливен:
Все они [заговорщики] умерли несчастными, начиная с Николая Зубова, который вскоре после вступления на престол Александра умер вдали от двора, не смея появляться в столице, терзаемый болезнью, угрызениями совести и неудовлетворенным честолюбием… Князь Платон Зубов, сознавая, насколько его присутствие неприятно императору Александру, поспешил удалиться в свои поместья. Затем он предпринял заграничное путешествие, долго странствовал и умер, не возбудив ни в ком сожаления.
Пален… закончил существование в одиночестве и в полном забвении… Он совершенно не выносил одиночества в своих комнатах, а в годовщину 11 марта регулярно напивался к 10 часам вечера мертвецки пьяным, чтобы опамятоваться не раньше следующего дня. Умер граф Пален в начале 1826 года, через несколько недель поле кончины Александра.
Исторические анекдоты о Павле I Предсказание инока Авеля Молитва о Павле I
Исторические анекдоты о Павле I
Из «Записок» Федора Николаевича Голицына:
При начале царствования его [Павла I], постановлены были во дворце в передних комнатах внутренние бекеты[105] и переменено слово, вместо как прежде командовали «к ружью!», велено кричать «вон!» В одно утро г-н прокурор граф Самойлов, проходя с делами к государю мимо бекета, и караульный офицер, желая отдать ему честь, закричал: «Вон!», граф, не поняв, что это значит, вздумал, что всех из комнаты выгоняют, поворотяся, уехал домой.
Из «Записок» Августа Коцебу:
За несколько дней до своей смерти Павел прогневался на камердинера великого князя и отправил его под арест, в нетопленое место. Великий князь послал этому человеку его шубу и теплые сапоги. Между тем Павел вспомнил, что у него самого был гайдук, который носил ту же фамилию, как и этот камердинер. Он призвал его и спросил, не брат ли он арестованного?
— Да, — ответил гайдук.
— Твой брат негодяй, — сказал государь, — кто старше из вас, ты или твой брат?
— Мой брат, ваше величество.
— Ну, так теперь ты будешь старшим.
Этот анекдот разнесся по Петербургу, вызвал большие насмешки, и нашлись глупцы, которые прямо говорили, что в словах государя нет никакого смысла. Иностранцам оно действительно может так показаться. Но тот, кто знает, что Павел ввел в обычай различать нескольких братьев на службе не по имени, а по номерам: 1-й, 2-й, 3-й и т. д., не обращая внимания на то, 2-й моложе ли 1-го, тот сейчас поймет, что государь ничего другого не хотел сказать, как: «Теперь ты будешь на службе иметь старшинство перед твоим братом».
* * *
В другой раз, в Петергофе, Павел сидел в беседке. Два лакея, которые его не заметили, хотели пробраться чрез калитку и вдруг нашли ее заложенною.
— Кто приказал ее заложить? — спросил один из них.
— Кто же как не государь! — ответил другой. — Ведь он во все вмешивается.
Тут они употребили несколько неприличных выражений, которые вывели Павла из терпения. Он бросился на этих лакеев, исколотил их собственноручно и отдал их в солдаты. Как часто Петр Великий сам расправлялся своею дубиною!
* * *
Одного камердинера Павел однажды прижал к стене, требуя, чтоб он признался, что виноват. Чем чаще этот человек повторял: «В чем?», тем яростнее становился император, пока наконец тот не вскричал:
— Ну да, виноват!
Тогда Павел мгновенно выпустил его и, улыбаясь, сказал:
— Дурак, разве ты не мог сказать это тотчас же.
Чтобы правильно судить и об этом анекдоте, нужно бы знать наперед, не имел ли Павел основания ожидать, что камердинер его вспомнит о каком-нибудь проступке, хотя бы его ни в чем определительном и не обвиняли.
* * *
Следующий анекдот, слышанный мною от генерал-адъютанта графа Ливена, бросает на императора более мрачную тень, чем все предшествующие.
Одною из обязанностей графа было писать приказы; но так как он не хорошо произносил по-русски, то обыкновенно другой адъютант, молодой князь Долгоруков[106], должен был читать вслух как приказы, так и поступавшие русские рапорты. Однажды государь сидел в Павловске на балконе; по левую его сторону стоял граф Ливен, готовый писать, по правую князь Долгоруков, который вскрыл один рапорт и начал читать, но вдруг остановился и побледнел. «Дальше!» — вскричал император. Долгоруков должен был продолжать. Это была жалоба на его отца. Император улыбнулся и во время чтения несколько раз с злорадством подмигивал графу Ливену, чтобы обратить его внимание на смущение и страх Долгорукова. Когда это чтение было окончено, он взял письменную доску из рук графа и на этот раз заставил Долгорукова писать приказ, коим объявлялось повеление подвергнуть строжайшему исследованию обвинение, введенное на его отца.
Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:
Об императоре Павле принято обыкновенно говорить как о человеке, чуждом всяких любезных качеств, всегда мрачном, раздражительном и суровом. На деле же характер его вовсе был не таков. Остроумную шутку он понимал и ценил не хуже всякого другого, лишь бы только в ней не видно было недоброжелательства и злобы. В подтверждение этого мнения я приведу следующий анекдот.
В Гатчине насупротив окон офицерской караульной комнаты рос очень старый дуб, который, я думаю, и теперь еще стоит там. Это дерево, как сейчас помню, было покрыто странными наростами, из которых вырастало несколько веток. Один из этих наростов до того был похож на Павла с его косичкой, что я не мог удержаться, чтобы не срисовать его. Когда я вернулся в казармы, рисунок мой так всем понравился, что все захотели получить с него копию, и в день следующего парада я был осажден просьбами со стороны офицеров гвардейской пехоты. Воспроизвести его было нетрудно, и я роздал не менее тридцати или сорока копий. Несомненно, что при том соглядатайстве со стороны гатчинских офицеров, которому подвергались все наши действия, история с моим рисунком дошла до сведения императора. Будучи вскоре после этого еще раз в карауле, я от нечего делать занялся срисовыванием двух очень хороших бюстов, стоявших перед зеркалом в караульной комнате, из которых один изображал Генриха IV, а другой Сюлли. Окончив рисунок с Генриха IV, я был очень занят срисовыванием Сюлли, когда в комнату незаметно вошел император, стал сзади меня и, ударив меня слегка по плечу, спросил:
— Что вы делаете?
— Рисую, государь, — отвечал я.
— Прекрасно! Генрих IV очень похож, когда будет окончен. Я вижу, что вы можете сделать хороший портрет… Делали вы когда-нибудь мой?..
— Много раз, ваше величество.
Государь громко рассмеялся, взглянул на себя в зеркало и сказал:
— Хорош для портрета!
Затем он дружески хлопнул меня по плечу и вернулся в свой кабинет, смеясь от души.
Думаю, нельзя было поступить снисходительнее с молодым человеком, который нарисовал его карикатуру, но в котором он не имел повода предполагать какого-либо дурного умысла.
* * *
Как доказательство того уважения, которое император Павел питал к постановлениям военных судов, и его беспристрастия в деле правосудия можно привести следующий случай.
В первый год его царствования генерал-прокурором Сената был граф Самойлов, родственник некоего генерала Лаврова, женатого на сестре известного богача Демидова. Лавров был человек распутный, большой игрок и обременен долгами. Жена его была особа довольно легких нравов, обладала большим состоянием и находилась в связи с тремя офицерами нашего полка. Оставшись чрезвычайно довольна усердием и вниманием своих обожателей, генеральша выдала каждому из них по векселю в 30 тысяч рублей. Супруг, взбешенный тем, что такая значительная сумма ускользнула из его рук, подал прошение в Сенат, заявляя, что жена его идиотка, неспособная даже прочесть сумму, вписанную в текст векселя, на котором первоначально стояло 3000 рублей, и что лишний ноль на каждом из векселей был прибавлен ее любовниками, которых он, кстати, и обвинял в подлоге.
Сенат под влиянием генерал-прокурора Самойлова признал офицеров виновными в подлоге и приговорил к разжалованию. Приговор этот был представлен на утверждение государя; но последний, вместо того чтобы утвердить постановление Сената, велел созвать в нашем полку военный суд.
В качестве младшего члена полкового суда мне пришлось подавать свой голос первым, и я прежде всего предложил спросить генеральшу Лаврову, считает ли она сама эти три векселя подложными? Г-жа Лаврова прислала письменное заявление, в котором сообщала, что подлога нет, что она любит этих трех офицеров и желает сделать им подарок, а что муж ее лжец. Тогда я подал голос за то, чтобы офицеры были оправданы в подлоге, но были уволены из полка за поведение, недостойное дворянина. Военный суд единогласно принял это решение, приговор был представлен государю, который и утвердил его, отменив решение Сената и сделав сенаторам строгий выговор. Впоследствии эти три офицера неоднократно высказывали мне свою благодарность.
* * *
Во время одной из прогулок около четырех или пяти дней до смерти императора (в это время стояла оттепель) Павел вдруг остановил свою лошадь и, обернувшись к обер-шталмейстеру Муханову, ехавшему рядом с императрицей, сказал сильно взволнованным голосом.
— Мне показалось, что я задыхаюсь и у меня не хватает воздуха, чтобы дышать. Я чувствовал, что умираю… Разве они хотят задушить меня?
Муханов отвечал:
— Государь, это, вероятно, действие оттепели.
Император ничего не ответил, покачал головой, и лицо его сделалось очень задумчивым. Он не проронил ни единого слова до самого возвращения в замок.
Какое странное предостережение! Какое загадочное предчувствие! Рассказ этот мне сообщил Муханов в тот же вечер, причем прибавил, что он обедал при дворе и что император был более задумчив, чем обыкновенно, и говорил мало.
Из воспоминаний Николая Осиповича Кутлубицкого, записанных А. И. Ханенко:
В последнее время царствования императрицы Екатерины приезжал из Германии какой-то князь очень красивой наружности, по выражению Николая Осиповича, «как писаный», и помещен был во дворце. Цель его приезда была обратить на себя благосклонное внимание императрицы. К нему определен был для показания Петербурга чиновник Министерства иностранных дел. Сам ли князь Зубов или из угождения к нему другие успели искусною интригою повредить приезжему князю; несмотря на то, он, по-видимому, начинал нравиться императрице. В то время в Измайловском полку служил князь Щербатов[107], молодой человек пылкого нрава, иногда предававшийся увлечениям и шалостям своих лет. В театре, в первых рядах кресел, сидел немецкий князь с приставленным к нему чиновником. Рядом с надменным гостем занимал место упомянутый князь Щербатов, в кафтане, с модною в то время суковатою палкою. (Военным вне службы тогда позволено было ходить в статском платье.) В антракте Щербатов спросил по-французски своего соседа:
— Как вам нравятся, князь, наши русские актеры? — но, не получив ответа, повторил свой вопрос по-немецки.
Вместо ответа гордый иностранец, обратившись к своему приставу, сказал ему:
— Как дерзки у вас молодые люди! Они так смело навязываются со своими разговорами.
— Ах ты немецкая свинья! Я сам русский князь, — закричал вспыльчивый Щербатов и ударил своею палкою по лицу надменного немца.
Окровавленного, его увезли домой, но уже не во дворец, а в лучшую гостиницу, куда перевезли все его вещи. Встревоженный Зубов доложил тотчас же о случившемся неприятном происшествии и объяснил, что он считает теперь неприличным битого князя поместить во дворце и должен был для него приготовить другое помещение. На другой день императрица через Зубова послала ему табакерку с своим портретом и с изъявлением крайнего сожаления о случившемся. Князь, приняв с признательностью подарок императрицы, поблагодарил Зубова за случившееся с ним, намекнув, что он найдет время с ним рассчитаться, и уехал за границу.
Молодой Щербатов был отставлен из полка с запрещением въезжать в столицу. По восшествии на престол Павел Петрович вызвал его из деревни и определил в тот же полк с пожалованием чинами против сверстников. Князь Зубов, находясь за границей, получил от оскорбленного в России немецкого князя вызов на дуэль: тот, считая себя не вправе стреляться за Щербатова, переслал ему вызов. Императору было известно об этом, и когда князь Щербатов просился у него в отпуск за границу, то он приказал дать ему на дорогу пять тысяч рублей. Когда Щербатов по возвращении представлялся государю, он был очень доволен и спросил его: «Что, убил немецкую свинью?» На что тот отвечал утвердительно.
* * *
Однажды император Павел ехал по Петербургу, за его экипажем следовал верхом Кутлубицкий; он издали приметил карету, ехавшую навстречу государю. И так как в то время все экипажи… избегали встречи с государем, завидевши его, сворачивали в другие улицы, то Николаю Осиповичу пришло на мысль, что это какая-нибудь провинциальная. Когда карета поравнялась с государем, дверки отворились, и на ступеньках появилась дама, горбатая спереди и сзади. Государь хотел отвечать поклоном на ее приветствие: но он вдруг отворотился и надулся. Кутлубицкий, заметив неудовольствие государя, поспешил догнать экипаж и узнал у лакея об имени и месте жительства барыни. Императору понравилась расторопность Кутлубицкого. Он подозвал его рукой к себе и спросил:
— Что это за дама?
— Польская графиня такая-то.
— Зачем она сидела на ступеньках?
— Это так показалось вашему величеству, потому что она горбата спереди и сзади.
По возвращении во дворец государь приказал Кутлубицкому узнать, зачем приехала эта графиня в Петербург. Оказалось, что она имела значительный процесс в Сенате о поместье, состоявшем из нескольких тысяч душ, продолжавшийся уже лет десять. Она уже несколько раз, по приглашению своих знакомых, приезжает в Петербург для окончания этого дела; но, несмотря на обещания, оно все не оканчивается. Государь на другой день поутру послал Кутлубицкого к генерал-прокурору князю Куракину сказать, чтобы он не выпускал сенаторов из присутствия, пока они не кончат того процесса, и чтобы он сам привез к государю решение по оному.
Николай Осипович застал князя Куракина в уборной, окруженного обер-секретарями; они хотели удалиться, видя в нем посланника Павла, но он просил их остаться и при них передал приказание императора. Разумеется, дело было кончено в тот же день и в пользу графини.
Из жизнеописания Павла I, составленного Георгом Танненбергом:
Андрей Васильевич Гудович, бывший генерал-адъютант отца его [Павла], императора Петра III, по кончине сего государя жил в Малороссии в деревнях своих в покойной незнаемости частного человека в кругу некоторых только родственников своих. Едва миновались приготовления к коронованию [Павла I] и совершилось сие самое, как собственноручным, в самых благоволительных выражениях писанным императорским рескриптом приглашен был уединенный воин из тихого своего жилища ко двору. С разными чувствами оставил верный слуга покойного государя мирные поля, которые 35 лет были безмолвными свидетелями его горести и слез, пролитых в память добродетельного императора. Как скоро Павлу донесли о прибытии его в столицу, то вышел он в самые передние покои дворца своего навстречу ему, обнял его с тронутым и чувствительным сердцем, прижал к груди своей и оросил лицо его своими слезами. Потом повел его в покой свои, в котором был сходный портрет отца его Петра III, поставил сединою убеленного почтенного служителя его против него, возложил на него первый орден империи своей и, указывая на портрет отца своего, сказал ему: «Возложение сего ордена много бы потеряло без присутствия этого государя». Чувствам читателей предоставляю судить о взаимных ощущениях при сем случае.
Из «Записок» литератора Якова Ивановича Де-Санглена:
На Царицыном лугу учил император Павел Преображенский баталион А. В. Запольского. Баталион учился дурно. Император прогневался и прогнал его с плац-парада. Теперь, по приказанию, выходит из Садовой улицы, чрез бывший тогда мостик, баталион Семеновского полка графа Головкина. Едва император, у которого гнев еще не простыл, завидел этот баталион, как уже кричал: «Дурно, дурно!» Головкин, обратясь к баталиону, ободрял солдат словами: «Хорошо, ребята! хорошо». Император продолжал кричать: «Дурно, дурно!» Головкин повторял: «Хорошо, хорошо». А когда император прибавил: «Скверно, гадко!», Головкин скомандовал: «Стой! направо кругом марш!» и ушел с плац-парада, опять по Садовой улице. Император, обратившись к Палену, сказал:
— Что он делает? Воротите его!
Граф Пален нагоняет Головкина и приказывает ему от имени императора возвратиться.
— Доложите его величеству, — отвечал Головкин, — он прогневался на Преображенский баталион, мои солдаты идут исправно. Император кричит: «дурно», я: «хорошо!». Люди собьются, и в самом деле будет (не хорошо) дурно. Я нынче императору своего баталиона не покажу.
Как ни старался граф Пален его уговорить, но Головкин все шел с своим баталионом в казармы. Граф Пален возвратился и рассказал ответ Головкина.
— Тьфу! — вскричал император. — Какой сердитый немец[108]! Однако он прав! Да ведь и ты из немцев, помири нас, пригласи Головкина ко мне отобедать. […]
* * *
Вот еще анекдот, свидетельствующий об удивительной горячности государя и всегдашней готовности исправлять им самим испорченное. Павел Васильевич Чичагов, по обширным своим математическим сведениям, твердости характера и возвышенности духа, заслужил уже в первых чинах общее уважение флотских офицеров, независимо от того, что отец его, Василий Яковлевич, в царствование Екатерины с отличием командовал флотом, был полным адмиралом и кавалером орденов Св. Андрея Первозванного и Св. Георгия 1-й степени, что в то время ценилось очень высоко.
При восшествии императора на престол Павел Васильевич был уже несколько лет капитаном 1-го ранга; во флоте строго соблюдалось старшинство, и никто, разве за самый отличный подвиг, не мог опередить другого. Император призвал Баратынского и посадил Чичагову на голову. Может быть, Чичагов эту обиду и перенес бы, ибо один он был обижен; но когда отец его приехал из деревни в Петербург, чтобы лечиться от глазной боли и император приказал его выслать за то, что он приехал без особого на то дозволения, тогда Павел Васильевич подал в отставку и, получив оную, отправился к отцу в Шкловское их имение, пожалованное Екатериною. При императрице Екатерине русский флот действовал на морях соединенно с английским; император увидел пользу этого учреждения для флота и адресовался к английскому двору: не пожелает ли оный принять по-прежнему нашу эскадру и присоединить ее к своему флоту. Англичане, не отвергая сего предложения, желали прежде узнать, кто будет командовать эскадрою. На ответ, что, как и прежде, она будет послана под начальством вице-адмирала Ханыкова, английский флот просил заменить его П. В. Чичаговым, офицером ему известным и который отличился взятием с одним своим фрегатом «Венус» нескольких призов. Наш двор отвечал, что Чичагов в отставке и что, сверх того, он по своему чину не может командовать эскадрою. Ответ был, что в Англии поручают эскадры не по чинам, а по достоинству и что если нельзя прислать Чичагова, то больших успехов от присоединения русского флота ожидать нельзя. Немедленно отправлен в Шклов фельдъегерь с приказанием Чичагову поспешно приехать в Петербург для вступления в службу. Павел Васильевич дерзнул объяснить императору письменно, что он служить не может. Содержание этого письма, сколько помню, было следующее: «Русский дворянин служит единственно из чести, и служба его должна по справедливости обратить на себя внимание императора; что он никогда не уповает достигнуть до заслуженной славы отца своего; но невзирая на все заслуги старца, он был выслан его величеством из Петербурга, где хотел получить облегчение от глазной болезни. Долговременная усердная служба отца не уважена. Из чего же служить русскому дворянину? А потому, не имея в виду ничего лестного в будущем, он вступить в службу не желает». Тотчас отправлен был из Петербурга в Шклов другой фельдъегерь, с повелением привезти Чичагова в Петербург и представить его прямо государю. Забыл ли император о дерзком письме Чичагова или, желая скрыть гнев свой из уважения к отзыву Англии, только сперва принял он Чичагова милостиво, сообщил ему переписку с английским двором и предоставлял ему даже право носить английский мундир.
— Я русский, — отвечал Чичагов, — и кроме русского мундира никакого не надену; а какие причины не позволяют мне вступить в службу, имел я счастие представить вашему величеству в верноподданническом письме моем.
При этом воспоминании государь вышел из себя, с поднятою рукою пошел он грозно на Чичагова, который, отступая, сказал:
— Погодите, государь. Не унижайте того (указывая на орден Св. Георгия), что заслужено кровью. — И, сняв с себя ордена Св. Георгия и Владимира и золотую шпагу за храбрость, прибавил; — Теперь можете забавляться.
Это еще пуще взорвало государя. Он бросился на Чичагова, ругал, бил его немилосердно, оборвал мундир, камзол и, уставши, старался вытолкать его в двери. Но Чичагов держался за фалду императорского сюртука. Они оба вошли в комнату, где стояли А. А. Нарышкин, граф Кушелев, Обольянинов и Кутайсов.
— Извините, — сказал им Чичагов, — он меня оборвал.
Государь толкнул его еще раз и с гневом вскричал:
— В крепость его!
Чичагов, обратясь к государю, сказал:
— Прошу книжник мой с деньгами поберечь, он остался в боковом кармане мундира.
Нарышкин дал Чичагову свой плащ, его посадили в карету и отвезли в Алексеевский равелин[109]. Император Павел был только горяч, но, имея сердце добрейшее, не знал злости, коварства и мщения. Первая минута его гнева была страшна; во вторую следовало раскаяние. Он стыдился, даже сердился на собственную запальчивость. Когда он успокоился, то приказал отвести Чичагову в крепости лучшую квартиру, доставлять ему все, что потребует, и позволить ему иметь при себе людей своих и вещи. На другой день отправил государь рескрипт к старику отцу его, адмиралу, жалуясь на упорство сына и изъявляя желание, чтобы он приказал ему служить. Старик адмирал отсылает царский рескрипт сыну, подписав под оным: «Забудь, сын мой, обиды, нанесенные отцу твоему, и если служба твоя нужна отечеству, то повинуйся воле царя». Павел Васильевич, получив этот рескрипт с подписью отца, написал под нею карандашом: «Сын повинуется отцу» и отправил рескрипт императору.
— Добрый сын не может быть дурным подданным, — сказал государь графу Кутайсову, и Чичагов привезен был к императору прямо из крепости.
— Забудем старое, — сказал Павел Чичагову, — мы оба горячи, и оба исправимся.
Павел Васильевич Чичагов пожалован был в контр-адмиралы со старшинством, получил орден Св. Анны 1-й степени и назначен в Англии командующим эскадрою.
Из «Путешествия в Петербург» Жана Франсуа Жоржеля:
Граф Панин [Петр Иванович] резко разошелся во взглядах с графом Ростопчиным по чрезвычайно важному вопросу. Надо было склонить Павла I к такому шагу, который должен был прославить его имя; граф Ростопчин противился этому. Граф Панин, видя, что его доводы не могут увлечь министра, попросил его довести свое мнение до сведения императора. Граф Ростопчин отказался. «Не отказывайтесь по крайней мере, — говорил граф Панин, — передать ему доклад, который я представлю вам по этом предмету, так как дело идет о славе нашего государства». Министр упорствовал в своем мнении и в своем отказе. Граф Панин, будучи в качестве вице-канцлера лишен возможности говорить с императором и писать ему без особого приглашения или приказания с его стороны, вернулся домой, составил доклад, послал его прямо Павлу I с прошением об отставке и предупредил об этом графа Ростопчина. Отставка делала его снова простым подданным, и он получал право, предоставленное всякому русскому, обращаться с письменным докладом непосредственно к императору. Павел I отнесся одобрительно к этому маневру и, увлеченный вескими доводами его доклада, склонился к мнению графа Панина; он послал ему назад прошение об отставке и выразил ему затем свою монаршую милость. отдан сыну графа Палена. Это приказание должно было быть передано великим князем Константином, который, полагая, что он отдал его графу Палену, забыл о нем. Тот берет вину на себя, идет к императору, признается ему в своей небрежности, говорит, что виноват он один, и умоляет его императорское величество вернуть полк герцогу Ришелье, прибавляя, что он был бы в отчаянии, если бы его сын извлек для себя пользу из немилости, единственной причиной которой был он. Павел I, очарованный этим поступком, вернул герцогу Ришелье его должность и вознаградил сына графа Палена.
Из «Записок» Александра Александрович Башилова:
Из Могилева поехали в Минск, и здесь весьма замечательно — доброе сердце государя Павла Петровича: мы несемся по большой дороге, и вдруг видим на коленях молодую барышню и молодого мужчину. Государь остановил коляску, сейчас вышед, подошел к барышне, которая лицом была очень хороша, приказал ей встать, а также и молодому человеку, испросил: что ей надобно. Девушка, бывши знатной фамилии и богатая, любила этого молодого человека, но как он был беден, то мать не хотела выдать [за него] свою дочь. Юная девушка, узнавши, что государь изволит проехать, решилась его утруждать. Государь дал слово, сейчас велел достать шкатулку, написал к матери и принялся за сватовство. Запечатавши письмо, приказал фельдъегерю отвезти и привезти ответ. Поместье этой старухи отстояло от большой дороги версты 3 или 4, сколько помню; а между тем отпустил и влюбленную чету. Вы можете себе представить, каков был сват и каков был ответ. Государь радовался, что случай подал ему возможность сделать двух счастливыми.
Ежели государь был в духе, он характера был самого веселого, прекрасно говорил и память имел необыкновенную. Теперь расскажу вам одну из его шуток, которая случилась на одном ночлеге по Минской дороге, а именно в селении Лядах. Великий князь Константин Павлович исправлял должность коменданта; он всегда ложился почивать последний, потому что расставлял посты, а между тем государь Павел Петрович и великие князья Александр и Константин почивали все в одной спальне. Вот Константин Павлович всегда входил в спальню и, заметив свою постель, всегда от нее отходил к дверям и обратно к постели, дабы заметить направление и не ошибиться постелью, чтоб не испугать государя.
Граф Кутайсов доложил об этом государю; но надобно заметить, что в почивальне государя не было огня; вот почему и нужно было, входя в спальню, видеть, куда идти нужно — прямо, или направо, или налево. Государь был очень весел за ужином и наконец пошел почивать, но вместо своей постели лег на постель Константина Павловича. Граф Кутайсов спрятался в другую комнату, и казалось все тихо. Великий князь, раздевшись потихоньку, входит в спальню и по вытверженному направлению идет к своей постели, дотрогивается и видит, что тут почивает государь. Великий князь возвратился к дверям и стал в ужасном недоумении, куда ему идти и как бы не испугать родителя; но помня направление свое, решился опять идти, и как подошел к постели, то государь, будто проснувшись, спросил: «Кто тут?» Великий князь оробел, но отозвался, и в ту минуту отворилась дверь и Кутайсов вошел со свечами. Посудите смятение великого князя Александра Павловича. Происшествие сие было рассказано на другой день.
Какой был контраст иногда с сердитым видом государя Павла Петровича, а после с веселостью непринужденною и любезностью действительно очаровательною! Стало быть, человек в расположении своего характера не может дать себе отчета.
Из «Записок» Александра Николаевича Вельяминова-Зернова:
Кстати рассказать анекдот, доказывающий, как многим известен был заговор. Какой-то екатерининский вельможа… смиренно жил в доме своем на Царицыном лугу. У него ежедневно был съезд родных, так что всегда человек до 20-ти садилось за стол. 11-го марта один из его внуков, камер-юнкер тогдашнего двора, молодой взбалмошный повеса, сидя за ужином, около полуночи, безотвязно просил у своего дедушки шампанского; тот долго не хотел исполнить его просьбы, но наконец согласился. Когда налито было шампанское, молодой человек, часто поглядывая на часы, наконец схватил бокал и громко возгласил: «Поздравляю вас с новым государем!» Все вскрикнули в один голос и разбежались по внутренним комнатам. Повеса остался один и, не дождавшись ничьего возвращения, уехал.
Через несколько часов предсказание его оправдалось. Графиня, бывшая свидетельницей, прибавляла, что этот молодой камер-юнкер, по ветреному своему характеру и болтливому языку, никак не мог быть в числе заговорщиков, а вероятно, знал это только по слуху.
Предсказание Инока Авеля
Из беседы Авеля, инока Александро-Невской лавры, с императором Павлом I:
Коротко будет царствование твое, и вижу я, грешный, лютый конец твой. На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей. В Страстную субботу погребут тебя… Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить добрую память твою… Но народ русский правдивой душой своей поймет и оценит тебя и к гробнице твоей понесет скорби свои, прося твоего заступничества и умягчения сердец неправедных и жестоких. Число лет твоих подобно счету букв изречения на фронтоне твоего замка, в коем воистину обетование и о Царственном Доме твоем: «Дому твоему подобаетъ твердыня Господня въ долготу дней»…
Молитва о Павле I
Упокой, Господи, душу убиенного раба Твоего императора Павла Первого и его молитвами даруй нам в дни сии, лукавые и страшные, в делах мудрость, в страданиях кротость и душам нашим спасение Твое.
Призри, Господи, на верного Твоего молитвенника за сирых, убогих и обездоленных, императора Павла, и молитвам его святым, подай, Господи, скорую и верную помощь просящим через него у Тебя, Боже наш! Аминь!
Основные даты жизни императора Павла I
1754. 20 сентября. Родился великий князь Павел Петрович.
1760. 29 июня. Главным воспитателем при великом князе назначается генерал-поручик, камергер Никита Иванович Панин.
1761. 25 декабря. Кончина императрицы Елизаветы Петровны. На престол вступает Петр III.
28 июня. Государственный переворот в пользу вступившей на престол императрицы Екатерины Алексеевны.
6 июля. Гибель Петра III.
22 сентября. Коронация Екатерины II в Москве.
1766. 20 января. Отставка любимого учителя юного Павла Петровича, преподавателя математики и воспитателя С. А. Порошина.
1773. 29 сентября. Женитьба великого князя Павла Петровича на Гессен-Дармштадтской принцессе Вильгельмине-Луизе (в православии Наталье Алексеевне). Отстранение Н. И. Панина от должности наставника великого князя.
1776. 15 апреля. Великая княгиня Наталья Алексеевна скончалась при родах. Младенца спасти не удалось.
26 апреля. Погребение Натальи Алексеевны в Александро-Невском монастыре.
15 сентября. Обручение Павла Петровича с немецкой принцессой Вюртембергской Софией Доротеей (в православии Марией Федоровной).
26 сентября. Бракосочетание Павла Петровича и Марии Федоровны.
1777. 12 декабря. Рождение великого князя Александра Павловича.
1779. 27 апреля. Рождение великого князя Константина Павловича.
1781. 19 сентября. Начало путешествия в Европу графа и графини Северных (Павла Петровича и Марии Федоровны).
1782. 30 ноября. Возвращение в Санкт-Петербург.
1783. 31 марта. Скончался любимый наставник и друг Павла Петровича Н. И. Панин.
28 июля. Рождение великой княжны Александры Павловны.
1784. 13 декабря. Рождение великой княжны Елены Павловны.
1786. 4 февраля. Рождение великой княжны Марии Павловны.
1787. 9 сентября. Манифест о начале войны с Турцией. Екатерина II не позволяет Павлу Петровичу выехать к театру военных действий.
1788. 30 июля. Манифест о начале войны со Швецией. Цесаревич Павел Петрович выезжает в действующую армию, оставив письменные завещания жене и детям.
1792. 11 июля. Рождение великой княжны Ольги Павловны.
1796. 25 июня. Рождение великого князя Николая Павловича.
6 ноября. Кончина Екатерины II. Вступление на престол Павла I.
18 декабря. Торжественное погребение в Петропавловском соборе останков Екатерины II и императра Петра III.
1797. 4 января. Император Павел I принимает под свое покровительство орден Мальтийских рыцарей.
26 февраля. Начало строительства Михайловского замка.
1797. 5 апреля. Коронация Павла I и его жены Марии Федоровны. Обнародован закон о престолонаследии.
3 мая. Поездка Павла I с великими князьями Александром и Константином по западноевропейской России.
29 мая. Возвращение из поездки по России.
1798. 28 января. Рождение великого князя Михаила Павловича.
5 мая. Павел I с сыновьями посещает центральную Россию.
11 июля. Возвращение из поездки по центральной России.
29 ноября. Император Павел I принял на себя достоинство великого магистра Мальтийского ордена.
1799. 25 января. Введение в ряде губернии должности фискала.
29 октября. Фельдмаршал А. В. Суворов возводится в ранг генералиссимуса российских войск.
1800. 20 апреля. Возвращение А. В. Суворова в Санкт-Петербург.
6 мая. Кончина А. В. Суворова.
8 ноября. День святого архистратига Михаила. Освящение Михайловского замка.
4–6 декабря. Подписание договора между Россией, Пруссией, Швецией и Данией, фактически означающего начало войны с Англией.
1801. 18 января. Манифест о добровольном присоединении Грузии к России.
1 февраля. Императорская семья переезжает в Михайловский замок.
11 марта. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. император Павел I убит заговорщиками в своей спальне в Михайловском замке.
Указатель имен
Авель (в миру Василий Васильев; 1757–1841) — инок Александро-Невской лавры, прославившийся своими пророчествами.
Александр Павлович (1777–1825) — великий князь, старший сын Павла Петровича (Павла I) и Марии Федоровны. В 1801–1825 гг. император всероссийский Александр I.
Александра Павловна (1773–1801) — великая княжна, старшая дочь Павла Петровича (Павла I) и Марии Федоровны. С октября 1799 г. жена эрцгерцога австрийского Иосифа, палатина (владетельного князя) венгерского. Скончалась от послеродовой горячки за неделю до убийства отца.
Алексей Петрович, царевич (Алексей Петрович Романов; 1670–1718) — старший сын Петра I от первого брака с Евдокией Лопухиной. Сложные отношения с отцом привели к тому, что в 1718 г. лишен права на престолонаследие, предан суду и осужден на смерть как государственный изменник.
Алымова Глафира Ивановна (1758–1826) — фрейлина, статс-дама Екатерины II.
Андреевский — корнет, дежурный по внутреннему караулу в Михайловском замке от Конного лейб-гвардии полка 11 марта 1801 г.
Анна Павловна (1795–1865) — великая княжна, младшая дочь Павла Петровича (Павла I) и Марии Федоровны. В 1810 г. ее руки просил Наполеон, получивший дипломатичный отказ. С 1816 г. жена наследного принца Нидерландов и Люксембурга Вильгельма Оранского, впоследствии короля Нидерландов Вильгельма II. В 1840–1849 гг. королева Нидерландов.
Анна Федоровна (1781–1860) — великая княгиня, жена Константина Павловича; в 1801 г. оставила мужа, оформив официальный развод.
Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) — граф, государственный и военный деятель, генерал от артиллерии; верный соратник Павла I.
Аргамаков Алексей Васильевич — в 1801 г. адъютант лейб-гренадерского батальона Преображенского полка, несшего караул в Михайловском замке; имел полномочия для доклада императору; брат Александра Аргамакова, племянник Д. И. Фонвизина. Петербургский исследователь М. М. Сафонов доказывает, что именно он, пользуясь своим положением, помог заговорщикам проникнуть в Михайловский замок и далее — в спальню императора Павла I.
Архаров Николай Петрович (1740–1814) — гражданский генерал-губернатор Санкт-Петербурга.
Архимед (ок. 278–212 до н. э.) — величайший древнегреческий математик и механик.
Ассебург Ахац Фердинанд (1721–1797) — немецкий барон, граф, дипломат; на русской службе с 1771 г. в качестве действительного тайного советника. По распоряжению Екатерины II выполнял миссию выбора невесты для великого князя Павла Петровича, закончившуюся женитьбой наследника на принцессе Вильгельмине Гессен-Дарм-штадтской (Наталье Алексеевне).
Багратион Петр Иванович (1765–1812) — князь, уроженец Грузии, генерал от инфантерии, талантливый российский военачальник.
Бакунин Петр Васильевич (1732–1786) — первый член российской Коллегии иностранных дел.
Баратынский Богдан Андреевич (1769–1820) — адмирал, генерал-адъютант (1797), с 1799 г. командовал эскадрой на Балтийском море, с 1805 г. в отставке.
Барятинский Иван Сергеевич (1740–1811) — князь, дипломат; в 1773–1785 гг. русский посланник в Париже.
Барятинский Федор Сергеевич (1742–1814) — князь, обер-гофмаршал, камергер.
Башилов Александр Александрович (1777–1849) — выпускник Пажеского корпуса, в 1793 г. определен в пажи ко двору Екатерины II; генерал-майор, тайный советник.
Башомон Луи — житель Парижа в 1780-е гг.
Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) — князь, блестящий дипломат, выдающийся государственный деятель.
Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745–1826) — граф, генерал от кавалерии; с 1773 г. на русской службе; участник заговора против Павла I и убийства императора.
Бецкой Иван Иванович (1704–1795) — государственный и общественный деятель, личный секретарь Екатерины II.
Бибиков Александр Александрович (1765–1822) — камергер, дипломат, тайный советник.
Богуш-Сестренцевич Станислав (1731–1826) — первый митрополит всех римско-католических церквей в России, член Российской академии.
Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833) — поручик в отставке (с 1762), помещик Тульской губернии, сочинитель.
Бренна Викентий Францевич (Винченцо; 1745–1820) — архитектор, художник-декоратор.
Бре Франц Габриель де (1765–1832) — граф, рыцарь Мальтийского ордена, дипломат.
Бретель де — граф, государственный и дипломатический деятель Франции во второй половине XVIII в.
Брокман Иоганн Франс Иероним (1754–1812) — знаменитый немецкий актер, приобрел известность исполнением роли Гамлета; с 1789 по 1791 г. директор придворного Венского театра.
Бутурлин Александр Борисович (1694–1767) — генерал-фельдмаршал.
Вадковский Федор Федорович (1764–1806) — камергер Екатерины II, сенатор, действительный тайный советник.
Валуев Петр Степанович (1743–1814) — обер-церемониймейстер, тайный советник.
Васильчиков Илларион Васильевич (1775/1776–1847) — князь, русский военачальник, в 1801 г. генерал-майор.
Вельяминов-Зернов Александр Николаевич — гвардейский офицер, в отставке с 1799 г., сенатор. Тщательно собирал известия о заговоре и о кончине Павла I.
Вильде Иван Иванович (1753–1803) — генерал-лейтенант артиллерии.
Виолье, он же Вуаль (ум. 1796) — французский актер, живописец.
Висковатов Александр Васильевич (1804–1858) — русский военный историк.
Владиславова Прасковья Никитична — камер-фрау великой княгини Екатерины Алексеевны (будущей Екатерины II).
Волконский Петр Михайлович (1776–1852) — светлейший князь, генерал-фельдмаршал, министр императорского двора и уделов; адъютант великого князя Александра Павловича.
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ; 1694–1778) — французский писатель, философ, историк.
Воронцов Михаил Илларионович (1714–1767) — граф, государственный канцлер.
Воронцов Семен Романович (1744–1832) — граф, генерал от инфантерии, дипломат.
Воронцова Елизавета Романовна (1739–1792) — графиня, фрейлина, фаворитка Петра III.
Вюртембергский Евгений (1788–1857) — герцог Вюртембергский, племянник императрицы Марии Федоровны.
Гавриил (Петр Петрович Петров-Шапошников; 1730–1801) — митрополит с 1783 г. В 1774 г. архиепископ Санкт-Петербургский и Ревельский, священноархимандрит Александро-Невской лавры.
Гагарин Павел Гаврилович (1777–1850) — князь, генерал-адъютант, генерал-майор.
Гаррис Мальсбюри Джеймс (1746–1820) — английский дипломат.
Гейкинг Карл Генрих (1751–1809) — государственный деятель; на русской службе с 1777 г.
Генрих III (1551–1589) — 28-й король Франции.
Генрих IV Наваррский (1553–1610) — 29-й король Франции (1589–1610).
Георг III Вильгельм Фридрих (1738–1820) — английский король; страдал тяжелым психическим заболеванием.
Герман Иван Иванович (ок. 1740–1801) — саксонец на русской службе, генерал от инфантерии; при императоре Павле I состоял в должности генерал-квартирмейсгера; в 1799 г. командовал десантом англо-русской экспедиции, посланной в Голландию, где потерпел поражение и был пленен.
Гиз Генрих (Анри) Меченый (1550–1588) — герцог, французский военный и государственный деятель, один из зачинщиков Варфоломеевской ночи; вероломно убит по приказанию короля Генриха III в замке Блуа.
Голицын Александр Михайлович (1723–1807) — князь, дипломат, вице-канцлер.
Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844) — светлейший князь, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
Голицын Николай Алексеевич (1751–1809) — обер-шталмейстер, дипломат.
Голицын Федор Николаевич (1751–1827) — князь, камергер при дворе Екатерины II, сенатор, дипломат; в царствование Павла I — куратор Московского университета.
Головина Варвара Николаевна (урожд. Голицына; 1766–1819) — графиня, с 1783 г. фрейлина Екатерины И, в 1801–1802 гг. — императрицы Елизаветы Алексеевны.
Головкин Петр Гаврилович (1768–1821) — граф, обер-гофмейстер.
Головкин Федор Гаврилович (1766–1823) — граф, дипломат, церемониймейстер двора в 1796–1799 гг.
Гомпеш Фердинанд фон — барон, великий магистр Мальтийского ордена Св. Иоанна Иерусалимского.
Гонзага Пьетро ди Готтардо (Петр Федорович; 1726–1801) — художник-декоратор, автор декораций для коронации Павла I.
Горчаков Андрей Иванович (1779–1855) — князь, русский полководец, генерал от инфантерии; в 1797 г. в звании полковника состоял флигель-адъютантом Павла I.
Гранже Пьер — танцовщик, балетмейстер. С 1762 г. состоял при петербургской придворной балетной труппе.
Гревенитц — барон, государственный деятель.
Гримм Фридрих Мельхиор (1723–1807) — барон, немецкий публицист, критик, дипломат, корреспондент Екатерины II.
Гудович Андрей Васильевич (1731–1808) — генерал-адъютант Петра III.
Гунинг Р. — английский дипломат.
Дармштадтская Генриетта Каролина — ландграфиня, мать первой жены великого князя Павла Петровича, Натальи Алексеевны (принцессы Вильгельмины Луизы Дармштадтской).
Дашкова Екатерина Романовна (в девичестве Воронцова; 1743–1810) — княгиня, участница дворцового переворота 1762 г.; во время правления Павла I находилась в ссылке.
Демидовы — русская династия промышленников, предпринимателей, землевладельцев.
Демут Филипп Якоб (ум. 1802) — владелец комфортабельной гостиницы на наб. реки Мойки (знаменитый Демутов трактир).
Депрерадович Николай Иванович (1767–1843) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В 1800 г. командир лейб-гвардии Семеновского полка.
Де-Санглен Яков Иванович (1776–1864) — переводчик, писатель.
Дибич Иван Иванович (Ганс Эренфрид; 1737–1822) — потомок древнего рыцарского рода; на русской службе с 1792 г., генерал-майор, наставник принца Евгения Вюртембергского в России.
Димсдаль Томас (1712–1800) — барон, английский врач, вызванный Екатериной II из Лондона для проведения в России прививок от оспы.
Долгоруков Василий Юрьевич (1776–1810) — прапорщик (1789), полковник (1798), генерал (1801).
Долгоруков Петр Петрович (1777–1806) — князь, генерал-адъютант.
Долгоруков Юрий Владимирович (1740–1830) — князь, генерал-аншеф, генерал от инфантерии, московский военный губернатор.
Дюваль Александр (1767–1842) — французский драматург, пишущий на исторические темы.
Екатерина II Великая (1729–1796) — российская императрица (с 1762); проводила политику просвещенного абсолютизма.
Екатерина Павловна (1788–1819) — великая княжна, дочь Павла Петровича (Павла I) и императрицы Марии Федоровны. В 1808 г. императору Александру I со стороны Франции поступило предложение о ее браке с Наполеоном, которое было отвергнуто и Екатериной, и Марией Федоровной. С апреля 1809 г. жена принца Георга Ольденбургского; с 1812 г. вдова. С 1816 г. жена наследного принца Вильгельма Вюртембергского, впоследствии короля Вюртемберга.
Елена Павловна (1774–1803) — великая княжна, вторая дочь Павла Петровича (Павла I) и Марии Федоровны. С октября 1799 г. жена герцога Фридриха Людвига Мекленбург-Шверинского. Скончалась в молодом возрасте от чахотки.
Елизавета Алексеевна (в девичестве Луиза Мария Августа Баденская; 1779–1826) — великая княгиня, с 1801 г. императрица, жена русского царя Александра I.
Жеребцова Ольга Александровна (1766–1849) — сестра братьев Зубовых, участница заговора.
Жоржель Жан Франсуа — аббат, секретарь посольства Великого Германского приорства Мальтийского ордена в Санкт-Петербурге.
Загряжская Наталия Кирилловна (1747–1837) — светская львица, которую впоследствии называли в числе прототипов пушкинской Пиковой дамы.
Запольский Андрей Васильевич (1768–1813) — с 1799 г. полковник Преображенского полка, генерал-майор.
Зотов Захар Константинович (1755–1802) — камер-фурьер Екатерины II.
Зубов Валериан Александрович (1771–1804) — русский военачальник, выдвинулся при дворе Екатерины II по протекции брата П. А. Зубова.
Зубов Николай Александрович (1763–1805) — русский военачальник, ученик и зять А. В. Суворова, по некоторым сведениям, непосредственный убийца Павла I.
Зубов Платон Александрович (1767–1822) — светлейший князь, русский государственный деятель, последний фаворит Екатерины II.
Иосиф И Австрийский (1741–1790) — король Германии, император Священной Римской империи.
Йоркский Фредерик (1763–1827) — герцог, фельдмаршал британской армии. В 1799 г. командовал экспедиционным корпусом в Голландии, где потерпел неудачу.
Кадиш — французская актриса Императорского театра в составе знаменитой французской театральной труппы Шарля де Сериньи.
Кампенгаузен Балтазар Иванович (1746–1808) — барон, обер-егермейстер.
Канциани Джузеппе — итальянский балетмейстер, преподаватель танцев. В 1779–1782 и 1784–1891 гг. работал в Санкт-Петербурге.
Капцевич Петр Михайлович (1772–1840) — артиллерист, в 1792 г. поручик Гатчинской артиллерийской команды, в 1797 г. полковник, генерал-майор. Пользовался особым расположением Павла I.
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — русский историк, писатель, поэт, почетный член Петербургской академии наук (1818).
Карл XII (1682–1718) — король Швеции, полководец; главный противник Петра I в Северной войне 1700–1721 гг.
Катон Марк Порций (234 — ок. 148 до н. э.) — древнеримский политик, полководец, писатель.
Качалов Потап Гаврилович (1709–1767) — корабельных дел мастер.
Клингер Федор Михайлович (1752–1831) — немецкий поэт и драматург; на русской службе с 1780 г., генерал-лейтенант.
Коаньи де — герцог, придворный свиты французского двора в 1780-х гг.
Кобенцль Людвиг фон (1753–1809) — граф, австрийский дипломат, государственный деятель.
Козицкий — статс-секретарь, дальний родственник Зубовых.
Константин Павлович (1779–1831) — великий князь, второй сын Павла Петровича (Павла I) и Марии Федоровны, участник походов А. В. Суворова в 1799 и 1800 гг., Отечественной войны 1812 г.; с 1814 г. наместник Царства Польского.
Корф Иоганн Альбрехт (1697–1766) — барон, президент Петербургской академии наук, собиратель библиотеки, приобретенной для наследника Павла Петровича.
Костюшко Тадеуш (1745/1746–1823) — польский политический и военный деятель, руководитель потерпевшего поражение национально-освободительного польского восстания 1794 г. Пленен русскими войсками, содержался в Санкт-Петербурге под арестом. Освобожден Павлом I в 1796 г. Остаток жизни провел в эмиграции.
Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761–1819) — немецкий писатель, драматург, романист. По распоряжению Павла I составлял описание Михайловского замка.
Кочубей Виктор Павлович (1768–1834) — граф (1799), князь (1831), российский государственный деятель, дипломат.
Крылов — обер-гоффурьер Павла I.
Куракин Александр Борисович (1752–1818) — князь, воспитанник Н. И. Панина, участник детских забав юного Павла Петровича; дипломат, вице-канцлер.
Кутайсов Иван Павлович (1759–1834) — граф, царедворец турецкого происхождения, фаворит Павла I; начал карьеру в качестве парикмахера и брадобрея великого князя Павла Петровича.
Кутлубицкий (Котлубицкий) Николай Осипович (1775?-1849) — любимый адъютант великого князя Павла Петровича, флигель-адъютант, комендант Михайловского замка.
Кутузов Михаил Илларионович (1745?-1813) — прославленный русский полководец, генерал-фельдмаршал (с 1812), светлейший князь (с 1812), герой Отечественной войны 1812 г., полный кавалер ордена Св. Георгия.
Кушелев Григорий Григорьевич (1754–1833) — граф, адмирал, командир гатчинской эскадры.
Лавров Николай Иванович (1761–1813) — генерал, участник Итальянского и Швейцарского походов А. В. Суворова.
Лагарп Фридрих Цезарь (1754–1838) — швейцарец, наставник великого князя Александра Павловича.
Ланжерон Александр Федорович (1763–1831) — граф, генерал-лейтенант, французский офицер на русской службе.
Лантини — преподавательница танцев и хороших манер в Смольном институте благородных девиц.
Леберехт Карл Александрович (1755–1827) — медальер и гравер на твердом камне, главный медальер Санкт-Петербургского монетного двора.
Левашов Василий Иванович (1740?-1804) — командир Семеновского полка, генерал-поручик, с 1797 г. генерал от инфантерии, затем действительный тайный советник, кавалер ордена Иоанна Иерусалимского (1799), посол в Неаполе (1800).
Леопольд Пьетро I (1747–1792) — великий герцог Тосканский, основатель академии изящных искусств во Флоренции; с 1790 г. император Священной Римской империи.
Ливен Дарья Христофоровна (урожд. Бенкендорф; 1785–1857) — княгиня, жена X. А. Ливена: знаменитая светская львица первой половины XIX в., тайный агент русского правительства в Лондоне и Париже.
Ливен Христофор Андреевич (1777–1838) — барон, граф, светлейший князь, генерал от инфантерии, российский государственный и военный деятель, дипломат, муж Д. X. Ливен.
Ливен Шарлотта Карловна (1743–1828) — баронесса, статс-дама, воспитательница дочерей Павла Петровича, обер-гофмейстерина императрицы Марии Федоровны.
Литта Юлий Помпеевич (1763–1839) — граф, полномочный министр Мальтийского ордена при русском дворе, наместник Павла I — великого магистра ордена.
Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824–1896) — государственный деятель, дипломат, историк, писатель.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) — великий русский ученый, поэт, просветитель.
Лопухин Иван Владимирович (1756–1816) — советник, председатель Уголовной палаты.
Лопухин Павел Петрович (1788–1873) — князь, генерал-майор; в 1800 г. поручик, кавалер ордена Св. Иоанна Иерусалимского (1798). Свои воспоминания «о старине» явно черпал из рассказов отца, П. В. Лопухина.
Лопухин Петр Васильевич (1753–1827) — государственный деятель, особо приближенный ко двору Павла I в качестве министра юстиции, председателя Государственного совета и Комитета министров. Отец фаворитки императора А. П. Лопухиной (в замужестве Гагариной).
Лопухина Анна Петровна (в замужестве Гагарина; 1777–1805) — светлейшая княжна, фаворитка Павла I.
Людовик XIV (1638–1715) — 31-й король Франции (1643–1715). Носил титул Король-солнце.
Людовик XVI (1754–1793) — 33-й король Франции (1774–1792), из династии Бурбонов. Отличался нерешительностью в вопросах внешней и внутренней политики. Годы правления пришлись на Великую французскую революцию, казнен революционным правительством.
Мансуров Павел Дмитриевич (1726–1801?) — генерал-майор.
Марин — подпоручик, 11 марта 1801 г. командир внутреннего караула от Гренадерского батальона Преображенского полка.
Мария Павловна (1786–1859) — великая княжна, старшая дочь Павла Петровича (Павла I) и Марии Федоровны.
С октября 1803 г. жена наследного принца Саксен-Веймарского Карла Фридриха.
Мария Федоровна (в девичестве София Доротея Вюртембергская; 1759–1828) — великая княгиня, императрица, жена русского императора Павла I.
Мекленбургский Карл Август Христиан (Мекленбург-Шверинский; 1782–1833) — принц, на русской службе с 1798 г.; с 1800 г. генерал-майор; российский военачальник эпохи наполеоновских войн.
Мирович Василий Яковлевич (1740–1764) — офицер, состоял в караульной команде Шлиссельбургской крепости.
Предпринял попытку освободить заключенного в ней императора Ивана VI Антоновича, в результате которой Иван Антонович был убит тюремщиками, а Мирович арестован и впоследствии казнен.
Михаил Павлович (1798–1849) — великий князь, сын Павла I и Марии Федоровны. Единственный ребенок Павла, родившийся после его воцарения.
Мордвинов Семен Иванович (1701–1767) — адмирал российского флота.
Мусин-Пушкин Алексей Иванович (1744–1817) — граф, государственный деятель, коллекционер.
Муханов Сергей Ильич (1762–1842) — генерал-адъютант, обер-шталмейстер.
Муханова Мария Сергеевна (1803–1882) — фрейлина высочайшего двора, дочь С. И. Муханова.
Наполеон I Бонапарт (1769–1821) — французский полководец, император.
Нарышкин Александр Львович (1760–1826) — камергер Павла Петровича, обер-гофмаршал.
Нарышкина Мария Алексеевна (1762–1822) — жена обер-гофмаршала А. Л. Нарышкина.
Наталья Алексеевна (урожд. Вильгельмина Луиза Гессен-Дармштадтская; 1755–1776) — великая княгиня, первая жена великого князя Павла Петровича.
Нелидова Екатерина Ивановна (1758–1839) — фрейлина великой княгини Марии Федоровны.
Николай Павлович (1796–1855) — великий князь, сын Павла Петровича (Павла I) и Марии Федоровны. В 1825–1855 гг. император всероссийский Николай I.
Обольянинов Петр Христофорович (1752–1841) — генерал от инфантерии, генерал-прокурор, первый начальник Гатчинского гарнизона.
Ольга Павловна (1792–1795) — великая княжна, дочь Павла Петровича (Павла I) и Марии Федоровны. Единственный ребенок великокняжеской четы, скончавшийся в младенчестве.
Орлов Алексей Григорьевич (Чесменский; 1737–1807/ 1808) — граф, российский полководец.
Орлов Василий Петрович (1745–1801) — генерал от кавалерии, атаман войска Донского.
Орлов Григорий Григорьевич (1734–1783) — граф, военный и государственный деятель, фаворит Екатерины II.
Остервальд Христиан Дитрих (Тимофей Иванович; 1729–1794) — учитель великого князя Павла Петровича.
Остерман Иван Андреевич (1725–1811) — граф, тайный советник, государственный канцлер, сенатор.
Павел I (1754–1801) — русский император с 1796 по 1801 г.
Пален Петр Алексеевич (1745–1826) — барон, граф, генерал от инфантерии, военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга, организатор и участник заговора против Павла I.
Панин Никита Иванович (1718–1783) — граф, государственный деятель, дипломат. В 1760–1773 гг. воспитатель цесаревича Павла Петровича.
Панин Никита Петрович (1770–1837) — граф, дипломат, племянник Н. И. Панина.
Панин Петр Иванович (1721–1789) — граф, генерал-аншеф, младший брат Н. И. Панина.
Паскаль Блез (1623–1662) — выдающийся математик, физик, философ.
Петр I Великий (1672–1725) — царь Московский из династии Романовых, первый император Всероссийский. Выдающийся государственный деятель, определивший направление развития России в XVIII в.
Петр III (1728–1762) — российский император в 1761–1762 гг., супруг великой княгини Екатерины Алексеевны, впоследствии императрицы Екатерины II.
Плавильщиков Василий Алексеевич (1768–1823) — русский книгоиздатель и книгопродавец.
Платон (священник отец Платон; Левшин Петр Георгиевич; 1737–1812) — законоучитель цесаревича Павла Петровича, митрополит.
Плещеев Сергей Иванович (1752–1802) — генерал-поручик, писатель, переводчик, состоял в свите великого князя Павла Петровича.
Плутарх (кон. 40-х — ок. 125) — древнегреческий философ, биограф, моралист.
Полетика Аполлон Иванович — камер-паж при великом князе Константине Павловиче; по своему званию служил у вечернего стола Павла I.
Полетика Петр Иванович (1778–1849) — государственный деятель, сенатор; в начале службы состоял в свите Павла I.
Полторацкий Константин Маркович (1782–1858) — генерал-лейтенант; в 1801 г. прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка.
Понятовский Станислав II Август (1732–1798) — последний король Речи Посполитой.
Порошин Семен Андреевич (1741–1769) — наставник великого князя Павла Петровича.
Потемкин Григорий Александрович (1739–1791) — граф, светлейший князь, генерал-фельдмаршал.
Протасов Александр Яковлевич (1742–1799) — генерал, воспитатель великого князя Александра Павловича.
Протасова Анна Степановна (1745–1826) — графиня, камер-фрейлина, любимица Екатерины II.
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — великий русский поэт и писатель.
Пфюрдский, рыцарь — барон, член Священного совета Мальтийского ордена.
Пюи Альфонс дю (брат Раймонд; 1120–1158/1160) — первый магистр Мальтийского ордена.
Разумовский Андрей Кириллович (1752–1836) — граф, государственный деятель, дипломат; фаворит великой княгини Натальи Алексеевны, первой жены великого князя Павла Петровича.
Растрелли Бартоломео Карло (1675–1744) — итальянский скульптор, работал по приглашению Петра I в России; автор памятника Петру I, установленного Павлом I в 1800 г. у главного фасада Михайловского замка.
Репнин Николай Васильевич (1734–1801) — князь, дипломат, генерал-фельдмаршал.
Репнин Петр Иванович (ум. 1777) — князь, генерал-аншеф, обер-шталмейстер двора.
Рибопьер Александр Иванович (1781–1865) — российский государственный деятель, тайный советник, масон.
Риварола Стефано — генуэзский министр. Прибыл в Санкт-Петербург с дипломатической миссией в 1784 г.
Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585–1642) — французский кардинал (по прозвищу Красный кардинал), аристократ, государственный деятель.
Ришелье Эммануил Осипович (1766–1822) — герцог, прапраправнучатый племянник кардинала Ришелье; французский и российский государственный деятель, в 1797–1800 гг. командир Лейб-кирасирского полка.
Роджерсон Иван Самойлович (Иоганн Джон Самуил; 1741–1823) — лейб-медик русского двора, шотландец на русской службе (с 1766).
Розенцвейг Карл Фридрих — саксонский министр-резидент в Санкт-Петербурге в конце XVIII — начале XIX в.
Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826) — граф, государственный деятель, генерал от инфантерии.
Румянцев Михаил Петрович (1751–1811) — граф, генерал-лейтенант, сенатор, действительный тайный советник; сын полководца фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского.
Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796) — граф, великий русский полководец, генерал-фельдмаршал.
Рутковский — доверенный камердинер великого князя Константина Павловича.
Сабатье де Кабр (1745–1816) — французский дипломат.
Саблуков Александр Александрович (1749–1828) — сенатор, член Государственного совета, отец Н. А. Саблукова.
Саблуков Николай Александрович (1776–1864) — офицер конной гвардии, в 1801 г. полковник. Свидетель трагических событий, связанных с гибелью Павла I. В заговоре не участвовал.
Сакен Карл Иванович (1733–1801) — генерал, наставник великого князя Константина Павловича.
Саксен-Кобургская Августа — принцесса, мать жены великого князя Константина Павловича, Саксен-Кобург-ской принцессы Юлии, в православии Анны Федоровны.
Салтыков Сергей Васильевич (1726-?) — граф, камергер великого князя Петра Федоровича (с 1761 г. Петр III), фаворит великой княгини Екатерины Алексеевны (с 1762 г. Екатерина II), дипломат.
Самойлов Александр Николаевич (1744–1814) — государственный деятель, генерал-прокурор Сената.
Сарти Джузеппе (1729–1802) — известный итальянский композитор, дирижер, педагог; придворный капельмейстер при дворе Екатерины И; на русской службе с 1784 г.
Сегюр Луи Филипп де (1753–1832) — граф, французский дипломат, посол в России.
Сибирский Василий Федорович (1745–1816) — князь, генерал от инфантерии, сенатор.
Сивере Яков Иоганн (Яков Ефимович; 1731–1808) — граф, обер-маршал.
Скарятин Яков Федорович (конец 1770-х—1850) — в 1801 г. штабс-капитан Измайловского полка, в последние годы службы полковник.
Скоробогатов Андрей Валерьевич (р. 1968) — историк, доктор исторических наук, автор научных монографий и публикаций, посвященных Павлу I и его времени.
Сольмс Виктор Фридрих фон (1730–1783) — граф, посланник прусского короля Фридриха II в России в 1760–1770-х гг.
Строганов Александр Сергеевич (1734–1811) — граф, президент Академии художеств, крупнейший коллекционер своего времени.
Суворов Александр Васильевич (1729–1800) — князь Российской империи с титулом князя Италийского, генералиссимус; великий русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере, один из основоположников русского военного искусства.
Сумароков Александр Петрович (1717–1777) — русский поэт, писатель, драматург.
Сюлли Максимилиан де Бетюн (1560–1651) — друг французского короля Генриха IV, знаменитый французский государственный деятель.
Талызин Петр Александрович (1767–1801) — генерал-лейтенант.
Танненберг Георг — барон, офицер, участник Итальянского и Швейцарского походов А. В. Суворова.
Тизенгаузен Иван Андреевич (Иоганн Отто; 1745–1815) — граф, обер-гофмейстер.
Тормасов Александр Петрович (1752–1819) — генерал от кавалерии, в 1800 г. командир лейб-гвардии конного полка.
Требра фон — наставник принца Е. Вюртембергского.
Тургенев Александр Михайлович (1772–1863) — в 1796 г. ординарец Павла I; директор медицинского департамента, талантливый мемуарист.
Тюльпин Иван Михайлович (ум. 1813) — камердинер Екатерины II.
Уваров Федор Петрович (1773–1824) — генерал-адъютант.
Уитворт Чарльз (1752–1825) — лорд, английский дипломат конца XVIII в., исполнявший обязанности посланника Великобритании в России с 1788 по 1800 гг.
Ушаков — в 1801 г. адъютант Конного полка.
Ушаков Павел Николаевич (Ушаков 1-й; 1779–1853) — в 1799 г. прапорщик лейб-гвардии Измайловского полка; впоследствии генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
Ушаков Сергей Николаевич (Ушаков 2-й; 1776–1814) — генерал.
Уэльский Георг Август Фредерик (1762–1830) — принц, английский принцрегент; с 1820 г. король Георг IV.
Фальконе Этьен Морис (1716–1791) — выдающийся французский скульптор, автор памятника Петру I в Санкт-Петербурге, открытого на Сенатской площади 7 августа 1782 г. (Медный всадник).
Фонвизин Денис Иванович (1744/1745–1793) — русский писатель, автор знаменитых комедий; до 1782 г. секретарь Коллегии иностранных дел.
Фонвизин Михаил Александрович (1787–1854) — генерал-майор, декабрист, племянник Денис Иванович Фонвизина.
Франциск I (1494–1547) — 24-й король Франции (1515–1547).
Фрейганг Иван Федорович (Иоганн Готлиб; 1755–1815) — лейб-медик при великом князе Павле Петровиче.
Фридрих II Великий (1712–1786) — прусский король из династии Гогенцоллернов; исповедовал идеи просвещенного абсолютизма.
Фридрих Вильгельм I (1688–1740) — король Пруссии с 1713 по 1740 г., усовершенствовавший, обучивший и увеличивший свою армию.
Ханенко Александр Иванович (1805–1895) — один из деятелей крестьянской реформы в Черниговской губернии, любитель и собиратель малорусской старины. Со слов Н. О. Кутлубицкого записал рассказы о Павле I.
Ханыков Петр Иванович (1743–1812) — вице-адмирал.
Хитров — полковник, участник заговора против Павла I.
Чарторыйский Адам Ежи (1770–1861) — польский шляхтич, русский государственный деятель, друг Александра I.
Чернышев Иван Григорьевич (1717/1726–1797) — граф, генерал-фельдмаршал по флоту, президент Адмиралтейств-коллегии.
Чернышев Петр Григорьевич (1712–1773) — граф, дипломат, сенатор.
Чичагов Василий Яковлевич (1726–1809) — адмирал российского флота.
Чичагов Павел Васильевич (1767–1849) — контр-адмирал, участник Отечественной войны 1812 г.
Чоглокова Вера Николаевна — представительница старинного дворянского рода; с 3-х лет воспитывалась при дворце, фрейлина Екатерины II; в 17 лет выдана замуж за графа А. С. Миниха.
Шевалье Ф. — французская актриса, певица, возлюбленная И. П. Кутайсова.
Шильдер Николай Карлович (1842–1902) — генерал-лейтенант; историк, автор монографии «Император Павел Первый», вышедшей в 1901 г.
Шишков Александр Семенович (1754–1841) — вице-адмирал, член Адмиралтейской (Морской) коллегии; сочинитель.
Щербатов Алексей Григорьевич (1777–1848) — князь, офицер лейб-гвардии Измайловского полка; в 1790 г. переведен в Семеновский полк. Участник Отечественной войны 1812 г., генерал от инфантерии (1823), генерал-адъютант, член Государственного совета (1839).
Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790) — князь, русский историк, публицист, член Академии наук.
Эйлер Леонард (1707–1783) — российский и швейцарский математик, внесший значительный вклад в развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук.
Эпинус Франц Ульрих Теодор (1724–1802) — физик, астроном, математик, член Петербургской академии наук, учитель великого князя Павла Петровича.
Эстергази Валент — граф, француз австрийского происхождения.
Яшвиль Владимир Михайлович (1764–1815) — грузинский князь, генерал-майор артиллерии.
Список источников и литературы
Башилов А. А. Молодость Башилова (Записки о временах Екатерины II и Павла I) // Заря. 1871. Декабрь. С. 193–223.
Болотов А. Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова // Русская старина. 1895. Т. 84, № 8. С. 135–155.
Головкин Ф. Двор и царствование Павла I. М., 2003.
Записки Александра Михайловича Тургенева. 1772–1863 // Русская старина. Т. 47, № 9.1885. С. 365–390.
Записки графа Александра Ивановича Рибопьера // Русский архив. Кн. 1, вып. 4. М., 1877. С. 460–506.
Записки императрицы Екатерины II. Лондон, 1859. Репринт. М., 1990.
Записки княгини Е. Р. Дашковой. Лондон, 1859. Репринт. М., 1990.
Записки Якова Ивановича Де-Санглена. 1776–1831 // Русская старина. Т. 36, № 12.1882. С. 443–498.
Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова. Берлин; Прага, 1870.
Захаров В. Император Павел I и орден Святого Иоанна Иерусалимского. СПб., 2007.
Из записок Марии Сергеевны Мухановой //Русский архив. Кн. 1, вып. 3. М., 1878. С. 299–329.
Кобеко Д. Ф. Цесаревич Павел Петрович. СПб., 2001.
Мемуары графини Головиной, урожденной графини Голицыной. М., 1911.
Михайловский замок. СПб., 2001.
Оболенский Г. Император Павел I. М., 2000.
Песков А. М. Павел I. М., 2003.
Письма императора Павла к атаману Донского войска, генералу от кавалерии Орлову 1-му // Русская старина. 1872. Т. 7, № 9. С. 409–410.
Полное собрание законов Российской империи. Собр. I: Т. XXIV. 1796–1797. СПб., 1830.
Русский Гамлет. М., 2004.
Рыцарь трона. М., 2006.
Скоробогатов А. В. Цесаревич Павел Петрович. М., 2005.
Цареубийство 11 марта 1801 года. СПб., 1908.
Шильдер Я. Император Павел Первый. М., 1996.
Эйдельман Я. Я. Грань веков. М., 1982.
Примечания
1
Санкт-Петербургской Петропавловской крепости и крепости-судоверфи Адмиралтейской. — Здесь и далее примет, сост.
(обратно)2
Имеется в виду В. Я. Мирович.
(обратно)3
Франкфуртская битва 1759 г. времен Семилетней войны 1756–1763 гг., во время которой русские войска нанесли сокрушительное поражение прусской армии.
(обратно)4
Киль — город в Германии, столица земли Шлезвиг-Гольштейн.
(обратно)5
Галерея приятных вещей всех народов мира (фр.).
(обратно)6
Историческое исследование Вольтера «История Российской империи в царствование Петра Великого», выходившее в 1759–1763 гг.
(обратно)7
Царевича Алексея Петровича.
(обратно)8
Солдаты Измайловского полка.
(обратно)9
Выход при дворе, приемный день.
(обратно)10
Ах, как я страдаю от ожидания! (фр.)
(обратно)11
Я полагала, что он смутится, но ничуть! Он очень хорошо отвечал (фр.).
(обратно)12
Геометрический ум и точность ума (фр.).
(обратно)13
Конная воинская игра-турнир.
(обратно)14
Порошин ошибается. Цесаревич тяжело болел в 1762 г.: первый приступ болезни случился в конце августа, в дороге из Санкт-Петербурга в Москву на коронацию Екатерины II; второй тяжелый приступ, 1 октября, заставил окружающих усомниться в благополучном исходе заболевания. В 1763 г. была открыта Павловская больница в честь выздоровления великого князя Павла Петровича.
(обратно)15
Речь идет о тяжелой болезни наследника в 1771 г., накануне его совершеннолетия.
(обратно)16
Энциклопедический словарь (фр.).
(обратно)17
Любовь (лат.).
Фигура танца.
Вера Николаевна Чоглокова.
(обратно)18
Фигура танца.
(обратно)19
Вера Николаевна Чоглокова.
(обратно)20
Воспоминания относятся к 1794 г.
(обратно)21
Аллеманда — старинный немецкий танец в спокойном темпе.
(обратно)22
Граф Андрей Разумовский открыто ухаживал за Натальей Алексеевной.
(обратно)23
Александр и Константин Павловичи.
(обратно)24
Т. е. рукоделие; от прост. «товаринка» — лоскуток ткани.
(обратно)25
Екатерина имеет в виду Павла Петровича и Марию Федоровну.
(обратно)26
Датировка дается по европейскому стилю.
(обратно)27
Поистине они очень милы, и вы можете уверить ее императорское величество, что я рад с ними познакомиться и что я их очень полюбил (фр.).
(обратно)28
Имеется в виду великокняжеская семья.
(обратно)29
С фронта Русско-шведской войны 1788–1790 гг.
(обратно)30
Т. е. Павла Петровича, тогда еще великого князя.
(обратно)31
Поселение, находящееся вне города или крепости, примыкающее к ним.
(обратно)32
Намек на многочисленные войны периода правления Екатерины II и на тяжелое положение российского хлебопашца.
(обратно)33
В екатерининской армии гвардейский чин по статусу был выше равнозначного армейского. Наследник предлагает выпускать офицеров в гвардию, проведя их через общую армейскую службу, начиная с прапорщика и до определенного звания.
(обратно)34
Памятник Петру I работы скульптора Э. Фальконе, получивший благодаря произведению А. С. Пушкина распространенное название Медный всадник, был открыт в Санкт-Петербург 7 августа 1782 г.
(обратно)35
Ах, ваше величество, какой момент для вас! (фр.)
(обратно)36
Обождите мой дорогой, обождите. Я прожил сорок два года. Господь меня поддержал; возможно, Он даст мне силы и разум, чтобы выполнить предназначение, Им мне уготованное. Будем надеяться на Его милость (фр.).
(обратно)37
«Вы необычный человек, Саблуков». — «В чем дело, мадам?» — «Стало быть, вы ни о чем не знаете?» — «А что надо знать?» — «Как же, с императрицей случился апоплексический удар, и считают, что она умерла…» (фр.)
(обратно)38
Воспоминания записаны в третьем лице.
(обратно)39
В бытность свою фаворитом Екатерины II, П. А. Зубов обращался с Павлом издевательски-пренебрежительно.
(обратно)40
Федор Гаврилович Головкин исповедовал протестантство.
(обратно)41
Этот случай впоследствии пересказывался как исторический анекдот.
(обратно)42
Порядок, непорядок, беспорядок (фр.).
(обратно)43
Идеология тайных религиозно-политических обществ в Европе.
(обратно)44
Ночной дозор, обходящий караулы.
(обратно)45
Кушанье из свежей рыбы и вина.
(обратно)46
Хранитель винных погребов.
(обратно)47
Прием при дворе (нем.).
(обратно)48
Заведующий штатом пажей.
(обратно)49
Великая княгиня Анна Федоровна.
(обратно)50
6 ноября 1796 г. — день кончины Екатерины II.
(обратно)51
Речь идет о жене Александра Павловича, великой княгине Елизавете Алексеевне.
(обратно)52
Видимо, речь идет об Александре Львовиче Нарышкине.
(обратно)53
«Мой дорогой, вчера у нас случилась перебранка». — «Да, мой государь» (фр.).
(обратно)54
Мой дорогой, прикажите танцевать что-нибудь красив°е (фр.).
(обратно)55
На манер Фридриха Великого (фр.).
(обратно)56
Это очаровательно, это превосходно, это восхитительно! (фр.)
(обратно)57
Официальной фавориткой (фр).
(обратно)58
Имя Анна означает «Божья благодать».
(обратно)59
Армейское оружие в виде двухметровой пики.
(обратно)60
Дворцовая набережная, дом 2.
(обратно)61
Конь Павла I.
(обратно)62
Искусство верховой езды.
(обратно)63
Звонок для вызова ординарца.
(обратно)64
Старинная прическа — взбитый хохол волос на голове.
(обратно)65
Автор имеет в виду казнь короля.
(обратно)66
Так русские называли город Дербент.
(обратно)67
Административная часть территории Персии. Речь идет о Персидском походе русского корпуса под командованием В. А. Зубова, предпринятом Екатериной II в 1796 г. Павел I разрешил этот конфликт, заключив мир с Персией в 1797 г.
(обратно)68
Бухарский и Хивинский эмираты, нынешняя республика Узбекистан.
(обратно)69
Avantage (фр.) — преимущество.
(обратно)70
Bailli (фр.) — высокопоставленные чиновники.
(обратно)71
Речь идет о публичной аудиенции, данной Павлом депутатам великой германской приории 29 декабря 1799 г.
(обратно)72
Закон Мальтийского братства.
(обратно)73
Далматика — одеяние длиной до колен и с широкими рукавами.
(обратно)74
Имеется в виду П. А. Румянцев-Задунайский.
(обратно)75
Речь идет о свержении Павла I.
(обратно)76
Пусть этому поверит еврей Апелла, а не я (лат.).
(обратно)77
Мемуарист говорит о памятнике Петру I скульптора Б. К. Растрелли, установленном в 1800 г. у Михайловского замка по распоряжению Павла I.
(обратно)78
Имеется в виду Медный всадник.
(обратно)79
Имеется в виду Михайловский замок.
(обратно)80
Дурак кто болтает, молодец кто действует (фр.).
(обратно)81
В своих комментариях к этому рассказу А. Ф. Ланжерон утверждает, что П. А. Палену удалось внушить императору подозрения об участии в заговоре императрицы Марии Федоровны.
(обратно)82
Конный лейб-гвардии полк, который не участовал в заговоре.
(обратно)83
Собственной персоной (лат.).
(обратно)84
«Вы якобинцы». — «Да, мой государь». — «Да не вы, а ваш полк». — «Пусть буду я, но относительно полка вы ошибаетесь» (фр.).
(обратно)85
В главах «Роковая ночь» и «После трагедии» приводятся несколько версий развития событий.
(обратно)86
Помните, господа, для того чтобы съесть омлет, нужно прежде разбить яйца (фр.).
(обратно)87
Вот он! (фр.)
(обратно)88
Что нужно разбить яйца (фр.).
(обратно)89
А. Ф. Ланжерон так комментирует это высказывание: «Странный изворот! Он не способствовал смерти Павла! Но несомненно, это он приказал Зубовым и Беннигсену совершить убийство».
(обратно)90
Многие из участников трагедии усматривали желание Марии Федоровны возглавить государство.
(обратно)91
А. Ф. Ланжерон так комментирует этот рассказ: «Великий князь всегда питал отвращение ко всем участникам этого заговора; он называл Беннигсена капитаном сорока пяти, намекая на убийство герцога Гиза в Блуа, совершенное ротой гвардии Генриха III, состоявшей из 45 человек».
(обратно)92
Итак, дорогой полковник, выводите полк, подготовьте священника и Евангелие и все устройте. Я оденусь и тотчас же спущусь (фр.).
(обратно)93
Это плохо, уладьте (фр.).
(обратно)94
Но это невозможно, он очень плохо выглядит, весь разбит, и сейчас его должны подгримировать и привести в порядок (фр.).
(обратно)95
Право, если они к нему так привязаны, они должны его увидеть (фр.).
(обратно)96
Потому что у меня нет ничего общего с этими господами (фр.)
(обратно)97
Так в тексте.
(обратно)98
Шлиссельбургская крепость на острове в истоке Невы использовалась как государственная тюрьма.
(обратно)99
А-ля Тит (фр.): волосы завиваются мелкими кудрями по всей голове.
(обратно)100
Упряжек (фр.).
(обратно)101
Похороны императора состоялись в Страстную субботу. 23 марта 1801 г., накануне Пасхи.
(обратно)102
Петропавловский собор на территории Санкт-Петербургской Петропавловской крепости.
(обратно)103
Благополучно ли Замврию, убийце государя своего?
(обратно)104
От должности управляющего иностранными делами, полученной вскоре после воцарения Александра I.
(обратно)105
Военные посты.
(обратно)106
Видимо, речь идет о князе Василии Юрьевиче Долгорукове и его отце, князе Юрии Владимировиче Долгорукове.
(обратно)107
Видимо, речь идет об Алексее Григорьевиче Щербатове.
(обратно)108
Ф. Г. Головкин происходил из заграничной ветви рода Головкиных, образование и воспитание получил в Берлине.
(обратно)109
Секретная тюрьма в Петропавловской крепости.
(обратно)
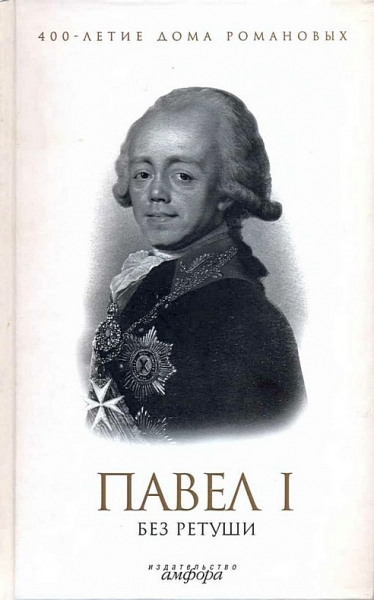


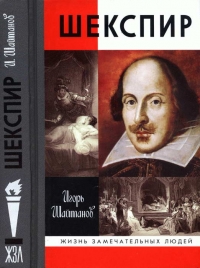
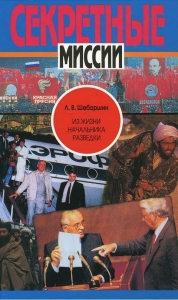
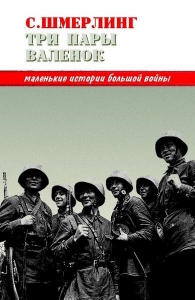
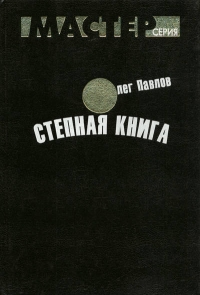

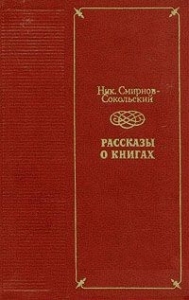

Комментарии к книге «Павел I без ретуши», Коллектив авторов -- Биографии и мемуары
Всего 0 комментариев