Александр Вардн Подконвойный мир
На обложке — скульптура «Раб в наручниках». Символ отчаяния. Символ неволи. Скульптура сделана в лагере на Воркуте в подарок автору этой книги ко дню его освобождения из лагеря известным эстонским скульптором Калью Рейтель. В книге он выведен под фамилией Ярви.
Глава первая. В этапе
1
Во двор Таганской уголовной тюрьмы въехал арестантский автомобиль. Трое сидевших в нем «пассажиров» увидели через дверную решетку, как подвели к машине человек двадцать пять, не обремененных ручным багажом. Из центра этой группы раздался вдруг блатной, бесшабашный фальцет запевалы:
Приехал черный ворон — Тюремное такси, Садитесь педерасты Бандиты и воры. Ай, ай, накачивай, да наворачивай, Вещички фраеров быстрей заначивай.— Кончай базар! — скомандовал начальник конвоя. — За бузу оставлю в кондее. Приелась камерная пайка, на фраерах попастись охота? Чтоб порядок был: стой и не дыши! Установочные данные отвечай залпом!
— Товарищ старшина, — осклабился поджарый рябоватый парень, одетый в застиранные и залатанные лагерные одежки, — подсади к фраерам. Весь бутор — вам, жратва — нам. Порядок обычный, законный.
— Какой я тебе товарищ! — огрызнулся старшина. — Медведь в тайге тебе товарищ. Кончай гармидр!
— Закругляй холодную войну, старшина, — раздался задиристый альт недавнего запевалы. — Мы загрызли старосту, не боялись Бресту — загрызем и старшину, соблюдая тишину. Правильно Черепеня ботает — сажай к фраерам, иначе не поедем.
— Я-те загрызу, сявка, — вскипел старшина. — По Лубянке скучаешь?! Враз загремишь с твоим Черепеней! А ну, разберись по два! Московский конвой шутить не любит: шаг влево или вправо, вперед или назад — стреляю без предупреждения! Руки назад! Трофимов! Два шага вперед!
Шагнул вперед пожилой кряжистый темнолицый человек, с глазами, спрятанными под выпуклыми надбровными дугами.
— Сидор Поликарпыч, 1914 года, 59-3, 25 лет, начало срока 14-го апреля 1952 года.
— Залазь в машину, бандит!
— Гарькавый! Два шага вперед!
— Семен Фомич, — выскочил тщедушный паренек с испитым бледно-синим лицом. Голосок недавнего запевалы привычно частил: — 1934 года, указ 4.6.47–20 лет, начало срока 11 июня 1952 года.
— Смотри у меня, ширмач! — пригрозил старшина, — такому рифмачу в горло сальную свечу, чтоб голова не качалась.
— Есть… под мышкой шерсть! — козырнул Гарькавый и полез в черное нутро машины.
Через миг оттуда его негодующий бабий фальцет:
— Опять чекистская вонь! Мутит! Облююсь! Все нутро выворачивает! У… у…! Фараоны!
— Зато не убежишь, ловчило, — отозвался солдат, стоявший у машины. — Так тебя пропитает насквозь, что пес и через неделю в любой толпе разыщет.
— Федоров!
Никто не отозвался.
— Федоров, выходи! — угрожающе повторил старшина.
— Чего ждешь, темнила! — вмешался один из надзирателей, обращаясь к кому-то из заключенных.
— Товарищ старшина, это — вон тот, рыжий, с веснушками-коноплюшками, курносый, вон глаз желтый косит. У него голая баба на груди татуирована с загнутыми салазками; да и весь он в три цвета расписан. Его в детском доме записали Хрущевым и он только на эту фамилию отзывается. Тут ему другую дали — так кобенится. Говорит: «Нам в детдоме целой группе фамилии дали в честь вождей». Все эти атлеты сейчас по тюрьмам и лагерям.
— И все по настоящей фамилии хлябают, — прервал надзирателя Федоров-Хрущев, — никто не ссучился. Есть тигры с фамилиями Сталин, Калинин, Каганович, Буденный…
— Прекрати Федоров! — Заревел старшина. — Пятьдесят восьмую — хочешь?! Враз вляпаем! Бегом в машину!
— Зови по родной фамилии! — закричал Хрущев, и многоэтажная вязкая терпкая ругань потоком хлынула из разинутого перекошенного рта. — Зови как хрещен, а то — убей — не пойду, пузо вспорю, жилы перережу, руку отрублю! Сосатели! Кровопийцы! Людоеды!
Все тело его дрожало, подергивалось; ошалелые, чуть раскосые желтые кошачьи глаза вылезли из красных орбит.
Надрывный истошный крик вызвал цепную реакцию общей истерики.
— Полундра! Хипеж! Фараоны! Расстрелыцики! — кричали воры.
— Пытатели! Кромсалы! Паразиты! — выкрикивал из машины пронзительным рыдающим бабьим голосом Гарькавый. — Веди назад! Не поедем! Всю кровь выпили! Сиротами оставили!
— Братцы! — кричал, задрав голову вверх в направлении окон тюрьмы рябой лядащий Черепеня. — Братцы! Воров тиранят! «Золотого» перекрестили! Ломай стекла, братцы! Хипеж на всю Таганку!
Где-то вверху зазвенели стекла, через мгновение еще и еще, и вся серая махина тюремного корпуса заполнилась низким звериным воем, звоном, грохотом, стуком.
Старшина поднял обе руки:
— Тихо! Хрущев, тихо! Нет времени с вами валандаться. Хрущев — заходи!
Воры успокоились. Один за одним, не сообщая больше свои «установочные данные», взбирались они в машину и исчезали в ее черном зловонном чреве.
2
— «Запридух»! — икрястые караси на горизонте! — крикнул Гарькавый.
— Есть, «Щипач»! Так держать! — лихо отозвался Черепеня и стал проталкиваться в переднюю часть кузова.
— «Саморуб», моя покупка, — кинул он по дороге Трофимову. — Я — заигранный.
Трофимов молча, с достоинством, кивнул.
— Ты! — ткнул Черепеня человека лет тридцати, в очках, — кем будешь?
— То есть, как это кем? — ответил тот высокомерно.
Черепеня повысил голос:
— Установочные данные, паскуда! Профессия! Лягавый?! Признавайсь сразу! Легче будет.
— Я — учитель. Зовут Фрол Нилыч Бегун.
— Так. Раздевайсь!
— Как это — раздевайсь?
— А, мусор, трёкать?! Вилять?! Финтить?! Раздевайсь! Пасть порву, грызло покалечу! Законному вору перечить?! Да я тебя, мусор… Да ты у меня, падла!..
Он сбил с Бегуна очки и приставил вплотную к глазам трехсантиметровые ржавые когти, а второй рукой сорвал с него меховую шапку-ушанку.
В это время рядом стоявший человек, лет сорока, невысокого роста, худощавый и стройный, схватил руку «Запридуха» и спокойно произнес:
— Брось, земляк! Отдадим все; и руки опусти, когти-то у тебя как у голливудских кинозвезд, только маникюр ржавый.
— Давно бы так, — злобно выдохнул Черепеня. — Мне ваша сучья кровь приелась. Разве положено мне, законному вору, ходить в казенном?!
Политзаключенные стали раздеваться.
Черепеня разъяснял:
— Все равно вольные тряпки вам ни к чему. Как только приедете — чекисты все сдрючат. Оденут в робы второго срока. Пришьете номера на лоб, на колени, на спину и повязку на рукав. Так что жалеть вам нечего; один хрен — каюк.
— Оставьте хоть кальсоны, — попросил молчавший до сих пор юноша.
— Не унижайтесь, Юрий Маркович! — буркнул Бегун. — У Журина заграничное белье — и то не просит.
— Учителю Бегуну — за сопротивление власти и настырность — снять все! — рявкнул Черепеня. — Остальным — белье разрешаю!
— Нет уж, тогда берите все у всех, — промолвил Журин.
— Горд, стерва?! А я сказал — оставь, — так оставишь! Меня люди — воры — слушаются, а не то, что вы — кляксы, крысы канцелярские, придурки. После пахана — «Саморуба» — я старшой. Ясно?
— Портфельником на воле хлябал? — ткнул он ногой Журина.
— Инженер я, а юноша — студент.
— На чем засыпались?
— На чем? — усмехнулся Журин.
Он стоял голый, нежный, белый, всем телом чувствуя жжение по-волчьи мерцающих взглядов и эманацию ненависти, беспощадности, атавистической кровожадности, истекающую из суровых, не прощающих слабость глаз.
— Работал со иной человек, — продолжал Журин. — Учил я его, помогал, специалистом сделал, а он решил так:
Донесу я в думе царской, Что конюший государской: Басурманин, ворожей, Чернокнижник и злодей; Что он с бесом хлеб-соль водит, В Церковь Божию не ходит, Католицкий держит крест И постами мясо ест.— Э…, да он — говорок, — повеселел Хрущев, — небось, романы ботать мастак — лысый? Мы уважаем грамотных, лобастых. Бывает, годами живем на одной доске с академиками, писателями, учеными, а то и с министрами, дипломатами, разведчиками, шишкомотами разными. Доклады слушаем беседы, романы, бывальщину. Так что, пахан, получай сменку, одевай ее, постылую и не тужи. Не ссучишься — так не пропадешь с нами. Ясно?
— Мы ж с чистым сердцем и благородными намерениями, — вмешался Черепеня. — Никого не пришили, все тихо, благородно. Для нас тоже прежде всего человек; на нем кормимся.
— Еще намотай, — продолжал Хрущев. — За жалобу мусорам, начальству — смерть. Таков закон. Провинившийся язык — отрубают с головой. Так у чекистов, так и у нас. Ясно? То-то.
Вонь, духота, жара становились невыносимыми.
Тошнило. Липкий холодный пот покрыл тела. Отработанные газы попадали внутрь машины. Ко всему еще и трясло.
— Кирюха! — стонал Гарькавый. — Стучи шоферюге — не выдержу. Все кишки в глотке.
Переодетые в лагерные одежки политзаключенные осматривали друг друга, как бы знакомясь вновь.
— До чего же обезличивают, расчеловечивают эти тряпки, — произнес Бегун. — Сейчас нужно быть хорошим физиономистом, чтобы разглядеть в нас обычных людей.
— Велеречивая у вас проза, — усмехнулся Журин. — Обратили ли вы внимание на «чистое сердце и благородные намерения» «Запридуха»? Начитанный деятель: прямо по передовице чешет.
— Обычные лица, — продолжал Журин задумчиво. — Это — не наследственно дефективные, уголовные типы. Это — дети народа. Это — сам народ, оподлевшие поколения народа, дети воровской империи.
— Не так уж озверел народ. — возразил Пивоваров. — Эти ребята — не народ. У них ни жалости…
— А вы — нас — чиновники, мусора, жалели, когда наших отцов раскулачивали? — перебил Пивоварова человек лет тридцати, с большим зубастым ртом и белым звездообразным шрамом на левой скуле.
— Крой, Кирюха, открой дыхание придуркам, — подбадривал говорившего Гарькавый.
— Жалели вы, — продолжал Кирюха, — когда в телячьих вагонах угоняли нас, малых и старых на Север?! Жалели вы Мустафу, — он ткнул узловатым неразгибающимся когтистым пальцем в грудь рядом стоящего парня с орлиным носом и черными маслинами глаз, — вы жалели Мустафу, когда всю его национальность ни за что, ни про что в пустыню вывозили? Батьку и всех братьев расстреляли, как и тысячи таких же других.
— Пахан-«Саморуб», Хрущев-«3олотой», Гарькавый-«Щипач», «Запридух»-Черепеня, я — Кирюха Малинин, да и другие так или этак — дети безвинно замученных, брошенных под ноги. Все мы — сироты. Есть и пострадавшие от немцев. Я с Оби утек. «Золотого» мамка сумела из эшелона дальней родне сдать. Сама на лесоповале загнулась. «Клык» чудом от собственной матери спасся в 1933 году. Обезумела от голода, съесть хотела.
— Мою мать на моих глазах убили, — мрачно и злобно произнес Трофимов.
Все смолкли. С интересом смотрели на Трофимова. Очевидно для всех было новостью это сообщение их сдержанного замкнутого немногословного главаря.
— Везли по раскулачке, в телячьем. Трясло. От тряски как-то раскрылась одна из дверей вагона. Были мы олени. О побеге — не помышляли. На одной станции я в окошко увидел, что кипяток — как раз напротив нашего вагона. Сдуру ляпнул: — мам, ужасть как кипятку хоцца — напротив нас наливают. Мать моя — хвать ведро — и не раздумывая, как была в одном платье без платочка, так и спрыгнула. Ловкая она была, высокая, стройная, сильная.
Тут сразу выстрел. В грудь попал — подлюка, сосок аж разрубил. На спине из раны толчками хлобыстала кровь. Увидел я и навсегда запомнил. С тех пор кровь матери во сне и наяву стучит под моим горлом.
Был я до того хохотун неугомонный. С той поры будто подменили. После матери ни к кому душа уж не лежала. Подрос. В тюряге первую наколку сделал: «Не забуду мать родную».
— Сидор Поликарпыч, — перебил Трофимова Гарькавый. — Я семи лет от роду родителей лишился. Отец — на фронте погиб, а мать — с голоду зачахла. Помню, последний кусок, каждую корочку и жмых отдавала мне, а сама ослабла, застыла, в горячке померла.
— Моего отца в тридцать шестом, в ежовщину гады забрали, — не разжимая зубов сказал Черепеня. — Мать уборщицей в школе устроилась. Работала полторы смены и получала на руки 220 рублей. Я и воровать-то пошел, мать жалеючи.
Черепеня цыркнул слюной сквозь сжатые зубы, затем продолжал злобно чеканить:
— Да что там трёкать: сытый голодного не разумеет. У вас, небось, у каждого руки в крови, поэтому при телесах, холёные, гладкие, белые, научно губами шлёпаете, диссертации пишете: какую там вошь пымать сподручнее — сытую, чи голодную. На нашей крови и поте, на замученных наших матерях отожрались, дипломов нахватали, очки надели, вумные пузыри пущаете.
Черепеня скрипнул зубами и, расталкивая товарищей, направился к дверцам машины. Припав к решетчатому окошку, он обратился к старшине:
— Так договорились, начальник, замолвишь словечко старшому вагона, чтоб нас по пяти в клетки «Столыпина» рассадил?
Старшина молчал. Поигрывал желваками челюстей. Потом неожиданно шепнул:
— А где барашка в бумажке?
— Зараз, мигом, — засуетился Черепеня.
— Втихаря! Потаюхой! Хитромудрые промеж нас, — предупредил старшина.
— «Клык», давай зажигалку! — скомандовал Черепеня. — Я даю две пачки сигарет. «Щипач», давай носовые платки — они нам ни к чему.
— Хватит идолу, — рокотнул Трофимов. — И так богатство.
В это время машина стала разворачиваться и люди увидели через дверное окошко два арестантских вагона, так называемые «Столыпины», на пустынном тупике.
К автомобилю подошел старший сержант.
— Давай скорее, старшина, вот-вот маневровый паровоз подкатит.
Стали выгружаться. Многие, и первым Гарькавый, едва глотнув свежего воздуха, стали блевать. Не избег этого и Юра Пивоваров.
3
Арестантские вагоны прицепили к поезду.
Журин лежал на верхней полке и смотрел на вокзальный перрон через маленькое, размером чуть не в ладонь, зарешеченное окошко под потолком.
По перрону бегали, кричали, суетились женщины в колхозных кацавейках, нагруженные мешками с городским хлебом, мужчины с самодельными фанерными чемоданами и «сидорами» — узлами из мешковины. Кто-то надрывно кричал. Мальчик тоненьким голоском заморыша звал и звал исчезнувшую мать, а старушка, протягивая к кому-то высохшие руки, вопила:
— Украли! Господи! Украли, идолы! Все — начисто! Пымай, яви милость! Господи!
После ухода пригородного поезда паника утихла. Мимо Журина замелькали шляпы и воротники из серого каракуля, офицерские погоны и шубки барынь; раскормленные зобастые дамы и их тощие, заезженные мужья. Шел служивый приказный люд гигантской бюрократической машины, зажавшей всех и все.
Люди шли сосредоточенные или рассеянно глядевшие по сторонам, но никто не останавливал взора на арестантских вагонах. Видно было, что это примелькалось, не удивляет и не интересует.
— Эгоисты, — думал Журин, глядя на холёные, надменные равнодушные физиономии. — Им-то наплевать на нашу смертную беду. Чем нам хуже, тем им лучше. Сок наших жизней взбадривает и их. Близкие, и те, небось, погорюют и забудут. «С глаз долой — из сердца вон». Может быть, даже со временем будут радоваться, что посадили. Жилплощадь освободилась, вещички остались, да и кроме того, в чем-нибудь желанном близкий человек всегда мешает.
Наконец поехали.
Больше часа мелькали в окне высокие платформы пригородных станций, пестрые начальничьи дачи, притихшие городки. Потом под лохматым небом раскинулась русская бескрайняя ширь.
— Русь прибитая, заморенная, подтянутая, — думал Журин, вглядываясь в серенькие одинокие избушки без сараев и изгородей, в вышки проносящихся мимо лагпунктов. — Русь, высохшая от ненависти и бдительности, тонкая и прозрачная от бескормицы, занузданная страхом лагерная и колхозная Русь.
Товарищей его по пересылке и черному ворону сунули в другие клетки. Кругом были чужие испитые сумрачные лица, лихорадочно горящие или потухшие ввалившиеся глаза.
Впрочем, были в клетке-купе и знакомые: Черепеня, Гарькавый, Хрущев и еще двое из их компании.
— До чего ожесточились, — думал Журин. — С каждым годом становятся все более потерянными, обезумевшими, бесчеловечными.
Вспомнил разговор об этом на пересылке с Домбровским, старым польским социалистом. Домбровский сидел за подпольную деятельность еще до революции. Был на царской каторге. Сравнивая дореволюционный уголовный мир с нынешним, Домбровский, успевший по дороге из Варшавы в Москву познакомиться с советскими блатными, говорил:
— По сравнению с дореволюционными уголовниками нынешние блатные — даже не бешеные псы; скорее бешеные тигры. Нечто невиданное и неслыханное, о чем ни в сказке рассказать, ни пером описать не можно.
Журин лежал под потолком в дымном чаду, задушной жаре, в застарелой мертвецкой вони. Вспоминая Лубянку, закуренных садистов, полупомешанных маньяков в мундирах, он чувствовал как клокочет кровь, взвинчивая нервы, пробуждая в душе атавистические инстинкты, злобные вожделения, неуемную ненависть ко всему осточертевшему, беспощадному, терзавшему вспоротое нутро души и тела. Мучила жажда.
Он понимал теперь, из какой бездны боли подымается звериный рык блатных. Он думал, что эти люди еще святые, если не бросаются на каждого встречного с разинутой клыкастой пастью и скрюченными когтистыми лапами.
— У них хорошая наследственность, — думал Журин. — Здоровые нервы и добродушие молодой крестьянской нации, впитавшей фитонциды просторов и христианское милосердие.
В проходе зажглись электрические лампочки. Черепеня начал очередную акцию ограбления политических.
Воров в купе было пять, остальных — восемнадцать, но это численное превосходство не давало жертвам никаких преимуществ. Были они разрознены. Каждый думал о себе, не доверял другим, каждый был индивидуумом.
Воры составляли согласованно действующий, подчиненный строжайшей дисциплине, команде главаря коллектив, готовый в любой момент убить и умереть. Ворам принадлежала агрессивная инициатива. Боялись их все: атомизированные интеллигенты и матерые чекисты. С силой нельзя не считаться. Такая сплоченная пятерка легко справлялась с ограблением и подчинением себе ста обычных атомизированных людей, поэтому акция в купе была для них увлекательным пустяком.
Четверо обыскивали и конфисковали. Черепеня зорко наблюдал за ходом операции и развлекал аудиторию.
— Едете не к теще в гости, — нагло, свысока бросал Черепеня. — В ежовые рукавицы попадете. Вещи у вас отнимут. Оденут в лохмотья с номерами.
— Не клевещите! — вскипел в углу пожилой и тучный человек с узловатыми корявыми большими руками. — Это у фашистов — в лагерях уничтожения, а мы — пусть и провинившиеся, но — дети своей родины; пусть блудные, но сыны нашего отца народов.
— Труха! Прахесор, губошлеп лобастый, — уничтожающе-презрительно процедил сквозь зубы Черепеня. — Кроешь эрудицией вопросов рой, а ты сними очки-велосипед, оглянись, всмотрись, внюхайся, кабинетчик, клякса, паразит, циркуляр, темнила. Об отце и родине надо было раньше талдычить, сейчас— поздно. Москва ни словам, ни слезам не верит.
— «Щипач», обшмонай малокровного прахесора с пристрастием!
— Я не профессор, — запротестовал «малокровный». Я — инструментальщик, кладовщик. Вся наша семья — Шестаковы — на заводе «Ильича». В «Правде» пропечатано.
— Партейный?
Шестаков замялся.
— Теперь — нет.
— Теперь — нет, — передразнил Черепеня. — Промыли мозги! По пяткам — били? Иль по почкам? Без разбору как партейного? Молчишь?! Вот так-то лучше. Сопи в платочек и думай, крепко думай. Времени у тебя мало: деревянный бушлат уже сбивают. В твоем возрасте человек в лагере — не жилец. Скоро сыграешь в ящик.
— А ты, пахан, тоже с красной книжицей? — обратился Черепеня к высокому, очень отощавшему, заросшему седому старику.
— Нет, я — реэмигрант.
— Ясно. На родные березки аппетит промеж ног поднялся. «Расея, дожди косые» и щи пустые, мне не забыть вас никогда. Знаем. Видали. За что боролись — на то и напоролись. Покажут тебе, старик, где березки-подружки и вертлявые кукушки. Девять кубов «подружек» на рыло надо свалить, обрубить, разрезать, снести в штабель, сжечь сучья, чтоб пайку хлеба и глоточек тресочки отхватить.
«Тресочки-то не поешь — не поработаешь». «Чайку-то не попьешь — откуда сила-то!» «Хлебушко оржоной с примешанной осотой и лебедой — оченно пользителен», — говаривал корешь мой вологодский.
— Ты! Слышь, елдаш, сухарями не шебурши, — обратился Черепеня к таджику, копавшемуся в своем мешке. — Сиди, не вертухайся, сидор уже не твой — общественный, колхозный, — наш. Сам знаешь: ваше — наше, и наше — наше. Частная собственность — это воровство. Ты лучше с мыслями соберись. Работать будешь километрами, а получать — граммами, кувалду дадут большую — на одного, а котелок маленький — на двоих, и никому не будет дела, что курсак твой — пустой, что сем раз ты болной, что язык костяной, что зовут «Ибрагим — работать не могим».
— Слушай, фраера, — повысил вдруг голос Черепеня, — жди терпеливо. До всех дойдет очередь. С душой работаем. Не все изымаем.
— Что это у вас, землячки, мясца не припасено? — дружелюбно допытывался Черепеня, упиваясь, видимо, своим великодушием. — Все сало и сухари, сухари и селедка.
— Детский вопрос, товаришок, — отозвался кто-то со второго этажа. — Откуда быть мясу, когда бараны пишут диссертации, свиньи разъезжают на «победах», а коровы вышли замуж за офицеров.
— Э…! Да ты, батя, говорок?
— Говорок — не говорок, а на чужой роток не накинешь платок.
— Как жизнь?
— Жизнь как в сказке: налево пойдешь — пуля в затылок, направо — в пытках помрешь, прямо — в шахте доконают.
— За что сидишь?
— Ноги разные: одна — левая, другая — правая, значит — виноват.
— Ясно. Мантулил? Троцкист? Бухаринец? Праволевацкий? Хоть с чертом, но против бати? Кто же ты? Какой масти? Из бывших? Бытовик? Не похоже. Чую нутром, что политик ты чистой воды. Дыхало у тебя этакое парящее, а у меня нюх наметан. Может религиозный? Опять нет.
— Русский социал-демократ я. Меньшевик.
— А… а. Давно таскают?
— С перерывами — третий раз. В 1918 амнистировали. В 1936 через ОСО провернули. Теперь, после нападения на Корею схватили и больше года под следствием мурыжили. Дали — как обычно: 58–10, 11 — двадцать пять за то, что тридцать пять лет назад на путиловском за меньшевиков голосовал.
— Злопамятны. Боятся. Да кого только они не боятся? «Щипач»! — обратился Черепеня к Гарькавому. — Верни все бате.
— У него недозволенных включений не обнаружено, — отрапортовал Гарькавый. — Камсу всем оставляем. Хлеб — верну. Пальтишко на рыбьем меху — старенькое — оставил.
— Что ж ты, старик, отощал, без загашника?
— Как не отощать? Родные в Копейске. Меня на Лубянке держали и, конечно, никаких передач. Уверен, что родные не знают, где я, жив ли.
— Ну, так с нами сейчас пойдешь. Мы в другое купе пересядем. Сыт будешь.
— Не пойду, — решительно отрезал меньшевик.
— Брезгуешь? Почище тебя с нами бывали, — обиделся Черепеня. — Я в лагере три года на одной доске с московскими профессорами жил: с Брагиным, Гольдштейном, Гоникманом. Многому научился. Два года с певцом Вадимом Козиным душа в душу жил. Лидию Русланову сопровождал по лагпункту, чтобы не изнасиловали. С поэтом Ярославом Смеляковым полтора года до войны на Ухте вкалывал. Дружками были. Профессора Ульяновского близко знаю — Ростислава Александровича. С Косиором вместе на Воркуте сидел. Сестре Бухарина покровительствовал.
— Верю, — буркнул меньшевик.
— Может боишься, изнасилуем? Не дрефь! Свободы мне не видать, рот мне разорвать, фраером буду… По ростовски нараспев побожусь!
— Не взыщи, останусь тут.
— Воля твоя, батя. Обижаешь. Я страсть как охоч до бывалых, ученых. Мне лагерь интереснее воли потому, что здесь на каждом шагу настоящие люди, а на воле — кастрированные, оглушенные, запутанные кролики, оболваненные эгоисты, придурки, серяки с отбитыми памерками и над ними мастодонты, мокрушники, сосатели. Как зовут тебя, батя? Будем знакомы. Я — Олег Иванович Черепеня, по кличке — «Запридух».
— Я — Николай Денисович Кругляков.
Черепеня соскочил вниз:
— Кончили шмон, хлопцы?
— Ждем команды «Саморуба».
Через минуту с середины вагона послышались крики:
— Начальничек! Сажай в отдельное купе!
— Нас тут контрики развращают!
— Не хотим сидеть с фашистами! — орал «Клык».
— Пейте мою кровь, сосите с меня соки! — визжал Гарькавый.
— Начальник, нас тут политической невинности лишают! — с напускной серьезностью выкрикивал Черепеня.
В проходе показался ефрейтор.
— Что за крик?! Вы меня не знаете, так вы меня узнаете! — петушился ефрейтор.
— Зови старшого! — кричали хором воры.
— Акулы Уолл-Стрита нас вербуют!
— Барахла надавали, лишь бы мы в банду Рокфеллера подались!
— Проводите промеж меня воспитательную работу, а то я за себя не ручаюсь! — блажил хохочущий Хрущев.
Гвалт поднялся яростный. Воры стучали в решетки, стены, пол. Все двадцать пять глоток выли, свистели, улюлюкали в разных клетках. От шквала похабнейшей ругани, казалось, померкли лампочки.
— Отдельное пролетарское купе! — кричал Черепеня. — Для верных сынов народа! Для блока коммунистов и беспартейных! Для авангарда прогрессивного человечества!
— Нас враги народа удушат! — вторил Хрущев, — заразят нигилизмом, в идеалисты постригут.
Старший сержант, притворно негодуя и матерясь, открыл два купе в конце вагона и перевел туда воров.
Малинин, выходя из центральной клетки, потащил с собой Пивоварова, одетого в лагерные тряпки.
— Что упираешься, сука! — кричал Малинин на Пивоварова. — С тех пор как выскочил из ворот, откуда вышел весь народ, воруешь, а сидеть с фраерами хочешь? Кровь их пить!
— Чего кобенишься, — поддержал Малинина старший сержант, отмахиваясь от лепета Пивоварова. — Топай!
Пренебрежительно он толкнул Пивоварова, и воры, улюлюкая, потащили его с собой.
4
Плотно поужинав, старшие воры забрались на среднюю полку, уселись по-турецки кружком и принялись за карты. Их обнаженные по пояс тела пестрели порнографической татуировкой и рубцами.
А внизу, Сеня Гарькавый, без времени состарившийся мальчик, напевал дребезжащим альтом:
Пилим, рубим и складаем, Всех лягавых проклинаем. Эх, зачем нас мама родила!Лукаво подмигивая выцветшим глазом Пивоварову, он продолжал:
Слушай и наматывай, братва, Почему мы плотим им сполна: На пеньки нас становили, Раздевали и лупили. Эх, зачем нас мама родила!Все громче звенела лихая песня, все азартнее разгорался отчаянный блатной мотивчик и более осмысленными и выразительными становились грустные глаза певца.
Сами понимаете, друзья! Почему клянемся мы всегда: Гадом буду — не забуду Про начальника — зануду и про пузо ждущее ножа! Ножа!— Сеня, голубка, пропой про Воркуту, — прохрипел явно растроганный Трофимов.
— Верно, про полярный круг, про кралю, — поддержали другие, — крой, Сеня, бога нет!
Чуть слышно, заунывно, из мглы безнадежной тоски выплывала песня:
За полярным кругом, в стороне глухой, Черные, как уголь, ночи над землей. Волчий вой метели не дает уснуть. Хоть бы луч просвета в эту тьму и жуть! Часто вспоминаю ветхое крыльцо, Длинные ресницы, смуглое лицо. Знаю, одиноко ночи ты не спишь, Обо мне далеком думаешь, грустишь. За полярным крутом жизни долгой нет. Лютой, зимней вьюгой заметет мой след. Не ищи, не мучай, не терзай себя. Если будет случай, вспомни про меня.Затем без паузы, но изменив мотив:
Я молчу в толпе несметной Только в сердце крик, Вечный холод межпланетный В душу мне проник. В тьме полярной над толпою Образ твой передо мною. Зосенька, Зосенька! Ты одна на свете, Зосенька!Затих вагон. Бросили карты и пригорюнились воры, а слабый, порхающий и дрожащий как огонек свечи голосок метался, жаловался, тосковал:
Пусть я падаю в строю — подымусь. Жди меня и я вернусь. Возвращусь. Подымусь и возвращусь, к сердцу милому прижмусь… Зосенька, Зосенька! Ты одна на свете! Зосенька!И вдруг, сорвавшись с места, жестикулируя не только руками, но и каждым мускулом тела, Гарькавый стал исступленно навзрыд выкрикивать:
Мать от голода помёрла, Батя сгинул на войне, А меня конвои возят По замученной стране. Бей! Режь! Рви! Жги! За мамашу отомсти! За сестренок не прости! Бей! Режь! Рви! Жги! Бей! Режь! Рви! Жги! Дрыном гада оглуши! Палачу, сексоту, сосу, Сквозь печенку нож проткни!Гарькавый отплясывал под рев, пение, выкрики, хлопки окружающих. Он хлопал руками по полу и по подошвам ботинок, нещадно молотил свои худенькие поджарые бока, умудрялся даже засовывать грязные пальцы в рот для хлопка и свиста. Все его тело извивалось и тряслось. Любая цыганка позавидовала бы выразительности, неистовости, экспрессии его танца.
Воевали — не пропали И теперь не пропадем. Мы фашистам в гроб наклали И чекистам накладём. Мы на нары тра-та-та И под нары тра-та-та, Но работать на сосателей Не будем никогда. Бей! Режь! Рви! Жги! Шишкомотов потроши! Кровожадного вождя Режь для общего борща! Бей! Режь! Рви! Жги!Наверняка еще долго бы метались песни, агонизировали отчаянные рыдающие голоса и к небу рвался рев страстной, долго сдерживаемой яростной мести, но из соседнего купе непрерывно стучали и выкрикивали:
— Воры, план есть! Воры! Жучки план продают.
Первым встрепенулся Черепеня:
— Где план?!
— Что за план? — спросил Трофимова Пивоваров.
— Так по-блатному гашиш зовется.
Черепеня мигом выяснил, что в женском купе, расположенном в другом конце вагона, продают гашиш. Об этом оттуда и передали по цепочке.
— Начальник, на оправку! — закричали воры.
— Даешь уборную!
— Всё разнесем!
— Весь вагон обгадим!
Их выпустили. Столпились возле клетки с женщинами. Черепеня мигом получил за кирзовые сапоги кулек гашиша.
Зашли в уборную. Пивоварову бросились в глаза скабрезные надписи и рисунки на стенах.
— Какая гадость! — вырвалось у него.
— Это ж обычно, — пробасил Трофимов. — Всюду так: в центральном парке и в кино, в уличной забегаловке и в столичной школе. Пацаны забавляются. Помню, когда мы были огольцами, так самое страшное, что могло появиться на заборе или в уборной — это детский загиб в пару этажей, а для теперешних детей — это будни — повседневный язык ожесточившихся, измотавшихся взрослых. Теперь такое рисуют и пишут, что даже у меня искры из глаз сыпятся.
Вернувшись в купе, воры закурили гашиш. Трофимов подсел к Пивоварову. Покуривая, говорил:
— Зеленый ты, сынок, — пропадешь. Калякаешь, что жестокие мы. А знаешь ли, что у нас в прошлом? Лишнее ботать — не поймешь. Никто не поймет, кто не пережил эти бесчеловечные годы: крах крестьянства, тысячекилометровые пешие зимние этапы, пытки, лагеря, радиоактивные шахты, заполярную всеобщую загибаловку тридцатых и сороковых годов, крушение миров в войну и послевоенную подлость лагерной империи.
Трофимов затянулся подряд несколько раз. Дышал он тяжело, будто клокочущая лава сотрясала его богатырскую грудь.
— Сто подохло, а сто первый чудом выжил, но все у него внутри как в Хиросиме — все выжжено. Выжил зверь с душой яростной и беспощадной, жаждущей убить и умереть. А ты толкуешь: — жалей людей. Шляпа!
Лицо его побагровело и вздулось, глаза зажглись заревом безумной злобы. Черные жилы шеи набухли, напряглись. Он уже не говорил, а хрипло остервенело лаял.
— Что может быть подлее, омерзительнее, безжалостнее, беспощаднее человека! — Что?! — выкрикивал он. — Мы тоже — контра, но не склизкая, боязливая, трухлявая, забитая — как вы. Мы рвем куски у фараонов, не жалея ни себя, ни их.
Слова вылетали из его черной воспаленной глотки накаленные, шершавые, как бы одолевая по пути сжигающую Трофимова внутреннюю клекотную боль.
— Чекисты боятся нас и подлизываются. Считались мы социально близкими, но хрен им в глотку, чтоб талия не качалась. Чем крепче их бьешь, тем больше они подлизываются. Такова порода — хорьковая, зверячья: только палку на хребте, только нож в глотке понимают.
Трофимов слабел. Заметно набухали его красные веки и под глазами лиловели мешки.
— Сердце мое уконтрапупили гады, — пойду поваляюсь.
Трофимов полез на верхнюю полку, а к Пивоварову подсел «Клык».
Потный, воспаленный, с единственным блекло-голубым глазом, прильнул он к Пивоварову, погладил его подбородок сальной закопченной рукой, и, пытаясь сюсюкать, промолвил:
— Налитой, не тронутый, не целованный касатик, свежатинка. Отощал, милок, на казенных харчах. Так мы уважим, подкормим, чтоб задок булочкой, розовенький. Разоденем, человеком станешь. Ведь только мы, воры, — честные, благородные, настоящие люди. Прочие — скот, а скот положено резать и жрать. Вся нечисть отходит сама от нас — ссучивается, идет служить чекистам, становится суками. Так согласен, милок? Ты — по-хорошему, и мы к тебе всей душой. Или мы звери какие? Я и корешь мой, Кирюха. Нас тоже матери носили. Мы б может тоже девок любили, а получилось — видишь как: всю жизнь в клетке. Замордовали. Затиранили. Так нам и мальчики всласть. Само начальство на этот фарт толкает. Эй, будка! — крикнул он, задрав голову, Мустафе, — ползи с нар. Заведение открываем.
— Ты не стесняйся, милок, — уговаривал «Клык» ошарашенного, не верящего своим ушам Пивоварова. — Лезь наверх. Я — человек деликатный, потихонечку, не то, что пират какой иль сука лагерная. Богу молись, что на меня напоролся. Лезь, лезь, не кобенься.
«Клык» и Малинин ухватили Пивоварова за бедра и стали запихивать его на нары.
Только когда трясущийся Малинин бурно дышащий огромной зубастой пастью стал срывать с Пивоварова брюки, тот понял окончательно все и дико закричал.
«Клык» навалился на него всем телом, сжал горло, Малинин торопливо срывал одежды, пытался запрокинуть ноги. Железная когтистая лапа «Клыка» выжимала из Пивоварова последние проблески сознания. Пивоваров извивался, колотил ногами и кричал, выл, храпел, бился.
Крики Пивоварова услышал Журин. Стуком в решетку он вызвал конвоира и потребовал вывести Пивоварова из клетки воров. К голосу Журина присоединились Бегун, Кругляков и другие. Поднялся шум. Истерически визжала какая-то сочувствующая женщина.
Вбежавшие в вагон старший сержант и ефрейтор вырвали Пивоварова из лап насильников. Бледного, трясущегося вывели его из воровской клетки. Слезы, крупные и горячие как в детстве слезы, непроизвольно текли и текли. Перед глазами плыли и растворялись оранжевые круги. Тошнило. Хотелось пить.
А воры не собирались утихомириться. Закуренным, ошалевшим, им все было нипочем.
— Начальничек! Неси водки! — орал «Клык».
— Водки! — подхватили остальные. — Тащи, начальник!
— Сидишь в навозе — так не чирикай!
— Не принесешь — разнесем все вдребезги!
— Ты у нас на крючке — как заигранный!
— Барахло отхватил, сытая вошь, так гони водку!
Красные шальные лица пытались протиснуться через решетку. Руки, когтистые, алчные — руки убийц — тянулись к старшему сержанту. Десятки черных острых шевелящихся когтей пытались вонзиться в жертву, в мясо, в кровь.
— Вод-ку! Га-ды! — скандировали воры. — Забрали бутор — гони водку! Загрызем! Продадим! Вызовем золотопогонников! Водку! Гадючья кровь! Потрошители! Пираты! Водку!
Конвоиры выбежали из вагона.
Воры бесновались еще минут пятнадцать: разбили маленькие окошки под потолком, разбили лампочки. Большие окна напротив купе оставили. Побоялись студеного ноябрьского сквозняка. Потом затихли.
— Может, отгремели громы? Соснем, — вздохнул Журин.
— Не верю, — отозвался Кругляков. — Что-либо затевают.
Поезд стоял на маленьком темном полустанке. Глухая сырая ночь проглотила мир. Даже сквозь стекло окошка чувствовал Журин холодный пронизывающий ветер, насыщенный едва уловимыми запахами лесной прели.
— Жизнь проходит мимо, — думал Журин. — Занузданные судьбой мытаримся и мятемся, горим и исчезаем жертвоприношением безумию.
Оттуда, из слякотных просторов воли, послышались жалобные призывные бабьи крики:
— Тялуш! Тялуш! Где ты — сухбта, погибель, задрока! Тялуш! Тялуш! Тялуш!
Под вагоном заговорили. Вероятно кто-то из железнодорожников и женщина. Оба окали по-владимирски.
— В колхозе-то хорошо: один роботает — отдыхает сто, — говорила женщина.
— Поэтому-то нету хлебушка, — отозвался мужчина.
— Откуда быть хлебу-то, или скажем, мясу, коли скрозь в деревнях не роботают. Земля пустует, заростает кустом. Что посеют, и то под снегом похерят. Силком-то мил не будешь.
— Ну, а ты — жона секреторьята, хлебушко оржоной припасла?
— Еще чего! — воскликнула женщина. — Курица в гнезде — яйцо в животе, а ты ужо цыплят считаешь. Боюсь, пужаюсь, вот робенок умреть. До врачей далеко, а коновал-ветеринар-то надысь бает, что не его-то рукомесло.
Раздался паровозный свисток. Лязгнули буфера. Поезд тронулся. Минут через двадцать остановились у ярко освещенного вокзала станции Владимир.
Воры встрепенулись. Опять начали кричать, требовать водки, стучать в стены и решетку.
— На перроне возле поезда — вокзальные эмгебешники, — доложил Журин. — Пестрые, важные, красноголовые как петухи.
— Дай, гляну, — засуетился Шестаков, — офицер есть?
— Есть.
— Товарищи! — заорал вдруг Шестаков. — Не слышат! Что тут делать?!
Он выхватил из кармана зубную щетку и стал тыкать ею в стекло. Стекло разбилось. Шестаков приложил лицо к окошку и стал кричать:
— Товарищ майор — спасите! Режут воры! Ограбили! Спасите, товарищ майор, грабят, убивают! Спасите! Спасите! Спасите!
В вагон вошел майор из железнодорожного МГБ.
— Што тут такое!
Шестаков кинулся к решетке.
— Ограбили, гражданин начальник! Все до чиста воры забрали! Конвой их в конец вагона перевел, а вещи наши у воров солдаты взяли и жратву им принесли. Теперь воры водку требуют. Часть вещей еще цело. Отнимите, гражданин начальник.
— Так чего кричал, что убивают, — вздыбился майор. — Чего панику на станции разводишь. Люди ходют — думают всам деле с вас котлеты робят.
— Начальник, ваты! — завизжали вдруг в женском купе. — Ваты! Начальник! Текёть!
К решетке прижалась скуластая курносая бабенка с копной рыжих растрепанных волос и бесстыдной наглецой в глазах.
— Начальник, зайди на минутку! Зуб горит! Мочи нет! — кричала она простуженным или прокуренным мужским голосом. — До печенок никто не пронял! Начальник, конвой только малолеток мацает, а мне такой седой кряжистый бобер как ты нужон!
— Начальник! Ваты! — блажили три малолетки-детдомовки, этапируемые в колонию.
— Девчата черт знает чем тут занимаются, — раздался с верхней полки чей-то высокий негодующий голос. — По четырнадцать лет, а уже лесбиянки, и в открытую, не стесняются.
— Молчи, шалашавка, — визжала пухленькая рыженькая девочка с маленьким, порочным и хищным личиком. — Молчи тварь, погань, падаль, мусор! Зубом, как штыком проткну.
— Она, гадючья кость, дитёв изводила — докторша, кивирялка. — Начальник, давай воды! Селезенка присохла! Воды! Воды! — захлебывалась криком чернявая смазливая малолетка.
— Начальник, давай снасть! Давай мужиков! — кричали другие.
— Жрать! Пить! Мужиков! — вторила скуластая блондинка.
Визг, истеричный кликушеский рев заглушили выкрики мужчин.
Клык, Малинин, Хрущев, Мустафа закурившиеся гашиша, обалдевшие, обезумевшие горланили:
— Начальник, водки! Давай, мусор, водки! Гони, падла, выпивон! Давай гашиша! Опиума! Наркоза понюхать! Баб давай! Давай баб!
Руки, скрюченные когтистые руки, тянулись к майору, как незадолго перед тем тянулись к старшему сержанту.
Майор заметался. Оглохший, растерянный, напуганный — пробкой выскочил он в тамбур.
— С кем связались! — набросился он на старшего сержанта. — Арестую! Сгною! Мало вам казенных харчей и довольствия?!
— Товарищ майор! — взмолился старший сержант.
— Матери наши в колхозе, голые, босые. Хлеба и в этом году не получили. Весной с голоду помрут. Каждую весну на тошнотиках держатся из картошки, что под снегом перезимовала. Травой, корой питаются. Сестренка в эту весну померла от травы. Братишке не в чем в школу ходить. Для них взяли. Мы дружно, все солдаты. Разделили. Это ж у врагов народа, у контриков изъяли, законно.
— Подлецы! Хабарники! — кричал майор. — У врагов взятки брать! Не умеете концы прятать, так не беритесь!
Вагон стал медленно двигаться. Старший сержант выпихнул из тамбура двух своих товарищей, захлопнул дверь и выхватил из нагрудного кармана пачку денег.
— Товарищ майор, здесь шестьсот двадцать. Это все, что получили. Возьмите! Пожалейте! Не губите! Товарищ майор!
Майор обмяк. Раздувшиеся жирные щеки опали. Он взял деньги, сунул в карман и спрыгнул с подножки.
— Смотри, чтобы в последний раз! — погрозил он пальцем.
Поезд все глубже зарывался в скифскую глубь. Хмурые вековые ели бежали с обоих сторон вагона. Постепенно затихали возбужденные голоса. То тут, то там слышались уже хрип и храп, бормотание и тревожные выкрики сонных. Ночь косила утомленных перегоревших людей, ночь, насыщенная тревогой и кошмарами предчувствий.
В проходе, возле женской клетки, появился солдат.
— Солдатик, касатик! — зашептала одна из малолеток. Подойди, голубок, хребтинка чешется. Полозготал бы, помиловал бы, пошуровал бы вдоль хвоста. Полжизни без мальчишек. Прошвырнуться бы.
Солдат не подходил к решетке. Он облокотился на наружную стенку вагона и неуклюже отбрехивался:
— Знаем вашу сестру. Небось навару полпуда и вшей чувал. На лекарства разоришься.
— Что ты, касатик. С кем дело имеешь! Что я — воровайка, лахудра какая! Я, как есть, с детдома, крестьянская дочь. Родителей моих куда-то заслали. И вон у той чернявенькой, что рот разинула, сопит, тоже родители в Туркестане. Гречанка она. Увез ее оттуда из спецпоселка офицер — потаюхой — соблазнил четырнадцатилетнюю. Побаловался и бросил. Ее сейчас же за побег со спецпоселка запечатали. Свеженькая как ягода. Мы — девчата чистые, только вот неспокойная я, успокой ты меня. Выпусти на оправку. Похлопочу: червячка заморю.
— Давай, я гречанку выведу, — предложил солдат.
— Шалишь, первая я.
Солдат вышел из вагона. Минут через пять он вернулся в сопровождении старшего сержанта. Осторожно, на носках, прошли они вдоль клеток, убедились, что все спят и потом только отперли женскую клетку.
Сначала сходила рыженькая вострушка. Через полчаса она разбудила черненькую, а сама свалилась на её место в изнеможении. Когда вернулась третья — она залезла наверх, растормошила высокую стройную брюнетку лет двадцати пяти, ту, что кричала майору о лесбийстве малолеток и сказала:
— Слышь ты, докторша, — конвой сказал, чтоб ты вышла зараз до них. Вон дверь солдат держит открытой. Если не пойдешь, пустят тебя под воров. Ясно?
— Уйди, гадость, — отрезала женщина. — Не доросли твои мышиные жеребчики до меня. Брысь!
— Ну и сохни, стерва. Пусть твоя родилка паутиной зарастет. Мужики, ведь! Мясо живое! Они сейчас на вес золота. Нету мужиков. Хоть за телеграфный столб замуж выходи. В рот тебе пароход!
Она соскочила вниз и заверещала вполголоса:
Мы глотали все на свете, Кроме шила и гвоздя, Шило дома позабыли, А гвоздя глотать нельзя.В порыве экзальтации, выставив руки, она затряслась по-цыгански, выставила в сторону солдата тощий задок, будто выговаривающий что-то бесконечно бессыдное и похотливое.
Я и лошадь, я и бык, Я и баба и мужик, Для товарок я — кобёл, Для шофера — женский пол. Эх! Эх! Эх! Эх! Отпусти мне грех. Не отпустишь, барбос, Откушу тебе нос. Эх! Эх! Эх! Эх!— Заткнись, мурло, — окрысилась скуластая блондинка. — На блевоту тянет.
— Есть, заткнись! — залилась серебристым смехом девчонка, торжествуя, ликуя, что удалось под носом этой матерой похотливой фурии незаметно отведать запретного.
— Будет он долго носить след моих зубов, — шептала она, засыпая. — Острые, жадные, злые у меня зубы. Острые… злые… Злые… Злы…
Глава вторая. На пересылке
1
Привезли на край земли. Кругом чужедальняя темь на тысячи мерзлых верст, космическая стынь и пурга.
— Давно тут, дедушка? — спросил Журин у рабочего вошебойки пересыльного лагпункта.
Тот внимательно посмотрел на Журина и ответил:
— Я и в отцы тебе не гожусь. Не смотри, что седой, бородатый, разбитый. Тебе, вот, под сорок, а мне под пятьдесят. С 1937-го года мантулю без передышки. Пригнали к колышку. Слагал я в ту пору так:
Битый, рваный, пытаный, согбенный, Тысячи верст в этапах прошагав, Возвращаюсь я с конца вселенной, Всю изнанку жизни испытав, Никому на свете я не нужен, Некому поднять в честь встречи тост, Потому, силенки поднатужив, Приползу я на родной погост. Припаду к извивам старой ивы, Прежде, чем в бездонье тьмы уйти. Расскажу как горьким горем жили И как справедливость не нашли.— Вы — поэт? — спросил Пивоваров.
Старик утвердительно кивнул головой.
— Так. Василенко. Харьковчанин. Поэт Украины.
После бани и прожарки одежды повели на медосмотр.
Голые подходили по очереди к молоденькой белокурой докторше. Осмотрев спереди, она поворачивала заключенного и теребила ягодицы для определения упитанности. В этом и состоял медосмотр. Руки-ноги есть, температура — не повышена, значит: годен вкалывать. Молод — первая категория. Стар — вторая.
Только Малинин избег теребления ягодиц. Особо скабрезная татуировка на его животе, не очень, впрочем, отличающаяся от порнографической разрисовки других блатных, вызвала на бледных щеках врача легкий румянец. Ее оскорбила содомная тема рисунка.
— Первая подземная, — буркнула она еще более молодой и тоже вольнонаемной сестре, записывающей категории трудоспособности.
— Пиши, лепила, третью, — негромко рыкнул Малинин. — Куда шары отводишь, щупай: ребра сломаны, шесть шрамов от ран, глаза красные — травил химическим карандашем. Знаешь, ведь, что мы не вылазим из гибели, что все внутри высосали, отбили, выклевали. В шахту гонит, подлюка! Это я-то в шахту полезу?! Скорее на лбу у тебя рог вырастет!..
К Малинину подскочили два надзирателя и поволокли его из комнаты.
— Слышь, лярва! Третья категория — или запорю. Ясно? — крикнул с порога Малинин.
К врачу подошел Трофимов. Буравя ее горячим взглядом из-под нависших бровей, еле слышно произнес:
— Доктор, жалеючи предупреждаем…
2
Журин, Пивоваров и Бегун стояли в это время возле двери, за которой осматривали женщин.
— Я при отце стеснялась кофточку снять, — услышали они взволнованный девичий голос, — а вас тут дюжина чужих, молодых, насмехаетесь.
— Не сопротивляйтесь, — раздался хриплый мужской голос. Садитесь в кресло. Так. Теперь подымите ноги. Вот сюда, сюда ставьте. Лаптев — рефлектор! Митин и Еремин — раздвиньте губы. Соколов — бери мазок. А вы, товарищи фельшеры, наблюдайте, не толпитесь, шмонек хватит, едять их мухи с комарями.
— Товарищ медврач, она — целка, — заметил кто-то.
— Товарищ фершал, выражайтесь научно, — сухо отрезал врач, — говорите — девственница. Соколов, берите мазок не из влагалища, а из заднего прохода.
Бегун не вытерпел. Он наклонился к замочной скважине и смотрел, пока на него не закричала сестра.
— Анатомический театр, — рассказывал Бегун после. — Худенькую девочку распяли на гинекологическом кресле. Кругом толпа бендюжьих харь. Какие они медработники! Слова грамотно не скажут. Язык шоферни. Ясно — что уголовники. Слюни пускают и ковыряются там. Мазки берут. Нет ли, мол, гонорреи у девственницы.
Сестра подошла к двери, постучала и крикнула:
— Павел Иванович, тише там. А вы, заключенные, отойдите от двери. Вот так. Станьте к этой стенке.
Дверь загородил собой пожилой, кривой на один глаз надзиратель.
— Что там, баб оформляют? — подскочил к Бегуну Гарькавый. — Говорят, суки лагпункт этот держат. Горячо будет.
— Что такое — суки? — спросил Пивоваров.
Гарькавый смерил его снисходительно-презрительным взглядом, цыкнул слюну сквозь стиснутые зубы и процедил:
— Железного ломика отведаешь — узнаешь. Это гады, которых завербовали чекисты. Много среди них бывших воров.
Сестра зашикала и Гарькавый понизил голос:
— «Не исправлять, а истреблять» — вот лозунг чекистов и сук. Палкой и ломом вышибают они на работу и подгоняют работающих. Ослабших убивают. Законных воров — режут. Помогают операм сочинять новые дела на зэков. Поэтому и кормят их. Кроме этого, чекистам необходимо наш мир разделить, перессорить, чтоб резались. Иначе им не справиться с нами. Нас миллионы. Несколько смертельно враждующих партий создали чекисты. Кроме сук гуляют тут по буфету «Беспредельники», «Махновцы», «Красная шапочка» и другой масти гады. Но главный, массовый враг — суки. Ясно? Намотай. Держись воров. Дело наше правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Так Трофимов ботает. Грамотный, натасканный он мужик: Ленина, Сталина на зубок знает, газеты читает. Говорит: «В тактике ихней — много смекалистого, в агитации — много ловкого. Учиться у них надо как мозги вправлять и людьми править». В Кремле жиганы-тяжеловесы. Крупный куш хватают. Нас — воров, как и партсбсов, всегда во много раз меньше, чем вас, а командуем — мы. Потому что голову, стратегию имеем, а вы — шляпы, запутанные, заученные лбы. Душка в вас нет. Рыбы. Только работать и — на зарез, как оленей, ишаков, кроликов.
3
Ввели в зону. Вновь прибывших встретили шпалеры любопытных — высматривали знакомых.
К Журину подошел высокий, слегка сутулый старик с аккуратно подстриженной остроконечной бородкой.
— Казимир Янович! — обрадовался Журин. — Вот-то повезло! Всю дорогу вас вспоминал. Товарищи! — обратился он к Пивоварову и Бегуну, — познакомьтесь! — это Домбровский, польский социалист-публицист. Я вам рассказывал.
Домбровский повел всех троих в свой барак.
— Познакомьтесь с моим соседом, — предложил Домбровский.
— Ефим Борисович, — обратился он к человеку, затененному сумраком нар. — Это товарищ по Бутырке — инженер-металлург Журин. Это — студент-электрик Пивоваров, учитель физики Бегун.
С нар поднялся невысокий плотный человек, с большой круглой стриженой головой, резкими чертами крупного лица и небольшими темными глазами.
— Честное лицо, — подумал Журин, — и доброе.
— Шубин — конструктор с московского автомобильного.
— Я слышал, что ваш коллектив собирался укокошить хозяина? — вырвалось у Бегуна.
— Ерунда. Больная фантазия! Слухи, распускаемые чекой, — возразил Шубин. — У нас, ведь, был бы человек — обвинение найдется. Закон — как дышло: куда повернешь — туда и вышло. Маскируют геноцид. В этом суть.
4
Подошли двое. Тот, что постарше, заглядывая в глаза каждого, зазывающе вполголоса вещал:
— Мужики, кто хочет заигранного пацана? Только десять хрустов (рублей по-вашему). Дешевка! Налетай! Заигранный пацан, конфетка, булочка! Задок как пирожок! Пацан — как персик! Десять хрустов! Не зевай! Налетай!
Взявшись за плечо Домбровского, старший вор спросил своего молодого спутника:
— Как тебе, Настя, этот седой, породистый хряк?
— То ж не седой, вин — шпаковатый, — ответил кокетливо улыбающийся парень.
— Ребята, идите, ничего нам не нужно, — решительно заявил Шубин. — Да и хрусты наши давно стали вашими.
Отошли. Блатная краля «Настя» — по документам Анастас — смазливый парень с серьгой в ухе, выступал как пава, виляя утиным задом, окидывая окружающих мужчин вызывающим взглядом панельной девки. Яркое кашне, зеленый пиджачок с чужого плеча, челка, красные губы, безбородые бледные щеки. Походка женская, виляющая, плавная. Маленькие частые шажки носками внутрь. Казалось, он был преисполнен снисходительного презрения к окружающим, как к существам второго сорта.
— Бешеные тигры, Казимир Янович, — подмигнул Журин.
— Увольте, не тигры, — возразил Домбровский. — Мне кажется, что из вспоротой здесь угольной мульды вырвались доисторические чудища.
— Казимир Янович на свой чистоплюйный аршин нас мерит, — вмешался в разговор второй сосед Домбровского. — Хотел бы я посмотреть на него, кабы он так как мы на брюхе прополз сквозь жуть эту замутнённую, заблатнённую. Другой раз очнешься и сам себя не узнаешь…
— Друзья, — воспользовался паузой Домбровский, — познакомьтесь: это Скоробогатов Петр Устинович, рабочий-литейщик. Учился в вечернем техникуме. Очень интересный товарищ.
— Тридцать пять лет как грызем друг дружку, а барыш плывет сосам в кружку, — продолжал Скоробогатов. — Поживите под началом наших драконов побольше, Казимир Янович, и сами бросаться на людей будете, если не превратитесь в соляной столб как жена библейского Лота.
— Вот именно, от женщин паскудства много, — раздался с верхних нар чей-то голос.
— А! Это Коля Солдатов, шофер-ловчила, — осклабился Скоробогатов, — прислушиваешься, на ус наматываешь?
— Не балабонь, пяхота, — огрызнулся Солдатов.
— В день, когда черт попутал долго припухал я у конторы — путевку ждал. Ныло в нутре, что зря машина загорает. Крутишь баранку — навар, калым подшибаешь, а под лежачий камень вода не течет. Наконец, выбрался под вечер — не жравши. Думал — не будет пассажиров и левака не зашибу. Ан, гляжу: бабенка голосует поллитровкой. Много их, чертей, навязывается. Из сил от них выбился. Своя баба в три ручья воет. Однако замедлил ход. Смотрю — смазливая. Посадил.
— Видишь, ношу вашего, шоферского, — она похлопала по чуть припухшему пузу, — из вашей автоколонны зарядка. Сказывал — Петей звать. Да вы все врёте имена. Над нами, сельскими, насмешничаете. Теперь дорабатывай, шоферня, — верещала она сквозь смех, — а то ему дорога в жизнь зарастет.
— Ну вас, к лешему, — огрызаюсь. — У вас вон кобели на цепях. Обгуливают без нас. А потом — сам скоромься. Дудки.
— Опомнись, дурень, — завизжала бабенка. — Я не из таких. Видишь пузо. Хиба ж так зря нагуляешь?! В прошлом году знакомой горожанке кабана четырехпудового отдавала, чтоб мужика на месяц отпустила. Так побоялась, не дала, хоть на кабана дюже зарилась. Голодно, ведь, в городе. Побоялась — съем мужика! А я в ту пору действительно сдуру могла мужика пополам перепилить. Так бы и грызла зубами. Страсть, как трудно было. Хучь падай. Хучь мри.
— Так, — думаю, — горячих кровей молодуха попалась. Настроился помацать. Облапил колено и повыше полез. Дай, думаю, хмельного глотну. Без этого и настроения не будет.
Выколупал тряпку из горлышка, приложился и… остолбенел. Рот обожгла какая-то тухлая соленая водица.
— Что тут, падла! — выкрикнул, сплюнув.
А она невозмутимо округлив бельмы, отвечает:
— Моча это, и не какая зря, — а беременная. Фершалица сказывала, в ней дюже пользительного мамину невпроворот. Глянь — какая густая, склизкая. Лекарство всегда несмашно.
Стукнул я стерву промеж ушей, а дверцы-то у ЗИС’ов — знаете какие. Свалилась она под задние колеса. Припаяли семь лет за мамин за этот.
Подлюки, — я вам скажу, — бабы. Без мужиков такие настырные, отчаянные стали. Ни стыда, ни совести. Бывает спьяну шофера лавют и охальничают над ним… шкуру сдирают…
— Зря про баб лаешь, — прервал словоохотливого Солдатова Скоробогатов. — У самого-то где совесть была, так срам вырос на радость маме.
— Что ж тогда в жизни хорошего, если не женщины наши, — поддержал Скоробогатова Журин.
— Знаем вас, женострадателей, — скептически возразил Солдатов. — Живешь-то с женой душа в душу, но трясешь ее как грушу и вдов да молодух да малолеток обслуживаешь.
— Перестань, пожалуйста, Солдатов, — не то попросил, не то приказал Журин. — Не рядись в циника. Нутро у тебя доброе.
5
С улицы донесся звон. Били в рельсу.
— Внеочередная поверка, — разъяснял Шубин. — Я здесь около месяца — старожил. Порядки знаю. Выходите на середину барака. Становитесь по-двое. Ждите.
Дверь раскрылась. Вместе с двумя надзирателями ворвалась в барак парная стужа и вой ветра. Бледные призраки в обезличивающих лохмотьях стали прислушиваться к перекличке. Надзиратель называл фамилию. Обладатель ее выкрикивал свои установочные данные.
— Домбровский! — кричал надзиратель.
— Казимир Янович — 1888 года — 58-2, 5, 10, 11–25 лет, конец срока — 18.9.76 года.
— Солдатов!
— Николай Пантелеевич — 1925 года — 59-Зв — 7 лет, конец 4.6.59.
— Скоробогатов!
— Петр Устинович — 1918 года — 58–12 — недонос — 5 лет — конец срока 3.4.57.
— Шубин!
Ефим Борисович не успел ответить. Несколько десятков зычных глоток заорало:
— Хлопчатобумажный! Хаим Беркович! Хрен Блатович! и т. д.
— Заткни мурло, провокатор! — напустился на стоявшего вблизи крикуна Скоробогатов. — Чего человека зря мытарите! Обрадовались, что начальство на евреев натыривает, на чужом горбу в рай едет.
Горлодер рванулся с кулаками к Скоробогатову.
Стоявшие рядом Бегун и Журин схватили его за руки. Сквернословя и вырываясь хулиган горланил:
— Бей жидов! Ничего не будет! Дозволено! Следователь ботал! Бей!.. В горло! В душу! В селезенку!..
— Зверюга! — бросал ему в лицо Скоробогатов. — Отца родного посадил! Мать обокрал! Сестру трипером заразил! Сам хвастался, гад!
Крик поднялся неистовый. Люди с воспалёнными перекошенными злобой лицами, раскрытыми в крике зубастыми ртами сбились вокруг Скоробогатова и его противника, рвавшегося в бой.
Сбежавшиеся по свистку надзирателя солдаты разогнали сутолоку. Скоробогатова и хулигана увели в комендатуру.
После поверки удивленные этой вакханалией новички узнали, что Шубин после следствия получил дополнительное имя отчество — «Он же — Хаим Беркович». И это, несмотря на то, что во всех документах всю жизнь Шубин числился Ефимом Борисовичем. Специально посланный копаться в архиве раввина золотопогонный делосочинитель откопал это имя отчество — «Хаим Беркович».
С первых дней пребывания Шубина на пересылке упоминание его двойного имени отчества вызывало хохот, шум, выкрики. До сих пор несколько фамилий и имен имели только профессиональные уголовники, подвизавшиеся на воле по разным поддельным документам. Смешило то, что «лобастый фраер» с глазами, блуждающими поверх голов, был уподоблен блатным.
Надзиратель, пытаясь унять надоевший галдёж, разрешил Шубину выкрикивать только две буквы: X. Б., но и тут находчивые земляки не растерялись.
Расшифровывая это X. Б. они соревновались в наиболее уродливом, картавом, гортанном произношении еврейских имен, с присовокуплением похабных словосочетаний.
Чекисты достигли цели: лозунг «разделяй и властвуй» действовал.
— Начинают надоедать эти концерты, — грустно жаловался Шубин. — Когда-то судьба несправедливо преследуемого человека — вроде Дрейфуса, Бейлиса могла потрясать совесть мыслящего человечества. Гитлер и Сталин приучили мир к тому, что «одна смерть — трагедия, миллионы смертей — статистика».
— Раньше такого не было, — говорил Шестаков.
— Ну, зубоскалили, анекдоты травили, но без злобы. От немцев злоба пошла.
— Не от немцев, — поправил Шубин, — от гитлеровцев.
— Может, скажешь, Гитлер пожег миллионы людей? — повысил голос Шестаков. — Своими руками.
— Гитлер? Все они лютовали: убивали и грабили, сжигали и опять грабили. И все в свою берлогу сносили. Богатств награбили — немыслимо представить.
Шубин не соглашался с Шестаковым. Он не хулил немцев.
— Если бы нас, — говорил Шубин, — десять лет натравливали, скажем, на рыжих, если бы нам не только разрешали преследовать и убивать, но и заставляли убивать — мы были бы не лучше. Не знаю такой массы людей, которую за десять лет нельзя было бы натравить на других. Злобу вызвать легко. Главная вина, конечно, на тех, кто разжигает злобу, кто разрешает подлости, кто приказывает делать подлости.
Домбровский утвердительно качал головой.
— Мне нравится Ваша объективность, — сказал он. — Я согласен с Вами. И не нужно печалиться. Всегда антисемитизм сверху был признаком конца режима.
Надзиратель предупредил, чтобы никто из барака до отбоя поверки не выходил. По появляющимся на улице приказано стрелять.
— Что там приключилось? — спросил Домбровский дневального, прожаривавшего возле печки бельевых вшей.
— Запороли фраера, — ответил дневальный, — да балакают не того, кого следовало бы. Новенькие блатные хотели прирезать одного доносилу, который в вагоне вызвал эмгебешника и жаловался на грабеж, ан зарезали по-ошибке другого — впотьмах обознались.
— Сейчас надзиратели ищут ножи. Ботают, что убийцы прячутся. Пустой номер. Как всегда ничего не найдут.
— Это вас, Шестаков, хотели, — упавшим голосом произнес Журин. — За то, что вы вызвали майора во Владимире. Звери! Чуть что не по нраву — резать, рвать, убивать. Никаких сдерживающих внутренних тормозов.
— Так и у примитивных людей, — заметил Домбровский. — Я путешествовал, наблюдал. Такие же плёвые нервы. Вскипают в миг и по любому пустяку — за нож. Трудные люди.
6
Журин решил повидать Трофимова. Хотел отговорить его от расправы с Шестаковым.
В бараке воров первым бросился в глаза Гарькавый. Сидел он на нижних нарах, пощипывал гитару, и пел:
Перебиты, поломаны крылья, Жуткой болью мне сердце свело, Кокаина серебряной пылью Все дороги мои замело.Это, видно, был конец песни, ибо Гарькавый, сменив мотив, продолжал:
Дорогу построили быстро, Прямая легла как стрела. Эх, сколько костей заключенных Собою подмяла она.Журин рассмотрел сидевшего возле замерзшего оконца Трофимова и подошел к нему. Трофимов оторвался от книги.
— А…а, вагонный фраер. Чего пожаловал? Барахлишко просить? Не пеняй — все загнали, проиграли, спустили, но коли худо тебе — помогу. Ты головастый. Еще пригодишься.
— Нет. Я не с этим. Хочу насчет Шестакова.
— Цыц! Полундра! — прижал Трофимов палец к губам. — Стены уши имеют.
Залезли на вторые пустовавшие нары. Трофимов спросил:
— Знаешь, где ховается?
— Нет.
— Ну, тогда не о чем говорить.
— Зачем вам за каждую мелочь убивать? — с болью произнес Журин. — Ну, ошибся человек, не знал ваших законов. Наложите в загривок. Но убивать? Это ж так только дикари делают. А вы, Сидор Поликарпович — начитанный человек. Не к лицу это вам.
— Так нужно нам. Мы должны показать сукам, что душок в нас жив. Их здесь больше, чем нас, и потом знаешь, о чем спросил Шестаков сразу же, как пришел на лагпункт? — «Где тут оперуполномоченный?» — Ясно? Шестаков — это сука из вашего огорода. Вижу насквозь. Подлее всех. Он вкапался, гадюка, схвачен на живце.
— Сидор Поликарпович, это же предположение. Зачем вам умножать кровавый счёт? И без вас разные терзатели обескровили народ. Ради матери своей, не губите, пока не доказана вина.
Трофимов молчал. То ли думал. То ли прислушивался к очередной жалобной песне. Печальные раздумчивые мотивы были в сегодняшнем репертуаре Гарькавого. Прислушался и Журин.
Там бывают такие морозы, Что трещит, расколовшись, земля. Ты ж мантулишь под сучьи угрозы, Пока хряснет как льдинка душа. Помню как-то в тифозной горячке Не расслышал я сучий приказ. Вмиг накинулись псы, рвали тела куски И посыпались искры из глаз.— Да, мы — подлецы, — прервал молчание Трофимов. — Более того: мир не знал и не знает ничего более беспощадного, но нас такими создали наши правители по образцу и подобию своему. Это они призывают убивать, грабить, мучить всех, кто не с ними. Это они прививают беспощадность, доносничество, враждебность и недоверие ко всем — как черты советского характера. Это их девиз: «Беспощадно уничтожай классового врага!» «В коммунизм войдут только достойные, а остальных — на свалку истории!» «Если враг не сдаётся — его уничтожают!». «Смерть врагам народа!». «Бей космополитов и низкопоклонников перед Западом!». «Кто не с нами — тот против нас!». «Истребим частную собственность!».
Трофимов выкрикивал лозунги срывающимся модулирующим голосом. Перед глазами его плыли оскаленные хари советских горлохватов. Он передразнивал их площадные выкрики и наслаждался тупостью, недальновидностью, звериным примитивизмом их злобного рыка.
— Тише! Тише! Голубчик! — тряс Трофимова за плечо Журин. — Не так громко! Сам, ведь, говорил, что стены уши имеют. Здесь может быть подслушивающий микрофон, как в тюремных камерах.
Трофимов вздрогнул.
— Мне наплевать, но ты — фраер-малосрочник, так сбавим парку.
— Знаете ли вы о притонах для кремлевцев? — ожесточенно, страстным полушопотом вопрошал Трофимов. — О притонах, где эти гниющие старцы растлевают малолетних девочек? Вы этого не знаете, но знаем мы. Нет счёта их преступлениям. Нет ничего чудовищнее, низменнее, подлее кремлёвских шишкомотов. Они выстругали, вылепили нас — ожесточенных, оподлевших, бессовестных, кровожадных людей, научившихся у правителей маскировке, лицемерию, притворству, рисовке. Все мы замутнёны, развращены, или соучастием в преступлениях шишкомотов или под прессом этих массовых преступлений.
Трофимов закашлялся. Хватал большим запекшимся булькающим ртом нашатырную портяночную прель барачного воздуха. Лицо его стал подергивать нервный тик. Угли-глаза еще глубже провалились в подбровные теснины. Он весь дрожал и дергался.
— Что ты хочешь от меня, фраер?! — вырвался наконец клёкотный сдавленный ненавидящий крик. — Иди! Не вмешивайся и не вздумай трёкать. Слышишь?! Ни одной живой душе! Я сказал тебе лишнее. Ты знаешь меня. Иди!
Сжигающий злобный взгляд провожал Журина, а Гарькавый напутствовал очередным стоном изболевшейся души.
Маменька родная, Болит мое сердце, Болит мое сердце в глубине. Мы радости не знали, Мы жизнь свою отдали На стройках пятилеток и войне. Пайку получаем каждый день. С кухни отпускают дребедень. Суп из голых круп пуляют, Ложку каши добавляют Или щи — капусту не ищи. На работу гонят фраеров. Фраер он — как конь втыкать готов. Мы ж работы не шукаем, Мы лежать предпочитаем, Пусть втыкает трактор, он — стальной.За теплой влажной прелью барака Журина охватил, ослепил, понес снежный шквал; злющий колючий пронизывающий ветер протяжно надрывно выл:
— У…у…убью! У…бью… у…у…у..!
7
— Вы были у воров? — спросил в бараке Пивоваров. — Вам удалось помочь Шестакову? Я сразу понял, куда вы ушли. Хотел с вами, но вспомнил этих вагонных драконов и остался.
— Страшные люди, — произнес Журин, залезая на нары, — против всего на свете ожесточены.
— Люди как люди, — отозвался Солдатов, почесываясь. — Обыкновенные люди и злоба обыкновенная. Вот, скажу я вам, сидел я недавно в камере вдвоем с мужчиной. Матёрый хват. Герасимовичем звали. Начальником автоколонны был в Подольске. В партии состоял. Долго сидели. Надоел — хуже тухлой селедки. Под конец стал я побаиваться, что или он меня сонного придушит, или я его. Ненависть такая друг к другу распаляется в этих подлых клетках — и ни за что. Просто — противен человек, каждое его слово, привычки, ужимки — все отвратительно, а тут еще — эта параша, безделие. Смотришь друг на друга день и ночь и некуда деться. Он читает твои мысли — ты его, и чувствуешь, что жить он тебе мешает, что ненавидит, хочет твоей смерти. Следователи это знают и часто таких стравленных петухов заставляют друг на друга брехать. Так и дело стряпают. — Так вот: Герасимович этот в дни, когда мы еще рассказывали разное друг другу от скуки и душевного беспокойства, такое выкладывал:
— Отступали мы, — рассказывал, — поодиночке летом 1941 года. Спасались, кто как мог. Набрёл я на окопчик в степи. Смотрю: сидит интеллигент. Очки, морда холёная, лоб с фантазией и обматывает левую ладонь мокрыми кальсонами. Под кальсонами — дощечка. Все честь честью, чтоб не догадались, что самострел. Только он это винтаря приставил и, зажмурясь, рукой дрожащей собачку нашарил, я — как гаркну. Он и сел, обомлел. Я — к нему. Обшарил. Смотрю: партийный билет, удостоверение: заведующий районным земельным отделом. Очнулся он, в ногах валяется, просит, чтоб не выдавал. Забрал я у него планшетку — понравилась, мотнул слегка сапогом в рыло и поканал. Чувствовал, что зверь во мне пробуждается, кровь клокочет как суп в горшке. После пожалел, что не тюкнул. От таких вся чернуха в жизнь пёрла: кампании, садиловки. Всюду фронты и со всеми борьба. С каждой Марфой борись: «На капустном фронте», «на сорняковом фронте» — всюду человеку юшку пускают и жилы выматывают.
Вспомнил, что дядьку моего по злобе раскулачили. В топь к комарам и мошке на съедение заслали и утопили весь спецпосёлок весной, когда река разлилась. А я дюже любил тётку — добрую, душевную, красавицу. Хотел опять разыскать этого лобастого — тюкнуть, да только «Юнкерс» налетел, по мне — одиночке — строчить начал. Ну и остыл, забылось.
Пивоваров не мог отделаться от впечатления, что Солдатов не чужие слова передаёт, а о себе, о пережитом рассказывает. Уж больно смачно, от души, интимно речь он вел.
Пока Солдатов рассказывал, никто не заметил, как подсел сбоку в сумраке нар дневальный барака — ражий, свирепого вида мужчина, державшийся атаманом. Все работы, входившие в обязанности дневального, выполняли по очереди обитатели барака под строгим присмотром этого дневального. Он неожиданно вступил в беседу, когда Солдатов замолк.
— В годы войны славная житуха пёрла, — говорил он со злорадным упоением. — Бей, кого хошь. Все разбрелись: каждый норовил в укрытие к жинке чужой, иль, на худой конец, к своей, в плен или в советский тыл. Начальство характер мой унюхало и в заградотряд определило. Стреляешь, бывало, до отвращения. Надоест, так бьешь только остервенелых — таких как сам, кто тоже мерз на финском фронте и в Польше, кто пятки и душу стёр в окружении. Я, вот, как в 1937 году призвали в армию, так и воли не видал. Войны, плен, лагеря немецкие, потом советские. В изменниках родины сейчас хлябаю. И так без конца.
— Хорошо было на войне, — продолжал дневальный, — любого, кто наперекор, кто не нравится, слово не так вставил, нутро твое поколыхал, — стукнул в удобный момент и крышка. Всё с рук сходило. Даже на подозрении не был. Бывало, сапоги приглянутся или, скажем, фляжка, или охоч я был до маленьких дамских пистолетов, а то кусок хлеба взять надо — тюкнул дружка и порядок. Вырвал хлеб и пошел.
Голос дневального все больше наливался утробной ненасытной злобой. Говорил он негромко, но каждое слово, как отравленный клинок, вонзалось в сердца слушателей.
— Знаю одно: все враги, каждый сделает самое худшее, на что способен. Одно задерживает человека: страх кары. Убивай каждого, кого можешь убить! Бей, падла, иначе он тебя, мусор, определит. Бей за то, что по земле ходит, за всю жизнь затравленную. Человек — враг, хорош только мертвый.
— Что вы говорите! — раздался отчаянный возглас Пивоварова. — Не верю! Вы клевещете на себя. Так жить нельзя. В жизни еще будет хорошее, светлое, доброе.
— А… клякса, суп, развел канитель, — ощерился дневальный.
В горле его заклокотала выхаркиваемая из чрева, изумлявшая своей немыслимой похабностью, отчаянная новоблатная ругань.
— Все вы будущим соблазняете: кто на небе, кто на земле; а — вчера, а — сегодня?! Я один раз живу и никогда больше молодым, добрым, чистым не буду.
Рывком он поднялся с нар и, хлопнув дверью, вышел.
— Верьте ему, — обратился к Пивоварову Журин, — перегорели многие, перемучились, потеряли облик человеческий.
— Да не многие же, Сергей Михайлович, — отчаивался Пивоваров. — Ведь это одиночки, отбросы.
— Вы тоже — отбросы? — посуровел Журин. — Подумаешь провинился — за Эйнштейна заступился. Меня обвинили, что дважды не то и не так сказал наедине двум людям и при этом измыслили обвинение. Домбровского на склоне лет приволокли из Варшавы за то, что был социалистом-марксистом. Пожилой человек. После советской оккупации Польши жил тихо. Не выходил за пределы своего садика. Отказался от общественной деятельности и, главное, — он ведь не советский подданный. Всех нас без дела в отбросы зачислили и мы только начали жизнь в помойках.
Дневальный пятнадцать лет в неволе, боях, голоде. Небось человечину ел. Пробился сквозь такой ужас, что мы бы не вынесли. Посмотрим, какими мы станем после лет такого пути. Еще учти: здесь часто раскрываются души. Выскакивает затаенное и от того, что нервы сдают, и от того, что терять нечего. Жизнь ощущаешь как бремя, освободиться от которого не хватает воли.
— Кремень — мужик этот Дронов, — не то одобрительно, не то завистливо обронил Солдатов.
8
От зарешеченной и замкнутой, чтоб не украли, электролампочки сквозь дым и пар едва пробивался скудный свет. Низкий хриплый говор перекрывался руганью, выкриками, дурными голосами говорящих во сне.
Пивоварову не спалось. Привычно посасывал голод. До утренней пайки надо было ждать часов десять, а последний глоток горько-соленой трески он сделал часов шесть тому назад, в пятнадцать часов.
— День за днем, — вспоминал он слова Василенко в очереди к кухонному окошку, — единственный источник животного белка — кусочек горько-соленой ржавой трески или камбалы с промерзшим хлебом, который, оттаяв, становится замазкой, прилипающей к нёбу, вязнущей в зубах.
Все дальше качалась и, мигая, уплывала в серую муть зарешеченная плененная лампочка.
— Я весь с тобой, Танюша, — шептал, как молитву, Пивоваров. — Никого и ничего не знаю, не помню, не хочу. Ты одна — моя любимая, моя прекрасная, ушедшая. Я счастлив, что в стужу и всхлипы пург, когда леденит непомерная, потусторонняя, с ног сшибающая тоска, тебя я вижу, тобой грежу, тебя касаюсь благоговейными устами, встаю и бреду к лучезарному миражу мечты…
9
— Подымайтесь, гады! Подъёма не слыхали?! — орал нарядчик черной, гнилозубой глоткой. — Через полчаса к вахте без последнего вылетай! Последнему битки в дверях. Филонам — карцер, интеллигентным симулянтам — придуркам — барак усиленного режима — БУР. Ясно? Дважды не повторяем.
Пивоварова и Журина послали пилить дрова за зону.
Было еще темно. К черному горизонту мчалась луна — замерзшая, поблекшая с подбитыми глазницами. Из пустоты безбрежья струился враждебный смертельно-опасный беспощадный студ. В десяти метрах чернела паутина ограждения лагерной зоны, освещенная прожектором с ближней вышки.
— Мне… тебе… начальнику, — приговаривали в такт движению пилы работавшие рядом хлопцы.
— Мне… тебе… начальнику… сто раз начальнику, затем мне, тебе и опять начальнику.
— Давай, давай, деятели! — покрикивали они на Журина и Пивоварова. — Не темните! Душу отдайте родине! Это вам не циркуляры строчить.
Журин отшучивался. Проходивший в это время рядом бригадир — сытый бездельник, беспощадное двуногое из сук, — зычно крикнул:
— Давай, падло, не талдычь! Языки у вас ловко подвешены! Ты знай, мусор, кубики втыкай! Пока нормы не схватите — в барак не пущу! Порядочек общий, старый!
В сумраке позднего полярного утра увидел Пивоваров за углом барака в зоне жестикулирующую фигуру в телогрейке.
Хлопцы, работавшие рядом с Журиным и Пивоваровым, тоже заметили махавшего руками и, замедлив темп работы, о чем-то заспорили. Через минуту один из них, улучив момент, когда часовой на ближней вышке отвернулся, швырнул в зону какой-то мешочек размером в кисет. Мешочек лег так, что махавшему руками пришлось выскочить из-за угла барака и пробежать шагов двадцать по открытому месту.
Грянула автоматная очередь. Фонтанчики снега взвились возле ног бегущего.
— Ложись!
Из караульного помещения выскочили трое солдат. Один из них ударил рукояткой нагана по шее лежащего и дважды в нижнюю часть спины.
Заключенный закричал детским слабым голосом.
— Что в мешке? — кричал солдат. — Взрывчатка? Гашиш? Встань! Бери мешок!
Солдаты тормошили паренька, пинали его ногами, ругались. Дважды пытался встать лежавший и падал со стоном и плачем. Наконец подполз к мешочку.
Солдаты поволокли к вахте негнувшееся тело.
— Господи! За горсточку сахара убили, — причитал побелевшими губами бросивший мешочек.
— Это кореш наш, — объяснял он Журину. — Канев Василий. Земляки мы, Петруньские — деревня на реке Усе. За пуд картошки по пятнадцать лет впаяли.
К ним бежали двое солдат.
— Кто кинул? Признавайсь? — Кричали они злобными ненавидящими голосами.
Ребят повели в карцер. Видно было, что солдаты рады случаю проявить лютость, бдительность.
Минут через десять солдат повёз в тачке, тоже в карцер, избитого паренька.
— Да, Рассея, дожди косые и щи пустые, — тихо произнес Журин, — мне не забыть вас никогда.
Пивоварова происшествие это ошеломило.
— Боже! Неужели правы окружающие меня? Неужели человек в такой обстановке не может не делать зло? — думал он. — И все ненавидят всех. Солдаты — такие же ребята, как и пилившие рядом, даже чуть моложе, но судьба ставит их в положение, при котором неизбежны опасения, подозрения, боязнь ответственности, ненависть.
«Разреши человеку зло и быстро в нем проснутся инстинкты зверя» — вспоминал Пивоваров мысль Журина.
— Сергей Михайлович, — обратился Пивоваров к Журину, — вы верите Бегуну, что следователи пытают и избивают не по собственному произволу, а на основании указа Верховного Совета СССР?
— Да, это абсолютно, неопровержимо точно, — отозвался Журин. — Когда кончилось так называемое следствие по моему делу, я объявил голодовку, пока не дадут мне свидания с прокурором. Прокурор вызвал меня. Это был не рядовой чиновник, а заместитель главного военного прокурора СССР, подполковник Котов. Я пожаловался ему, что два следователя — майор Дмитриев и лейтенант, фамилию которого не знаю, били меня три раза кулаками и сапогами. Показал я Котову девять синяков на теле, запухший нос, синюю подглазницу. Я кипел возмущением, говорил, что это беззаконие.
Котов невозмутимо выслушал, потом усмехнулся и заявил:
— Вы, ведь, не мальчик, Журин, не глупый мальчик. Неужели вы не понимаете, что следователи нашей, окружённой врагами страны, имеют законное право на такое обращение? Они действовали по закону и с санкции начальства. Ясно? Свидетели утверждают, что вы разносчик радиопропаганды «Голоса Америки». Естественно, следствие хотело, чтоб вы признались.
Позже, мой сосед по камере, бывший офицер генштаба, рассказал мне, что между собой чекисты называют «Зеленым кодексом» документ, подробно регламентирующий процедуру пыток. Начинается «Зеленый кодекс» указом Президиума Верховного Совета.
— Мир этот жесток, мой юный друг, и люди, хотят они этого или нет — ожесточаются. Одни умеют это скрыть, другие не умеют, не в состоянии или не хотят скрывать. Владыками в человеке не только разбужено, но и поощряется зверство. В этом причина всего ужаса фашистских и советских лет.
10
Вечером к Журину пришел Кругляков.
— Не забыли меня?
— Нет, что вы, помню. Сидите за меньшевизм.
— Раз помните, так хочу к вам в барак перебраться. На миру и смерть красна. С людьми своего круга, и симпатичными, в пекле легче.
Через четверть часа он принес охапку стружек, схваченную грязным полотенцем — подушку.
— Вот и все мое имущество. Спасибо Черепене — пальто оставил, так что живу как в сказке: через десять перин горошину чувствую.
Журин, Домбровский, Пивоваров, Шубин, Бегун с Крутляковым перебрались в пустовавший угол барака.
— Тут хоть сыро, холодно, но от ушей подальше, — объяснил свою инициативу перехода в угол Журин.
В сумерки на «новоселье» пришел Василенко. Принес два котелка каши.
— Подкрепляйтесь, ребята. Я старожил — сыт. Старые знакомые меня поддерживают, я — их. Рука руку моет и обе грязные. Посижу с вами, можно?
Каша была проглочена залпом. Сразу повеселели.
— Вы спрашиваете, — медленно выдыхал слова с махорочным дымом Василенко, — как попал, почему так долго сижу? Обычные вопросы. Детские. У всех новичков на кончике языка. А у нас тут кажут: так вот, дали ему год, отсидел восемнадцать и досрочно освободился. Мне тоже на початку, в 1937 году, ОСО дало пять лет. Пришили самую легкую и ничего не говорящую формулировку: социально опасный элемент — СОЭ. Били. Допытывались о людях, о которых ничего не знал и еще… выпытывали, где ховаю золото. В 1933 году за кулек муки снес я в торгсин обручальное кольцо. Тогда и на заметку взяли. Не верили, что нет золота. Впрочем, мода была такая: у всех выколачивал и попутно золото, серебро, драгоценности. Допросы — только ночью. Днем спать не дают. Кровать в одиночке поднимается и замыкается. Так было 49 суток. Опух. Отупел. Кожа да кости. Били по пяткам, вывихнули большие пальцы рук, ставили на стойку, пока ноги не отекли. Лишался сознания. Подвешивали на ремнях за руки. Били опять до отупения. Толкнут — идешь. Поднимут — встанешь. Все осязаемо струится мимо восприятий и не можешь, как ни стремишься, ничего уловить, ни на чем сосредоточиться, ничего понять. Под черепом — вата. Впрочем — другим доставалось лише. Особенно тем, за кем была какая-либо реальная вина. Срок закончился в 1942. Политических до конца войны не отпускали. В 1946 дали расписаться, что ОСО дало еще десять лет за антисоветскую агитацию. Семнадцать заявлений в Москву передал начальству за семь последних лет. Просил допросить, сообщить, в чем обвиняют. Напрасно. «Ваше заявление оставлено без удовлетворения», или — нет ответа. Как получившего лагерный срок политического рецидивиста направили меня на штрафной лагпункт, на известковый завод. За тысячу и одну ночь не расскажешь все, поэтому не пытаюсь это сделать.
— Пожалуйста, расскажите, — умолял Пивоваров, а с ним и все остальные.
— Ладно, так и быть. Тянуть мне уже не долго. Внутри все отбито, истощено, сожжено, — согласился Василенко. — Скоро оденут деревянный бушлат и с биркой на ноге увезут на тринадцатый лагпункт под конвоем все выстраданное, пережитое.
Об известковом эскизно, намечу контуры. Полезно вам знать это щоб лучше ориентувалысь.
Був я в ту пору уже доходягой: бескровный, оборванный, голодный, вшивый, мучимый хворобами, прошедший ад изысканий и будовы железной дороги Воркута-Котлас. В числе ста двенадцати притопал я на известковый.
— За невыход на работу — вывод в кандалах, — объявил начальник и повел нас смотреть кандальников в котловане карьера. Все в лаптях. Цепь вокруг корпуса и ответвления от цепи к ногам и рукам. Кувалда тоже на цепи.
— За сопротивление, попытку побега, саботаж — смерть, — объявил чекист зычно и провел нас мимо двух трупов у вахты.
— Синели кишки в разорванном животе одного. Серели ребра и клочья замерзшего мяса. Лица были синие, искаженные, деформированные, оскаленные.
Сломанный нос одного замерз загнутым. Очевидно, умирая, он лежал ничком на полу. На коленях одного сохранился номер и он врезался в память: Д-1432.
Дали и мне номер. Велели забыть имя и фамилию. Барак разделили на маленькие клетушки. На работу поднимали палкой с крючком на конце. Зацепит нарядчик крючком за что попало и волокёт полутрупы со дна клеток.
Здесь, на краю жизни, человек разверзался до нутра. Те, у кого теплилась воля к жизни, становились агрессивными зверями. Отнять пайку, вырвать глоток баланды было там фонтом жизни. День передышки, видпочинку или по-лагерному «канта» было часто спасением. Недаром говорят: «день канта год життя».
По любому капризу начальства руки и ноги связывали в пучёк и ложили замерзать или, позднее, летом, — на съедение комарам и мошкё.
«Не исправлять, а истреблять вас — бешеных врагов народа» — твердили чекисты от рядового солдата, суки-бригадира, — до золотопогонников.
Люди начали увечить сами себя, щоб отхватить хоть несколько дней передышки. Вши заедали. Чем больше слабел человек, тем больше у него было вшей и не только в белье. Во всех швах телогреек кишели снаружи бесчисленные большие серые воши. Нижнее бельё потеряло свой первоначальный цвет и стало кровавобурым. Нигде нельзя было найти глазами серую точку ткани: сплошь ползали, копошились, лазили друг по другу и по бурому белью воши. Ничто не помогало. Лютовали и клопы. Смерть стала ежедневной, обычной. Помню: бувало все тело болыть. В глазах плыветь затуманенный мир. Даже холодное солнце кружится в первозданной космической пыли. Как болыть спина, ребра, грудь! Как рвётся все внутри! Застарелый шквальный кашель вызывает боль даже в отекших ногах, в тяжких ресницах, за ушами и подмышкой, а на работу «без последнего вылетай» — в смертную стужу, в полярный, насквозь пронизывающий ветер, сквозь позёмку и пургу тащись в котлован и давай кубики — иначе ломик суки прикончит и этот бред и хрупкую надежду.
Голос, выдававший скрытое волнение осёкся. Василенко сидел с минуту молча, зажмурившись, тяжело дыша, затем продолжал:
— Падали на вахте до роботы и писля неё, падали замертво на работе. Не подымались с пола и нар в бараке. Падавших в колонне пристреливали. Многих добивали суки ломиками. Четверо сук сейчас тут. Двое нарядчиками: Лаптев и Соколов, один — бригадир — Митин, один — завкухней — Еремин.
Когда прибывают жинки, наряжаются суки в белые халаты и берут мазки из влагалищ. Фельдшером там Александров, тоже из сук. В армии санитаром бул. Здесь считается фельдшером.
Василенко умолк. Затем встал. Попытался выгнуть свою несгибающуюся спину, оперся на костыль. На слушателей смотрели огромные запавшие, светящиеся мрачным огнем глаза. Видно было, что обладатель их догорал. Из глаз струился таинственный пламень жизни, догорал неповторимый светоч.
— Рассказывать — и то отучили, — произнес, наконец, Василенко. — Голод, гипертония, отсутствие ионизированного кислорода превращают мозговые клетки — наиболее совершенные, нежно-ранимые — в простую соединительную ткань. Человек тупеет. В памяти образуются провалы. Я давно уже не помню имена своих племянников или что було до тифа на Сивой Маске, до резни в Красном Чуме. Тусклыми, мгновенно загорающимися и мгновенно потухающими импульсами работает память, и часто, как ни сосредоточиваешься, а поймать былое за хвостик во тьме подсознания невмоготу.
— Спите спокойно. Я вам еще как-либо расскажу, як нужно жить в лагере, чтоб не загнуться.
11
В пять утра, как всегда, раздались истошные крики дневального Дронова:
— Подъём! Встать, гады! Кончай дрочить! Подымайсь, кролики!
Дневальный шел вдоль барака, орал, сквернословил и бил суковатой палкой по нарам.
Пивоваров поднялся с трудом. Сон в бескислородной смрадной духоте не освежал. Болела шея. Колючий луч морозного воздуха всю ночь вонзался в шею и парализовал ее. Повернуть голову было почти невозможно. С нар он сползал последним, если не считать старика в углу. Тот не ходил за кашей. Он догорал. В дверях Пивоваров столкнулся с дневальным Дроновым.
— Ты, студент! — остановил Пивоварова Дронов. — Слыхал? Зарезали вашего старика.
— Какого?
— Того, что кашу вам вчера принес.
— Василенко, поэта?!
— Его самого. Вышел Василенко из барака ночью по малой нужде, его и запороли. Не только его, еще двоих съактировали: кухонного шишкомота Еремина и нарядчика Соколова. Это работа тех блатных, которые с вами приехали. К ним и здешние тигры присоединились. Себя они считают «законными» ворами, а остальных — суками. Суки же по воровскому правилу — вне закона.
Все застыло вдруг внутри Пивоварова. Острая жалость сдавила сердце.
— За что?! — пульсировал в горле немой крик. В воображении, будто на экране, засветились воспаленные точки глаз Василенко, хмурились его лохматые брови, бросая тень на острые скулы, запавший беззубый рот. Таким он был всего несколько часов тому назад.
Почти не сознавая, что делает, не ощущая морозного ветра, Пивоваров бросился в барак «законных» воров.
— Что вы сделали! — тряс он за плечо Черепеню. — Василенко — поэт, мечтатель, человеколюб! Что вы сделали!
Черепеня огрызался, отнекивался, потом нёхотя буркнул:
— Кто же его знал? Вчера вечером на кухне два котелка каши получил. Зря не дают. Потом: на известковом заводе был, но выжил. Спал в бараке придурни — сучьем бараке. Значит — сука… Но мы к этому отношения не имеем. Не наша это работа. Ясно? Иди, фраер, и не балабонь, ежели жить хочешь…
Подавленный, обессиленный Пивоваров брел к кухне. Ветер хлестал в лицо, сдавливал дыхание, силился опрокинуть.
— Лечь бы на этот ветер, на косматые волны поземки, — думал Пивоваров. — Ведь, пожалуй, если распахнуть бушлат, раскинуть полы, то понесет во тьму, в избавление…
Долго мерз в очереди у крохотного оконца кухни. Постепенно начала светиться южная часть неба. Поблекли низкие северные звезды. Над крышами бараков задрожали неоновые сполохи северного сияния.
Оставалось еще человек пять-шесть до окошка раздачи, когда в очереди увидели приближающуюся лавину толпы. Очередь замерла. И вдруг кто-то надрывно крикнул:
— Резня!
— Резня…аааааа! — подхватили кругом. — Спасайся! Резня…аааа!
Все ринулись в разные стороны. Побежал и Пивоваров. А вслед за ним надвигался, настигая, черный гудящий шквал. С кучкой других людей Пивоваров успел прижаться к стене барака. Будто одержимая амоком толпа пронеслась мимо. Возле барака «законных» воров она остановилась. Зазвенели стекла. Затрещали рамы…
Воры по-видимому ждали нападения. Двери были заперты, забаррикадированы, свет потушен. Оконные проёмы ощетинились изнутри частоколом досок и жердей с гвоздями от разобранных нар.
Толпа осаждавших росла. Из орущих глоток разъяренных людей рвался морозный пар. Крутая, отчаянная, хриплая многоголосая брань как бы заполнила все вокруг. Недалеко от Пивоварова неистово орал и бешенно дергался знакомый бригадир Митин.
— Аааа! — кричал он. — Волоки бревно, братцы! Бревно, говорю! Наша возьмет! Кишки выпустим! Хари скосорылим!
Пивоваров видел злобно искаженное лицо бригадира, выпученные глаза, лязгающие зубы, черную грязную злобную пасть, изрыгающую поток словесной дряни.
— Ааааа! — все больше стервенея выдыхали кругом.
— Бей! Рви! В душу! В рот! В потрох! В селезенку… мать!
Сотни обезумевших глоток изрыгали всю боль и ярость, ненависть и беспощадность, накопленные за годы, за десятилетия жестоких страданий. Казалось, что этот низкий, хриплый рёв прогнал мороз и утихомирил ветер.
Откуда-то притащили бревно. Десятки рук обхватили его. Всей оравой с разбега бросались на дверь.
— Раз, два, взяли! Еще раз, дружно! Разом! Рвем! Бьём!.. Грызём!..
Дверь высадили. Вместе с бревном в дверной проём хлынули обезумевшие мстители. Вспыхнул свет.
Пивоваров увидел поток наступавших, их набрякшие, задыхающиеся лица, вытаращенные глаза, трудное дыхание.
— Аааа! Ааааа!
Крик стал еще более неистовым. Это были уже не человеческие голоса, а рев первозданной стихии, черный смерч, взметнувшийся до неба. Казалось, вся таинственная мощь жизни воплотилась в жутком реве, крике, хрипе, ругани.
Видно было как первых нападавших сбили с ног досками и кольями. Бревно уронили, но под напором толпы, прикрываясь телами сраженных, наступающие оттеснили «законных» воров вглубь барака и хлынули в его грохочущее чрево.
В оконный проем увидел Пивоваров Клыка и сцепившегося с ним бригадира.
— О-о-о-ох! — выдыхал бригадир в упоении и бил Клыка в лицо, в живот, в пах.
Клык смотрел побелевшими, вылезшими из орбит глазами и хрипел, дергался. Окровавленными руками он тянулся к горлу противника. Спустя мгновение Клыку удалось вонзиться когтями в лицо врага. Однако, несмотря на такую удачу, Клык был обречен. С висков по лицу текла темнокрасная кровь.
— Убью, сука! — хрипел Клык, пытаясь оторваться от бригадира. — Воры, на помощь! — завизжал он вдруг. — Спасите, воры!
Это был тщетный призыв. Число сук значительно превышало число «законных» воров. Бригадир бил и бил Клыка кулаками, ногами, головой.
— Э-э-э-эх! — выдыхал он после каждого удара.
— Ас! Аааа! — вопил он, лязгая зубами. Стервенея от вида и запаха крови, бригадир, прежде чем сбить Клыка с ног, вцепился в его горло зубами и уже затем упал вместе со своей жертвой. Сразу же их подмяла толпа. Видно было как люди топтались и прыгали на лежащих телах.
В бараке было так тесно, что почти невозможно было размахнуться. Люди рвали друг друга когтями, зубами. С ревом и сопением, под бешеный визг и безумные выкрики топтали упавших, били, кусали, рвали друг друга, потеряв облик человеческий и способность мыслить, понимать.
— Рви пасть! Снизу в пах, в душу! В глаза, пират! Своего, гад?! Очумел, сука?! Ааааа! О-о-ох! Больно! Пусти, мусор! Ааааа! Получай, стерва! Рви, брат-цы.ы..ы..ы! Рви, не прощай! Ааааа! Ооооо! Бей!!!! Ломай!!! Грызи!!..
Многим удалось, наконец, вырваться из барака, но их настигали преследователи. Бой продолжался и возле барака.
Пивоваров никогда не думал, что так кричать, реветь, рычать, выть могут люди. То тут, то там вырывался особо жуткий — предсмертный крик. После такого крика жить было нельзя. Жизнь вырывалась из нутра с этим криком.
Один из дравшихся под окном вскочил и побежал, приближаясь к Пивоварову. Обезображенное, изуродованное его лицо казалось знакомым. Рот был разорван и нижняя губа висела на подбородке, сотрясаясь и кровоточа. Глаз скрыла огромная сине-багровая опухоль. Даже зубы нижней обнаженной челюсти, залитые кровью, не белели: на месте рта зияла красная дымящаяся рваная рана.
— Это — Гарькавый — «Щипач», — пронеслось в уме Пивоварова.
За Гарькавым, шатаясь и вопя, бежал высокий детина, тоже с окровавленным лицом. Из-под его шапки текли ручейки крови.
Гарькавый добежал до вахты, и там столпившиеся надзиратели схватили обоих.
Преследовавший Щипача выл и вырывался:
— Гады! Подлюки! Мусора! Порву все в себе! Загрызу! Пустите, гады! Мой пацан! Съем! Дай до горла дотянуться, падла!
На губах пузырилась красноватая пена. Замысловатая и непередаваемая ругань обволакивала каждое осмысленное слово так, что со стороны понять было трудно, чего он хочет, почему вырывается…
На автомашинах прибыло несколько сот солдат. Они оцепили лагпункт. Пожарники из шести брандспойтов ударили струями воды в окна и двери барака, в сплошную орущую, копошащуюся массу тел.
Минут десять люди, заливаемые ледяной водой на трескучем морозе, не прекращали боя. Все еще катались сцепившиеся тела. Кого-то топтали в центре барака. Люди продолжали выть, рычать, бесноваться, хрипеть до последнего мига жизни. Наконец, стали выскакивать через все окна и дверь на улицу и разбегаться.
Среди убитых, затоптанных опознали Мустафу, Малинина, Клыка. Все остальные спутники Журина, Бегуна и Пивоварова получили тяжкие раны и повреждения.
В лагпункт нахлынули надзиратели и солдаты. «Законных» воров вывезли за зону. В этот же день всех уголовников, кроме сук, вывезли на другие лагпункты.
Потребовалась кровавая баня, чтобы толкнуть чекистов на этот шаг, выполнение которого они откладывали сознательно: им нужна была очередная акция разжигания смертельной вражды между заключенными.
Глава третья. На лагпункте
1
На пересылку нагрянули покупатели рабсилы — толкачи с шахт, заводов, строек, рудников.
На площади против вахты выстроили товар — сотню заключенных в сдвоенной шеренге.
День выдался ясный, морозный с кусачим ледовитым ветерком. Солнце давно уже не показывалось над горизонтом. Светился лишь бирюзово-пунцовый южный край неба, да тускло отсвечивал снег.
— Стынь. Чужбина. Беспредельная снежная ровень, — думал Пивоваров, сутулясь и ежась под пронизывающим злым ветром. — Сейчас, небось, ринутся толкачи щупать мускулы, заглядывать в рот, отворачивать веки глаз. Торг рабами всюду одинаков.
Мороз обжигал скулы и нос. Над людскими шеренгами курился белесый парок.
Начальник спецчасти пересылки Фрумкин, затурканный толпой толкачей, беспомощно вздымал вверх руки со списками и хрипло надсадно отругивался.
— Знаю твой Шемякин суд, — наседал на Фрумкина тщедушный коротыш в меховой одежде с худой лисьей мордочкой, вздернутым острым носиком и непомерно большим синегубым ртом. — Надысь загнал литейщиков, занаряженных Москвой мне — в тартарары — и как в воду канули. Сколько ни звоню, ору, бегаю, ругаюсь, надрываюсь — крышка, хана. Хоть бы хвостом блиснули, — а то — будто корова языком слизнула. В клочья тебя рвать, Фрумкин! Делов-то у тебя на копейку, а колымишь рубли и еще положительным гадом прикидываешься! — Все в твоём произволе, Фрумкин! — визжал коротыш, — но ты меня еще попомнишь! План горит! Убытки агромадные! Понимаешь ты, что это значит?! Засудят! Шкуру спустят! Но ты, Фрумкин, не отвертишься! Всех псов на тебя натырю! Отвечай: куда моих людей заначил? Перепродал?! За литру спирта? Иль ты только «Спотыкач» да «Зверобой» по еврейской интеллигентности лакаешь?! Ты меня узнаешь, Фрумкин!
— Знаю я тебя, Синицын, как облупленного, — отругивался Фрумкин. — Знаю, что темнишь начальником литейки. И помогалу твоего Гребешкова, знаю. Седьмой трипер на моих глазах няньчит. Знаю вас, долбарей, как облупленных. Но ты, Синицын, брось икру метать! Отдам твоих литейщиков. У нас не заржавеет. Слово — олово. Видишь, все памерки толкачи отшибли. В печенку клюют. Всем первосортный товар достань да положь! А где я его выскребу?! Весь я тут со всем моим бутором! Жуйте мои портянки, облизывайте портки!
Щеки Фрумкина, разрумяненные морозом, внезапно побледнели. Он еще выше вздернул руки со списками и загремел:
— Што растявкались?! Я вам всем дам по потребности и каждому в морду! Где я вам людей наберусь, когда в кармане блоха на аркане! На доносы ложу с прибором! Жить при доносах веселей, шея стала тоньше, да зато длинней. — Слушай, толкачи! — выкрикивал Фрумкин, — слушай и мотай на ус, а безусый пол наматывай на волосянку!
Фрумкин скосил злой карий глаз в сторону толкачей женского пола, затем глубоко вздохнул разряженную стынь, натужным голосом скомандовал:
— Заключенные, которые по металлургии и обработке металлов — три шага вперед!
Из рядов вышли Журин, Шубин, Скоробогатов, Солдатов, Кругляков. Журин потащил за собой растерявшегося Пивоварова. А Шубин нырнул обратно в строй и там, наклонив к себе головы Домбровского и Бегуна, зашептал:
— Не зевайте ни секунды! На завод берут! Это лучше шахты и рудников радиоактивных. Спросят — говорите, что слесари, токари, кузнецы, литейщики. После разберемся. Без туфты, мата и амонала не построить канала. Блат и туфта — выше Цека.
— Ты мне проверь, Фрумкин, — кипятился Синицын, — может быть, тут шарамыги, самозванцы вышли, расстриги, токари по хлебу, туфту химичут?
— Опомнись, жмурик! — взывал Фрумкин, — не заостряй! Сам проверь. Мне не разорваться. Ты что ж по рылам не видишь, что фраеры?! Ни одной блатной хари! Вон видишь: лобастый, кряжистый, говорят на Троцкого похож, так это ж главный конструктор московского автомобильного — Шубин. Рядом с ним морда как на иконе — Журин, ведущий металлург Запорожстали. — Зыряй! — Фрумкин ухватил Синицына за загривок и тыкал его лицом то в свои списки, то в сторону строя. — Зевало-то закрой — дыхало отморозишь. Смотри прямо на мужика — молодца, грудь моряка и спина грузчика. Это формовщик-рекордист Скоробогатов, а рядом с ним Шестаков. Не кривись, что стар, зато руки золотые. В «Правде» был пропечатан. Все у меня в личных делах записано. А вон около Журина красивый как девка — Пивоваров. Не кривись, что в лагерных тряпках. В сменку их воры одели. Пивоваров без пяти минут инженер-электрик. Сзади его механик и шофер Солдатов. Бытовичок! Хват! Все в руках горит. Пенки снимаешь, Синицын. Забирай скорей, пока не передумал и не звони! Ну, не чухайся! Отваливай! Чимчикуй! Хиляй с народом в сторону: конвой ждет. После будешь демагогию травить, сопли растирать, про план вякать. Потрфельником хлябаешь и хочешь не дрожать?! Изыдь, падла! А то у меня и промеж глаз получить недолго.
Через час всех заключенных, отобранных для Синицына, пригнали на комендантский лагпункт и поместили в двадцать девятом бараке.
При входе в барак внимание новичков привлекло странное зрелище.
Напротив входа на втором этаже нар сидел обнаженный по пояс неподвижный как истукан щуплый человек с ногами, поджатыми по-турецки. К голому смуглому его телу лепились, не падая, разноцветные пуговицы по четыре в ряду как на чиновничьей шинели.
Видно было по окоченевшему, напряженному землистому лицу, что это не забава, не представление.
Когда привыкли глаза к полумраку барака, увидели вновь прибывшие, что пуговицы эти пришиты к голому телу. По ребристой груди и тощему поджарому животу извивались змейки засохшей крови.
Журин и Пивоваров сразу узнали в этом человеке рыженького, веснущатого, тщедушного Канева, того самого симпатичного паренька, которого бил солдат рукояткой нагана за то, что пытался Канев подобрать кулек сахара, брошенного ему товарищем через проволоку пересылки.
У Журина и Пивоварова, пиливших тогда дрова за зоной как бы стоял еще в ушах прерывистый, захлебнувшийся писк Канева. Помнили они, как понуждаемый солдатами пытался он подняться на колени и падал. Как волокли его бесчувственного за ноги и билась об лед, кровянилась беспомощная голова, а синие закоченевшие скрюченные пальцы бороздили снег, цеплялись за бугорки.
Безмолвно стояли вновь прибывшие у входа, не решаясь отвести взора от пустых невидящих глаз Канева, не выражавших ни страдания, ни боли. Чувствовалось, что все у Канева задубело внутри, что перешагнул он через невидимый порог, за которым остались все боли и скорби земные.
— Проходите, проходите, землячки, не теряйтесь, привыкайте, — затараторил кто-то из поднарной тьмы тароватой скороговоркой. — Это наш придворный псих, Васька Канев — зырянский барон. Всыпали ему солдатики на пересылке, а он взял да и ума чёкнулся. Начальство ж не верит. Канев глаз у спящего выколупил — а начальство гогочет. Канев под себя оправляется и дышать в бараке нечем — начальство и в ус не дует. Надысь стукнули мы хозяину лагпункта Медведевскому, а он ботает: «Если всех вас таких симулянтов лечить, так на лагерь надо замок навесить, в госпиталь обратить».
— С полчаса назад зашел сюда Медведевский, — продолжал словоохотливый рассказчик, — полюбовался на Канева, потаскал пуговицы, что на нем и рявкнул: «Блатным, падла, прикидываешься?! Я те покажу кузькину мать!».
Рявкнул он так и вышел, а Канев далей сидит как Будда. Какой из него блатной, прости господи?! Писаришкой хлябал не то в облвобл, не то в Укрцукр, а может быть и в Райкаравай. Он и сейчас чимчикует прямиком в рай.
Когда говорливый старожил барака вылез из-под нар, Солдатов убедился, что слух не подвел его. Это был не только голос Герасимовича, но и сам он — тот Герасимович, о котором рассказывал Солдатов на пересылке.
— Колька! Друг ситцевый! — заблажил Герасимович. — Ты что ж, своих не признаешь?! Забыл, как кур щупали, с мухами грешили?! Мы ж свояки по фронтовым шлюхам. Что было, брат, то сплыло. Плюнь и размаж. Кто старое помянет, тому глаз вон. Былое быльем заросло.
— Так-то оно так, — смущенно скрёбся Солдатов, только…
— Не тявкай, — хлопнул Герасимович Солдатова по плечу. — Лучше ответь: есть ли у тебя табачку разжиться, а то так пить хочется, что даже пожрать нечего.
Оба рассмеялись.
— Вспомнил, байстрюк! — выговаривал, давясь смехом Герасимович. — Натер я бабам сдобным лавки в бане перцем ядучим. Ну и попрыгали! Ярились, матерились, венки об… истерли.
— Ну, ладно, — продолжал Герасимович успокоившись. — Слово по слову, делом по столу. Так и быть, устрою тебя, Колька на завод. Блат там у меня. Будешь водить автопогрузчик. Доволен?
Вокруг Герасимовича столпились вновь прибывшие. Послышались вопросы.
Герасимович отвечал:
— Тут, братцы, без калыма на завод не прошмыгнёшь. Будешь втыкать в каменоломне, в котлованах, чистить дороги, таскать бетон и все на ветру, в мороз, пургу. На завод выводят пятую часть лагнаселения — пятьсот зэков. А остальные каждый день обмораживают носы, скулы, руки, ноги, а у кого и срам задубеет, легкие прихватит.
— Не улыбьтесь, — объяснял Герасимович. — Плохие шутки, когда кол в желудке. Тут как задует снежная гибель на месяц, а то и два без передышки, так и несёт человека, словно пылинку в тундру, навсегда. В такие дни идешь в уборную — держись за канат. Выпустил канат — амба. Нет человека. Бывало, целые колонны уносило на корм песцам и белым медведям. А то мороз грянет, да с ветром. Чувствуешь, что нет воздуху, что пустота звездная спустилась. Каждый вздох смертью пахнет.
С этого вечера Герасимович пристал к Солдатову и его товарищам. Худощавый, с обычным неприметным скуластым лицом сорокалетнего курильщика, маленькими светлыми глазками меж рыжеватых ресниц, казался Герасимович свойским человеком, общительным и прямодушным.
Герасимович не соврал. Действительно, попасть на завод было трудно. Хоть и каторжно-тяжел был заводской труд, но прельщала всех крыша над головой.
— Тут, хлопцы, на заводе тысяча вольняг трудятся, — рассказывал Герасимович, — большинство ссыльные. Кто после лагеря оставлен — политические. Кто за национальность, невыполнение норм в колхозе и другие бедолаги. Много западников-интеллигентов. Есть фабзайчата. Худые, прозрачные. Есть и проштрафившиеся партейцы. Эти у руля. Один из таких мастерюгой в литейке темнит — Гребешков, так он аж в секретарях киевского горкома хлябал. Синицын, что брал вас на пересылке, зятем Булганину приходится. Он был в Орле управляющим банка. Пристрелил там любовника жены. Но таким за уголовщину сроки не дают. Суют сюда на времечко, пока люди гомонить не перестанут. Сами знаете: что можно партделяге, то нельзя работяге.
2
Утром следующего дня Журина вызвали на завод. Начальникам не терпелось. Брак в литейке угрожал их служебному положению.
Журина поставили первым подручным вольнонаемного сталевара Бредиса — атлета с медным изморщенным и обожженным лицом. Начальство знало, что Журин будет учителем сталеваров, однако технической должности политзаключенному давать не хотели.
Во время первой беседы с главным инженером Драгилевым Журин настоял, чтобы Пивоваров был принят дежурным электриком подстанции сталеплавильных печей.
Формовщика Скоробогатова тоже взяли в литейку. Шубина назначили слесарем сборочного цеха. Так же, как и Журину ему не давали работы, соответствующей его квалификации.
Кругляков стал браковщиком-приемщиком в цехе металлоконструкций. Бегуна гоняли на снегоочистку.
Приняли на завод и инструментальщика Шестакова. Проводили его уборщиком, а выполнял он наиболее сложные лекальные работы, за которые платили парторгу, околочаивавшемуся в кабинетах начальства.
Повезло лишь одному Домбровскому. Удача пришла к нему неожиданно, в кабинете начальницы спецчасти Кедровой — здоровенной мужеподобной чекистки.
— Кто ты по специальности? — спросила Кедрова. Сразу отвечай, не раздумывай, — громыхал ее властный басок, — туфта у меня не пройдет. Вчера тут один нигилист чи глист, прости господи, заявил, что он по специальности павиан. Я, было, записала, да потом рюхнулась. Смотрю, заключенные, что рядом, солидные такие, посмеиваются. Я — не будь дура — да звякнула дневальному начальника, а дневальный тот — профессор. Так и разоблачила этого павиана. Оказалось, что павиан — это самая развратная обезьяна: при народе промеж себя блуд пущает. Послала его, стервеца, в штрафняк — будет знать как темнить. Так кто ты старик? — спросила Кедрова строго. — Синицын взял тебя как металлиста. Если сшарамыжил — так и тебя в штрафняк засундучу.
Домбровский испугался не на шутку и мгновенно решил прикинуться не понимающим по-русски. Он галантно изогнулся, изобразил на лице благоговение и, внутренне ужасаясь, чучельности своего наряда, засюсюкал:
— Прошем пани, пани ест така пенкна. Я еще такой ладней кобеты-дыректорки не видзялем.
Кедрова расплылась в улыбке.
— Ты мне, старичок, баки не трави. Держала я вашего брата этими руками и по-вашему малость кумекаю. Варшаву я вашу брала. Польшу в боях прошла.
— Варшава! — загорелся Домбровский. — Я сем там уродзилем, але Москва еще пенкнейша и пани ест пенкнейша ниж наши варшавянки. Цело жице я кохалем се в таких моцных высоких кобетах.
— Ладно, ладно, Домбровский, зубы не заговаривай. А что ты там в своей Варшаве делал?
— Я писалем там «о ружах и бужах и дальних подружах».
— Ясно… — пробасила Кедрова. — Дело табак; но как есть ты, Домбровский, галантный мужчина, не чета нашим нахрапникам, так устрою тебя по блату кубовщиком в кипятилку. Будешь там с американцем Джойсом, тоже писателем, о бабах судачить, все пенкности по косточкам раскладывать. Но смотри мне, чтоб кипяток был во время! Ясно? Иди!
— Пани позволи мне рончку поцаловать? Я естем пани так вдзнечны. Пани ест така интеллигентна кобета.
Домбровский подобострастно изогнулся, схватил огромную руку начальницы, повернул ее ладонью вверх и запечатлел поцелуй в самую середину.
Видавшая виды Кедрова, потерявшая наверняка стыд и совесть, зарделась как девка.
— Иди, иди, Домбровский, — растроганно забасила Кедрова. — Знаю, что галантны вы, черти, что не врешь. Врать вы еще не научились, но дозреете, и с бабами вы нянькаетесь не то, что наши. Раз ты — всей правдой ко мне, так и я тебя уважу. Иди, Домбровский.
Несколько раз поклонившись и горячо бормоча «целую рончки» Домбровский вышел пятясь из кабинета.
* * *
Потянулись, поползли напряженные голодные дни и ночи. Чтобы не вылететь с завода, нужно было работать не щадя себя, до упаду, дабы «дать» план, выполнить норму, отхватить зачеты.
В работу воплощалась вся жизнь, все силы, все помыслы. В работу поневоле вкладывал человек все, что мог и имел. Более того: работу он предпочитал подчас остальному — быту, постылому бараку, замусоленным нарам, ненавистной толчее лагерного людского муравейника.
На заводе была обычная и привычная трудовая обстановка. Много вольных мужчин и женщин приносили с собой веяния жизни, казавшейся заключенному манящей. Часто возвращаться не хотелось в лагерную жилую зону, в переполненные людьми и крысами бараки, засыпанные снегом до крыш, в мир, подвластный уголовным секты «беспредельников» и невежественным расчеловеченным чекистам.
Гнали в жилую зону не одни солдаты и псы. Гнали голод, потребность в сыром хлебе, баланде, селедке.
Прошли январь и часть февраля 1953 года. Никто не считал полуденные сумерки без солнца, считавшиеся днями. Так страстно хотелось, чтобы скорее, незаметнее пролетало ненавистное время.
Здесь поняли люди, прочувствовали беспросветную жуть, о которой пел в столыпинском вагоне надтреснутым старческим альтом «Щипач» — синегубый воришка, вертевшийся возле крупных хищников подобно гиене, крадущейся по следам тигров.
Это был край, в котором «зимней лютой вьюгой» заметает след пропащего человека и нет надежды на исход из стороны глухой, где — «черные как уголь ночи над землей» и «волчий вой метели не дает уснуть».
Скоро, однако, оборвалось однообразное, хоть и напряженное состояние относительного мира между человеком и начальством. Не для того согнали сюда людей, чтобы дать им возможность отдавать себя труду в условиях элементарного порядка. Начальство не верило, что люди, столь несправедливо и жестоко растоптанные, могут смириться. Начальство нервничало, металось в поисках «зачинщиков». Всюду им чудились заговоры, злонамеренные действия, крамольные разговоры. Чекисты создали будни, воспаленные пароксизмом народной боли, и поэтому, по звериным таежным законам этой жизни, маленькие бесправные люди гибли под копытами судьбы, не услышанные и незамеченные как муравьи.
3
Двадцать второго февраля 1953 года после работы за воротами завода на площадке, охраняемой автоматчиками и собаками, собрались, как обычно, заключенные для следования на лагпункт.
Действовал неписанный закон: спустя четверть часа после гудка все заключенные работяги должны выстроиться в колонну по четыре чтобы поступить в распоряжение конвоя.
Тьма лохматого февральского вечера обступила освещенный пятачок с нетерпеливо топтавшимся людом. Дул резкий ветер из преисподни, откуда обычно вырывалась седая кружилиха — пурга.
Пивоваров держал Журина под руку и, приблизив лицо к его башлыку, чеканил строчки лагерной песни:
Над Русыо-матушкой, над нашей родиной Десятки лет не утихает ураган. Миллионы скрученных, миллионы мученых, Миллионы загнанных в Сибирь и Туркестан.— Одного не хватает! — послышался крик начальника конвоя.
— Кого там не достает? — раздалось сразу несколько нетерпеливых, раздосадованных, вопрошающих голосов.
— К дырочке в женский душ прилип! — острил кто-то.
— С конягой романсирует! — вторил другой.
— Лаборанток через окно глазами кнацает.
— Недостает жида из слесарни, — произнес кто-то возле Журина. И сразу же несколько горлохватов заорало:
— Вождей травят! Бьем, хлопцы, разрешено! Ничего за жида не скажут! Хозяин поедом их ест!
— Работнуть жида! Отбить ливер!
— Эй, «Жменя», по твоей части — руки не порть!
— Чего орешь?! — оборвал своего соседа Журин.
— Как не орать?! Жид там простым слесарем числится, а фактически всей сборкой шишкомотит, поэтому и задержали его в цехе. Вольняги, за которых он втыкает зряплату толстую гребут в загашник. Ему бы работать на швырок, раз носим — ношеное и едим — брошеное. Сам знаешь: «лучше кашки не доложь, а на работу не тревожь», «от работы кони дохнут», «работа — не член — сто лет простоит», «пусть трактор работает, он — железный», «работа не волк — в лес не убежит». Лучше других быть хочет! Один черт — не выслужится. Ихнего брата по поводу и без повода тараканят.
В воротах показался запыхавшийся Шубин.
К нему бросилось несколько горлодеров.
Неистовый заводила — в нем опознал Пивоваров Бендеру — ринулся на Шубина и ударом в лицо сбил его с ног. Затем, склонившись над распластанным телом, Бендера ударил ногой в бок… в лицо… в лицо… еще и еще… Зажатый самосудчиками Бендера запрыгал на теле Шубина.
— В горло! В душу! В селезенку мать! — выкрикивал он в такт прыжкам.
— Бей! Режь! Рви! — шумно выдыхал он вместе с неистовой руганью.
— Грохай по кумполу! — подзадоривали кругом.
— Протяни дрючком по хребтине! Вмажь под дыхало!
— В пах, пах, подлюку! Вся сила в паху!
— «Чума»! Знай свою специальность! — кричал кто-то.
— Откуси кадык жиду, порви грызло!
— Укороти на голову, чтоб вождей не травил!
— Мне бы еще полстакана жидовской крови, — нетерпеливо топтался сосед Журина, — и вся б моя кровь жидовской стала.
— Так. Режут. Порядочек, — приговаривал он, — хрипит. Порядочек. Ох, братцы, люблю порядочек!
Пивоваров почувствовал вдруг, что нет мочи дышать, что все онемело в горле и завертелся мир в слепнувшем взоре.
Расталкивая озверевший люд, Пивоваров ринулся к Шубину. За ним последовали Кругляков и Журин.
— Опомнитесь, тигры! — перекрывая рев скомандовал Кругляков.
— Стой, сволочь! — кричал Пивоваров. — Бендера! Гад! Палач! Стой!
Пивоваров увидел, как ударом головы кто-то сбил Бендеру с неподвижного тела Шубина.
— Братцы! — взывал этот человек. — Братцы! Золотой души человека губят! Что вы смотрите, люди?! Солдаты!
Конвоиры ухмылялись. Они за это не отвечали. В ребячьи сердца солдат быстро впивался клещ слепой ненависти.
Однако заступничество помогло. Заряд озлобления у нападающих иссяк.
Журин и незнакомец, прервавший ударом головы убийственное подпрыгивание Бендеры, подняли Шубина и, взяв под руки, повели в строй. Оба глаза Шубина почти закрывали синие кровоподтёки, нос распух. Из рта струилась кровь. Разогнуть спину он не мог. Разбитые, окровавленные ладони, которыми прикрывал Шубин лицо, дымились на морозе.
— В бушлате и телогрейке космополит, так до дыхала не достанешь, — объяснял кто-то возбужденно, — но и так бельмы закатил, нюх припух, пузыри пустил, заметал икру. Подмолотили черта с мутного болота.
— Зря лютуешь, «Бендера», — решительно прервал его кто-то, — не по правильному адресу злость направил. Ни при чем тут евреи. Их всю дорогу в бараний рог…
— Как ни при чем? — узнал Журин голос Стёпы-заготовителя шихты. — От них весь коммунизм, социализм, коллективизм, космополитизм, марксизм, лысенкизм и прочая чернуха. Зря ты, Ярви, адвокатничаешь.
— Спасибо вам, товарищи, — с усилием выговорил Шубин. — Особенно вам, Хатанзейский. Ведь мы почти незнакомы.
— Я — охотник, — отозвался Хатанзейский. — слыхали, небось, что меня «самоедом» называют. У меня — глаз быстрый, чутье острое и правду, честность люблю. Я вас давно заметил.
Благодарное чувство к Хатанзейскому побудило Пивоварова взять его под руку.
— Вы так чудесно говорите по-русски, что нельзя не предполагать, что вы в центре учились или жили там долго.
— Учился я в Салехарде, — ответил Хатанзейский, — а в России и в Европе был в годы войны. С 1939 до 1947 в армии служил.
— И после России вернулись сюда, в тундру? — недоумевал Пивоваров.
— Потянуло на волю, — после минутного раздумья ответил Хатанзейский. — Слишком много у вас там начальства. На каждом шагу подгоняла и надзирала, соглядатай и стукач. Так в душе твоей и ковыряются. У нас, в тундре, начальства меньше. Самое злое — далеко, а свое — казалось прирученным, связанным с народом.
— Все-таки — не убереглись, — посочувствовал Журин. — Начальство и в тундре слопало.
— Слопали, — выдохнул Хатанзейский. — Пытался укрыть десяток оленей от конфискации. Накрыли. Теперь батрачу. От тюрьмы и от сумы никому не уйти.
Из предпоследней шеренги обернулся на ходу к разговаривающим Солдатов.
— Зря, Хатанзейский, из России уехал. Схлестнулся б с русачкой, их после войны безмужних бобылок, солдаток — десятки миллионов осталось — страна стала вдовьим краем. Взял бы дебёлую, работящую. Жил бы в городе. Сам ведь рассказывал, что европеек молочно-белых, чистых, благоуханных на зуб пробовал и довольны были. У тебя ж нервы — как проволока, сердце — как камушек. Не торопишься, не пыхтишь, не запотеешь в любом обороте.
— Потянуло в тишину, к дымку охотничьих избушек, — отозвался Хатанзейский, в леса, где зверь непуганный, к ручьям прозрачным, в безлюдье. У вас там, на материке, все враги всем и в лагерь вы с этим прибыли. Трутся все как сельди в косяке, грызутся как псы за кость, подстерегают друг друга на узкой тропе. Каждый каждому норовит глотку перегрызть.
Помолчав, продолжал неторопливым северным протяжным говорком:
— Не по мне такая жизнь. У нас люди добрее, проще, душевнее. Возьмешь девушку за себя, так знаешь, что донос она на тебя не накропает, не оговорит, не предаст, не наклевещет. Что бы ни случилось — все между нами навек останется. А ваши молодицы в женах числятся, а живут как квартирантки, иль ты у них квартирант. Нужен ты ей — сосет. Подвернется свежатина иль тухлятина со стороны — подцепит. Во всем и в тебе выгоду ищет. Поэтому и живут они дольше мужчин. Ну вас к ляду с вашими икрястыми молодками, их частухами с визгом, с их мимолетной неосновательной любовью.
— Дорогой Хатанзейский, — возразил Пивоваров. Не разобрались вы в душевных качествах женщины. Нет более работящей жинки, как на Руси. «Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет». Плечом к плечу с мужчиной сражается она за кусок хлеба, за место в жизни.
— Может, и это — правда, — примирительно ответил Хатанзейский. — Много на свете правд и каждая правильная.
Подошли к вахте. Прошли обыск. Рванулись в зону.
— Герасимович, сразу в столовку! — крикнул Солдатов. — Сегодня суп из голых круп. Крупица с крупицей в догонялки играют.
Шубина от вахты повели в санчасть. Часы были не приемные и поэтому перевязочная — закрыта. Обслуга отсутствовала. Пивоваров и Журин направились разыскивать кого-либо из медработников.
Оставшись наедине с Шубиным, Хатанзейский продолжал утешать его:
— Не горюй, друг. Сейчас мода на врачей еврейских, а завтра будет на оленеводов Хатанзейских. У нас ведь куда ни кинь — всюду клин. У бедного Иванушки аж в каше камушки. Я, вот, как утка на родное гнездовище тянулся. Думал, что лучше всего на родине, а родиной считал место, где вылупился на свет. Ан, видишь, попал из огня в полымя.
Помолчав, как обычно, минутку, далеко выдохнув едкий махорочный дым, Хатанзейский задумчиво продолжал:
— По натырке начальства глупо, по-птичьи, по-заячьи понимают многие слово — Родина. Слепой инстинкт влечет птиц, несмотря ни на что, а у человека разум есть. По мне — так родина лишь тогда настоящая, когда жизнь в ней достойная человека. Если же в ней порядок делосочинителей, шовинистов, пытателей, мизантропов — то будь она проклята — такая родина, будь она трижды проклята.
4
На столбе, посередине барака, висел осточертевший всем репродуктор. Кому на Руси не надоела его трескотня? Изо дня в день одно и тоже: победы на соевых и огуречных фронтах, осанна мудрейшему, приоритет и первооткрывательство, восхваление Павликов Морозовых в качестве образца советского характера, затем: «ликвидируем!»… «Уничтожим!»… «Добьем!»… «Вытравим!» космополитизм, морганизм, капитализм, персонализм… изм… изм… изм… до отупения, головной боли, удушья.
После призывов и заклинаний — музыка прошлых веков, частушки с гиком, похотливым бабьим визгом и снова оглупляющая ложь, разжигание слепой ненависти и беспощадности к другим культурам и народам, возбуждение низменных инстинктов и вожделений для превращения человека в робота и солдата, готового безропотно убить, захватить, отнять и рзделить, умереть не раздумывая во имя преходящих безумных лозунгов и ошибок обожествленных уголовников.
Жильцы барака работали в три смены и поэтому в любое время суток часть людей стремилась спать, а другая, вольно или невольно мешала, жизненно необходимому отдыху товарищей.
Борьба за возможность поспать была борьбой за жизнь. Из-за сна ругались, дрались, бывали случаи — убивали друг друга.
Репродуктор был фактором, машающим спать. Однако среди девяноста шести человек, проживавших в бараке, всегда находились желающие послушать радио, и это вызывало бурные ссоры. Сильным удавалось утихомирить репродуктор, а слабым приходилось молчать, глотать злобные всхлипы и «доходить».
Только пятого марта 1953 года дребезжание репродуктора не вызывало протестов. Жадно глотали всё, что было связано со смертью диктатора.
Дневная смена, в которой работали Журин, Шубин, Пивоваров, Бегун, Кругляков, Хатанзейский и другие, войдя в лагерную зону, ринулись к репродукторам, забыв про голод. О смерти усатого знали все, но каждому хотелось собственными ушами услышать, всеми фибрами души впитать ошеломительную новость.
— Тише, тише! — галдели кругом, — дайте послушать, тигры!
Из репродуктора струилась вязкая муть неприятной, не соответствовавшей настроению музыки.
Дневального Писаренко забрасывали вопросами.
— Опять московский водопровод орденом Ленина наградили, — острил Солдатов.
— На этот раз отсутствующую орловскую канализацию почтили, — отозвался Скоробогатов.
— Помалкивайте, сквалыги, — угрожающе шипел Герасимович, — пришел приказ брить всех вас, особенно задастых и языкастых.
— Отец загнулся, — степенно доложил бородатый дневальный Писаренко, — но кузькина мать жива. Жива стервя и клюёть — до печёнок, до мозгов достаёть. Панику, граждане, не разводите, не вертухайтесь, не шебуршите: бздительность начеку, пистоля на боку. Хныкать можно — трепаться — дюже осторожно.
— Ай да Писаренко! — ликовали вокруг. — В лауреты подался, в орденопросцы, в стихобрёхи.
— Моя хата с краю, — скромничал Писаренко. — Нам, жмеринским, тильки б гроши да харчи хороши, щей бы пожирней, ломоть потолщей, дабы рожа веселей расплывалася.
— Мне покойник на полную катушку срок отмерил. Писал ему сердешному. Ответил, дорогой: «Мало, мол, дали тебе, Иван Пафнутьич. На колхозной подводе немецкий скарб к ихним позициям два дня подвозил?» — Подвозил, ваше величество! Но кабы б не подвозил, то не было б сейчас дневального в двадцать девятом бараке. Пришили б фашисты. Хватка у них твоя…
— Слыхали, слыхали, не балабонь, — прервал дневального Шестаков. — Надо было смерть принять, но в извоз для немцев не ездить. Не богохульствуй, борода. Хозяина жаль. Гигант.
— Помните, товарищи, — обратился он к окружающим:
«У нас не было алюминиевой промышленности, у нас есть она теперь».
— А цена, цена-то какая, — морщась от внутренней боли спросил Журин.
— Помолчите, Журин, — шепнул Бегун. — У вас «червонец» — детский срок. Остерегайтесь. С твердолобым этим — я схвачусь. Мне терять нечего. Расстрела сейчас нет, а больше двадцати пяти лет, то-есть того, что уже дали, не припаяют.
— Есть у нас алюминий, Шестаков, — повысил голос Бегун, — а жизнь как на пароходе в качку — все нутро выворачивает, а поблевать негде, ибо уборные намечено лишь в 1980 году строить. Мается народ, бьется как рыба об лед. «Фома грызет Фому и нет пощады никому».
— То-то и оно-то, — взвился Шестаков, — что «Фома грызет Фому», а государство ни при чем. Разве партия виновата, что свидетели против нас доказывают?
— Партия твоя и есть сборище свидетелей, доносчиков, пытателей, провокаторов, — не удержался от реплики Кругляков. — Во всем непостижимом ужасе повинна твоя партия.
— Мусульмане, хипишь! — скомандовал шепотом Герасимович, кивая в сторону приближавшегося Бендеры. Затем развязно, будто продолжая беседу, Герасимович затараторил:
— Смотрю я, братцы, на девку, на пятки с трещинами и думаю: чего тут фронтовику миндальничать!
— Ходь сюды, падла! — командую ей на полном сурьёзе. — Триперок есть?
Крутит носом курносым. — А вши?
— Самая малость, — отвечает, — как есть я в колхозе по коровьей части…
— Ладно! — перебиваю её, — у меня от вашей колхозной части плешь на… черепе…
Допрашиваю дальше:
— А как, — говорю, — у тебя насчет этого самого…
Герасимович изобразил сцепленными ладонями фигуру, напоминающую паука и зашевелил растопыренными согнутыми пальцами. Все вокруг засмеялись.
— Сама карапуз, — захлебывался Герасимович, — и щами постными провоняла насквозь, но хорохорится:
— Поженимся, — говорит, — тогда хучь ложкой сербай, а покеда што…
— А вот я не терплю мартышек махоньких, — перебил Герасимовича Солдатов. — Для меня баба с мордочкой в кукиш, с ладошкой — кроткой и ножкой — недомерком — все одно, что жаба. По мне, брат, хоть сам я невысок, но бабу подай а громадную, щоб рыло с ведро, а грудь — с барана. Бывало жоржики подначат: «и куда ты, темнила, в альпинисты прёшься! Задохнешься на высоте, концы отдашь». А я себе ухмыляюсь в ус. Я свое дело железно знаю. Мышь копны не боится. Так, что ль, Бендера?
Солдатов бесцеремонно хлопнул по животу Бендеры, не замедлившего огрызнуться с обидой в голосе:
— Брось травить баланду, шмурак! Нетто не понимаю, что не о том вякали?! За кого считаете, гады?! Нешто я с опером ноздря в ноздрю живу?! Я б охиросимил весь ваш вшивый госстрах и гнидный госужас.
— Герой, — презрительно фыркнул Солдатов. — Коли бы не ты и не попова кобыла, так и уважить не кого б было.
— Ладно, не спорьте, черти, — примирительно проговорил Журин. — Нечего клыками клацать. Потопаем-ка лучше в жральню, иначе — улыбнется на прощанье казенный харч. И без того, наверняка, гущу выгребли, помои остались. Сегодня, говорят, камбала, или, точнее, камбальная соль. Пока камбала-сиротка сюда доплыла, в нее столько соли вбухали, чтоб компенсировать убыль украденного, что сейчас лизнешь — обожжешься. Хорошо, что щи — капусту не ищи, мокрые — так запьём.
5
Вечером к Журину и Пивоварову подсел Шестаков.
— Нет, братцы, мочи в такой день одному пробавляться. Тянет к людям. Что будет без Виссарионыча? Не рухнет ли всё? Ведь все перережут всех, случись что.
Журин не доверял Шестакову. Помнил предупреждение, сделанное на пересылке «паханом-саморубом». В Шестакове, однако, сбивала с толку распахнутость души. Он не подслушивал, не подсматривал, мыслей не таил.
— Не так ведут себя стукачи, — рассуждал Журин. — Стукачи обычно глубоко конспирируются. Разгадать их трудно. Шестаков — простота: что на уме, то и на языке.
— Должны быть перемены, братцы, — убежденно ворковал Шестаков, усевшись на вагонке Журина. — Всегда новое начальство слабину даёт, гайку отпускает. Даже когда батя мачеху привез — стелила она нам мягко сперва.
— Да, мать один раз бывает, — вздохнув продолжал Шестаков. Помню, мать сердобольная была. Детей куча. Всегда с пузом. Дети рождались нежеланными, проклятыми еще в утробе. У матери духу не хватало прижать писк младенцу — и дети росли. Помрет кто — что тут делать? Знать судьба ему такая, «Бог к себе прибрал», «на роду так написано», «под такой звездой уродился», «колесом ему дорога», «мягким пухом — земля». Выживет — живи. Соседка, — та, бывало, грудному чаду кислого хлеба в тряпочку сосать подсунет, простудит или подушкой дыхало прижмёт и дело сделано, а наша мать — человеком была, но росли мы без присмотра, как трава в поле. Вот тут-то и выживал тот, кто с печки вниз не бухнул, не замерз, не заболел, под колеса не угодил, к свинье на зубы не попал, не утоп. Выжили самые сильные, хитрые, удачливые, выносливые — те, которые могли у сестренки из рта кусок вырвать, у соседа украсть, к мамке подлизаться и от батькиного убойного удара увильнуть. Темная жизнь была, братцы, и поэтому я за нынешнюю, новую!
— Так их, батя, — поддакивал Солдатов. — Мы за то, чтобы «бери больше — кидай дальше! Давай, давай, падло, дешевка!». Мы за лагерную Русь, едять ее мухи с комарами, за хулиганократию партпоголовья.
— Заткнись, сверчок! — окрысился Шестаков, — все шибко грамотные стали! Яйца кур учат! Наблатыкались гавкать!
— Прошлое никто не защищает, Шестаков, — отозвался Бегун. — Помер Клим и черт с ним. Не об этом спор. Ты, Шестаков, где в годы войны был? На заводе. А я Европу видел. Жадно изучал всё. Правду искал. Смысла жизни. Молод был. Сотни проклятых вопросов мучили. За это и сижу. Лишнее узнал и хоть не уличили меня в западничестве, но заподозрили. Стали копать. Провокаторов подсылали. За язык тянули. На уголовщину соблазняли. Только дудки. Понял своевременно. Тогда нашли курву, которую я по морде настебал за триперок. Она наклепала, что я выслуживался у бауэра, людей подгонял, чтоб лучше втыкали. Один вахлак малодушный струсил и подтвердил поклёп. Припаяли за сотрудничество с бауэром 25 лет.
— Но только не об этом речь, — продолжал Бегун, — а о том, что не с прошлым, а с передовым зарубежным настоящим нужно жизнь нашу сравнивать.
— Верно, Бегун, в этом суть, — одобрил Шубин.
— Не засекречивание, радиозаглушка, изоляция, не квасный портяночный великодержавный…
— Ты, Ефим Борисович, помолчи, — прервал Шубина Бегун. — У тебя тоже детский срок — червонец. Держись в рамках. Слово — не воробей.
— Понимаешь ли ты, Шестаков, к чему идет твой социализм? — вступил в беседу Кругляков. — Чем больше он существует, тем меньше свободы и счастья. Отнимают все. Не только собственность, но и детей твоих, жену. Становишься ты сам не свой. Каждый глоток, каждый шматок получить можешь только по воле хозяина.
— Неправда! — вскочил Шестаков. Глаза его поблескивают зайчиками отраженного света. Рот порывисто хватает воздух. Видно, что до ареста выдергивал он волоски на переносице, над верхними веками, на щеках и сейчас разросся там безалаберный чертополох, придавая лицу диковатое, зловещее выражение.
— Неправда, — волнуется Шестаков: — Зять мой около больших трудится, так рассказывал, что все больше и больше функций органов принуждения будут передавать общественности: добровольная милиция, общественные суды, выборное руководство, самоуправление общества — вот наше близкое будущее.
— Обычная обдуряловка, — усмехнулся Кругляков. — Власть-то у тиранов и значит, все твои добровольные органы будут тирании служить. Чем дольше, тем большая часть общества принуждается участвовать в насилиях и подлости человека к человеку. В идеале не должно остаться нейтральных. Все, или почти все будут натравлены друг на друга. Власть государства над человеком непрерывно усиливается.
— Это-то и необходимо, — волнуется Шестаков. — У людей нет больше страха божьего суда; поэтому единственное, что может заставить держаться в рамках — это сила коллектива, общества, государства.
— Дельная мысль, — прошамкал беззубым ртом сосед Круглякова по вагонке — профессор философии Берман — подвизавшийся ассенизатором лагпункта. — Добавить только следует, что мир подошел к такому уровню развития производительных сил, что личность нельзя оставлять без неусыпного контроля. В руках личности часто сосредоточена страшная сила. Только всеобъемлющий контроль общества за личностью может обеспечить безопасность человечества.
— Так! — ликовал Шестаков. — Уложил вас профессор на обе лопатки, забодал кочерыжкой, спустил портки.
— Два ноля в пользу тигров, чтобы всюду не гадили, — меланхолично констатирует Хатанзейский.
— Все несчастье в том, что слова ваши кажутся убедительными, — обратился к Берману Кругляков, — но при умном разборе обнаруживается ложь этих слов.
— Так! Отлучи их батя от Карлы Марлы, — азартно потирает руки Солдатов. — Нехай пустят петуха под шубу гордыню поправ. Нехай их бум кончится низкой нотой.
— Верно, нельзя оставлять каждого без общественного надзора, — продолжал Кругляков, — но в обществе, в котором имеется несколько партий, газеты разных направлений, радио и телевидение независимые от власти — контроль над человеком разумнее и успешнее, чем у нас. Там любой может подать в суд на президента, премьер-министра и любое иное лицо. Для контроля над человеком не требуется сгонять людей в колхозы, коммуны, дружины, роты, лагеря, коммунальные квартиры, общежития, ячейки, звенья, бригады.
— У нас вожди и миллионы вождят неподконтрольны обществу, — продолжал Кругляков. — Что хотят, то и творят. Мы, демократы, за контроль над личностью. Они — за тотальный контроль сверху вниз и против подлинного контроля снизу вверх. В этом огромная опасность для всех в мире. Почитайте «Аэлиту» А. Толстого и поймёте, что это так.
— Люди, кто лежит на лопатках? — торжествовал Бегун, обводя горячим взглядом собравшихся. — Шестаков и Берман, ваша правота оказалась хуже воровства.
— Есть только один закон развития деспотии, — взял слово Кругляков. — Власть эта может удерживаться, только опираясь на непрерывно растущее насилие. Причем народу все усиленнее вдалбливают в мозг, что тирания есть лучшая форма демократии.
— Я, конечно, не защищаю большевизм, — раздался впервые в этот вечер голос Домбровского, — он осужден историей и здравым смыслом, но и в свободном мире далеко до идеала. Многое там в пути и много изжившего себя. Хотите подтверждений? Я познакомлю вас с американцем Джойсом, тоже журналистом. Он со мной в кипятилке работает.
— Пожалуйста, подробнее, — попросил Пивоваров. — В решении этих проблем — весь смысл жизни. За проволокой оформились мои сомнения. Здесь я понял, что нужно сызнова решать, ради чего жить.
— Мы еще к этому вернемся, — ответил Домбровский. — Сегодня я очень устал. Шли бы лучше проветриться, прогуляться, перемигнуться с луной.
— Правильно, братцы! — сорвался с места Бегун.
— Легкий морозец на дворе, чистое небо и с юго-запада — пахучий ветерок российской оттепели. Из-за дальности расстояния трупом «Звэра» не разит.
6
Был светлый звездный вечер. Высь белесая, бесстрастная, безразличная касалась прохладными щупальцами порывистого ветерка. В туманной дымке лучились огни зонного освещения, за которыми метались тени шалеющих, воющих сторожевых псов.
На лагпункте царило необычное оживление. По дорогам и тропкам бродили попарно и группками беседующие на различных языках люди. Непрерывно хлопали двери бараков, из которых то тут, то там выскальзывала на простор песня. У блатных грустил и выговаривал под мастерской рукой баян.
Ясно было, что это почерк бывшего артиста ленинградской эстрады Волошина.
— Хлопцы, вши ползут, — скороговоркой вполголоса предупредил Бегун. Все повернули головы к вахте, откуда двигалась серая стая надзирателей.
— Это скорее волчья стая или саранча, — буркнул Кругляков, — и впереди золотопогонник.
— Што шляетесь! — надсадно, ненавидящим голосом заорал офицер, — зикаете на радостях, шкуры!
— А ну, марш по баракам… в почки, селезенку, потрох мать!
— Это старший оперуполномоченный, майор Хоружий, — вполголоса произнес Кругляков, — обычный гад.
«Саранча» приблизилась к стоявшей возле дороги группке заключенных человек в пять.
— Сюсюкалов, — обернулся Хоружий к своим, — взять! Живей, не канючь, соплю не размазывай! В кандей на хлеб и воду! Одёжу и обужу снять! Печь не топить!
Двое заключенных бросились удирать. За ними погнались надзиратели.
Хоружий схватил за горло маленького тщедушного человечка в длинном бушлате и, наклонившись над ним, изрыгал в лицо:
— Што разговариваешь! Стой и не дыши! Закрой органы выделения, интеллегент! Народу не хлябало твоё надо, фрей, а работа, не очкастая твоя будка, а мозоли! Ясно?! Не канявкай, падло, гаворю!
Заметив подводимого надзирателями беглеца, Хоружий выпустил тщедушную очкастую жертву и гаркнул:
— Ты, лоб, мотай сюда! Нюх твой по сырости скучает…
— Братцы, сматываем удочки, — распорядился Кругляков, — до своего барака не добежим. Сигаем в этот.
— В барак не заходи, — скомандовал Кругляков. Волки увидят, что хлопаем дверьми и хлынут сюда.
Притаились в тамбуре, отдышались, наблюдали за разгоном заключенных и облавой на всех, кто попадался.
— В парусном флоте, — рассказывал Кругляков, — был такой прием борьбы с крысами: ловили десять-пятнадцать штук. Сажали в одну клетку. Не кормили. Стервенея от голода, крысы набрасывались друг на друга. Слабых сжирали. Так шло, пока в клетке оставалась одна крыса. Ее выпускали. На волю вырывалось чудище, вкусившее сладость крови ближних своих. Оно становилось бичем крысиного царства. Нападения из-за угла, пожирание детенышей, а также слабых и спящих так терроризовывало крыс, что они покидали корабль. — Вот такими же остервенелыми вышли из горнила чисток, склок и палачества Хоружие.
Из нутра барака послышалась незнакомая, нерусская песня.
— Узнаю голос Калью Ярви, — насторожился Шубин, — замечательный парень, талантливый скульптор, вкалывает на общих работах. Давайте зайдем, послушаем.
Окунулись в затхлую туманную и задымленную теплынь барака. Направились в угол, откуда неслась песня.
Там, в глубине вагонки увидели невысокого, стриженого как все, ничем с виду не примечательного человека лет тридцати с правильными чертами бледного лица и непроницаемыми серыми глазами меж белесых ресниц.
Калью Ярви пел под собственный аккомпанимент на гитаре. Играл он на ней так, как играют на банджо. Глухие отрывистые аккорды вели каркас мелодии, а гибкий задушевный баритон пел по-английски что-то западное, модернистское, хлещущее прямо вглубь души.
— Боже, как хорошо, — беззвучно шептал Шубин. — Как обеднили, обокрали жизнь, запретив западную музыку, арестовав ритмы, носящиеся в воздухе эпохи, мелодии, к которым льнет душа.
Несмелое сдержанное начало песни вливалось постепенно в бурный поток непонятных уму, но внятных сердцу слов. Непривычное, нездешнее, но покоряющее очарование захватило слушателей.
Когда песня оборвалась, никто не осмелился просить Ярви петь еще. Ясно было, он отдал больше, чем мог отдать замученный истощенный работяга, поддерживаемый лоханью мутной бурды и ломтем черного вязкого хлеба.
— Пожалуйста, разрешите мне иногда приходить к вам, — попросил Пивоваров.
Где-то в бездоньи невыразительных глаз увидел Пивоваров темные огоньки. Затем услышал тихий усталый дружелюбный голос:
— Пожалуйста. Буду рад. Я знаю вас, хоть мы и незнакомы. Вы тоже нравитесь мне.
7
— Какой чудесный парень, — вздохнул Шубин, выходя из барака. — Вот и не преклоняйся перед заграницей! Хоть — не хоть — преклонишься, раз держат ее за семью замками в высоком тереме мечты.
— Я во Франции влюбился в музыку, — отозвался Бегун, — в джаз, кино. А дома заел репродуктор. Дребезжит дни и ночи — не у тебя, так у соседей, в общежитиях, на работе, на улице, и заткнуть ему хайло нельзя — пришьют политику.
— Цель радио у нас одна, — заметил Кругляков, — засорить, заморочить голову до одури.
— Не могу забыть джаз, — продолжал Бегун, — и сейчас кажется, будто атакует мою душу примитивная как крик сыча ритмичная, бьющая по нервам, дикая музыка. Тело подергивается в такт, конвульсирует, извивается и томится жгучей и неотступной любовной тягой.
Шли несколько минут молча, будто вслушиваясь в звуки из запрещенного манящего мира.
Молчание прервал Хатанзейский.
— По мне, так девушка другой нации сто крат милей своих постных щей.
— Ишь, космополит, — усмехнулся Кругляков. — Приказано чтоб всяк кулик свое болото хвалил.
— Я вспомнил Эстонию, когда слушал Ярви, — продолжал Хатанзейский. — Роман у меня там был. С вдовой солдатской. Высоченная. Толстопятая. Шесть пудов. Грива серая. Утром, бывало, сгребет меня в охапку и несет под умывальник — умывает. Я ей до грудей доставал макушкой. Любила — ужасть как. Бывало, разойдется и нет, что помолчать, сосредоточиться, а с неё слова так и льются бредовые, жаркие. Бывало час бормочет, ворочается и все стонет, зубами скрипит, пока вся сила ее, вся жадность перегорит до тла.
И все-таки сорвалась. Подвернулся ей однажды хлыщ из кавказцев. Наш офицер. Ус торчком. Глаз с угольком. Талия осиная. Переметнулась. Я — ушел. Долго потом бегала, просила, плакала. Да только мы не из таких. Отрубил — так на век. Так у нас от дедов. Правда, верность, честность — дороже всего.
— Большое дело, когда женщина подходящая, — заметил Журин. — Бывает, живешь и с каждым днем силы у тебя прибывают, цветешь, растешь. Дышать легче и в башке все толково, чисто. Бывает же попадешь, да так не по тебе, что в три погибели согнешься. Будто неведомая враждебная сила подсекает и бодрость, и живучесть и ум. Большое дело, когда бабенка по тебе — и словами не скажешь, как это важно.
— Вы понимаете, что покоряет в западной культуре, музыке, песне? — спросил Кругляков, и сам ответил: — Дух добра, милосердия, любви, человечности, терпимости. Помню, довелось мне основательно поговорить с начальником управления МГБ Челябинской области. Спрашивал его:
— Неужели вы думаете, что идеологией ненависти меньшинства к большинству, проповедью беспощадности, практикой несправедливых преступных репрессий вы добьетесь признания вас водителями человечества? Чепуха! — выкладывал я полковнику. — Вы стали уже из-за этого пугалом, ходячим ужасом для всех людей земли. Вас ненавидят и боятся, но не уважают и уж, конечно, не любят. Ничего из идейной привлекательности вашей революционной юности не осталось. Вы всех обманули. Все надежды отринули. Всем лозунгам революции изменили. Люди видят в вашей власти сейчас фараоновский режим, пирамидостроение, вавилонское столпотворение, современное рабство.
Молчал насупленный умный полковник, а я рубил правду-матку, да без боязни, сплеча.
— Люди всегда шли и пойдут за апостолами добра, милосердия, разумности, солидарности, любви к человеку и человечеству. Главное в истории — борьба Добра и Зла, преодоление Зла. Вы же, как одержимые амоком — мчитесь с окровавленным ножом в руке и люди в ужасе шарахаются от вас в сторону.
— Жаль, очень жаль, дорогой Николай Денисович, — заметил Журин, — жаль, что мы их учим. Без нашей подсказки были бы они венериками и громилами из «Конармии» Бабеля, а так — они людей скребут и ума наскребаются. Сейчас они на словах за добро, дружбу, справедливость, но, конечно, к своим, а по отношению к тем, кто не с ними, не в их банде, все по-старому дозволено.
— Им еще помогает зарубежная пресса, — добавил Бегун, — вправляет мозги кремлевским оболтусам. Ведь, Иоська, что подох, хоть и хитрый зверь был, но необразованный. Восточный тиран. Громила. Мстительное беспощадное двуногое, выросшее на традициях кровной мести. Недаром лагерная его кличка — «Звэр».
8
Подошли к бараку блатных. Слышался оттуда чей-то звучный приятный тенор, взгрустнувший под всхлип баяна.
— Где это наш вагонный «Щипач»? — спросил Пивоваров. — Будет ли опять он петь лихие песни? Губу-то ему как разодрали на пересылке.
Кто-то вышел из барака на крыльцо, оставив дверь полуоткрытой, и совсем не лихая песня поплыла из темноты:
Двух беглецов в наш кондей привезли, Бросили на пол как грязные тюки, С пола поднятся они не могли, Сломаны были их руки. Били их крепко, вбивали их в смерть — Навык такой у советских фашистов. Это зверье не умеет жалеть — Нет ведь души у чекистов.— Гуляет народ, — радовался Журин, — праздник справляет. Не усатый упырь их пережил, а мы его. Всё одолеем, Юра, — хлопнул он Пивоварова по плечу, — и «широкую вольную, грудью проложим дорогу себе».
— Слушайте, сейчас блатную поёт, — оживился Пивоваров. — Талантливые черти.
Стоять возле барака «господ» не считалось безопасным, поэтому друзья медленно побрели к себе.
Струилась им вслед печальная, выстраданная, незамысловатая, трогательная песня:
Приморили, гады, придавили, Отравили молодость мою. В котловане с вечной мерзлотою Я у края пропасти стою.Шли возле зоны, недалеко от сторожевой вышки, где происходила в это время процедура смены караула.
— Пост по охране зоны врагов народа принял! — раздался зычный рапорт солдата.
По скрипучей лестнице вышки подымалось двое, освещенные зонными электрическими лампами. Заключенные увидели, что кроме обычных винтовок, солдаты несли с собой пулемет, ручные гранаты, автомат. У каждого висел на боку ракетный пистолет.
— Понавешали на себя, гады, — крякнул Кругляков, — обычно — один часовой на вышке, сегодня — два; обычно — винтовки хватает, а сегодня — целый арсенал волокут.
— Это из-за Звэра, — отозвался Журин, — боятся заварухи в честь сдохоты владыки.
Медленные удары в рельс возвестили отбой. От вахты отделилась колонна надзирателей, направляющихся вглубь зоны. Группами по пять расходились они по тропинкам к баракам и, распахивая двери, орали:
— Прекратить песни! Спать! Раскудахтались, гады! Обрадовались! Молчи и не дыши, иначе капут!
9
Вернулись в парную хлевную духоту опостылевшего барака, в опасное убежище, полное бушующих или коварно притаившихся враждебных сил.
— Тебе кажется, — гудел перед сном Кругляков, поучая Пивоварова, — что в водянистых глазах северян, в горячих глазах южан, в раскосых миндалинах азиатов просвечивается любопытство к тебе, а то и сочувствие, симпатия! Чудак кролик. Наплевать им на чистый и белый твой лоб, на округлость щек. Олень ты лопоухий, рогатик. Не сбили тебе еще рога. Для многих мы только туши — двуногие, которых запрещено, к сожалению, зарезать на жаркое.
— Вон, смотри, около печки лежит лысый, серый, облезлый, тот, что курит, на нас посматривает тусклой мутью глаз. Это — «Бендера», который Шубина бил. Так вот, знаешь, о чем он думает? Думает, что ты еврей. Его помутившемуся котелку все кажутся евреями. Даже Рождественского — потомственного поповича — евреем считает. Смотрит этот «Бендера» на тебя и своим глазам не верит.
«Черт побери, — думает он, били их, били, стреляли, стреляли, травили, травили, пока от устали не падали. Жгли не по одиночке, а тысячами, эшелонами. Думалось, что уж и семени ихнего не осталось — под корень всё извели. Ан, глядишь, опять тут как тут: лобастые, очкастые, так и смотрят в твою душу, телячьими, упрекающими глазами».
Посмотрит такой «Бендера» на тебя и опять ночью изведется в бреду. Слышал, небось, как он орет во сне. Ведь он заснуть боится. Видишь, курит и курит и смотрит потухающим без умеющим взором в одну точку за горизонт — туда, откуда лезут на него синие покойники с разодранными шеями, с брызжущими красными сгустками мозгов, со стенаниями и воплями, плачем и ревом, с мольбой, с протянутыми ручками малюток.
Ты видишь, он аж головой трясет, зубами скрипит, желваками играет. Он гонит, отталкивает от себя призраки, тени, скрюченные руки из чуть присыпанных, шевелящихся, стонущих массовых могил. Тянут, влекут эти призраки Бендеру в мир теней, в муку вечную.
Не один он такой. Чекисты считают их преступниками второстепенными. Не возятся с раскрытием подлинного лица. Ведь многие такие по чужим документам живут — по документам своих жертв. Всунули 25 лет и забыли. — Для чекистов опаснейший враг, «закоренелый и нераскаянный», как писал Щедрин, — это вольнодумец, ясная голова, демократ, интернационалист, гуманист, сторонник свободного открытого общества, смешанной свободной экономики, терпимости к различным взглядам и верам. Ясно? — Не верю. Вряд ли все тебе ясно. Молод еще и мозги советским наркозом затуманены.
10
Дневальный Писаренко прикорнул к лежанке и блаженно посвистывал волосатой ноздрей. Наслушавшись похоронного радиовоя, он уснул со светлыми мыслями и во сне негнущейся пятерней щекотал под брюхом давнишнего своего любимца — гнедого жеребца, косящего на хозяина фиолетовым глазом.
В час, когда пришлось привязать присохшего к сердцу гнедого красавца к колхозной коновязи, вонзилась в грудь Писаренко корявая заноза, да так и осталась навсегда колючкой, бередящей душу. Свалился он тогда в медвяный травостой с придушенным писком плача в задыхавшейся глотке.
— Очнись, борода! — теребил дневального посыльный из штаба лагпункта. — Что хныкало рассупонил, шлепанцами жуешь и вякаешь?
— Чого тоби, бисова перечница?! — вскочил Писаренко. — Враз в хрюкало вмажу!
— По миру, шкура, ходи, — хреновину не городи, — официальным тоном осадил дневального посыльный. — Где тут Шубин спит?
— Здоровеньки булы! Якый такий Шубин? Чого нема, того нема.
— Раззява, — хрипел посыльный, — это жид, что на завод ходит. Ха Бэ — Хлопчатобумажный, лобастый такой с кандибобером, одёжа и обужа в масле.
— Так бы и гутарил. Ось — цей, бачь, рядом с красюком Пивоваровым. Ты лоб, крохобор, бачишь?! Иль бельмы повылазилы?! Так разуй глаза, гад! Валенки пид головою. Бушлатом замасленным прикрыт!
11
Шубина разбудили. Посыльный повел его в кабинет старшего уполномоченного первого оперативно-боевого отдела майора Хоружего.
Это был человек лет сорока пяти, высокий, худощавый, лысый, в очках. Издали казалось, что у него интеллигентное лицо и только вблизи рассмотрел Шубин в застывших жестких, не прощающих глазах сгущенную догму палаческого изуверства.
— Подробно расскажите о разговоре, в котором сегодня вечером вы участвовали, — приказал Хоружий.
— Я ни в каком разговоре не участвовал.
— Врешь, падла! — рычит Хоружий. — Кого Бегун уговаривал помалкивать? Срок, мол, детский. В тени темни. Все знаю. Будешь финтить, вилять, — хуже будет. Ты — дирижёр, главарь антисоветского лагерного подполья. Признавайсь. Ты подъялдыкивал, подзуживал, подначивал!
— Я рано уснул, — ответил Шубин. — Может быть, кто-либо и разговаривал. Люди, пока живы, всегда разговаривают, но я спал.
Хоружий пучит глаза, стучит по столу.
— Врешь, гнида! В Москве не раскололся — здесь рассыпешься. До неба тут высоко, до прокурора далеко. С кровью все выхаркаешь! Не таких ломали. Говори: кто кроме тебя в центральном комитете?
— Каком центральном?
Оглушающий удар в лицо валит Шубина с ног. Острым мысом кованого сапога Хоружий с наслаждением сучит в ребра.
Из соседней комнаты входит незнакомый капитан. Шубин видит над собой лживые стеклянные глаза неврастеника.
— Подымитесь. Сядьте. Давайте по-душам, по-человечески. Расскажите правду. Мы знаем, что вы незаурядный…
— Стереть в порошок этот антисоветский геморрой, — рычит захлебываясь злобой, Хоружий. — Читал особые указания?
— Расскажите, когда вы намечаете восстание? — спрашивает капитан.
— Гражданин капитан, поверьте, от всей души вам говорю — вопросы ваши нелепы. Простите, но вас ввели в заблуждение. Мне и в голову никогда не приходили мысли о заговоре, восстании. Я работаю, отдаю все силы. Я люблю работать, изобретать, конструировать.
— Знаем вас, гадов! — выхаркивает Хоружий. — Доизобретались до атомной бомбы. Собираетесь Ивана с Сёмой лбами стукнуть, а сами в Палестине отсидеться. В рот тебе пароход! Всюду под ногтем хряснете!
— Подожди, Хоружий, — обрывает капитан. Видно — он здесь старший, хоть по чину и младше Хоружего. — Расскажите, Шубин, о вчерашнем разговоре. Мы все знаем. Даем вам шанс не попасть в эту компанию. Они, ведь, образуют антисоветскую организацию, не так ли?
Хоружий выходит в соседнюю комнату. Шубин остается наедине с капитаном.
— Господи, зачем вам это? — стонет Шубин. — Зачем сочинять заговоры, придумывать восстания, хватать людей без вины? Ведь это самое слабое место нашей системы. Неужели вы безумны? Ребенок бы понял, что это ошибочный, роковой, страшный путь. Нет в стране более опасных врагов государству, чем вы сами.
— Вот это и есть махровая контрреволюция, Шубин.
Капитан вытягивается в струнку. Стеклышки его глаз мечут блестки раздражения и ненависти!
— Мы, Шубин, сливки русского народа, благороднейшие сыны родины, рыцари революции. На нас возложена трудная, опасная и грязная работа по очистке страны от дерьма. Мы — люди переднего края социалистического наступления. Помнишь Маяковского: «Я ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный»?
— Воры то же самое говорят, — усмехается Шубин.
— Что? Что?
— Воры, — говорю, — тоже глубоко и искренне убеждены, что только они настоящие избранные люди — благородные, интеллигентные, умнейшие. Они тоже уничтожают своих соперников, а покорных рассматривают как скот, обязанный обслуживать начальство — воров. Они тоже малочисленной кучкой командуют массами, грабят всех…
Из соседней комнаты врывается Хоружий.
— Ты слышал, капитан, к кому он нас приравнивает? Что ты с ним кашу размазываешь! В кандалы подлеца! Маникюр гаду! По пяткам, в почки, в потрох, в селезёнку мать, хохмач!
В открытой золотозубой пасти Хоружего клокочет и булькает звериный рык. На лбу его вздулись черные жилы и тяжелые костистые кулаки подрагивают в нетерпении на синем сукне стола.
Капитан холодно одёргивает Хоружего, и тот, сцепив щучьи челюсти, опять выходит.
— Шубин, вы усугубляете свою вину. Вы должны понять, что мы именем родины требуем вашего признания. Любовь к родине руководит нашими поступками.
— Это не любовь, гражданин капитан. Это имитация любви — извращение. Это садизм к народу и собственный ваш мазохизм. Все это не от сердца, а от воли, злого внушения и патологического самовнушения. Вы сами свою любовь к родине воспринимаете как муку, боль, бред, как извращение.
— Только за эти слова вам жить не положено, Шубин.
— Опостылело всё, гражданин начальник. Всю жизнь я стремился только к одному: как бы больше принести пользы людям, государству и добился этого. Много рационализировал, совершенствовал и открывал новое. Почему вы не даёте людям работать, творить! Зачем вам превращать профессоров в ассенизаторов, и гениев — в гипертоников-доходяг? Посмотришь на таких майоров, — Шубин кивнул в сторону двери, — и жить не хочется. Делайте, что хотите. Вы сломали во мне уважение к руководству, веру в осмысленность порядка в стране. Вы обессмыслили мою жизнь.
— Работайте! Кто вам мешает? — злобно огрызнулся капитан. — Работайте и не занимайтесь контрреволюцией. Вы хотите рассиживаться за столом, манипулировать рейсшиной и логарифмической линейкой, легко жить. Много вас таких охотников. А вы поработайте руками, до мозолей, до упаду, до поту цыганского.
— Охоту работать вы отбили. Хорошего из-под палки не добудете. Глупо заставлять кур доиться, а коров нести яйца. Каждый человек хорош на своем месте, на том, для которого он генетически и психически запрограммирован. Там он полезнее всего, где всеми своими физическими и душевными качествами, воспитанием, наследственностью, склонностью наиболее соответствует особенностям трудовой обстановки.
— Вы не лезьте в интеллигенты, в руководители, в политику, — продолжает внушать капитан. — Ведь вы по природе ревизионисты, фрондеры, критиканы. Всюду создаете вокруг себя как бы силовое поле. Все беспокойства от вас. Всегда и всем вы недовольны, никак не остепенитесь, не остановитесь. В политике у вас всегда особое мнение.
— Политику стал презирать, — прервал капитана Шубин. — Я убежден, что не политика, не расчет и выгода должны царить в общественных отношениях, а совесть, общечеловеческая гуманистическая мораль. Только осуществляя эту идею, люди создадут строй справедливости, добра, любви и счастья для всех. У вас мораль готтентотов, законы джунглей, право силы, культ ненависти к другим культурам и народам. У нас с детяслей вдалбливают, что французы и англичане — бяка, Америка — кака, а русские — цаца. Вы дальше всех от общества справедливости. Только Гитлер был дальше вас.
— Вы знаете, что все ваши слова записаны на пленку? — ехидно осклабился капитан: — Теперь не отопрётесь.
— Все мне стало безразлично, — с горечью ответил Шубин. — Думал, что кроме рехнувшейся Лубянки есть периферия, миллионы работников с народным здравым смыслом. Оказывается, все вы взбесились как воры.
— Прекратите декламацию! — кричит капитан. — Будете рассказывать о заговоре?! Кто, кроме вас, в центральном комитете?! Кто из вольных осуществлял радиосвязь?! Говорите, пока не поздно! Все равно расскажете. Вы ведь не новичок, понимаете, что у нас все рассказывают. Заставим. Очень вам плохо будет, Шубин.
— Неужели вы верите в то, что говорите? — отчаивался Шубин. — Если решили меня уничтожить, так сделайте это без садизма.
— Расколешься, Шубин. Я видел, как московские врачи-отравители, шпионы раскололись. Признаешь все. И сам еще добавлять будешь. Не упорствуй. Сам знаешь — применим особые методы.
Капитан нажал кнопку звонка. В кабинет вошел Хоружий.
— Я поеду сейчас, майор. Отправьте Шубина. Пусть подумает. Приготовьте к завтрашним допросам комплекс А-8. Ясно?
Майор послушно кивнул головой, посмотрел на часы.
— Через двадцать семь минут отправлю его, товарищ капитан.
Шубин понял, что майор хочет задержать его до подъёма, чтобы люди заметили, где он был ночью.
— Маскируют своего осведомителя, — догадался Шубин. — Хотят, чтобы считали меня провокатором. Обычный прием, не понятный, однако, массам.
Вошел надзиратель. Хоружий передал ему лист бумаги.
— Заберите сейчас, — распорядился Хоружий, — до подъёма. Рассадите по одиночкам. Это — подследственные.
— Ну так как, вражина? — обратился Хоружий к Шубину. — Будешь давать показания? Что молчишь? Знаешь, ведь: раз попал сюда — хана. Через кого поддерживали связь с московскими врачами-шпионами? Кого намечали здесь укокошить? Меня первого? Говори!
Шубин молчал. Он сидел согнувшись, охватив руками грудь и живот в ожидании побоев. Однако Хоружий спокойно вышагивал рядом, не проявляя раздражения.
— Может не будет бить, — подумал Шубин. — В начале допроса он, вероятно, следовал заранее намеченному плану: сначала буря и натиск — затем — послабление. Сейчас, видимо, допрос окончен. Мурыжит время.
— Гражданин майор, вы ведь умный человек. Поймите: вас кто-то ввел в заблуждение. Бессовестные люди выдумывают часто заговоры, подготовки восстаний, связи, шифры, коды, чтобы раздуть значение своей информации, выслужиться, чтобы все валили друг на дружку — Ванька на Кирюшку.
— Не бреши, — наставительно скрипит Хоружий. — Все вы виноваты, порочны. Руководить вами нужно твердой рукой, иначе вдаритесь в измы, пойдет разброд, шатание, а нам нужно мировую победу ковать. Если мы не сломим капитализм — то они сломят нас. Отнимут у нас безбрежные наши земли, отрежут нам десять голодных губерний вокруг Москвы и — живи как хочешь. А в этих-то русских губерниях ничего, кроме людей, не родится. А нам нужно все: каучук и хлопок, уран и нефть, никель и уголь, шерсть и железо и все это на перифериях страны находится. Мы обороняем нажитое, а лучшая оборона — это наступление. Если бы ты был хоть на грош советским патриотом, то понял бы это.
— Пойми, чудак, — продолжал Хоружий. — В нашей стране без диктатуры не обойтись. Слышал, небось, какая политическая чехарда охватила Русь до революции: сотни сект, десятки пророков, партий без счета и конца, и после: тысячи банд, батек, учений. Каждая нация в свою сторону гнёт, каждая отделиться хочет, своего президента выбирать, а в стране сотни наций и всюду свои национализмы. Только твердой беспощадной рукой — держать и двигать к нашей цели, ко всемогуществу в мировом масштабе. Ясно?
Казалось Шубину, что говорит Хоружий только для себя, подбадривает себя, а на него — Шубина, смотрит как на пустое место.
12
Зазвенел сигнал подъёма. Через пять минут Хоружий отпустил Шубина. В бараке Шубин никого из своих соседей и друзей не застал. Четверть часа тому назад всех их увели в карцер.
— Рассчитался, гад, с наивняками, — сипло бросил со вторых нар Бендера, — продал за чечевичную похлёбку.
Шубин в изнеможении опустился на нары. Решил не выйти на работу, надеясь, что его посадят за это в карцер, присоединят к друзьям.
Однако этому намерению не суждено было сбыться. Сначала прибежал за Шубиным бригадир, потом нарядчик, и, наконец, трое вышибал с нарядчиком. Подчиняясь приказу Хоружего, они выволокли Шубина силком на вахту и выпихнули в колонну за ворота.
Весть об аресте девяти человек в двадцать девятом бараке и о том, что Шубин замечен был выходящим из кабинета оперуполномоченного успела облететь колонну. Знакомые сторонились Шубина. Он шел в колонне среди наиболее наглых, задиристых, оподлевших людей, наступавших ему на пятки, наскакивавших сзади, сучивших в бока.
Попытки Шубина говорить, объяснить, грубо пресекались. Шубин чувствовал, что окружающим наплевать на правоту иль вину его. Они рвались отвести душу на ком только можно.
— Чуют, — догадывался Шубин, — что человек катится под ноги: «так топчи его, иначе тебя затопчут», «сегодня ты, а завтра я», «умри ты сегодня, а я завтра». Жизнь беспощадна и правду давно поймали, «хором» изнасиловали и сушить вверх ногами повесили.
— Почему меня одного вытолкнули на работу, а остальных посадили? — раздумывал Шубин. — Если Хоружий хочет представить меня доносчиком — это плохо. А, может быть, хотят какую-либо пакость на работе подстроить? Вредительство приписать? Диверсию сочинить? Провокацию подстроить?
Поделиться, посоветоваться было не с кем. Всех друзей забрали: Пивоварова, Хатанзейского, даже трепача Шестакова.
— Другим не до тебя, — соображал Шубин, — своя боль у каждого и недоверие к тебе и еще: злость, презрение, ненависть. Сомневаться в подлости другого наивно. Слишком много кругом подлости, и значит, обязательно много подлецов — проводников, инициаторов, подстрекателей, носителей скверны.
На работе обычная горячка неотложных дел и забот захлестнула Шубина. Подавленный, разбитый и утомленный он выполнял всё-таки свои обязанности как всегда: разъяснял товарищам сложные чертежи и схемы, дочерчивал детали, устранял ошибки конструкторов, технологов и одновременно работал как слесарь на сборке машин.
Во время обеденного перерыва пришел к Шубину доброжелательный сочувствующий Ярви. Шубин рассказал ему все. Видел: рядом доверяющий ему человек.
13
Работу закончили в сумерки. Долго собирались на пятачке за вахтой. Молоденький затурканный начальник конвоя бесконечно сбивался со счета. Наконец погнали сгорбленную колонну во тьму.
В пути, под вой ветра, хорошо думалось. Пытаясь отвлечься от внутренней боли, Шубин перебирал в памяти былое. Вспоминалась почему-то последняя встреча с московским следователем подполковником Короткиным. Последний допрос.
В тот поздний вечер Короткин, вопреки обыкновению не бушевал. Сытый, утомленный он пытался даже острить.
— Посылаем тебя, Хаим, на север, — миролюбиво ворковал Короткин. — Отбудешь срок, а потом в пожизненной ссылке останешься. Там, брат, племена героически вымирают от бытового сифилиса, родственных и ранних браков. Плевая малость того народу осталась. Ползают яловые бабёнки как сытые вши. Греху много, а толку мало.
— Так ты там, Хаим, похлопочи, — издевался Короткин. — Парень ты горячих кровей, обхождение знаешь, глаз с огоньком, грудь колесом и как дубок весь в корень вырос. То, что бабенки те от роду не мыты, к сердцу не принимай. То, что ворванью от них воняет как из ассенизационного колодца — внимания не обращай. Красуля тамошняя прежде чем сапоги меховые зашьёт — хорошенько сапог тот заношенный, вонючий во рту жует — для размягчения швов, иначе иглу не проткнёшь. Так ты, Хаим, потом рот тот целуй. Надо ж вам ассимилироваться, от торгашеской своей нации избавиться. Вот вам и избавление, поправка ваших кровей.
Бабенка в долгу не останется. Как только придет час обеденный, так она — хвать миску, из которой только что собаки жрали, и ласково промурлычит: «знам, яврей чисто любит» и поэтому плюнет она в миску пару раз со всей своей душевностью, разотрет тот плевок грязным своим подолом и под нос тебе тую миску поставит. «Нюхай, мол, душевный друг, псиный дух, переходи в нашу веру сифилисную».
Ни забот тебе, ни хлопот. Ракетой мчит судьба на погост, а там, сам знаешь, жисть райская, парящая, утешная. Всем мученикам крылышки на спину и пропеллер в зад пристраивают. Летай себе — «в звезды врезываясь» как наш Маяковский советовал.
Отгоняя от себя видение злорадно оскаленной морды московского пытателя, Шубин зашептал первые пришедшие на ум строчки стихов:
«Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах…».— Где это было? А… вспомнил. Под деревней Федоровкой, на берегу Бахмутки. Засела там рота немцев. Генерал, балбес, Лопаткин сам приезжал гнать наш 898 полк на штурм Федоровки. По десять раз в сутки без артподготовки, во весь рост по белому открытому полю, на верный убой. Так и не взял полк Федоровки. Лёг костьми и не одолел семидесяти автоматчиков. Там был я «от смерти четыре шага», даже ближе: лицом к лицу со старухой из-за безмозглости беспощадного всевластного кретина.
Колонна заключенных шла по высокой железнодорожной насыпи. Слева и справа круто срывались вниз откосы.
Шубин, шагавший крайним в своей шеренге, почувствовал вдруг удар сзади в бок и сильный толчок, сбивающий с ног, выбрасывающий из колонны под откос.
— Вот зачем оттирали меня на край, — вспыхнуло в уме Шубина.
Он упал на скользкий крутой гладкий откос. Тщетно пытался пальцами, ломающимися ногтями зацепиться за оледеневшую, почти отвесную поверхность. Отчаянный крик невольно вырвался из глубины, крик нестерпимой душевной боли, обиды, призыва к совести людской.
Дрогнула и остановилась безликая колонна. Слух каждого полоснул этот крик. Люди ощутили, что это последний всплеск жизни, рвущейся из глубины. И сразу же по катившемуся вдоль откоса телу грянули длинные очереди. Спущенные с цепей разъяренные псы вгрызлись в горло…
Огромная багровая луна только что высунула из-за фиолетовой тундровой дали раскаленную лысину. С холодным любопытством всматривалась она в остановившийся черный человеческий зрачек, в котором только что отражался весь необъятный мир и теплилась доверчивая любовь к людям.
14
Хоружему не удалось завершить внесение личного вклада в широко развернутую чекистами кампанию фабрикации местных судилищ над «пособниками банды врачей вредителей».
Накануне опубликования правительственного сообщения о провале дела «кремлевских врачей — Хоружему пришлось, по директиве свыше, выпустить из карцера друзей Шубина.
Перепуганные сталинские последыши оказались вынужденными сползать на тормозах с наиболее безумных ненавистных народу позиций режима.
15
В день освобождения из карцера истощенных, избитых, измученных «пособников кремлевских врачей-шпионов» выгнали на работу. Журина и Пивоварова вернули на завод в сталеплавильное отделение, в котором Журин опять стал сталеваром, а Пивоваров — дежурным электриком подстанции. Домбровского послали в кипятилку к Джойсу, с которым он успел подружиться. Хатанзейский продолжал слесарничать в сборочном цехе, где перед смертью работал Шубин. Бегун присоединился к своей дорожной бригаде. Круглякова понизили в должности: был он браковщиком-контролером в цехе металлоконструкций, а стал рядовым такелажником. Шестаков вернулся в инструментальный цех, а Солдатов опять сел за руль автопогрузчика.
Потянулись серые безотрадные будни. Медленно оправлялись друзья от следственного шока, от жестокой обработки, примененной дабы сломать их волю, прибить мысль, приучить к бесправной униженной доле раба.
Бледные и слабые, душевно разбитые, физически и нервно истощенные ежились люди, внутренне замкнувшись, тоскуя и отчаиваясь. Прежней доверчивости, разговорчивости как не бывало. Кончились общие шумные споры. Исчезла иллюзия, что лагерь — это дно, ниже которого не упадёшь. Оказалось, что нет конца и края мукам, нет дна.
Особенно сдал Домбровский. Большие темные глаза его поблекли и глубоко запали. Бледная кожа натянулась на скулах и дряблыми складками залегла возле опустившихся губ. Он еще больше сгорбился, высох, поседел как лунь.
— Кончут меня здесь, — жаловался он шопотом Журину. — В голове постоянный шум, как в раковине, приложенной к уху. Очевидно возросло кровяное давление. Да и как ему не возрасти? Нервотрёпка фатальная. Кроме этого, мало на севере ионизированного кислорода, а только он — биологически активен, вступает в реакции обмена веществ. В душегубной вони бараков такого кислорода почти нет. Здесь необычайно быстро прогрессирует склероз сосудов и гипертония. К этому присоединяются белковое и минеральное голодание, авитаминоз, быстрая смена барометрического давления, страх и бессоница, непосильный убивающий труд, холод, общее истощение и отравление организма. Человек блекнет, вянет, тупеет, опускается, идёт ко дну.
К Пивоварову подсел Писаренко.
— Мабудь, закуримо, сынку, — вполголоса предложил он. — Не куришь, це — добре. Хвалю. Я за спичешный коробок цього треклятого зелья пайку хлиба виддавал. Погане дило, а не бросишь в такым вертепи.
Писаренко полез рукой за пазуху, достал спрятанную под телогрейкой пайку хлеба и подал её Пивоварову.
— Не благодари, сынку. Я сёмый рик по лагерям. До слез сочувствую. Где-то и мои такие горе мыкают, по свиту в безбатькивщине блукають. Начальники як можно раньше видрывают дитэй вид батькив, щоб воны дольше булы неопытными, щоб було спидручнее обмануть и оподлить.
Писаренко пригнулся, уперся локтем в колено и прикрыл большой медной ладонью глаза.
— Где-то без надзору, без опоры колдыбають голодные, холодные порченые сироты и беспутствуют из-за нужды жинки. Смиртно дило.
Долго молчал, пригорюнившись. Наконец, очнувшись, приблизил лицо к уху Пивоварова и зашептал:
— Люди балакают, стукачем був Шубин и за того его убили, а я знаю — брешуть поганцы. Стукачей посеред ночи к оперу не клычуть. У стукачей есть ходячие почтовые ящики. Им чека посылки каждый мисяц шлеть, будто вид близьких. Бачил. Знаю. Зря сгубили чоловика. Чую, смертный грех хтось взяв на себе. А кто — не видомо. Ночное дило — темное.
Видать не один був пидлец — компания. Все шито-крыто.
Пивоваров заметил вошедшего в барак Ярви. Стоя возле дверей он кого-то искал глазами. Навстречу Ярви из сумрака первого этажа вагонки поднялся Журин. Они о чем-то поговорили, после чего Ярви вышел. Журин подошел к Пивоварову.
— Юрий, есть письмо Шубину от жены. В день нашего ареста Ярви взял это письмо у помпобыта, выкрикивавшего фамилии адресатов в бараке. Шубина тогда уже не было. Никто из нас, кажется, близко не сошелся с Шубиным, но к тебе он благоволил, спал с тобой рядом. Тебе, я думаю, и решать, как быть с письмом.
— После того, что нам сегодня на работе рассказал Ярви, — продолжал Журин, — ясно, что Шубин не провокатор. Я верю в это. Донос, которым все время козырял Хоружий, утверждая, что автор его Шубин — подделка. Домбровский рассказал мне, что ему предъявили протокол допроса будто бы подписанный мною. В этом протоколе было написано, что мы образовали здесь партию демократов, ставящую своей целью восстание, захват оружия, овладение аэродромом, на который должны по нашему радиосигналу прибыть транспорты оружия из США и т. д. Дикая несусветная чушь! Видимо, и дело кремлевских врачей такая же чушь, раз нам пришивали связь с ними.
— Ты слышал, — продолжал Журин, — Бегуну предъявили фотокарточку, на которой Герасимович, пользуясь крохотным радиопередатчиком стучит что-то в эфир. Такие же подделки протоколов допросов предъявляли Круглякову и Хатанзейскому.
Кругляков — битый, опытный, грамотный. Он сразу высмеял делосочинителей и за это получил усиленную трепку. До сих пор выпрямить спину не может — били по копчику, по почкам, отбивали легкие.
— Так как ты решишь насчет письма? Прочитаем?
Может быть мы чем-нибудь сможем помочь несчастной семье.
«Милый, любимый, родной! — читал Пивоваров полушопотом наклонившемуся к его губам Журину.
— Только береги себя. Только, чтобы косточки твои уцелели, милый мой… Завтра высылаю тебе посылку. Я еще не работаю. Надеюсь, возьмут на литейный завод. Оказывается, что детей в детсаде доверить мне больше нельзя. То, что было в сберкассе — конфисковали, а также твое пальто, костюм, отрез, сапоги. Только подушечка твоя фронтовая осталась, любимая твоя подушечка. Я даже днем хожу, прижав ее к щеке.
Фотки твои тоже взяли. Я умоляла, чтобы отдали хоть ту, что в Будапеште снимался с орденами и медалями. Не дали. Во время обыска пропали мои часики.
Дети здоровы. Шурик похудел, но учится как ты: блестяще. Павлик все понимает. Молчаливый стал, замкнутый, не улыбнется. Помогает по хозяйству. На улицу больше не выходит. Много читает, работает. Повзрослел в тринадцать лет.
Копчина меня уговаривала: ты же русская, Катя, разведись и обратно примут в детсад. Я посмеялась. Разве такая лягушка поймет, что без тебя нет жизни, пуст мир мой. Я пыталась выехать в город, где ты сейчас. Это строго запрещено. Одинокой, может быть, и удается, а с детьми…
Дети спят. Я подошла к их кроваткам и вдруг почувствовала, что ты здесь, рядом с нами. Я даже обернулась со скачущим сердцем. Волна нежности захлестнула горло. Как ты мне близок, мил, мой родной, единственный. Ты в каждой клеточке, в каждом закоулке души…».
— Я не могу больше, — прошептал Пивоваров побелевшими губами.
Журин видел, как затряслись плечи его юного друга, уткнувшего лицо в узелок белья в изголовьи.
Глава четвертая. Запретный плод
1
Механический завод построили в середине тридцатых годов на пустынной окраине заполярного городка, между железнодорожными насыпями. С тех пор днем и ночью гонят туда и обратно согбенные колонны работяг. Гонят и по железнодорожной насыпи, с которой видно, как убегают в беспределье снежные торосы. Больше ничего не видно в гулкой пустоте. Только месяц над головой, мигающие звезды, да полосатый полог северного сияния.
Взоры людей невольно прикованы к причудливой пляске северного сияния. Оно отгораживает землю от неба и обдает холодом, дрожит и мечется, вспыхивает и угасает, переливается всеми цветами радуги и, срываясь с высоты, рассыпается бесчисленными алмазными светлячками по безбрежью заколдованного безмолвия.
…Седая глухомань… Дорога несчастья… Днем и ночью, забинтованные снегом, головой упираясь в пургу, вдыхая стынь жесточайших морозов, пробиваются люди к огоньку хрупкой надежды…
Пятьсот первопроходцев… Пятьсот разлук… Каждый одинок, как метеор в бездне…
Подходишь с колонной конвоируемых работяг к заводу и все явственнее слышишь его тяжкие вздохи, гулкую канонаду кузнечных молотов, шум механических цехов, пронзительную перекличку «кукушек» с ледяными бородками и красными фартуками, видишь всполохи электродуг, спорящие с неоновым заревом северного сияния.
Колонну заводских работяг подвели к проходным воротам как раз в тот момент, когда мимо, по противоположной обочине шоссе, прогоняли более ста заключенных женщин.
Приблизившись к мужской колонне, женщины замедлили шаг, несмотря на окрики конвоиров. Глаза мужчин и женщин были обращены друг к другу.
Вдруг, из глубины женской колонны, раздался визгливый истерический выкрик:
— Направляющие, стой! Остановись, шалашовки! Дай хоть на мальчишек насмотреться!
Крик этот подхватили десятки глоток. Женщины остановились.
— Набирайте сеансов, девоньки! — кричали женщины отчаянными звонкими голосами. — Глазейте мальчиков, запасайтесь впрок.
— Слышь ты, лобастый, — кричала Пивоварову высокая чернобровая бледнолицая молодуха, — попадись на клык — пополам перепилю.
— Землячок! — кричала её соседка, в которой Пивоваров сразу узнал рыжую бабенку, ехавшую с ним в столыпинском вагоне, ту самую, которая зазывала майора-эмгебешника к себе в клетку. — Землячок, — кричала она низким мужским голосом, — чи ты нюх потерял, чи инструмент отморозил?! Сигай сюда! Наведи марафет! Поинтригуем!
— Заткнись, лягавый! — кричала одна из стоявших в первом ряду начальнику конвоя. — Не жалей наших глоток. Рот не улица, поорёт и стулится! Погорланим и успокоимся! Не дрефь, никуда не убежим!
Конвоиры заметались. В хвосте колонны заливались злобным лаем науськанные псы. Расстояние между мужской и женской колоннами было так невелико, что конвоиры не решались входить в пространство между колоннами с оружием и поэтому оставались в хвосте и голове колонны. Женщины медленно, но неодолимо надвигались на мужчин.
Сзади раздалась длинная очередь из автомата. Женщины ответили на стрельбу возбужденной дружной руганью. Стрельба стала сигналом взрыва общего неистовства, больного беснования. Одна за одной задирали они платья и, наклонившись, выставили солдатам разноцветные панталоны. Многие охальницы проделывали нижней частью туловища виляющие недвусмысленные движения. Заключенные мужчины хохотали.
Начальник конвоя, передав свой автомат солдату, подбежал к первому ряду женщин и, пихая их, пытался сдвинуть колонну с места. Десяток цепких женских рук втянули его в водоворот тел, и когда через минуту начальник конвоя был вырван подоспевшими на помощь двумя солдатами, то предстал перед всеми почти нагим с обрывками гимнастерки на шее и спущенными штанами. Он держался обеими руками за пах и выл дурным голосом.
Наконец, женская колонна рывком врезалась в мужскую и растворилась в ней. Женщины ринулись на мужчин, не обращая внимания на свист пуль. В людей солдаты не стреляли. Сказался испуг, охвативший всех чекистов после смерти Сталина.
В Пивоварова впилась руками, губами, зубами женщина, которую он и рассмотреть в суматохе не успел. Она быстро расстегнула его бушлат, добралась до голого тела и впилась в него пальцами, ногтями.
— Милый, родной, заели нас, замучили, — сквозь спазмы рыданий и стоны выкрикивала женщина. — Пятый год к мужчине не прикасалась… Знаешь, каково нам, когда бесимся все вместе. Одна живешь… вроде терпишь, а в куче терпежу нет — невмоготу.
Она впилась губами, зубами в рот Пивоварова. Соленый вкус крови ощутил он кончиком языка и не мог сообразить его ли это кровь, ее ли. Только когда шарившая ее рука вцепилась в место, которое Пивоваров считал неприкасаемым, он запротестовал. Женщина уступила.
Все более возбуждаясь, она продолжала неистово ласкать Пивоварова и бормотать нежные, красивые слова, так не вяжущиеся с ее безумной, бесстыдной одержимостью.
Рядом вцепилась в Журина статная смуглая молодая женщина с властным выражением красивого лица.
— Ты, телок, женатый, штоль?! Так когда же меня снасилуешь?! Для чего живешь? Для эрекции. Для случки. Так сполняй! Зазнались вы, гады, что всюду мужиков, как быков в стаде. Один — на тридцать баб. Забаловала вас наша сестра — сама накидывается. Мы в колхозе уполномоченного из райкома на смерть заездили. Под мухой были, а он тут как тут, на зуб горячий… Эх, жизнь собачья, схлестнуться не дают!
— Откуда свалилась на тебя эта трясучка, — спрашивал Журин. — Кто так распалил тебя, девка?!
— Жеребцы, — выдохнула женщина.
— Жеребцы?! — испугался Журин.
— Я на случном пункте работала… завидовала аж до обморока. Зубы клацали. В памерках темнело. Пришлось с того пункта ла-та-ты. Тут-то на уполномоченном и погорели. До этого двух шоферюг обгуляли скопом — нипочем, сошло, а у этого интеллигента кишка оказалась тоньше — зашелся. Сердце, говорят, лопнуло. Ущекотали вдрызг.
Вызванные по боевой тревоге две роты безоружных солдат бросились в толпу отдирать женщин от мужчин.
— Нюрой меня зовут, слышишь, милый! — кричала, прощаясь, подружка Пивоварова. — Тебя-то как зовут, родненький?
Пивоваров сказал ей правду и только тогда расстрепанная, обессиленная, плачущая отдалась она в руки солдат.
Наконец-то с получасовым опозданием удалось впихнуть растормошенных мужчин в заводскую зону.
За воротами охватили их дурманящие запахи литейки. Ветер кружил в заводской котловине темнобурые струйки тяжелой окиси азота, парную одурь литейных газов, пыльный дух сталеплавильных печей.
Печи эти и сейчас занимают четверть длинного и узкого литейного цеха, а в пристройке рядом гудит, воет генератор индукционной печи и вторит ему басом дрожащий от напряжения трансформатор дуговой печи. В пристройке этой, возле скопища сложных машин и приборов «колдовал» Пивоваров, на печах первым подручным сталевара «вкалывал» Журин.
Ветераны литейки приметили, что с появлением Журина, главный инженер завода Драгилев «зачастил» в сталеплавильное отделение.
Журин чувствовал, что Драгилев ждет от него — единственного среди сталеваров инженера — слов и дел, способных вывести сталеплавление из прорыва.
Разговор об этом состоялся прямо возле печи.
— Ну как, Журин, освоились? — начал Драгилев.
Журину нравился этот понятный ему человек, младший чуть ли не на десятилетие по возрасту и все-таки принадлежащий к одному с Журиным поколению «мантульников пятилеток и героев боев».
Драгилев приказал старшему сталевару Бредису подменить Журина на четверть часа. После этого беседующие отошли в сторону.
Уже в начале разговора Драгилев вынул из кармана своего кожаного на меху пальто блокнот и стал торопливо записывать. Когда над головами громыхал мостовой кран, или с особой силой взвывал трансформатор, Драгилев чуть ли не прикасался ухом к орущему рту Журина.
Сталевары ревниво, недоброжелательно косились на Журина, а издали присматривался к беседующим старший мастер Гребешков.
— Есть у меня в заключение два предложения, — расслышали сталевары в момент сравнительной тишины слова Журина. — Первое: на индукционной печи варить марганцовистую сталь. Везут ее сюда тысячи километров, в то время как мы можем ее изготовлять сами.
Драгилев медлил с ответом. Журину казалось, что он видит за широким, бледным, тонкокожим лбом Драгилева лихорадочную сумятицу размышлений.
— Почему столько нерешительности, раздумий, колебаний в таком ясном деле? — недоумевал Журин. Очевидно, не легко ему проводить свою линию. Вероятно кругом, как обычно, извиваются змеи интриг.
Наконец, карие с зелеными блестками глаза Драгилева выглянули из-за пушистых девичьих ресниц. С глубоким выдохом заструились пленённые до этого слова:
— А если сорвемся, Журин? Ведь нужно переходить с кислой футеровки на основную. Создавать вновь всю технологию. Если сорвемся то вас, в лучшем случае, спихнут на общие работы и мне влетит. Период реконструкции, освоения всегда связан с потерей времени, средств, возможными авариями, срывами. Новое у нас всегда кровью сдабривается. У вас десятилетний срок и, значит, до двадцати пяти могут добавить.
— Верю в удачу, — упорствовал Журин. — Хочется помочь вам лично и делать в жизни больше нечего, кроме работы. Ну, и еще… В человеке есть потребность в творчестве, новаторстве. Это — не творческое предложение. Это экономически выгодное нововведение.
— Хорошо. Прошу вас, Журин, написать докладную. Приложите технико-экономический расчет. Решение еще не принято. Я изучу. Посоветуюсь. Доложу директору. Лучше будет, если вы пока об этом не будете широко распространяться в цехе. Ясно? Что еще у вас?
— В днище футеровки дуговой печи — четыре слоя кирпича ребром. Считаю, что можно оставить три слоя и увеличить, таким образом, емкость печи до полутора и даже двух тонн расплава вместо одной тонны сейчас.
— Повременим пока с этим, Сергей… — главный инженер запнулся.
— Михайлович, — подсказал Журин.
— Кстати, Журин, меня можете звать по имени отчеству: Иосиф Григорьевич.
— Благодарю. Можно и при посторонних?
— Да. Так мы повременим. Сразу два дела не осилить. Вы, ведь, понимаете, что энтузиастов, поддерживающих ваши нововведения можно в первое время не обнаружить. Пивоваров — но он молод, неопытен. Обратите внимание на Чепурко. Он — дежурным электриком во второй смене. Молод. Любознателен. Прямодушен. Со старшим электриком Далем сработались? А как со старшим мастером Гребешковым?
— С Далем непосредственно сталкивался мало. Знаю, что он ревниво насторожен или даже враждебен в отношениях с Пивоваровым. Что касается Гребешкова, то лучше бы установить так, чтобы он в вопросы технологии не вмешивался. Он — не специалист в электроплавлении. Знает формовку. Однако, заведено так, что он дает технологические указания сталевару, причем, часто безграмотные, вредные. Мой сталевар, Бредис, выполняет эти команды по недостатку знаний и из боязни ослушаться. В результате — получаем сталь с пороками и с отклонениями от заданного состава.
— В этом деле, Сергей Михайлович, я вам помочь не смогу, — смутился Драгилев. — Знаете, ведь, что главное качество, требуемое от каждого советского работника — это политическая благонадежность. Деловые качества — второстепенный признак по сравнению с главным — преданностью государству, партии. Гребешков — член партии с большим стажем. Был на крупной руководящей работе. Этим все сказано. Подчиняйтесь ему. Научите его. Ясно? Теперь прощайте. Головоломок вы мне задали достаточно.
— Только два слова, Иосиф Григорьевич.
— Слушаю.
— На лагпункте выводят на снегоочистку и в котлованы учителя физики Бегуна Фрола Ниловича. Нельзя ли его на завод дежурным электриком подстанции печей?
— Хватит в сталеплавильном отделении двух заключенных по пятьдесят восьмой статье, — ответил Драгилев. — Вам же труднее будет. Случись какая авария — усмотрят саботаж, вредительство, групповщину. Я и так много взял заключенных одновременно с вами.
— Может быть, один человек — не проблема, Иосиф Григорьевич? — продолжал упрашивать Журин. — Какая польза государству от того, что человек с высшим образованием чистит деревянной лопатой снег?
Пушистые ресницы главного инженера опять занавесили внутренние колебания и раздумье.
— Хорошо. Когда марганцовистая сталь пойдет — Бегун будет на заводе в кислородном цехе. Там нужен грамотный человек. Напомните мне об этом через месяц. Через неделю принимайте смену у Бредиса. Он идет в отпуск. Просится на более легкую работу. Жалуется на здоровье. Будете сталеваром. Добре?
2
На двери подстанции дуговой сталеплавильной печи нарисованы были череп и кости. Вязь рваных букв гласила:
«Высокое напряжение. Посторонним вход строго воспрещен».
Подстанция была идеальным местом для приготовления самогона. Под трансформатором и в камерах высокого напряжения можно было без риска держать канистры, в которых бродила, пенилась приятная на вкус, очень хмельная дешевая выпивка.
Заправлял этим делом вольнонаемный, дед Шлыков, числившийся дежурным электриком. Даль руководил, а старший мастер цеха, Гребешков, инспирировал всю затею.
Гребешков подписывал на имя Шлыкова фиктивные наряды на выдуманные Далем работы, дабы финансировать расходы на сахар и дрожжи для самогона.
Гребешков был алкоголиком со стажем. Даль — недавно втянувшимся любителем. Дед был падок на хмельное, но слаб. Пьянел быстро и поэтому на работе ему не давали больше двухсот граммов. Остальное он лакал дома, как и его начальники.
На самогоне держались служебные связи Даля. Самогон способствовал адюльтерам Гребешкова. Самогон стал первопричиной враждебности, которую ощутили Пивоваров и Журин с первого дня их работы в сталеплавильном отделении.
— Могут застукать, гады, — волновался Даль. — Чужая душа — потемки. Может ссученные, и их специально подослали.
— Держи все в камере масляного выключателя, — поучал Гребешков, — а ключ — всегда у себя. Закладывать, — Гребешков щелкнул по горлу, — будем в смену Шлыкова. Чуть что: знать ничего не знаем, ведать не ведаем, кто поставил, зачем и почему. Это, мол, дело заключенных. Им это в новину.
Даль и Шлыков утвердительно кивали головами.
— Только чую, — продолжал Гребешков, — что Журин и Пивоваров — глухари и из тех, что работой и выдумкой увлекаются, а такие — как глухари на току — безопасны, бери их голыми руками: так что не дрефь, полундра, нам нечего бояться, лафа имеет свойство расширяться.
— А я примечаю, что больно грамотны, — возразил Гребешкову Даль. — Этот Пивоваров во всё нос сует, все до копеечки понять хочет, раньше батьки в пекло лезет. Ученый и не дурак. Не прислали ли их, Митрофан Митрофанович под нас подкоп сделать? Пивоварова — под меня, Журина — под тебя?
— Кому это нужно? — насторожился Гребешков.
— Да главному инженеру Драгилеву. Кому еще! Не знаешь разве какую цацу он из себя корчит? Идеалист, кляп ему в дыхало. Все по-честному норовит. Вижу, что от обычной повсеместной туфты в нарядах его мутит, но — терпит. Нет выхода. Ведущие партейцы туфтят и помалкивают, а ему что? он, ведь, не член бюро. Народника, гнилого либерала из себя корчит. Ленинцем себя величает. За партбилет держится. Без боя не отдаст.
— Нюх у тебя, Иван Генрихович, кажись, ядреный, — задумчиво пробурчал Гребешков. — Может всамделе Пивоваров прикидывается казанской сиротой, а Журин — змея подколодная. Этой своей марганцовистой сталью он всем голову вскружил, а я-то простота, не насторожился.
— Пейте, соколики, — шамкал дед, — пейте, чтоб дома не журились. В питии — веселие Руси. Знай одно: пей вино, смотри кино, закусывай радио. Чего нибудь более съедобного — нет!
Выпили по очередной порции. Понюхали хлебную корку. Покидали в рот кислой капустки.
— Еще этот Чепурко, — продолжал жаловаться Даль. — Тоже волчицу сосет. В Журина, вишь, влюбился. Приходит за два-три часа до своей смены и в рот Журину смотрит, каждое слово на лету ловит. Надо комсомолу стукнуть, что, мол, под влияние контры попал комсомолец Чепурко. Дуется на этого космополита как мышь на крупу.
— Уж эти мне хохлы! — наливается вдруг злобой Гребешков. Знаю их до печенок. Много лет там руководил. В войну из-за них мы чуть не пропали. Когда вместе с нами, с русскими — так еще тянут лямку, а когда в начале войны местные украинские формирования в бой бросали — так они скопом сдавались или разбегались как крысы с корабля. Бывало, под спидницы толстомясых своих баб так и сигают. Из-под носа в плен шмыгали. Расстреливать не успевал. Ты, Шлыков, не из хохлов случайно?
— Нет, — неуверенно промычал Шлыков. — Я — казак.
— Не казах же, прости господи, — раздражается похабной тирадой Гребешков. — Я и елдашей не терплю. Ужас как не терплю всех этих чернопопиков и тех, кто балакают, что: «Я мол, русский, только глаз чуть-чуть узкий».
Гребешков налил себе еще стакан пузырящейся зеленоватой жидкости, отхлебнул и, крякнув, продолжал:
— Помню: все вдруг русский язык забыли. Стрекочут только по-обезьяньи. Что ни прикажи — ответ один: «не бельме» — не понимаю, дескать. Ты им показываешь как затвор разбирать, а они все в зеркальца смотрят, волосики из морды выщипывают. Все вдруг ярыми мусульманами стали. Таскают на боку тазики для омовений, мычат молитвы. А жрать! Ничем, бывало, курсак не напихаешь. День и ночь жрут и все — голодные. В боевой обстановке достаточно было одному заблажить, завякать: «Вай! Вай! Вай! Вай!..». — Гребешков несколько минут орал, рычал, блеял, мычал на все лады это Вай! Вай! с немыслимыми голосовыми переливами, кривляясь, гримасничая, — и, понимаешь, все как один бегут к этой благуше и всей компанией в двадцать-тридцать человек несут эту мразь пять верст в тыл, хоть у него, кроме поноса от страха — никакого изъяна.
— Только мы, русские, на во!.. — Гребешков задрал вверх большой палец. — У белоруссов тоже кишка тонка. С жидами снюхались. Вот мы, русские — первые среди равных. Ровнее всех.
— Ты ж понимаешь, Иван, — расслабленной кистью Гребешков ударил Даля в грудь, — как произносится это — «равных». Мы — ведущая сила, старший брат, руководящая нация. Ах, Иосиф Виссарионович! Как он об этом ладно говаривал. Вот тебе и черномордик — генацвали, а русастее русского не сыскать. С нашей улицы дядька. Мир праху его. Мы, Иван, первооткрыватели всей культуры, всей науки и техники. Мы — спасли Европу. Мы — авангард человечества. Мы — ведем полмира и возглавим скоро весь мир. В нас вся сила державы. Мы — пуп земли. Так учит родная партия. Так говорю вам я — верный ее сын.
— Фан Фаныч! — встрепенулся клевавший носом дед (так он сокращал имя отчество Гребешкова), — что ты сегодня жидов жалуешь? Всех расчехвостил, а жидов промежду прочим хоть бы хны.
— О жидах говорено, — отозвался Гребешков. — Иван о них смашней моего трёкает. Подзаплыл я, братцы, из-за жидовки. Я ж вам рассказывал, что с большой работы сюда попал. Вроде штраф отбываю. Но ничего, мы еще в свои сани сядем. Дружок на верхотуру залез. Так вот, по пьяной лавочке я эту секретаршу — силком. Но нет, брат, шалишь, — погрозил Гребешков пальцем Далю. — Я, брат, не простота. Я — номенклатурный работник ЦК. От станка и из-под сохи. С Буденным сивуху хлобыстали и девок портили. Мы дружки партейные, хоть я в сыны ему гожусь. А жидовочка та была как персик, махонькая, по грудь мне. Возраст — 18, но выглядела на 13, а я, брат, на девушек-малолеток сам не свой. Меня сладким не корми, но давай малолетку! Чтоб всю её в жменю зажать! Да… Да… Так я эту секретаршу Еву, и… эх!., располосовал! За нее на север угодил. Вино и бабы завсегда под монастырь подводили. Сами, ведь, знаете: жидов угробляй, жидовок подминай.
Старшой мой по партии, человек сейчас агромадный, до суда не допустил. Покричал, в рожу влепил по дружбе и сюды отправил на исправление. Душевный человек. Промеж себя мы его звали Н. К. П. С. Никита Кукурузник Парень Свой. А фамилию не скажу. Не доросли. Хвалиться будете. Жидов он не терпит утробно.
— Вот это дельно, — пробурчал Шлыков.
— У него одна установка — продолжал Гребешков: «Сколько, — говорит, — жидов в забое, столько их и на ученых постах», «сколько сталеваров, — столько и студентов».
Я, бывало, чтобы раззадорить его, начинаю возражать: Ты ж, — говорю, — ни одной нации такую норму не ставишь. Зачем, — говорю, требовать, чтоб куры молоком доились, а коровы яйца несли. Горазды жиды в научной хитромудрости. Пусть. Нам же польза.
А он свое: «На общие их работы, и никаких гвоздей. Докажу, — говорит, — что и мы не лыком шиты, не навоз в башке, что сами с усами, что не ноздрей мух бьем. Покажем жидам, где она, падла, кузькина мать. Всех дохлых крыс и завонявшихся кошек на них повесим. Всех блох за пазуху напустим. Народ, курва, привык издавна к тому, что все беды и все ошибки, всю злость людскую на жидов переключают, на них душу отводят. Докажем, блин буду, что не виноват Игнат, что много в деревне хат, а виновата, падла, хата против Игната».
Знаю, братцы, докажет, сукин сын. Хитер. Бога за бороду схватил. За словом в карман не лазит: сорок лет ораторствует. Где у демократа-слюнтяя совесть гниёт, там у него срам и бородавки выросли. Оглушит всех трехпалым свистом в бабушку, в печенку, в душу мать. А вид-то! Вид аристократа: не пьян — а водочкой разит завсегда.
— Фан Фаныч, — допытывался Шлыков, — гуторють, что москали дюже с жидами перемешались: в жены жидовок нахватали, в зятья.
— Это, брат, военная хитрость, — лукаво подмигнул Гребешков. — Триста лет татары володели Русью и исчезли. Куда? — В бабьем брюхе пропали. Переварила их утроба русская. Со стоном, хрустом, да бабьим шальным приговором переплавили мы несметные орды. Жидов же походя сглотнем. Песня их спета: не трать кум силы — опускайсь на дно.
За окном лиловел вечерний небосвод. Окна вверху оттаяли. На дворе стояла первая оттепель. Мир томили надежды, тревожные сны и предчувствия.
3
Подстанцию сталеплавильной печи и заводскую лабораторию разделяла кирпичная стена. В этой стене была дверь, которой издавна не пользовались.
В 1950 году, когда помещение канцелярии литейного цеха разделили на несколько комнат, двери сняли для бухгалтерского закутка, а дверной проем заделали фанерой, затем покрасили стены. Позже эту фанеру покрыли разноцветные провода, так, что Пивоваров, начавший работать на подстанции в январе 1953 года, не заметил неоднородности стены и не догадывался, что в прилегающей комнате лаборатории хорошо слышно все, что кричат друг другу люди на подстанции, стремясь быть услышанными в шуме окружающих машин.
На подстанции не были слышны звуки из лаборатории, ибо рядом гудел и ревел мощный трансформатор дуговой печи, стрекотали многочисленные реле и пускатели, гулко кашлял небольшой компрессор, жужжали генераторы и моторы автоматического управления электродами печи, доносился треск и рев ослепительных молний, обрушивавшихся с электродов на бурлящий пенный стальной кипёж в сталеплавильной ванне.
В комнате лаборатории, примыкавшей к подстанции работала Варвара Михайловна Высоцкая, занимаясь испытанием инертных материалов. В край бесконечных зим пригнали Высоцкую пятнадцать лет тому назад как жену «врага народа». Два месяца по тридцать километров в день шла она с сотней других женщин по льду замерзших рек из Котласа в Кочмес на реке Усе, подгоняемая окриками, прикладами, рыком конвойных псов.
Так начиналась расплата за любовь, за брак по любви с офицером генерального штаба Красной армии. В девятнадцатое лето жизни рухнуло счастье, и даже воспоминания о нём поблекли в горниле страшных лет.
После отбытия пятилетнего срока в лагере Высоцкую перевели на бессрочное спецпоселение.
Ничего не знала она о судьбе мужа. Не верилось, что жизнерадостный атлет, умница и красавец мог пропасть, погибнуть, исчезнуть. На запросы о судьбе мужа чекисты, как обычно, отмалчивались.
Там, на подстанции, за фанерной мембраной, многие годы не было ничего интересного. Ничто даже не возбуждало любопытства от скуки. Пьяные оргии Гребешкова, Даля, Шлыкова, происходили в вечернее время.
Однажды, впрочем рассмешил Высоцкую один разговор. Ей стало ясно, что Гребешков поручил Далю подыскать на должности дежурных электриков подстанции двух смазливых девчонок, которые могли бы внести разнообразие в наскучившие холостяцкие попойки на подстанции. Даль кого-то рекомендовал. Гребешков спрашивал:
— Кто она?
— Блондинка, — донесся голос Даля.
— Натуральная или крашеная?
— Под мышку пока не заглядывал, — ответил Даль, — и в душ наш она не ходила. Видать только девочка теплая, свежая и до проказ любопытная, жадная. Когда предложил ей должность — сразу сообразила: помахала пальчиком под моим носом, постреляла глазками по сторонам, покраснела и… согласилась.
Не колеблясь, пересказала Высоцкая подслушанный разговор жене Гребешкова, работавшей тоже в лаборатории.
Гребешкова, втайне от мужа, попросила главного инженера Драгилева не санкционировать зачисление на подстанцию девушек и сорвала, таким образом, очередную проказу мужа.
С того дня Высоцкая и Гребешкова стали приятельницами. Тесной дружбы между ними не было. Непроходимая, хоть и невидимая преграда разделяла этих женщин: одна была женой партийца, крупного, хоть и проштрафившегося бюрократа, другая — ссыльной.
Гребешкова часто жаловалась подруге на измены мужа. Об этом можно было без особых опасений разговаривать с морально честной, умевшей молчать ссыльной, тем более, что об адюльтерах Гребешкова болтали все.
— Женострадатель проклятый! — причитала Гребешкова. — Молодость, красоту, здоровье — все ему, охальнику пархатому отдала. Сколько абортов сделала и только потому, что никогда не знала: со мной останется, иль другого короля искать. И он ведь всегда на взводе, а от пьяного — какие дети!.. — Вздыхала тучная Гребешкова. — Намучилась. Стукнуло уж сорок лет, бабий век, а счастья нет. Правда, на легковых разъезжала, в мехах ходила, заграничные платья есть. Люди завидуют, а что в душе моей — никто не знает и никто не сочувствует. Разве что, — спохватилась она, — главный инженер моего обормота маленько одергивает. Просила его. Сама знаешь: як бида, так до жида; ну и партийность у него не в кармане, а в душе. Одинок этот Драгилев, как лось… Да, так вот, на молодую, бывало, все зубами клацали, — продолжала Гребешкова, — всяк со своим толстым интересом подкатывался. Не то — сейчас. Сейчас вон одышка, седина, зубы крошатся, талия салом обросла. Сорок годков стукнуло. Хоть бы дитё было — утеха, а то всю жизнь как в вагоне. Не даром толкуют: жизнь у нас, как езда в автобусе — не все сидят, но все трясутся.
— Это по другому поводу так говорят, — улыбнулась Высоцкая.
— Знаю, — согласилась Гребешкова. — Единственный любимый мой — тоже так говорил. На рабфаке мы встретились. Было мне двадцать один. Дура и легкомысленная была, но с опытом в угрызении сердец. Красива была — так липли, как мухи на мед! Ну и я тоже — не каменная: чесалось любопытство до ужасти. На каждом шагу чуда, принца ждала. Однако не удалось счастье.
Сейчас, вон, рядом храпит пьяница, бабник и чужой псиной от него несет, а я, бывает, глаз не сомкну и все жду и сердце замирает: а вдруг придет, появится кареглазый мой.
— Грешным делом, — добавила Гребешкова после паузы, — увидела я как-то электрика нового на печи — заключенного — и чуть не обмерла. Показалось: мой! Тот же нос с напряженными ноздрями, тот же взлет длинных ресниц и южная темень глаз. Да куда там! Сынком моим мог бы быть!
Впервые в этот миг представился мысленному взору Высоцкой Пивоваров. Ей тоже понравилось застенчивое это лицо с доверчивым грустящим взглядом.
4
Вскоре после этого услышала Высоцкая еще один разговор на подстанции. Беседовали Пивоваров и Даль.
— Иван Генрихович! — обиженным тоном говорил Пивоваров. — Несколько раз замечал я, что указатель выдержки времени на реле стоит не на двух секундах, как положено, а на десяти. Ведь это может вызвать неприятности. При коротком замыкании электродов в печи, когда обрушивается на электроды шихта, рабочее напряжение отключают не эти наши реле, как положено, а реле центральной подстанции и тогда приходится ждать, пока там включат ток. Отключения задерживают плавку. Может случиться, что и замерзнет плавка пока на центральной включат. А то и похуже что произойдет — взрыв масляного выключателя, авария трансформатора — мало ли…
— А ты тут зачем?! — оборвал его Даль. — Смотри! Не спи. Из-за этого и держат тебя. Нечего схемы электрокоммутации чертить. Надо все время осматривать приборы, проверять, беспокоиться.
— Иван Генрихович! — взмолился Пивоваров. — Изменять выдержку времени можно только руками. Кто-то это делает и поэтому я беспокою вас. Чепурко говорил мне однажды, что после моей смены он случайно обнаружил, что указатель на десяти секундах, а я и не подходил к этим реле. Не усмотришь ведь за каждой мелочью. Здесь сотни таких мелочей.
— Это так. Мелочей много, но есть главные опасные и менее опасные, — поучал Даль. — Нужно знать за чем смотри и смотри, а куда заглядывай изредка. Потом ты вот что мне скажи: глянешь на тебя — вроде девка ты красная. А зачем ты во все дырки нос суёшь? Зачем всё до последней копеечки узнать хочешь?! Схемы вот чертишь? Ведь есть на подстанции старший. Без меня все равно никакие ремонты делать не разрешено. Я один делаю ремонты. Твое дело телячье: запачкался и стой. Что-нибудь не так — предупреди. Что ж ты поперед батьки в пекло лезешь? Ты ж заключенный, должен бояться аварии — могут довесок дать.
Минуту тянулось молчание. Наконец Даль нутрянным лающим голосом произнес:
— Молчишь? Совесть загажена?! Под Даля копаешь! А Даль тебе — простота?! Так вот в сербало твое сядет?!
— Иван Генрихович! — с отчаянием выкрикнул Пивоваров. — Я скажу вам, хоть это и стыдно. Я не хочу, чтобы вы плохое думали.
Опять пауза. Высоцкая чувствует напряженное молчание обоих. Представляет себе растерянное лицо Пивоварова, капельки пота на переносице, напряженные крылья ноздрей.
— Вы семейный, Иван Генрихович, — расслышала она наконец глухие запинающиеся слова. — А мне двадцать два года. Поймите, Иван Генрихович, что такое двадцать два года.
Пивоваров повысил голос. Он очевидно решился высказаться и больше не запинался.
— Если я не буду работать до упаду, не буду учиться, глотать книги, увлекаться делом, голодать и держать себя за морду, то я вам тут… трансформатор сворочу. На людей кидаться стану, или сорвусь, опущусь, рванусь в любой разврат.
Неужели вы забыли, Иван Генрихович, — продолжал более спокойно Пивоваров, — свои двадцать лет? Вспомните, как это трудно. Ведь другой раз кажется на смерть бы бросился ради юбки, даже не ради женщины-человека, а ради любой юбки. И в лицо бы не глянул и о возрасте бы не подумал. На все бы пошел, когда припечет. Пожалуйста, Иван Генрихович, пусть это останется между нами.
— Ладно. Посмотрим, — промычал Даль.
5
Думала до этого Варвара Михайловна честно сказать как-нибудь при случае Пивоварову, что слышны все его разговоры, песни, декламации и мысли вслух, но после этого разговора любопытство разгорелось. Хотелось подслушать еще что-нибудь в этом роде. Ведь так редко удается заглянуть в потемки чужой интересной судьбы, тем более мужской судьбы.
— Хорошо, что я здесь работаю, — думала Варвара Михайловна. — Зойка или Клавка всем бы растрезвонили и от себя пять коробов присочинили б.
Гамма сложных мыслей и чувств овладела Высоцкой после этого диалога на подстанции.
— Подсиживает Даль Пивоварова, — догадывалась Высоцкая. — Кроме Даля никто такую пакость с реле не сделает. Разве что Шлыков, но не по своей воле. Шлыков и не сообразил бы, как такую свинью подложить. Ведь может случиться авария, взрыв и тогда добавят мальчику срок до двадцати пяти лет. Кроме того, задерживаются плавки и за это ругают невиновного Журина.
— Зеленый, не битый, неопытный, — говорила себе Высоцкая и чувствовала, что жалость к этому робкому симпатичному несмышлёнышу волнует её. Инстинкт неудовлетворенного материнства влёк её к Пивоварову. Хотелось взять в руки стриженую голову, положить на колени и гладить и рассказывать, учить уму-разуму, предостеречь, поведать о подлостях людских — пережитых, обжегших.
— Съедят его волки, — сокрушалась Высоцкая, — зажалят в змеиной свадьбе обычных заводских склок, а он беззащитен как токующий тетерев, этот осколок совестливых поколений.
Вспомнился другой несмышлёныш — первый ее ухажер — десятилетний Витька. Этот проявлял свою любовь к ней в форме мальчишеской непримиримой агрессивности. Сколько побоев, оскорблений, обид, пришлось ей перетерпеть от Витьки! А в шестом классе он вдруг притих и боялся глазами с ней встретиться. Смешные эти колючие ёжики. Трогательные, беспомощные, нежные.
— Не твой ли долг в том, чтобы уберечь этого смазливого мальчишку от беспощадных рук? — спрашивала себя Высоцкая.
Еще один разговор на подстанции заставил её покончить с колебаниями.
Высоцкая знала, что работающие на обрубке китайцы приносили частенько лохань с какой-то едой и просили Пивоварова сварить содержимое на электроплитке. Каждый раз китаец Фын-дэ предлагал Пивоварову миску варева. Так случилось и на этот раз.
— Куший шюпу, Юли, — говорил Фэн-дэ, — китайский шюп — сила. Мы могучи народ. В Пекине ходют, кричут, все в сини мундир. Руки в кулак, вверх. «Долой импирилизм! Давай сицилизьм! Давай, давай рису!» — У нас нет рису, но есть клиса.
Пивоварова, видимо, что-то осенило и он взволнованно спросил:
— Скажи, Фын-дэ, откуда у вас мясо, которое вы здесь часто варите? Ходите вы сытые. Лица лоснятся. Глаз не видать.
— Твоя никому не говори? — спросил китаец.
— Ну, что ты!
— Ловим клису. Много жильных клис. Скусно как шьвиня. Китайский клис худой. Лусский — жильный, болшой. Потому сицилизм. Дай нам в Китай столько жильных клис — мы все разнесём, всех завоюем. Жильный клис — это лючче всех… лючче чем маленьки шенщин, хи-хи-хи-хи!..
Высоцкая расслышала испуганный, утешающий лепет Фын-дэ и поняла, что Пивоварова стошнило. Через несколько минут на подстанцию пришел Журин. Узнав о причине бледности Пивоварова, сказал:
— Помнишь, в этапе был такой седой отощавший реэмигрант из Китая? Разговорился я с ним. Меня интересовало положение в Китае. Думал, что в Китае умнее нашего Звэра орудуют, а реэмигрант этот разубеждал меня. Рассказывал об одной манифестации в Пекине против Америки. Демонстранты знали, конечно, что единственным поджигателем войн и любых насилий являются только коммунисты, но людей не это возбуждало. Им разрешили, наконец, вылить злость, ненависть, скопившиеся в душах. Диктатура жестока, беспощадна. Это неотвратимо возбуждает ожесточение душ. Люди тоже становятся жестокими, способными творить зло. На демонстрации им разрешили злобные, ненавидящие выкрики и люди делали это с увлечением и страстью, не задумываясь над тем, кому это выгодно. Они были рады даже ложному поводу выплеснуть злость, выкричать её, вымахать руками, выдохнуть, почувствовать изнеможение эмоциональной разрядки, облегчение, расслабить натянутые струны сердца.
— Все одинаково одеты в синюю робу. Все вслед за заводилой, лающим лозунги в рупор, тянут изможденные руки в положение гитлеровского салюта и орут, верещат.
Страшное зрелище! Синих этих муравьев миллионы: примитивных, не мудрствующих, покорных, готовых ненавидеть все, что разрешено, принимающих смерть по любому приказу — ибо жизнь их цены не имеет. Человек чувствует себя там букашкой, песчинкой, каплей в океане, не имеющей право на свой путь, на свою идею. Оловянные оглупленные солдатики, синие муравьи, саранча примитивного нацизма, — уже впились в распластанное тело человечества.
— Что, если услышат такое Зойка, Клавка или яловая буренушка Гребешкова? — ужаснулась Высоцкая. Ведь не выгонишь их из комнаты, когда послышатся такие тирады.
Высоцкая перекусила щипчиками спираль своей маленькой сушильной камеры и, вместо вызова по телефону электриков главного энергетика, попросила одного из сталеваров (Даль отсутствовал), чтобы пришел к ней электрик подстанции. Она сказала, что вызвать других электриков ей не удалось.
6
Через несколько минут явился Пивоваров, и Высоцкая впервые всмотрелась в него в упор.
Пивоваров растерялся, смутился под этим сердитым, как ему показалось, требовательным взглядом. Он пробормотал что-то о запрете отлучаться с подстанции и, прихватив сушилку, собрался выйти.
Высоцкая его остановила.
— Должна вам, молодой человек, сообщить следующее: — начала она назидательным тоном строгой учительницы. — Вероятно, вы не знаете, что здесь слышно все, что говорят на подстанции.
Пивоваров оторопел.
— Пожалуйста, учтите это, — продолжала Высоцкая мягче. — Меня вы не бойтесь. Я тоже прошла лагерный путь. Сейчас я ссыльная и хорошо понимаю вас. То, что я вам говорю, должно навсегда остаться между нами, — строго предупредила она.
Пивоваров с готовностью кивнул головой.
— Будьте тысячу раз осторожны, — продолжала Высоцкая. — Знайте основное правило тех, кто стремится выжить: не только чекисты, но и люди вокруг не прощают выдающимся, умным, талантливым эти качества. Чтобы сохранить здесь жизнь, не выделяйтесь. Будьте как все. Научитесь скрывать всё: мысли, радость и горе, дружбу и любовь, румянец щек и чистоту глаз. От всех все скрывайте и так, чтобы никто не догадался, что вы таите что-то от других. Ничтожеству, пошляку, развратнику, пьянице, дураку, бездельнику, воришке посочувствуют и помогут люди, а умного, культурного, волевого, сильного начальство и чернь постараются унизить, сломать, убить. Мы тоскуем по человечности — начальство по человечине.
Нахмуренные в начале разговора брови Высоцкой раздвинулись, поднялись. На Пивоварова смотрели проникновенные глаза друга. Он решился тоже посмотреть секунду в эти глаза.
— Я не видела никогда вашего погибшего товарища — Шубина, — продолжала Высоцкая, — но то, что я узнала из рассказов, убедило меня, что он погиб только потому, что был выдающимся человеком и не мог скрыть этого. Вероятнее всего, не догадался, что необходимо прятать это, особенно от чекистов. Прикинься он ничтожеством, играй простака и заурядность — выжил бы.
— Да, в нашем деле, как в капле воды, отразилась тактика чекизма, — повторил Пивоваров накануне услышанное от Крутлякова. — Стремятся они убить сопротивление в зародыше, и даже авансом, до того, как сопротивление зародилось. Если же в погоне за зайцем зашибут попутно тысячи кроликов, то это, по их представлениям, выгодное дело: набор рабов, ударных армий социалистического наступления.
— Так, так, молодчина, — ласково проговорила Высоцкая. — Теперь идите. Надо остерегаться молвы.
Минут через двадцать Высоцкая отправилась на подстанцию, хоть и знала, что сушилка вряд ли готова. Хотелось воспользоваться поводом еще раз поговорить с Пивоваровым. Когда она постучала, Пивоваров привинчивал обшивку сушилки и напевал вполголоса.
— Любите русские песни? — спросила Высоцкая и услышала вдруг в своем голосе былую певучесть.
— Да, но не как единственный эстетический корм, — отозвался Пивоваров. — Песни наши, да и все искусство хороши, как часть искусства мира, но если советское искусство преподносится принудительно, как единственная эстетическая пища, я — бунтую. Это надоедает, вызывает раздражение и даже ненависть к такому искусству.
— Опять молодец. Как это в вас, в мальчишках, сочетается мудрость с детской беспомощной наивностью? За что Вас посадили?
— За Эйнштейна, Гейзенберга…
— Как так?
— Возразил профессору…
— Что же Вы возразили?
— Это надо по порядку… Хотите?
— Пожалуйста.
— Была лекция для всех групп 5-го курса. Читал ее профессор из Комакадемии — Максимов.
Сановный гость опаздывал. Мы злились — я и мой друг Козырьков. Работы было — невпроворот, а тут томись. Смотать бы удочки, да кусается. Лекция — политическая… Заподозрят… Начнут прорабатывать, исключат из комсомола, лишат стипендии, общежития… А потом, после диплома, загонят на работу в такую глухомань, куда ворон костей не заносил.
— О чем талдычить будет? — спрашиваю друга шопотом.
Козырьков был юркий парень — всё знал…
— На очереди кризис Западного естествознания, — доложил тоже шопотом. — Лекция о низкопоклонстве и космополитах — была; о том, что мы, русские, всё открыли и изобрели первые — была; о том, что мы, русские, всегда спасали Европу и весь мир от всех завоевателей — была; теперь на очереди… обломать рога Эйнштейну, Бору, Гейзенбергу, Шредингеру, Борну… Этот лектор — мастак по «гнилому Западу»…
Наконец профессор явился. Началось… Этот дядя громил, изобличал, клеймил, проклинал:
— Абракадабра двадцатого века!.. Закат Европы!.. Средствами математической казуистики пытаются доказать наличие нематериальной субстанции… Лакеи империализма!.. Отвлекают молодежь от классовой борьбы!.. Махисты! Фидеисты! Солипсисты! Позитивисты!.. исты!., исты!
— Вопросы есть?!
Тут-то я и не выдержал…
— Товарищ профессор, — говорю с места, — у Эйнштейна нигде нет идеальной субстанции…
— А формулы! — накинулся на меня наш сексот-парторг Фадеев. — По формулам длина и объем частицы при скорости света равны нулю; значит свет — нематериален!
— Нуль — не символ отсутствия величины, — парирую я. — Нуль — математическая фиксация качественного скачка… И бесконечность тоже… Вспомните дифференцирование, интегрирование, уравнения гиперболы, нулевые значения производных…
Профессор меня прервал.
— Вот вам пример типичной наукообразной въедливости идеализма! Холуй капитализма! Безродные космополиты, а наше русское сало жрут! Иезуиты!.. Иуды!.. Мы не можем быть объективными — наша ненависть безгранична! В коммунизме нет таким места! В коммунизм мы пустим только достойных!..
— Пропал ты, пескарь-идеалист, — шепнул Козырьков. — Замуруют!
Он был прав… Прошло только два дня… За мной приехали — ночью.
— Бедный мальчик, — вздохнула Высоцкая.
— Разве я — мальчик? — прикинулся обиженным Пивоваров. — Во всяком случае, не для вас. Вы ведь приблизительно в моем возрасте.
— Ошибаетесь, — зарделась почему-то Высоцкая. — Я — стреляная птица. Чуть не полтора десятка лет назад замуж выскочила. Ясно? Вы — мальчик по сравнению со мной.
— Не верю. Мы — одногодки, — твердил Пивоваров. — Вы такая чудесная…
— Тихо, тихо, хватит, — испуганно зачастила Высоцкая. — Будем взрослыми.
Она направилась к двери и оттуда попросила:
— Пожалуйста, принесите мне сушилку. Хорошо?
Когда Пивоваров принес сушилку, Высоцкая поблагодарила его, назвав по имени.
— Вы знаете моё имя? — обрадовался Пивоваров.
— Имена симпатичных мальчиков женщины всегда знают, — услышал ошеломивший его ответ.
— Можно ли мне приходить к вам хоть изредка? — попросил он.
— Можно, но только очень редко и по какому-либо понятному всем поводу. Иначе разгонят нас фараоны. Меня зашлют еще дальше, а вас поволокут по кочкам карцеров, БУР-ов, штрафных лагпунктов. Ясно?
Если захотите мне написать, то аккуратно выньте гвоздики в этом углу фанеры, закрывающей дверной проём. У меня этот уголок фанеры тоже отстает. Я смогу брать и класть туда записки. Только тысячу раз осторожно. Когда положите записку, то потрите тряпкой фанеру, как бы стирая пыль. Я, положив записку, буду бить несколько раз молоточком в этот гвоздик. Доставая записку — закрывайте изнутри. Ни в коем случае не сохраняйте записок. Прочтите и сожгите. Никаких подписей, дат, фамилий, имён. Измените почерк.
Еще несколько минут объясняла Высоцкая Пивоварову правила конспирации, обещала подумать о коде, условных словах и лишь затем мягко выпроводила.
Она увидела, как вздрогнул и еще более покраснел Пивоваров, когда пожимал ей руку. Внезапно почувствовала Высоцкая как дрогнул подбородок и пронесся жаркий ток к пальцам.
Быстро отстранившись, она окликнула Пивоварова, рванувшегося к выходу:
— Сотрите улыбку! Спрячьте глаза. Нахмурьте брови. Сожмите челюсти. Думайте о плохом: о допросах, пытках, побоях, о слёзах мамы, об этапах, бараке… Вспомните Шубина… Вспомнили? Теперь всё в порядке. Идите.
Глава 5…И нет пощады никому
1
Журин кончил завалку шихты в огнедышащую пасть печи и мокрый, обессиленный, ослепленный отошел в сторону. К нему приблизился Скоробогатов.
— Стареем, друг, — сочувственно произнес он. — Губы посерели, щеки пожелтели, под глазами — темный ералаш.
— Дело не в старении, а в замученности, — ответил Журин, — в этой жаре, в грохоте, вое, лязге, все время дышишь отравляющими газами, смотришь в ослепляющие всполохи, размокаешь от пота и прохватывают морозные сквозняки. В ворота ведь паровоз заходит, а за воротами — минус пятьдесят. Однако — держусь. Здесь зачеты.
— Переходил бы, Журин, к нам на формовку, — предложил Скоробогатов. — Около меня приспособишься.
— Не молод, чтобы быстро схватить новую профессию, — отозвался Журин. — А без высокого класса ни зачетов, ни заработка. Знаешь, ведь, как хочется зачетов. Вырваться скорей, спрятать голову, чтоб позабыли о тебе хвататели. Буду тянуть.
— Специально сроки дают умопомрачительные, — вздохнул Скоробогатов, — чтобы человек надрывался ради зачетов и еще за них чувствовал благодарность к палачам, забыв, что и отбытый срок — незаслуженная кара.
— Убивает и трехсменная работа, и страх, и злость, — продолжал Журин, — и напряжение всех сил в борьбе за жизнь, чтоб не растоптали, не перехитрили. Змеиная свадьба. Шипят, пакостят.
— Кто?
— Очевидно Гребешков и мой помощник Ногин. Спелись. Ногин хочет на мое место. Вольный он. Бывший солдат, комсомолец.
— Да, жись загнись, а горе вторнись, — опять вздохнул Скоробогатов. — Я точно знаю, что Гребешков часть моей выработки записывает Данилову и шихтовщику Степке, но молчу — иначе съедят: металлом обольют или сверху что-нибудь на голову сбросят. Сактируют: несчастный, мол, случай на работе, и баста. А уходить с завода не хочется. Здесь все-таки не льет на голову, не дует пурга, комары и мошка не кусают, мороз не гробит.
— Что растрёкались, грамотеи! — рявкнул подошедший Гребешков. — Совесть надо иметь! Чуть отлучишься — и уже балабоните, парламент открываете! Работать надо. Не умеешь? — Научим. Не хочешь? — Заставим.
Журин и Скоробогатов молча разошлись. Бешеный ритм заводской страды вновь захватил, закрутил их.
2
Сталевар Сикорский, сменявший Журина, пришел за час до смены. Стоял, курил, перебрасывался замечаниями с Журиным и его помощниками, обсуждал амнистию ворам, объявленную 27 марта 1953 года.
Когда скрылись под шлаком последние куски шихты и начался спокойный период плавки, Сикорский пригласил Журина присесть в сторонке.
— Ты, Журин, узнавал, как тут прежде работали?
— Особо не интересовался, — отозвался Журин.
— А ты поинтересуйся. Стоит. Тут еще полтора года назад я был единственный вольный. Все прочие — зыки — заключенные или КТР — каторжане. Тогда житуха была правильная — фарт мощный.
— Вы отбывали прежде срок? — спросил Журин.
— Нет, я солдатом служил, на срочной службе. Демобилизовавшись, остался втыкать. За длинным рублем погнался.
— Какой тут длинный рубль, — посочувствовал Журин. — Северную надбавку дают, а за то, бывает, червонец за одну луковицу платите.
— Бывает. А все-таки выгода. Было время, что я по пять тысяч в месяц отрывал.
— Каким это образом? Я, брат, не верю чудесам.
— Чудес, конечно, не бывает, — отозвался Сикорский. — Был бизнес, калым мощный. Зачетов не было. Зыки мантулили за пайку, за номер котла. Бывало, у зыка выработка как у меня и разряд повыше, но я получаю на руки тыщу, а он — тридцать рублей в месяц. Остальное лагерь гребет.
Тогда начали мы такую чернуху раскидывать: зык работает во всю, а в наряд ему записывают столько, сколько надо, чтоб в карцер не засунули — процентов семьдесят-восемьдесят. Всю прочую выработку зыков мастер писал на меня. До Гребешкова тут тоже темнил мастерюга правильный. Бывало, получишь пять тыщ в месяц: тысячу — ребятам, тыщу старшему мастеру и самому три остается. Можно было жить. На шахтах более крупные обороты у других кирюх были.
Раз в месяц сюда контролер из лагпункта наведывался, но сам знаешь, нам нечего бояться, бизнес имеет свойство расширяться. Контролер этот — туземец. Водку жрал до одури. Бывало, о хмельном напомнишь — у него в руках мандраже. Тут на подстанции ребята сивуху варганили. Насосется этот контролер как клоп и — спать. А мы темним по-прежнему. Привет нашим — дальше пашем.
Года полтора я вообще на работу не выходил. Два раза в месяц являлся на завод за получкой. Раздам долю хлопцам и — на боковую. Правда, толку-то не было. Пил, гулял шалеючи. Девки, гармонь, тот же Гребешков, офицеры — старое мое начальство. Покуралесили. Содрал с себя жирок и молодость. Набил оскому на бабах. Зато женился не спеша, спокойно, без горячки. Землячку курскую привез. Кровь с молоком. Пава. Повыше меня на голову. Умеет мужика пожалеть, побаловать. Баба на ять! Так вот, — продолжал Сикорский, — присмотрелся я к тебе. Человек ты честный. Давай по-умному жить. Проценты — мне, сотняжка — тебе.
— Это, конечно, правильно, — ответил Журин, — все кругом темнят и блат выше ЦЕКА, но мне 151 процент выработки для зачетов нужен.
— Да, у тебя ж червонец, — поморщился Сикорский. — В зачеты веришь. У кого четвертак — тот плюет на зачеты. Знает по опыту, что через год-два-три отнимут зачеты, пропадут труды. Я здесь, считай, с 1940 года, насмотрелся. Но — коли надеешься на зачеты — тогда дело твое. Тогда, что выработаешь более 151 процента — на меня будешь писать. Так? По рукам.
3
Главный инженер Драгилев пришел в литейный цех в час обычного утреннего обхода.
— Как дела, Журин? Что-то у вас плавки задерживаются. На десять минут в среднем у вас плавка длится дольше, чем в других сменах. В чем тут дело? Вы ведь гораздо грамотнее других. Я думал, что вы покажете им, как надо работать.
— Не разобрался пока, в чем дело, — угрюмо пробормотал Журин. — Работаю на оптимальном и максимальном режимах. Лучше нельзя. При Бредисе мощность была меньше.
— А с коллективом, Журин, сработались?
— Кто его знает. Многоглавая гидра.
— Осваивайтесь. Изучайте все кругом, — сказал на прощанье Драгилев. — Благоволение начальства — это только полдела. Быть может, даже четверть дела. Сам не плошай и кругом оглядывайся. С народом ладь. Нельзя иначе. Народ — сила.
4
В это же время, в помещении, где готовили шихту для печей, Гребешков спрашивал у шихтовщика:
— Стёпа, даешь зыку Журину прикурить?
— Так точно, Фан Фаныч!
— Ты, Степа, не забыл, что надо мастырить? Подкладывай ему для дуговой печи металлолома на двести-триста килограммов больше, чем написано в наряде, чтобы плавки дольше шли. Выбирай ему самые подлые куски: рваные, ржавые, мокрые с землей и льдом, с краской, цепи с цементного завода, чтобы вспенивался шлак, выкипал металл. Все негабаритное сплавляй ему. Пусть помучается и от начальства разнос получает.
— Есть на… челке шерсть! — козырнул Степа.
— Для индукционной печи давай ему не полтонны на плавку, а на пятьдесят-сто килограммов больше, — продолжал Гребешков, — и насчет качества шихты та же музыка. Понял?
— Рвём… подметки на ходу! — гаркнул Стёпа.
— Получишь в этом месяце на сотнягу больше.
— Рады стараться, ваш бродь, — дурачился Степа. — Оченно предовольны вашей светлостью. Прищучить человечка завсегда рады, с толстым нашим удовольствием уконтрапупим. Людишки давно кишки вымотали, плешь перегрызли, особенно — лобастые.
— Молодчага! — поощрял Гребешков.
Радостно потирая ладони, он бормотал себе под нос:
— Порядочек! Всё законно, железно. Пристроим человечка.
5
— Иван, слыхал, — Журин в первооткрыватели лезет, — обратился Гребешков к Далю. — Мало ему марганцовистой стали, которую начинаем делать как только ферромарганец привезут: он еще хочет ванну дуговой печи увеличить.
— Ну, и что же? — заинтересовался Даль.
— Как что же! Мне-то от этого что будет?! — Шиш и ворох беспокойства. Мы и без этого изобретательства план умеренно перевыполняем и премиальные гребём, а возникни шумок насчет этих нововведений — увеличат программу. Начнется ажиотаж, штурмовщина, придется всю работу цеха перестроить, всюду темпы работы ускорить, а на быстром скаку можно шею сломать. Нужно мне это, как лягушке макинтош.
— Дорогуша, не курлыкай! — хлопнул Гребешкова по плечу Даль. Вывернемся.
— А как?
— Поворочай мозгами.
— Что тут ворочать! С этими хитроумными пива не сваришь. На формовке — другое дело. Зарядил туфту такому Стёпе, Данилову — так половину барыша несут. Ты же, Иван, сам соображаешь. Не один пуд соли тут сгрыз. От твоего глаза не ушатнёшься.
— Чудак-рыбак, — посмеивался Даль. — Ты, видать, память на хранение сдал или с муторшами проспал. Помнишь, как мы Демидова с печи выгрызали? — Подсыпь соды в мешок с составом для кислой футеровки печи. Станет футеровка легкоплавкой. Вместо пятидесяти плавок — за двадцать расплавится, а ты и подскажи тогда начальству: вот, мол, до Журина пятьдесят плавок между набивками делали, а теперь — полюбуйтесь.
— Так, Иван! Министерская у тебя башка. Бодай его кочерыжкой!
— Да разве только так можно услужить человеку? — продолжал Даль воодушевленный похвалой. — Скажи своему шихтовщику Стёпе, чтобы подсыпал в шихту щелочной состав, тот, что прибыл для футеровки под марганцовистую сталь. Щелочная эта огнеупорная смесь по виду от песка мало отличается. Журин не заметит и будет у него от этого кислую футеровку печи разъедать, особенно вверху.
— Золотой ты, человек, Даль, — восхищался Гребешков. — Можно еще дружка в камеру высокого напряжения заманить и толкнуть на шины высокого напряжения. Помнишь, как зыки два года тому назад стукача угрохали?
— Это сейчас без надобности, — отозвался Даль, — не безопасно. Климат меняется. Читал в «Кочегарке»: арестовали дружков, что трупами зыков свиней выкармливали. Лет десять это без шума делалось, а теперь, видишь, хватились, будто впервые узнали. Ветерок меняется, Митрофан Митрофанович. Амнистию, видишь, дали. Надо нос по ветру держать. Но есть способ убрать Журина с печи.
— Какой?
— Через недельку будет он набивать футеровку для марганцовистой стали. Надо подкараулить, подсидеть, когда он отлучится до ветру или пожрать и тогда положить в футеровку пару кусков железа, сверху засыпать эти куски набивочным материалом, уплотнить и Журин не догадается ни о чём. Во время плавки эти куски внутри футеровки расплавятся, в футеровке образуются дырки и, если не в первую плавку, так в десятую-пятнадцатую жидкий металл выльется. Произойдет авария. Винить будут Журина. С завода вылетит наверняка. Ясно? То-то. Держи хвост пистолетом.
— Ну, а твоего телка — Пивоварова — пристроим? — спросил Гребешков.
— Не знаю, не постановил еще — нерешительно произнес Даль. — Обоих одновременно — неловко. Драгилев заподозрит, но сделать это проще пареной репы. Поменять, например, бирки на проводах генераторов-регулексов. Он станет менять без меня эти регулексы и сгорит обмотка. Тут ему и каюк. Выбросим. Но вроде не очень опасный этот шкет. Могут дать гада позубастее, а этот — дурью мучается: моча в голову бьёт.
6
Начальник литейного цеха Синицын пришел после обеда с расстроенным лицом. «Придурки» учуяли это и не совались к нему в кабинет. Знали, что, как обычно, дородная, капризная супруга начальника вылила на его лысину ушат презрительной бабьей брани и поэтому человечек с покатым лбом и мятым злым личиком готов загрызть каждого, кто на зуб попадёт.
Зазвенел телефон.
— Есть, виноваты, товарищ директор, — рапортовал Синицын в трубку. — Есть, не доглядели. Не дотянули. Верно — не допёрли. Не додумали, но выполнили на сто восемь процентов. Есть, быть у вас через полчаса.
В дверь кабинета тихо постучали.
— Войдите.
На пороге появился формовщик Данилов, комсорг.
— Товарищ начальник, — зачастил он вполголоса. — За истекшие двое суток заметил, что Гребешков новую ученицу-крановщицу, девчонку-шестнадцатилетку обгулял нахрапом, а она — комсомолка.
— Как это ему удалось? — заинтересовался Синицын.
— Гребешков с умыслом ее на работе задержал, — похотливо облизываясь, докладывал Данилов, — так что она последняя в душе сталеваров мылась. Пока она там под душем потягивалась, Гребешков ножом откинул крючок и зашел.
— Ну, а дальше? Кричала? Подсмотрел? Валяй всю подноготную! Все до тонкости!
— Дальше не видел, товарищ начальник, но не кричала. Они, ведь, малолетки дюже интересуются этим. Только вернее: сирота она — братишку растит. Побоялась — выгонят из цеха. Гребешков наверняка пообещал зарплату увеличить по блату. Вышли оба не скоро. Она — красная, глаза прячет; шмыгнула поскорей, а он хоть бы хны.
— Что же ты все подробно не уследил?
— Я следю, товарищ начальник.
— Раз не кричала, значит, шито-крыто. Опять удалось. Везет стервецу! — Еще что?
— Еще Гребешков туфту заряжает. Крышки цилиндров на машине хлопают, а он записывает как ручную работу. Проценты на шихтовщика Стёпу пишет. С него, конечно, долю, калым имеет.
— Тебе-то он тоже приписки делает, — заметил Синицын недружелюбно. — Не завидуй. На чужой каравай рот не разевай. Тебе тоже подкидывают. Так ведь?
— Так. Подкидывают малость.
— Ну, то-то ж. Это я велел тебе подкинуть. А ты следи.
— Я следю, товарищ начальник!
— Еще что?
— Скоробогатов, зык, над вами усмехался.
— Что ж он там молол?
— Гуторил, что вы по карьере в партии, а всамделе у всех у вас рыло в пушку.
Данилов увидел, как задергалось начальничье веко.
— Все воруют, — говорил Скоробогатов, — туфтят, шукают интерес. Стиль, мол, руководства — донос, разнос, угробление, оклеветание. Ищете, чем прижать, прищучить, заставить, стравить людей.
— О самогоне не унюхал? — забеспокоился Синицын.
— Нет, такого не шипел. Говорил только, что бестолковая у нас технология, не льём в кокиль, пакетами и тому подобное. На каждого, мол, работягу приходится по подгоняле, надсмотрщику, писарю, доносчику и все интригуют, склочничают, подсиживают, клевещут. Тоже начальство не любит, когда в цехе есть умный человек.
— Кому это он говорил?
— Да кому ж? — Журину. Дружки-контрики. А я подобрался поближе, вроде землю вскапываю, а сам слухаю и на ус мотаю. Я следю, товарищ начальник. Бдительность — первейшее дело комсомола.
— Еще что? — прервал Данилова Синицын.
— Еще — всё.
— Ладно. Иди.
— Товарищ начальник, как насчет комнаты? — скребся Данилов.
— Надоел. Не какай. Знаю. Как дом сдадут в эксплуатацию — получишь.
— Уже семь домов сдали, а меня всё по борту.
— Значит, были важнее случаи. Понял? Иди! Не канявкай!
— А насчет рекомендации в кандидаты партии?
— Это дам. Пиши заявление. Поручусь. Ну, иди, иди, а то каждый раз просьбами заедаешь. Долг свой перед родиной выполняешь, а все торгуешься, подороже продать хочешь.
— Слушаю, товарищ начальник. Я уследю всё.
7
Через час начальник литейного цеха Синицын докладывал директору завода:
— Матвей Никанорыч, один мой доносила рядом с Гребешковым живет, так сообщил утром, что жена Гребешкова с электриком Чепурко схлестнулась.
— Точно ли это? — оживился директор. — Порядочной прикидывалась. Зазнавалась. Все, мол, лярвы публичные, а она — чистая.
— Точно — как в аптеке, Матвей Никанорович. Всё за стеной слышно. По скрипу ихней кровати мой доносила спец.
— Порядок. Стравим, — ликовал директор. — Пусть поцапаются. Точно, Синицын?
— Как часы, Матвей Никанорович. Они и без того грозно живут. Шкуру друг с друга спускают. Я как-то зашел по-приятельски в картишки прошвырнуться, а они во всю грызутся. Нормальная парочка: баран да ярочка, из-за триперов нема дитёв.
— Что у тебя еще, Синицын?
— Да, вот, надо бы Сухарева из мастеров в старшие выдвинуть. Давно обещали.
— Он у тебя в доносилах?
— Не скрою, да — почтовый ящик.
— Сколько их у тебя, сердешных?
— Не скрою, человек восемнадцать. Доносилы имеют свою сеть осведомителей.
— Это на двести шестьдесят человек личного состава! Молодец! Вот такого бы мне главного инженера. Весь бы пульс завода знал на зубок: кто, как, чем, когда дышет.
— В цехе кроме моей еще, конечно, другие сетки есть, — ухмыльнулся Синицын, — ваша личная и оперуполномоченного. Некоторые двух, а то и трёх маток сосут. За нами тоже присматривают — особенно партийная сетка, комсомол и оперчекотдел. Нет ли тут у вас в кабинете подслушивающего микрофона? — забеспокоился вдруг Синицын.
— Вроде нет, — побледнев пролепетал директор.
Видно было, что он не догадывался о возможности такой опасности.
— Ты понимаешь, Синицын, — объяснял директор. — Не могу твоего Сухарева повысить. У него сестра где-то за Тайшетом в лагере сидит и поэтому к секретным документам он не допущен.
— Помилуйте, Матвей Никанорович! Какие же в цехе секреты? — взвыл Синицын. — Под грифом «секретно» идут сводки, сколько шестерен отлили или плит к шаровым мельницам. Это ж смех, а не секрет. Тайшет от нас тысяч десять километров. Сухарев пятнадцать лет, как сестру не встречал и не переписывается. Все это ж обычно, родство — это ж — тьфу, пережиток прошлого. Какое в наше время родство?! Я, вот, брата семнадцать лет в глаза не вижу.
— Не чепуши, Синицын! — рявкнул директор. — Не нашего ума дело. Есть такой приказ и баста.
— Ладно, Матвей Никанорыч, а как насчет меня? Когда ж на повышение? Сами знаете, хуже всего ждать и догонять. Под Драгилева материальчик ведь есть.
— Утрясем, Синицын, подберем ключи под главного инженера и шмякнем в удобный момент. Он тоже не онучу жуёт. Материальчик и он подбирает. Надо хитро маневрировать. Шапками не закидаем. Надо, чтоб не получился замах рублёвый, а удар копеечный. У высшего начальства учись, как человечков устраивать. Сам ведь знаешь, — продолжал директор, — любого могу снять, кроме главного инженера, главного бухгалтера и начальников спецотдела и кадров. На этих нужна санкция начальства, значит, нужен веский компрометирующий материал. Подстроишь кляузу — дело твоё быстрее пойдет. Ясно? Хлопочи. Кабы не было у Драгилева партбилета — давно б сгавчил. Поперёк горла стоит. Ни туфты грамотной не зарядишь, ни порядочек стальной не заведешь.
8
На первом этаже заводоуправления, рядом со спецотделом и отделом кадров, в кабинете оперуполномоченного завода старшего лейтенанта Старинченко сидел, нахохлившись, заводской шофер — заключенный Герасимович.
Оперуполномоченный продолжал допрос.
— Вы, Герасимович, везли в цех эти балки для пролётов моста. У вас в руках был заводской сертификат и теперь — вот случайно обнаружилось, что в этом сертификате ловко и незаметно подделан показатель фосфора в металле. А фосфор — сам знаешь. Если фосфору в стали много, то эта сталь на морозе хрупкая, ломкая. Понимаете, что это значит? — продолжал Старинченко. — Зимой, в мороз под поездом мост рухнул бы наверняка. Эти балки предназначены только для шахтных сооружений под землей, где не бывает минусовых температур. Мост уже собран. Теперь надо всё расклёпывать. Потери агромадные.
— Мне все ясно, — отозвался Герасимович, — но причем тут я? Неужели вы думаете, что я возьму на себя чью-то вину? Будете пытать?! Пытать меня не имеете права!
— Где ты купил такое право, мерзавец?! — вспыхнул Старинченко. — Может надеешься на Хоружего? Балбес! За виновного сам пан бог не заступится. Говори: кого подозреваешь в подделке сертификата?
— Не думал об этом.
— Тогда землю разрой, а добудь мне виновного.
— Я не ответственен за ваш объект, гражданин старший лейтенант, — храбрился Герасимович. — У меня свой участок в лагере. За него я ответственен перед майором Хоружим.
Герасимович увидел, что лицо оперуполномоченного налилось черной кровью гнева.
— А сейчас для меня поработаешь! — рявкнул Старинченко, грохнув по столу.
— Без разрешения Хоружего не имею права, — упирался Герасимович. — Не обязан двум богам поклоны бить.
— Будешь не только бить, но и лоб расшибать, — зловеще зашипел Старинченко. — И Хоружему слова не пикнешь!
Старинченко наклоняется к Герасимовичу и сквозь сжатые зубы злобно цедит:
— Напомнить тебе дело Шубина? Думаешь, не знаю, кто столкнул Шубина с насыпи? Думаешь, не знаю, кого тебе дали в помогалы? А знаешь, друг, что теперь за это могут по голове не погладить? А? Отыграются на буром, как пить дать, отыграются на стрелочнике.
Старинченко торжествуя откинулся на спинку кресла.
— Дело стряпали явно липовое. Инженера, автора семи изобретений угробили. А? Побледнел паскуда? Иди! И носом всю землю на заводе изрой, а добудь, кто подделал сертификат. Ясно? С меня начальство требует жёстче, чем я с тебя. Тебя, подлеца, давно пора в расход. В навозе весь.
— Я… я постараюсь, — бормочет Герасимович. — Я изучу, подумаю. Дайте недельку срока.
— Ошалел! Недельку!.. Наглец! Сорок восемь часов! Ясно! И ни звука майору. Пикнешь — пропал. Идите!
9
В кабинете главного инженера завода — старший электрик сталеплавильного отделения — Даль.
— Почему, товарищ Даль, в смене Журина изо дня в день неполадки в электроустройствах?
— А именно?
— Вы не знаете? Я должен напоминать? Почему тельфер в эту смену часто отказывает и загружать шихту приходится вручную? Почему не отрегулируете винт упора корпуса печи, чтобы не горели контакты? Почему вы сняли экран индукционной печи, хоть и знаете, что это вредно для сталеваров? Почему раскрыты шины и падающий металл создает короткие замыкания? Каждый день то пробки вольтметра, то реле мотора подъёма печи выключены, то в печи медь, чтобы вредные газы образовались, то заземление кто-то обрывает, то реле максимального тока разрегулируют.
«Стук не с подстанции, — лихорадочно соображает Даль, — кто-то из сталеваров. Журин? Но он не имеет входа к главному инженеру. Может письменно? Значит и Драгилев свою сетку доносил имеет!
А вдруг Гребешков? — мелькает в уме Даля. — Друг-то он друг, но до первого милиционера. Как встретится мильтон, так друг такой сдаст тебя на хранение».
— Вы ведь отлично знаете, — продолжает Драгилев, — что печи — это передний край, а сталевары — бойцы, идущие в атаку. Мы все должны обеспечить их победу, помочь, а не путаться в ногах, не вставлять палки в колеса.
— Это все — клевета, товарищ Драгилев, — глухо возражает Даль. — Очередная провокация. Кому-то выгодно расшатать мне нервы.
Даль повышает голос; создается впечатление, что он искренне возмущён, взволнован, полон благородного негодования.
— Кто-то решил подорвать мне сердце! — кричит Даль и брызжет слюной, — вызвать на глупой поступок, грубость или что иное, к чему можно придраться.
На секунду инженер заколебался: — может, в самом деле, под человека подводят мину?
— Знаю — это подлюка Журин! — выкрикивает Даль. — Какой он инженер?! Шлак сварить не умеет. У него всегда или холодный или перегретый металл. У него разъедает футеровку. В его стали полно газов и шлака. Структура не однородная, крупнокристаллическая! Металл выкипает, лётку замораживает!
Злобно искривленный рот Даля замер полураскрытый. Ум лихорадочно подыскивает обвинения.
Истерика Даля вызвала у Драгилева трудно сдерживаемое раздражение. Подмывало выложить этому узколицему белесому беспринципному пройдохе всё, что думал и знал о нём.
Однако, жизнь приучила Драгилева хватать за шиворот каждую невзначай взорвавшуюся эмоцию. По опыту хорошо знал он, что всплески чувств делу вредят и безнаказанно для здоровья не проходят.
«При ловко подвешенном языке, сноровке, хитрости, изворотливости, всегда можно доказать любую тезу, обелить черное», — думал Драгилев.
— Вот что, Даль, — решительно произнес главный инженер, отогнав раздумье. — Даю вам слово, что не Журин жалуется на вас. Ясно? Вы знаете, что я слов не бросаю на ветер. Еще вот что: вам-то лично грамотный сталевар не мешает, ни служебному вашему положению, ни авторитету не угрожает.
Даль утвердительно кивает головой.
— Так не ищите, Даль, дыр в небе. Идите и исправьте указанные мною недостатки.
— Неужели не Журин? — раздумывает Даль, выходя из заводоуправления. — Драгилев зря слово не даёт. Не такой. Из романтиков. Не рука ли тут всё-таки Гребешкова? Ему выгодно втихаря создать впечатление, что не он, а я цапаюсь с Журиным. Это на случай обнаружения козней против Журина. Ладно, друг! За зуб — отдашь челюсть. За око — голову. Проверим. Коли слягавил — то не пеняй. Клин вышибают клином. На порядках жизни — зубы съел. Пришью по-большевистски, как стажированного coca — с музыкой.
10
Перед концом рабочего дня старший мастер Гребешков попросил лаборантку Высоцкую дать ему возможность в ее кабинете поговорить с женой без посторонних.
Высоцкая вышла в кабинет спектрального анализа. Рядом, в отделении качественного анализа, похохатывали две подружки — комсомолки Зоя и Клава.
— Хитрющая сеструха Манька растет, — захлебывалась смехом Зоя. — В детсадике главное лакомство — горбушка хлеба. Когда подают там хлеб на стол — все бросаются к подносу, чтобы выхватить горбушку. Часто у счастливчика, завладевшего горбушкой, выхватывают ее из рук. Манька моя — худая, слабая, так что она придумала? Как только схватит горбушку — так сейчас же насморкает на неё своих соплей. На сопливую горбушку никто не зарится.
Приучилась она горбушки эти хитростью добывать в младших группах. Обменивает у малышей горбушку на казенную игрушку, да и другие выкрутасы освоила. Бой девка растет! Пальца в рот не клади. Врёт — глазом не моргнёт. Приладилась только с малышами возиться. Охмурять-то малышей способней. «Горбушницей» мы ее прозвали.
Из кабинета инертных материалов доносился сиплый, приглушенный рык Гребешкова. Высоцкая чувствовала, что там шел крупный разговор, но слов не улавливала.
Неожиданно электростанция отключила напряжение. На подстанции стало необычно тихо: прекратился рёв трансформатора, остановились механизмы, потухли трещавшие электрические дуги печи. Гребешковы в пылу ссоры не обратили на это внимания, поэтому дежуривший на подстанции Пивоваров стал невольным слушателем супружеской перебранки Гребешковых.
— А ты-то сам — кобель триперный. Ты ведь ни одной помойной ямы не пропустил. Жалеешь, что в шахту к кобылам не попал… Без тебя там зыки кобыл оформляют.
Гребешков огрызался по-блатному. Каждое слово обычного лексикона перемежалось с каскадом наиподлейшей ругани и непередаваемых оскорблений.
— Кабы девушкой была спервоначалу, то и я б человеком был, а ты-то с чем в ЗАГС пришла?! Ни дна — ни покрышки. Гуляй, как по сараю воробей.
Гребешкова густо, истерически, заливисто расхохоталась.
— Припомнил ты мне, паскудник, — выговаривала Гребешкова, — тут недавно профессор Коровин рассказывал, как они в Горьковской пересылке тайный опрос в камере организовали: у кого жена неиспорченной в брак пришла. Сидело их сто пятьдесят девять человек в большом этапном полуподвале. Все городские, учёные — сливки.
Стал там один шарамыга хвастаться победами над школьницами. Ну, другой интеллигент вскипел. Поругались, а после решили статистику в камере провести. Лист оберточной бумаги был, кусок грифеля нашелся. Дождались темноты. Лист обошел всех. Сидели друг к другу спиной. Знаешь, какой результат? На сто пятьдесят жен нашлось семнадцать честных. Ясно? Так что не талдычь. Трипера твои не оправдаешь. Сейчас честных не только не венчают, но и не крестят.
Чувствовалось, что Гребешков выдохся. Он выкрикивал повторяющиеся каторжные загибы и угрожал.
Теперь Гребешкова перешла в наступление. Высокомерно, голосом напоённым презрением и превосходством, она чеканила:
— Быдло! После него с тобой всё равно, что скотоложество. Ты ж зверюга пьяная, безжалостная, вонючая, а он — мечта чистая, душистая. Может скажешь, Митрофан, без толку треплю? — грозно вопрошала Гребешкова, — иль не ела я тебя?
Очередной залп ругани опять перемешался с угрозами:
— Брошу, сука! Со свету сживу, в лагерь закатаю! — рычал Гребешков. — Я с контрой воюю, а ты п… мух лавишь! Забыла, как карточки воровала? А я напомню. Забыла, как киевской пропиской с братишкой торговала? А я — припомню. А когда продавщицей работала, кто воровал?
— А кто меня на это наталкивал? — перебила задыхающаяся Гребешкова. — Кто требовал денег и денег, когда поллитра «московской» пятьсот рублей стоила? Кто сивуху сейчас гонит, поддельные наряды пишет, взятки вымогает, людей подсиживает? Кто Ульянова посадил? Я? Кто жену его трипером заразил? Я? Кто на Кузнецова облыжно дело накропал? Да и только ли на него? Кто секретаршу Еву изнасиловал? Думаешь, всегда харя с бородавками — НКПС — выручит тебя? Сколько девочек растлил? Сколько заразил? Сколько горя принёс людям?! Морда, паскуда, прыщ! Но… Но! Я тебя так двину!.. Забыл, гниль, кто из нас сильнее?!
Зажегся свет. Зарычал, завыл, заревел трансформатор. Ожила подстанция. Загрохотала печь. Перебранка погасла, утонула в шуме.
Глава шестая. Так седеют
1
Пивоваров был поглощен сложностью отношений с Высоцкой. Он понимал, что она непрерывно пытается утихомирить его пыл и нетерпение. В письмах ее — ясных, откровенных и поучительных чувствовалась заботливость, доверчивое обнажение душевного опыта. Пивоваров угадывал в них и любовь.
«Я много думала, вчитывалась в жаркие твои письма — читал Пивоваров. — Я запоминала их наизусть, прежде чем поднести к пламени спиртовки.
Но я не пара тебе. Ты не знаешь, например, моего былого. Никто о нем здесь не знает, а я помню и скрыть от тебя не хочу.
Давно это было. В Сыня-Нырте. На лесзаге. Проиграли меня там воры в карты. Проигравший купил меня у охранника за ворованное зимнее пальто. Так попала я под «трамвай». Это блатной термин, означающий групповое изнасилование скопом.
Сколько их было — не знаю. Грязные, мерзкие, клыкастые хари. Заволокли в сушилку. Скрутили руки. Я при муже стеснялась раздеваться, а тут… Бесчувственную, бросили меня в женскую зону. Очнулась в стационаре — окровавленная, в синяках, опухшая, раздавленная. Пыталась повеситься. Старый врач уговорил, успокоил.
С жизнью я примирилась, но враждебность к мужчинам осталась.
Ты первый, к кому я не испытываю недоверия, страха, может быть потому, что не нахальный ты, не агрессивный. Как молодость моя, ты чистый, доверчивый, добрый, милый…».
* * *
«Держись, друг! Больше спокойствия, выдержки, хладнокровия, джентльменской невыразительности лица. Слово — железо, молчание — золото. Учись, совершенствуйся, милый!»
2
Как ни пытался Пивоваров спрятать сияние глаз и скованную мимолётную полуулыбку, находились мрачные, издерганные, впечатлительные люди с блестящими глазами провидцев-шизофреников, которые хоть и не знали причин радости Пивоварова, но загорались враждебностью к нему, злобной завистью, чувствуя, что он счастлив в аду.
Один из таких субъектов, Петр Речиц, высокий худой человек, чудом одолевший дистрофию, вглядывающийся во всё тревожным и злобным взглядом блестящих блекло-голубых глаз, подошел к Пивоварову во время сбора к построению и, ни с того, ни с сего, гримасничая в пароксизме ненависти, выпалил:
— Что зубы, подлюка, скалишь?! Рашпиль тебе в рот! Рад, что всех обхимичил?! Хорошо живешь?! У нас, вон, жизнь отлетает клочьями, а ты хлебало кривишь, улыбишься? У….! Падла!
Так учили еще глубже уходить в себя, еще тщательнее прятать каждую мысль, каждую эмоцию, каждое намерение.
3
Вечером «бомбили» сахар. Пивоваров получил свою месячную норму, отсыпал десятину ворам — налог — и отправился в барак. В темноте его кто-то окликнул. Пивоваров узнал в долговязой запахнутой в бушлат фигуре Речица. Внутренне насторожился, ожидая неприятностей.
Рtчиц подходил не торопясь, волоча ноги, понурив голову.
— Кореш, не сердись на меня, — промолвил он хриплым, еле внятным голосом.
Пивоваров даже вздрогнул от неожиданности, так непохож был этот усталый смиренный тон на обычный возбужденный клёкотный нервный крик Речица.
— Жизнь наша изломана, и сами мы издерганные, — продолжал Речиц. — В каждом — демон и святой сидит. Сегодня огрызнулся я на тебя, а потом — пожалел. Молод ты и идешь к людям с хлебом, а в тебя бьют камнем. Не на того взъелся я, на кого надо. Ты ж знаешь, милок, что у нас на уме. Тысячи дней и ночей мечемся с безумной дрожью в душе: отомстить всем этим сытым, довольным, доносителям и терзателям, обманщикам и подгонялам — жечь их живьём и варить в котлах, резать на шашлык и рубить на гривенники.
— Много их, Пивоваров, — зловеще хрипел полушёпотом Речиц, — маленьких Сталиных — больших упырей. Сорок миллионов нас прокручено чекой. Миллионы гадов макают пальцы в нашу кровь: сажают, провоцируют, пытают, расхищают добро, портят наших дочерей, убивают наших братьев. Они, конечно, за режим. Знают, что взметнись народ — и расстреливать их никто не будет. Не заслужили они легкой смерти. Я бы создал научно-исследовательские институты, чтобы искали наиболее мучительные и длительные способы умерщвления, чтоб год, два, три умирал гад, чтобы каждая его клеточка умерла отдельно и наиболее страшно, мучительно, чтобы знали все гады вокруг, на все времена, каково бывает за невыразимую подлость против народа.
— Не сердись, дружок, — продолжал свою возбужденную исповедь Речиц. — Я бросаюсь и рычу, кусаюсь и неистовствую потому, что меня сломали физически и чую я приближающийся конец. Знаю, что не я один погибну. Грядет великое, страшное. Будет как на Марсе. Сожрут сверхпреступники-диктаторы всех. Опустошат всё. Когда вновь прилетят сверхлюди из космоса, застанут они не эпоху библейского Лота, не ростки культуры, как в прежний прилёт, а руины атомной цивилизации. Так думает и мой друг профессор Шкловский. Думает, но молчит. Знает: у нас язык отрубают вместе с головой…
Речиц продолжал:
— Знания людей опередили уровень их морали. Эйнштейн виновен. Слишком рано раскрыл он страшную глубь вещей. Наших зверей нельзя было допустить до этих тайн. Не доросли.
Речиц умолк. Казался он еще более поникшим, прибитым, опустошенным.
— Да разве вы поймете это, молодой человек?! — выкрикнул Речиц тоскливо, с болью; а когда поймете — вас скрутят как меня, бывшего хорошего астронома. Сделают сявкой, блатным тигром, издерганным шизофреником, корчащимся в пароксизме мировой боли.
Не подходи ко мне, Пивоваров, — бормотал Речиц. — Сейчас я — в себе, но это не часто бывает. Меня довели до ручки, до озверения, до жажды крови и зла. Иди! Тебя жалко. Сторонись, избегай меня. Я как одержимый амоком, как прокаженный. Я грызть хочу! Слышишь?! — вопил Речиц. — Уйди! Беги! Не оборачивайся!..
4
В бараке к Пивоварову подошел Герасимович.
— Юрий, — шепнул он, — бабу хочешь?
— Какую? — испугался Пивоваров и почувствовал как зачастило сердце. Точно так же срывалось оно в бешеный бег на Лубянке, когда ночью лязгали замки в его или в соседних камерах, и человек пробуждался с дыханием, клокочущим в горле.
— Неужели дознался? — пронеслось в его мозгу.
— Как дружку могу бесплатно, по блату, устроить, — мурлыкал Герасимович. — Знаю, что получаешь в месяц тридцать семь рублей — из них пятерку отдаёшь ворам у кассы. Что молчишь? Оторопел от радости? Или, думаешь, венерическую воровайку предложу? Не сомневайсь — обычная нашенская вольная распустёха. Дружок мой, Ефремов, шофер, возит на лагпункт воду автоцистерной, так один рейс он сделал с бабой в цистерне вместо воды. Ясно? Сгрузил её в вещевой каптёрке. Ходят туда теперь особо избранные по блату. Завтра в цистерне ее вывезут. Тебе, как дружку, могу устроить из симпатии. Ясно?
Пивоваров проглотил вздох облегчения.
— Спасибо, Герасимович. Ценю твою дружбу. Только боюсь — отвык. С баланды не до того. Не хочу себя расстраивать, выводить из равновесия, которого с таким трудом добился.
— Как хочешь, — недовольно буркнул Герасимович. — Предложу еще Журину. Вольте никому не доверю.
Журин тоже отказался. Герасимович вышел из барака. К Пивоварову подсел Писаренко.
— Слухай, сынок, — тихо окликнул он Пивоварова. — Ты с Герасимовичем не особенно. Дружба у него с шофером Ефремовым — ссученным фраером. Земляк мой балакав, что Ефремов в вийну ходыв з чекистами по хатам колгоспников и видбирав усе: моток шерсти найдуть — виднимуть, варежки, овчину, полушубок, валенки — все видбирали, для фронта — мол. Жинок, старых и малых оставляли босыми, голыми. Из чекистов цей Ефремов.
— Может это, дорогой Писаренко, не имеет отношения к Герасимовичу? — высказал предположение Пивоваров. — Может быть, сблизились они как шоферы: помогают друг другу в ремонте, запчастями?
— Не то, сынку. Слухай старого. Чую — не то. Мени тут усё видно. Герасимович крутиться тильки коло мудрых. Давеча все к евангелисту Кобзеву ластился, а третьего дня пидслухал я на улице у темноти балачку Герасимовича с каким-то типом. Голос Герасимовича я знаю, а второго не распизнал. Герасимович казав:
«К христосикам — особое внимание. Усе — контрики. Часто люди не верять у Бога, но к религии тягнуться, бо це не так сильно преследують як антисоветчину. Человик для своей души угощение делает: идеть у церковь, постоить мовча рядом с такими як и вин, поругает тихонько власть, душу отведеть».
Собеседник Герасимовича видповидав:
«Против жидов лають — тоже душу отводят. Злы-то воны на власть. В душе воны клянуть власть, а на словах — жидив. Воны так маскують злобу к нашей власти. За травлю жидив не преследують, можно распинаться; вот и куражутся, а в думках воны против власти брешуть и каждый разумеет это без лишних слов».
— Понятно, Пивоваров? — поднял указательный палец Писаренко. — Сам слыхал. Темно дило. Бачил я на своем вику в лагере переодетых чекистов. Тут завсегда учли чекистских школ, переодетые в зыков, практику проходют. Бачил я таких писля, со звездочками на чекистских погонах. Хитро бисово дило! Щоб миллионы нас таких обгулять, надо хитрую чеку иметь, очень умную, и научны институты, щоб изыскания робылы, как лучше нашего брата охмурять. Это все не байки. Бачил сам людей, що в таких исследованиях працювалы. Марксисты, кляп им в дыхало!
— А может марксизм тут ни при чём? — неуверенно возразил Пивоваров.
— Марксизм за колгоспы, — напирал Писаренко, а — колгоспы — паскудно дило. Нет там заинтересованности — барщина. Заинтересованность пробують даты — но грошовую, из-за неё нема смысла горб наживаты. Дают горбушку, а виднимають тыщу горбушек, добытых твоей працей. В колгоспи живемо як у казарми, а у людей наклонности разные. Одному треба прибушлатиться, а другой о хати человеческой усе життя мечтает, третий охоч сад растить, чи пчел разводить, а в колгоспе робы що прикажуть, живи як укажуть. Дають стильки, щоб усе життя достатка и, особенно, запаса не имел, дабы вынужден був день в день жилы выматывать за пайку.
Все у нас дають як собаци. Що может бути гирше ниж це «дають». У тебе ничого своего, усе тоби дають и, конечно, отбросы и те в обрез, экономно, жалеючи: «на тебе боже, что нам не гоже». Раньше всего — государству на мировой захват и щоб начальницы сытых кобелей на бульварах прогуливали, а писля — нам кость с барского стола, огрызки на трудодни, щоб житы — жил, а… бильшего не робыл. Сыт не был и с голоду не подох. Гнилое дило твой коллективизм. Против народа это. Так по здравому смыслу. Куркули при царе бильше платили, чем сейчас начальники. За границей робитник в десять раз бильше получаеть, чем наш вильный робитник. Многое тут у лагери люди разъяснили.
— Ну, а если колхозы — добровольные? — спросил Пивоваров. — В деревне сейчас мужчин нет, одни женщины с детьми. В своем индивидуальном хозяйстве они не управятся. Есть, ведь, добровольные коммуны.
— Бывають добровильцы, — ответил Писаренко. — Берман, вон, казав, что десь есть страна, где всё сильское господарство пид коммуной добровильной и порядки там мировые, но «за морем тялушка — полушка». Що нам «журавель в небе, дай нам зараз воробья в жменю». Що там и як — невидомо, а у нас як не бийся, колгосп богатый, а государство один чёрт сдерёть с него и с тебе так, щоб ты бедняком остался, беднее рабочего був, щоб всегда за кожный шматок хлиба усе життя укладал в працю, из которой почти усе виднимае начальство. Паскудно дило. Усе на революции, на захваты, а нам — шиш, произвол, горе, пайка.
Тыщи способив есть у начальникив, як з нас душу вымотать, — продолжал Писаренко. — К примеру — налоги. Беруть ци налоги со всей записанной земли, а обработать бильше половины цей земли большинство колгоспив не может. Нема мужчин, тягла, навоза, людей. Другой раз посеемо много, а убрать усе ривно не успеваем. Писля сдачи налога везешь остальное, вроде як добровильно, тому же государству по ценам государственным грабительским и никуда от цього не видвернешься. Богатый колгосп — бильше сдаеть, бидный — меньше, но сдають до тех пор, пока усе заберуть, а колгоспнику в лучшем случае оставят стильки, щоб его зарабиток, включая и добытое с приусадебного участка, не превышал заробиток городського рабочего. Робитник же, видомо, як живеть: гол и бос.
Из колгоспа никуда податься не можно. Нема паспортив. Уедешь — в лагерь посадять. Тильки из армии можно в село не возвращаться — и парубки никогда не вертаются. Оседают в городах. В селах одни старухи да бабы бесятся. Ежели, скажем, в конюшне есть жеребец — найдешь бабу конюхом. Нет жеребца — дудки, без конюха майся.
— Может дело-то не в порочности колхозной системы, — допытывался Пивоваров, — а в порочности государства-диктатора?
— Не видал ты, Юра, колхоз, не едал хлеб как навоз, — сердился Писаренко. — Ты, вот, к примеру, читав, що не успевають убрать урожай: пид снегом остается. А знаешь, вид чого? Вид того, що це выгодно колгоспникам. Не выживуть они иначе. Остаеться, к примеру, хлиб на корню. Упадет снег. Морозец. Зерно в элеватор не годно. Так мы его из-под снега серпами, и сушим, няньчим по хатам, потом — едим. Картофель остался пид снегом. Кто его для колгоспа будет выкапывать, очищать от снега и грязи — руки морозить, мыть в помещении, сушить, сортировать подмерзшее? Для колгоспа никто цього не зробыть, а для себе — с толстым удовольствием. Днем и ночью копаемо и чистимо, моемо и сушимо, сортируемо и усе в прок идет — соби да худоби. Или сенокос. На кой ляд он колгоспнику, когда усе до последней травинки идеть для сенопоставок, для общественного скота, вид которого колгоспник ни шиша, даже навоза не имеет. Вуду я косить им? Бывает накосимо стильки, що для общественного стада излишне, но все ривно — людям не дадуть: начальство заставит прикупить скот, взять на прокорм из бедного колгоспа, отдать сено государству чи видному колгоспу, районные тузы своим коровам рвуть. В общим, все що хочешь робят, лишь бы людыне не дать. Тоже и с силосом. Поэтому-то колгоспники делають усе, як попало, на швырок, без души, як полегче — очки втирають все всем. До праци выходят около полудня, працують спустя рукава, для виду — и хлеба немае, урожая немае. Из-под сучьей палки толку не бывает — одно вредительство. Писля трепачи оруть: «що це за явление людям на удивление — земли полно, людей много, а хлеба нет?!». Нет и не будет. Не дадим. Глупо дило. Нехай дуракив жовтых чи сизых по африкам шукають, а мы — ложим на цю справу с прибором.
5
В барак вошел помпобыт Романюк — щёголь, крикун, матерщинник, лихач из заблатненых завмагов.
— Пяхота! — зычно рявкнул он. — Бегом в вещкаптерку за ботинками! Живо! Зевало не разевай и после не пеняй, если недомерки иль рвань достанется. По блату вам первым объявляю, как есть вы кролики и рогатики.
Все понеслись к каптерке.
Романюк не соврал: возле форточки вещкаптерки никого не было. Журин, Пивоваров, Кругляков, Домбровский стали в очередь недалеко от окошка. Через минуту ворвались в ожидальню десятки людей из другого барака. Очередь стала обрастать пристраивавшимися. Особо нахальные, зубастые, драчливые, чокнутые столпились у окошка. С ними переругивались, но до драки не доходило. Не все дошли до готовности отдать жизнь, убить или умереть за порядок в очереди. Толпившиеся у окошка дозрели до этого состояния.
Наконец начали выдачу и еще яростнее заклокотали страсти в клубке тел, жмущихся к окошку. Особенно выделялся один из крайних в толпе, с лицом обрюзглым, землистым, заросшим, перекошенным злобой. Из раскрытого гнилозубого его рта с каждым выдохом вырывались брань или стон, рёв или визг. Воспаленные глаза на выкате были прикованы к освещенному пятну форточки. Он что-то кричал туда и, жестикулируя, вздымал худые серые руки, сжимающиеся узловатые пальцы, искарёженные многолетним непосильным, убийственным трудом.
Голос его тонул в вакханалии криков, издаваемых десятками хриплых, ревущих, орущих глоток. Наконец, отчаявшись быть замеченным и услышанным в каптерке, он подпрыгнул и на четверенках пополз по головам и плечам людей. Его ноги в грязнющих, вонючих чунях проваливались и он шел ими по телам толпившихся.
Толпа зашевелилась. Десятки кулаков обрушились на нахала. Выкрики стали еще более возбуждёнными, неистовыми:
— Дави гада! Рви бурмистра, полицая, потрошителя! В нюх его! В грызло! Ишь, ловчила, по головам шагать! Убивай людоеда, братцы! Воробратия, не зевай, по гудку не шуруй! Под дыхало шакалу! Будку расквасить! Кишки выпустить! А…а…а…
Тот, кого назвали «бурмистром» ухватился за голову японца Того, стоявшего возле окна и пытался подтянуться вперед, но Того ударил его в лицо.
«Бурмистр» завыл, заголосил так, что перекрыл общий гам:
— Гады! Мусора! Я не к раздаче! Я — япошку запороть! Выпустите удавы, драконы, сосатели!
Он вцепился в Того и тянул его из толпы. Люди расступились.
Пивоваров знал щуплого, всегда корректного улыбчивого японца, бывшего штабного офицера квантунской армии, обвиненного в шпионаже. Пивоварову казалось, что чокнутый истерик, которому маленький Того макушкой до плеча не доставал, раздавит свою жертву.
На секунду затих гвалт. Все повернули головы, предвкушая захватывающее зрелище избиения, зубодробиловки, дикарского танца на трупе поверженного неудачника.
Пивоваров стал проталкиваться сквозь толпу в надежде спасти хоть жизнь Того, как вдруг произошло неожиданное: маленький тщедушный японец сделал какое-то неуловимое молниеносное движение ногой, затем рукой и рычащий, разъяренный алчущий крови скандалист свалился, как подкошенный и, визжа, уполз на четверенках из помещения на улицу.
Толпа почтительно и опасливо расступилась и Того спокойно проследовал на свое место в очереди.
— Молодец, самурай! — кричали кругом. — Джиу-джиц! Мгновение и между ног смятка! Перекись ему в печенку! Шмоньку в сучий рот!
— Видишь белобрысого дядю? — кричал в ухо Пивоварову Журин. — Вон, краснорожий, косая сажень, с бычьей шеей. Это — Джойс. Тот, что с Домбровским в кипятилке. Он, на моих глазах, с четырьмя чокнутыми у раздачи в столовой расправился: нокаутировал как на ринге. Руку в кровь рассадил, а челюсть самому заядлому свернул. С тех пор всякая мразь кругом него обходит. Сволочь любит палку. Только удар-скуловорот признают и уважают — как большевики.
В толпе и очереди стало тише, спокойнее.
Через полчаса Журин и Пивоваров с ботинками, прижатыми к груди, вырвались наружу.
Там, возле дверей вещсклада, собралась толпа. Из толпы махал им рукой и кричал Шестаков, приглашая подойти.
— Подождем, товарищи, — возбужденно выкладывал Шестаков, — восемь надзирал там. Говорят, проститутку накрыли и кучу хахалей в очереди. Сейчас поведут.
Пивоваров ожидал увидеть всклокоченную, кривоногую, нахальную толстую бабищу, со ртом в голенище, которой все — нипочем и жизнь — копейка, а вывели обычную невысокую худощавую смуглую и даже привлекательную женщину в возрасте между двадцатью и тридцатью. Приковывали к себе её большие усталые темные глаза, выражение отчаянной скорби в них, когда все сломано, нет сил противиться ничему и человек плывёт по течению избитый, безвольный, бесчувственный.
— Это не от того, что под «трамвай» пошла, — думалось Пивоварову. — Еще раньше многое в этих глазах перегорело, испепелилось.
Ему стало жаль женщину, гордо пронесшую остановившийся поверх голов взгляд.
Иначе выглядели мужчины. Их было семь. Пятеро кутались с головой в бушлаты. Шестой — Герасимович — хоть и запахнул по-блатному полу бушлата вокруг стана, но лицо не прятал. Седьмой — завскладом — что-то оживленно докладывал надзирателю.
Среди жавшихся в тени и, видимо, пристыженных узнал Пивоваров Бегуна, Скоробогатова и шофера Солдатова.
— Боже мой! — тихо вскрикнул Пивоваров. — Это ж наши хлопцы!
Мысленно обращаясь к Высоцкой, он прошептал:
— Спасибо тебе. Не будь тебя, я бы тоже поджал хвост как побитая собака.
— Я удивляюсь, как ты сюда не попал, — буркнул Журин. — Меня печь высушила и возраст после сорока, а ты должен до луны прыгнуть ради этого. Ленин и Бетховен сифон от простячек носили. Ущемленный пол — взрывчатая материя. Ни тени осуждения хлопцам! Ясно? Неодолимый соблазн. Бунт нормального, закованного преступниками естества. Хорошо, что мы не попались. Будем подкармливать их, если удастся.
Подошли Домбровский и Джойс. Рядом стоял Того.
— Поздравляю вас, — обратился к Того Джойс на довольно приличном русском. — Теперь и вас будут остерегаться шакалы.
— Я — офицер моего императора, — ответил Того.
В его речи нерусский акцент слышался, но слова он выговаривал старательно, как человек основательно учившийся языку и следящий за правильностью произношения.
— Император ваш символом стал, — заметил Домбровский.
— Нет. Ошибаетесь. Мы считаем, что над политиками или хотя бы рядом с ними должна быть сила, воплощающая здравый смысл и совесть народа, надпартийные интересы нации, стоящие над злобой дня, над модными увлечениями и непостоянством толпы.
Случается, что избранники партий, люди из низов успевают за десятилетия жизненных схваток пропитаться мизантропией, цинизмом, тягой к узкому партсектантству и диктаторству. Поэтому и нужен император, воспитанный в духе патриотизма, гуманизма, честности, справедливости.
Императора не купишь, как покупают алчных политиков из низов. Император не должен пробивать себе карьеру в обществе, где все враги всем, где нужно изворачиваться, подличать, лгать. Император — гуманный, образованный, милосердный, чуткий, уравновешенный и объективный человек, брат и отец каждому в народе — необходим на верху пирамиды.
Нужно, чтобы на власть темных выскочек, беспощадных дельцов, бойцов и сектантов влиял благородный человек, олицетворяющий лучшие черты и идеалы общества. Конституционный монарх — важное звено здорового народовластия.
— Черт побери, я и не думал, что можно так убедительно ратовать за монарха! — воскликнул Журин. — Мы были убеждены, что монархия — такой же анахронизм, как рыцарство, крепостничество, философский идеализм.
— Ликвидаторами-убийцами воспитывали вас, Журин, — четко с напором и убежденностью произнёс Джойс. — Поэтому всему вы заупокойную выть горазды, страшась собственной гибели.
— Не обижайте, Джойс, — попросил Журин. — Неужели для вас все кошки серы?
К Шестакову подошли двое. Взяв его под руки, отвели в сторону.
— Пошли, батя!
— Куда?
— Тащить… из пруда.
— Кого?
— Дядю твоего.
— Да что вы, братцы?
— Читай святцы и не скрипи, дело говори: ты, падла, с кем живешь, того и продаешь?
— Что вы, братцы? — ужаснулся Шестаков. — Я честный, прямой. Никому ничего…
— А в вагоне кто чекиста вызывал? Думаешь прошло — травой заросло?
— Да я ж не знал тогда, братцы, — взмолился Шестаков.
— Знаем, что олень, мусор, потому на цугундер, падла, не посажен. У нас, сука, с опером мир, маза, вась-вась — иначе тебе б, стерва, хана! Ты лучше отвечай, падла: посылку вчера из дома отхватил?
— Так.
— Сало есть?!
— Есть. В кладовой.
— Потопали! Сам возьмешь. Захотелось черняшку в растопленное сало помакать. Мы по благородному. Без шухеру. В добровольно-обязательном порядке. У нас государственный подход. Порядочек. «Законные» блатные давно бы тебя запороли, а мы — лыцари!
Шестаков, сопровождаемый державшими его под руки собеседниками, удалился. Никто из окружающих ничего подозрительного в их неслышной беседе не усмотрел.
— Друзья! — поднял голос Кругляков. — Околачиваться тут на виду вшестером неблагоразумно. За нашим бараком есть затишный уголок. Там в темноте посидеть до отбоя удобно и приятно. Пошли!
— Меня беспокоит, — продолжал Кругляков, — что долго Герасимович был нашим другом и мы, олени, верили ему. Если бы не счастливый случай — рассказ Писаренко Юрию — то этот Герасимович наверняка подвел бы нас под пеньковый галстук. Только сейчас я понял, зачем крутился Герасимович в цехе перед тем, как опер на заводе предъявил мне дурацкое обвинение в подделке сертификата мостовых балок. Счастье, что я первый, по ряду признаков, почувствовал, что металл плох. Выручил большой опыт. Если бы я не затребовал лабораторного анализа металла — висеть бы мне на дыбе и из вас бы банду вредителей сконструировали.
— Если бы опер захотел, он сразу нашел бы, кто спихнул Шубина, — произнес Пивоваров. — У него в колонне десятки стукачей. Он не хотел искать или замешан сам и заметал следы.
— Это их работа, — отозвался Кругляков, — стандартный ход. Сначала убивают одну из намеченных жертв. Обычно убивают человека, которого следователи не надеются сломать. Охотно убивают еврея, так как это дает возможность следствию использовать призыв: «вали всю вину на жида!»
Затем следователь обрабатывает так называемое слабое звено: неопытного, недалекого или слабовольного подследственного. Его убеждают и принуждают подписать протокол, в котором выдуманная чекистами вина возлагается на убитого (с мертвого, мол, не спросят; ему все равно). Когда эта уловка удается, следователи получают в свои руки «законные документы» о том, что «заговор» реально существовал. На этом основании вышестоящее начальство предоставляет следователям «законное право» применять любые методы следствия, включая побои, пытки и т. д.
Первым «участником заговора» становится, конечно, тот, кто свалил всю «вину» на убитого товарища. Такой человек, деморализованный и преданный, тонет и часто тянет на дно других. Происходит обычная цепная реакция дутого дела. Таков стандартный ход. Жаль, что об этом лишь мы догадываемся, а масса убеждена, что с Шубиным расправились за стукачество.
— А я думаю, что Хоружий выполнил особое указание Москвы, — заметил Журин. — Это очередной способ смертной казни, чтобы родственники и другие, понимающие нелепость ареста Шубина, не винили Лубянку, режим. Они убивают таким образом умных, талантливых и, значит, наиболее опасных. Они знают, что арест и лагерь даже друга делает врагом.
Уселись на завалинке. Место было насиженное, снег кругом утоптан. Многие любили этот уголок, скрытый от часовых и любопытных.
Впереди, в неоглядные дали, убегал искрящийся под молодым месяцем снег.
— Я хочу рассказать вам, Того, — выдохнул с табачным дымком Кругляков, — одну притчу, осевшую в памяти издавна. Это в связи с вашей защитой монархии.
Жил когда-то пророк Самуил, народный судья, мудрец и советчик. Состарился он и пришли к нему люди с просьбой назначить им царя.
Самуил обратился к Богу, и тот велел ему рассказать людям, что им даст царь. Если после этого они не отрекутся от своего желания, — выполнить их просьбу.
Собрал Самуил старейшин и поведал:
«Детей ваших заберет царь в свою армию и свиту, превратит их в рабов, надсмотрщиков и подгонял. Они будут пахать и косить для царя, делать для него оружие и боевые колесницы».
«Дочерей ваших возьмет, чтобы услуживали ему. Поля и виноградники ваши отнимет и отдаст своим приближенным».
«Из зерна и винограда заберёт десятину и отдаст смотрителям гарема и вельможам. Ваших слуг и служанок он также возьмет и будут они служить царю. Из ваших овец заберет десятую часть и вас самих сделает невольниками».
Народ не послушался Самуила и требовал царя:
«Желаем, чтобы был у нас царь, как у других народов», — кричали люди.
Так началась эра имперских амбиций, войн, раскола, взлёта и падения…
Много горя случилось с тех пор и нет у нас оснований не внять мудрости пророка. Ушло время абсолютизма, вождизма, диктатур в любой форме. Жизнь стала слишком сложной для столь примитивной формы власти. Где такая власть до сих пор существует: под знаменами большевизма или национализма и шовинизма — она несет только несчастье народам. Только демократии и непрерывно растущей демократичности принадлежит будущее.
— А понимаете ли вы, что далеко не все народы созрели для демократии? — спросил Джойс. — В Германии я часто слышал от немцев, что русские, мол, примитив, люди без внутреннего достоинства. Верить им нельзя. Всегда обманут, украдут, предадут, сподличают. Здесь, в лагере, я понял, что детская глупость — характеризовать огульно народ, массу людей, но как бы там ни было, а до демократии вы не доросли, поэтому и сжились с худшей формой диктатуры. Дай вам демократию, и начнется анархия, хулиганство, преступность, самосуд, произвол, гомерическое пьянство, драки, засилие хамов, горлодёров, тупых насильников и убийц. И, главное, сколько личных кровных счетов накопилось у вас за эти жуткие десятилетия! Вы же перегрызете друг друга. В результате — вы сами возопите о твердой власти, скатитесь к диктатуре.
— Чепуху городите, Джойс, — возразил Журин. — Чем больше было демократии в нашей стране, тем меньше проявлялись отрицательные качества людей.
При царе сидело сто тысяч уголовников, а сейчас в стране — пять миллионов профессиональных преступников и миллиона три других уголовников за проволокой, плюс десять миллионов политзаключенных.
— Изучите наших мыслителей, — посоветовал Джойс, — поймёте, что у вас традиционная восточная деспотия, стадия подъёма производства за счет варварской эксплуатации и ограбления подвластного населения.
— Знаю всё о ваших мыслителях — возразил Кругляков. — Не один год спорил на нарах тюрем и лагерей с западниками. Плохие у вас дела, мистер Джойс, на идейном фронте. Напрасно хвалитесь. Зазнались и поэтому обыгрывает и бьет вас тоталитарная красная реакция.
— Как так — обыгрывает? — удивился Джойс. — Почему?
— Потому, что нет у вас современной научно-обоснованной социальной теории, которую принял бы мир, как противовес большевистским догмам, — ответил Кругляков. — Нет у вас теории перспективы цели. Не умеете вы, например, потрафить извечной тяге человека отличиться, прославиться.
— Что ж у нас меньше прославленных людей, чем у вас? — возмутился Джойс. — Кто у кого заимствует всю науку и технику? Все у вас от английской шпильки до синхротронов — наше и наши названия носят.
— Ученых у вас отмечают, — согласился Кругляков, — а рабочих?! Доярок и кочегаров, уборщиц и сталеваров у вас не замечают, а в СССР каждый такой может прославиться за свой труд. Это очень важно, ибо в человеческих инстинктах заложено стремление выделиться. Во всей природе есть это бессознательное свойство. Отсюда яркость цветов, пестрота птиц и т. д. Большевики ловко играют на этом, а вы не можете, если бы даже захотели, ибо вся ваша жизненная концепция устарела.
— Вы меня не убедили, — буркнул Джойс.
— Слушайте дальше, — горячился Кругляков. — Большевики ведут уголовным путем, но обещают рай на земле, взывают к труду, учёбе, творчеству, к героике ради этого, и, таким образом, спекулируют на вечной и естественной потребности человечества в теории цели жизни — в ответе на вопрос о смысле жизни. А как вы удовлетворяете душевный голод людской? К чему призываете людей? К загробному блаженству? А если люди не верят в это?
— Мы призываем к богатству.
— А если у человека есть все необходимое? — спросил Журин, — что дальше? Безделие? Разложение? Нет, мистер Джойс, призыв к труду ради собственности не уравновесит заманчивость призыва к легкой наживе путем экспроприации. Надо поэтому создавать общество, в котором всем была бы невыгодна экспроприация. Надо всех сделать собственниками, включая рабочих. Нужно, чтобы все стали средним классом. Ясно?
— А мы, по-вашему, против этого? — спросил Джойс.
— На словах — вы не против, — ответил Кругляков, — а на деле направлять общественное развитие не можете. Есть у вас возможность снижать длительность рабочего дня планово? Есть у вас средства ликвидировать безработицу, поощрять науку и исследования? Почему у вас труженики боятся автоматизации? Это страшный вопрос. Можете ли вы воспитывать в народе, в детях стремление к духовному взлету, к новаторству и открытиям, к пионерству?
Если можете — цивилизация ваша здоровая. Однако, без оглядки и оговорок вы не можете биться за прогресс техники, ибо от этого растет армия безработных. Кроме того, новаторство не входит в ассортимент обывательских радостей жизни, культа наслаждения жизнью.
С чердака барака послышался шорох. Все смолкли, испуганно насторожились…
Кругляков успокоил всех:
— Это наверняка наш барачный трутень — дневальный Дронов с одним из «Машек» милуется.
— Цель жизни у всех людей — лучше жить, — возобновил беседу Того.
— Да, да, конечно, — согласился Кругляков, — но и это вечное стремление людей коммунисты используют лучше вас.
— Это уже любопытно, — усмехнулся Журин. — Жить-то нормально коммунисты никому не дают и сами покоя не знают.
Кругляков терпеливо выслушал и кивнул ему: сейчас, мол, отвечу. Повернулся к японцу.
— Вы правы, Того. Цель человека всегда и всюду — лучше жить. У нас жить лучше других могут только начальники и интеллигенция. Для того, чтобы попасть в этот класс, нужно хорошее образование, нужны научные, технические, трудовые, творческие успехи. Значит, нужно упорно учиться, совершенствовать ум, талант, обогащать интеллект, ибо это почти единственное условие успеха, сносной жизни.
— А на Западе? — спросил Пивоваров.
— На Западе стимулы к духовному совершенствованию значительно слабее. — Кругляков на секунду задумался, затем продолжал: — На Западе можно жить хорошо и без высокого образования, без творческих достижений, без совершенствования внутреннего мира. Это серьезнейшая проблема Запада, ибо скоро это может изменить соотношение духовной мощи соперничающих систем — мира подневольного и свободного. Мир неволи может обрести незаслуженную духовную мощь. Свобода человека во всем мире может очутиться перед смертельной опасностью — перед угрозой потери духовного превосходства.
— Мистер Джойс, — крыть Вам нечем? — с сочувственной усмешкой спросил Журин.
Джойс молчал, а Кругляков, не ожидая его реакции, увлеченно продолжал:
— Еще одну важную вещь понимают в Кремле. К числу естественных потребностей человека относится и потребность в умственной активности, в духовном развитии.
Человек только тогда чувствует себя удовлетворенным жизнью, когда он убежден, что его душевному развитию нет преград, что он предельно использует свои внутренние возможности.
Наши правители стараются удовлетворить эту естественную потребность человека таким образом, чтобы вся его жизненная активность служила руководящим.
— Что же нужно делать по-вашему? — допытывался Джойс.
— Нужно прежде всего отвергнуть уверенность, что только сектор частной инициативы закономерен, только ваш строй хорош, — ответил Кругляков. — Нужно сознательно способствовать развитию общественного устройства. Жителей трущоб, безработных, неудачников, не приспособленных к борьбе за существование в одиночку нужно пригласить к объединению в сельскохозяйственные, производственные, строительные и другие кооперации и коммуны, товарищества, создаваемые при помощи государственного льготного кредита и, таким образом, втягивать их в средний класс. Нужно согласиться со структурой смешанной экономики, в условиях которой каждый нашел бы хозяйственный сектор, соответствующий его стремлениям и наклонностям, способностям. Это лучший путь в общество уравнения благополучий. Ни ваш строй, ни советский — не идеальны. Истина — посередине, в разумном синтезе. Как смогут оправдать коммунисты вооруженное выступление, если общество даст им возможность и даже помощь организоваться в секторе хозяйства, соответствующем их вкусам — в колхозах, кооперативах, коммунах? В смешанном хозяйстве закономерны идеалы не личного эгоизма, а общечеловеческие, гуманистические. Становится возможным хозяйственное планирование, демократическое регулирование стихийных ныне процессов общества. Знания станут условием успеха личности…
Джойс прервал Круглякова.
— Мистер Домбровский рассказывал мне, что в колхозах производительность труда низкая. Разве выживет такой кооператив в конкурентной борьбе с частной инициативой?
— Выживет, — уверенно тряхнул головой Кругляков. — Нельзя сравнивать добровольную кооперацию с советскими колхозами невольников. В коллективных хозяйствах легче вырастить смену дисциплинированных людей, гуманистов, способных и к продуктивному труду и к творчеству. Это лучший способ воспитания сирот, безнадзорных. Даже люди невысоких способностей будут отлично жить в таких коллективах — ведь каждому там найдется естественное место.
7
В бараке между нар Пивоваров увидел Шестакова.
— Что ж, прикажешь врагов народа амнистировать? — патетически вопрошал у кого-то Шестаков.
— Небось, бабе своей все спустишь, кроме измены, а от государства ждешь поблажек для неверных Иуд? Абсурд! Воришка, или, скажем, убийца — виноватые люди, но — свои.
— Толкуй, толкуй, пиявка, — басил кто-то из поднарной тьмы. — По-твоему все преступники, кроме тебя и подсобной тебе воробратии?
— А как ты думал! — петушился Шестаков. — У меня на воле недостача по инструментальной кладовой была. Растащили. Ножку подставили, чтоб угробить. Дело обыкновенное. Я ж не изменник как некоторые другие, не безродный космополит, не беспачпортный низкопоклонник загранице. Я в гражданскую войну орденом награжден. Шестнадцать лет в партии. Мне такие же контры дело подстроили, недостачу организовали, посадили. Думаешь, партия не знает этого? Поэтому и амнистия мне.
— Трясогузка, помёт мышиный! — воскликнул из-под нар сиплый простуженный голос. — Тут каждый уверен, что он один — невинный, а все прочие — преступники. Психика такая. Только своя онуча вкусно пахнет.
— Брешут чернушники, — не унимался Шестаков. — Тут против власти брешут и потом мозги другим засоряют, что, мол, сироты казанские, ягнята безгрешные. Колупни любого, так у него в душе такая…
Шестаков не успел договорить. Из угла секции, из-под вагонки выскочил босый, в одном белье, заросший рыжей щетиной человек и молча, с разгона ударил кулаком в лицо Шестакова. Шестаков упал. Ударивший повернулся и, подтягивая на ходу спадающие кальсоны, ушел в свой угол.
Удар пришелся Шестакову в переносицу. Под обоими глазами засинели кровоподтеки.
— Снежку приложь, — советовал споривший с Шестаковым басок, — не канючь, ботаю. Быстрей снежку к сопатке. Все рассосётся. Покеда нос цел — ты ещё мужчина.
Шестаков вышел из барака.
8
Журин предложил Пивоварову съесть рыбу, припасенную с обеда. Достал хлебца из-под изголовья. Разломал пополам, крошки в рот отправил.
— Что ты рассматриваешь, Юра?
— Светится. Рыба светится как светлячок, — произнес Пивоваров.
Журин рванул к себе котелок. На дне, в густой тени рыба светилась голубым, ласкавшим глаз нежным сиянием, напоминающим гнилушки в ночном лесу.
Журин посуровел, насупился.
— Выбрось, Юра. Рыба радиоактивная. Из зоны атомных взрывов. Радиоактивный фосфор. Еще один способ уничтожения заключенных. Что ж тут делать? — сокрушался Журин. — Рыба — единственный источник животного белка. Не поешь — помрешь, поешь — помрешь. Куда не кинь, всюду клин.
— Надо заявить начальству, поднять людей, — вспыхнул Пивоваров.
Журин безнадежно махнул рукой.
— Съедят тебя. Загонят на Вайгач, в радиоактивные шахты северного Урала или в другую загибаловку. Плетью обуха не перешибёшь. Так или иначе они нас всех атомом облучают. Гады! Упыри! И никто ж об этом и не знает. Господи! — стонал Журин. — Узнают на Западе — не поверят. А, может быть, всем им сытым, наивным, выросшим на какао, лобызавшим маменькину ручку наплевать на нашу беду?! Ведь не сознают эти взрослые дети, что с нас начали — ими кончат. Обреченный мир! Господи! Гремучую змею к себе в кровать кладут, вампирам подставляют холёную задницу. Взрослые дети! Недотёпы! Наивняки! Некому обо всем этом поведать миру.
— Вы бы там потише бубнили, очкастые да лобастые, — недовольно заметил один из соседей по вагонке, — гениальными станете. А знаете ли, что гениальная вспышка вызывает часто помешательство? Перегорают памерки и гений становится чудаком, хлюпиком, рохлей.
— Они там авансом чокнулись, до гениального открытия, — отозвался кто-то с другой стороны нар.
Все умолкли, затаив наболевшее, недосказанное.
Глава седьмая. Предпоследний круг
1
Журин и Пивоваров работали в вечерней смене, когда на завод пришел Бредис. Среди чумазых, истощенных, одетых в грязную рвань литейщиков, щеголявший столичной экипировкой Бредис казался существом с другой планеты.
— Здорово, Журин! — приветствовал Бредис. — Отбыл я отпуск. Видишь — загорел. В Закавказье уже горячее солнце, а здесь — предмайские пурги. Два месяца котовал. Сколько денег спустил и не спрашивай — все, что за шесть лет наскрёб. Гулял форсисто, по-русски, душа на распашку, всю жизнь «ва банк». Обрусел, брат, и сам не заметил как.
— Что хорошего на воле? — спросил Журин.
Бредис посерьёзнел. Осторожно зырнул вокруг и вполголоса ответил:
— Жди перемен, Журин и — к лучшему. В санатории снюхался я с толстомясыми шишкомотами. Ботают, что верховоды на попятную ползут. Сразу ослабить гайку — боязно. Знают, что посеешь сквознячёк, а жать придётся бурю. Всегда в истории так было. Поэтому сползают на тормозах.
Попал я в Москву аккурат в дни кончины хозяина. Закомпостировали мне пересадку на поезд Москва — Тбилиси через двое суток и я, вместе с народом, отправился на хозяина глянуть.
Что там было, брат! Мужик я, видишь, тяжеловес-битюг, а чуть дух не выжали. Мильтонов давили походя. Подожмут и топчут всей миллионной громадой. Сам видел: мильтонов затаптывали с лошадьми, машины переворачивали, сбрасывали с дороги. Ворот сколько выдавили — не счесть. Лавина катилась грозная, неодолимая, страшная, не понимающая, что в душе ее творится.
Случись тогда в толпе зажигала, трибун, крикни кто-нибудь навзрыд, навсхлип, за всю муку, за все смерти — пошли бы люди крошить, ломать, резать и жечь так, что и от Кремля камней бы не сыскать, сглотнули б, слизнули б всё — электронов от начальства не осталось бы.
Страшное, жуткое дело миллионоголовая толпа — неудержимый, неукротимый всесокрушающий людской поток. Это — как обвал, как плотину громадную сорвало, как конец мира.
Так вот, от одного этого обвала, от раздавленных детей, мильтонов и чекистов власть в дрожь бросило. Увидишь, Журин, — прут на попятную и еще дальше пойдут. Не плошай, худшее позади.
2
В минуту, когда началась разливка металла, когда все сталевары были заняты, ослеплены, прикованы взором к огненному вихрю брызг, к жарким струям металла, в дверь подстанции постучали.
Пивоваров выглянул и увидел Высоцкую в халатике с мокрыми волосами.
— Юрик, взмахнула я полотенцем, задела лампочку и свет погас. Наладь, пожалуйста, а то я впотьмах не соберусь.
Пивоваров зашел в душ.
— Может быть, лампочка вывернулась, — произнесла Высоцкая звенящим напряженным голосом. — Подыми меня, Юрик, я попробую ее ввернуть. Нет, уж не сзади бери, а спереди.
Бережно он охватил ее и приподнял. Под тонкой тканью халата ощутил дрогнувшее тело. Он опустил ее немного и, не поставив на землю, прижал к себе.
3
— Что-то мой первый помощник стал обходительным, — раздумывал Журин, — то, бывало, злобно огрызается, какую-то обиду сопя жует, а сейчас третий день разговорчивым стал. Правда, притворством и скрытым недоброжелательством от него так и разит, но лучше худой мир, чем добрая война. Может быть, получил партийное указание менять курс? Может быть, прав Бредис, что всё идет к лучшему?
— Ногин, — обратился Журин к первому помощнику, — марганцовистая сталь получается замечательной; хоть бы ты похвалил. Был, ведь, тоже Фомой неверующим.
— Чего хвалить, — отозвался Ногин, — знамо дело: щи вари с грибами, язык держи за зубами.
— Я в выходной день набивал футеровку индукционной печи, — продолжал Журин. — Ты заглядывал в цех. Почему не подошел? Тебе это полезно, и мне веселее было бы.
— Я в выходной близко к цеху не подходил, — ответил Ногин.
Журин вскинул на него удивленные глаза и увидел, как потемнело худое смуглое лицо Ногина, дрогнули ресницы и серые мшистые уши.
Журин не мог ошибиться. В воскресенье, вернувшись с обеденного перерыва, он заметил мелькнувшую в конце цеха кряжистую фигуру Ногина.
— Что-то тут не гладко, — соображал Журин. Однако, раздумывать было некогда. Ход плавок диктовал загнанному изнемогающему придатку к печам — человеку — свою свирепую волю и бешеный ритм. Требовалась очередная добавка шихты в расплав.
С тяжелыми двух- и трехпудовыми болванками скрапа и кусками кареженого, рваного металлолома, прижатыми к животу, подходил Журин вплотную к полуторатысячеградусному жару.
— А вдруг, — дрожала под сердцем думка, — в окунающемся куске металлолома притаился лёд?! Тогда взрыв, и спасения нет.
Каждая плавка — бой. Загрузка шихты и шуровка пудовым ломом. Брызжущий шквал непокорного злобствующего металла. Удушающее марево газов из ревущего огненного хаоса.
Бьешься до последнего вздоха, хрипя, задыхаясь, сжимая в горсть последние силы. Кровь кипит и сердце клокочет в горле. В глазах давно тьма и едкий пот, но не отступишь, не сдашься. Чуть прозевал — и запорол плавку, иль хлынет огненная струя металла сквозь футеровку на механизмы, электрокоммутацию, людей. Тогда, если выйдешь живым и людьми не растерзанным — всё равно захлестнет чекистский удав: на промерзших дрогах застучит по ухабам скрюченный обтянутый кожей скелет с биркой на серой промерзшей ступне.
Кончилась загрузка шихты. Держась за стену, чтобы не упасть, измождённый Журин отошел от печи. Стряхнул струйки пота с лица и прильнул к ведру с водой.
Через открытые ворота хлестал морозный ветер из бескрайних ледовитых просторов.
— Хоть бы скорее конец, — дрожало внутри. — Свалиться на койку. Забыться черным сном, чтобы быстрее, незаметнее ползло черное время. И не до баланды с занозистой черной пайкой, не до бурды, заваренной жжёным ячменем, когда сбивает с ног тоска и четкое сознание бессмысленности, безумности незаслуженных мук.
— Льём изделия для шахт, — рассуждал Журин, — а на кой ляд усатому уголь из Заполярья, с края света?! Ведь угля этого в умеренной полосе во множестве мест невпроворот — богатейшие нетронутые бассейны во всех концах страны. Всюду было бы легче и дешевле из-за климата и не отлетала б человеческая жизнь с каждой лопатой добытого угля. Но Звэру не уголь важен, — понимал все острее Журин, — а массовое уничтожение людей неслыханно мучительными способами. Только это нужно царствующему садисту, дикарю, зверюге и всему правящему зверинцу.
— Павианы, — усмехнулся Журин, вспомнив ходкий анекдот, — выдвинулись только потому, что задница голая и красная.
Журин должен был ненавидеть этот анекдот. Из-за него он был причислен к легиону анекдотчиков и водворен в заполярный лагерь на 10 лет. Хуже всего было то, что о павианах и их голых красных задницах Журин не только никому до ареста не рассказывал, но и сам не слышал. Этот анекдот рассказали Журину в этапной тюремной камере уже после того, как ему объявили заочный приговор Особого Совещания…
— Собрались коммунистические звери на совещание под Москвой, — вспоминал Журин. — Стали выбирать профсоюзное начальство — местком.
Белка предложила кандидатуру льва. Звери дружным рёвом поддержали это предложение. Однако, лисица не записала льва в кандидатский список. Партийный секретарь товарищ шакал многозначительно напомнил собранию, что лев — царского происхождения. Белка поспешила, в порядке самокритики, осудить свое предложение.
Тогда выдвинули кандидатуру медведя. По наущению товарища шакала против избрания медведя выступили мартышки.
— Медведь — буржуй, — верещали мартышки. — Сам ходит в шубе, жена — в шубе, дети — в шубах!
В этот момент товарищ шакал подал условный знак вонючке и та заверещала:
— Павиана! Товарища павиана!
— Да здравствует товарищ павиан! — подвывала гиена.
— Ударника коммунистического рукоблудия! Застрельщика бесстыдства! Чемпиона разврата! — талдычили хорьки и шипели змеи.
Товарищ шакал утвердительно кивал многодумной мордой.
— Почему вдруг павиана? — всполошились зайцы и олени, зебры и бобры.
— Павиан сверху всё видит и на всех шакалу доносит, — вздохнул слон.
Сам же товарищ шакал выдвинул иные пропагандные тезисы:
— Павиан — проверенный товарищ, — пояснял шакал. — Все мы равны, но павиан ровнее многих других, хребет у него согнутый, делу партии хищников и учению бронтозавра он верен.
От таких похвал начальства закружилась верноподданная голова павиана. Он выскочил на трибуну и, жестикулируя, гримасничая завизжал:
— Да здравствует хищная партия во главе с самым смелым и мудрым товарищем шакалом! Да здравствует светозарное учение бронтозавра! Вперед к сияющим горизонтам!
— Только меня выбирайте! — кричал павиан бешено жестикулируя руками и ногами. — Я — подлинный люмпенпролетарий! У меня даже задница голая и красная!
В этом месте официальной стенограммы совещания в скобках напечатано: «бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. С мест кричат: «Ура корифею всех наук — шакалу! Слава на века шакалу, мудрейшему из мудрых, затмившему своею мудростью саму мудрость!».
Очевидцы рассказывают, что с этого момента начался великий раскол. Одни стали жаться к льву, а другие, как завороженные, поползли во тьму за шакалом, гремучей змеёй и удавом.
* * *
Подошло время доводки металла в обеих печах. В индукционной печи, где шла плавка марганцовистой стали, сияло на поверхности накаленное шлаковое одеяло, прикрывающее полтонны огнедышащего сплава. В дуговой печи голубые смерчи вольтовых дуг впивались в клокочущую поверхность.
Журин проверил «характер кипа» в дуговой печи, собрался зачерпнуть ложкой пробу, как вдруг, неожиданно засветилось черное нутро индукционной печи и через мгновение между витками токовой спирали, охватывающей футеровку печи снаружи, хлынули струи расплавленной марганцовистой стали.
Вспыхнуло масло, натекшее из системы гидравлического подъема печи. Жидкая сталь расплавила токовую спираль, внутри которой всегда циркулировала охлаждающая вода. Раздался взрыв. Взметнулись огненные брызги. Печь окуталась огнем, дымом и паром. Из приямка вырвалось вверх коптящее багровое пламя. Вспыхнула масляная краска на дверцах пульта.
Ногин, за которым заметил Журин в последние дни необычную осторожность и настороженность, при первых признаках аварии удрал от пульта управления, не выключив тока.
Журин кинулся к пульту и попал в поток огненных брызг. Загорелась промасленная одежда. Несколько, к счастью, мелких брызг впились в щеку и шею. Журин не поддался страху. Выполнил все необходимое, затем взялся за огнетушители.
Вокруг собралась толпа зевак, но только Пивоваров помогал тушить огонь.
— С тебя причитается, Журин, — крикнул сияющий шихтовщик Стёпа. — В огне не сгорел. Такое дело облить полагается.
Журину было не до зубоскальства. Земля под ногами, казалось, кружилась и раскачивалась в тумане. Глаза жёг едкий грязный пот. Начала чувствоваться боль ожогов.
Был конец месяца — дни обычной штурмовщины. Осипшие начальники с красными от бессонницы глазами заплёвывали микрофоны телефонных трубок.
Несмотря на вечерний час, главный инженер Драгилев, начальник цеха Синицын, старший мастер Гребешков были на заводе. Гребешков немедленно вызвал по телефону оперуполномоченного Старинченко, главного инженера Драгилева, главного энергетика и других.
— Я предупреждал, — кричал на ухо оперуполномоченному Гребешков. — Волк всегда в лес смотрит! Это Драгилев либерализм разводит, панибратство, стирание граней. Отсюда и…
Заметив входящего Драгилева, Гребешков осекся, потом, понизив голос, продолжал:
— Известна, ведь, установка партии: будь тверд, упрям, решителен, беспощаден. Ты вожак — так отвечай и командуй, наказывай, а у Драгилева гнилая философия.
Старинченко сочувственно кивал головой.
Гребешков, воодушевленный этим сочувствием, продолжал жаловаться:
— Обязанностей куча, старший лейтенант, а правoв с гулькин нос. Ни уволить, ни премировать. Заработок и тот у иного работяги больше чем у мастера. Сам ведь знаешь, — подмигнул Гребешков, — не хлебом единым жив человек. Надо ж и в свой радиатор залить: двести грамм — много, сто — мало, приходится дважды по сто пятьдесят.
Оба рассмеялись.
В это время Ногин, вылезший, наконец, из раздевалки, жаловался Драгилеву на Журина.
— Не наш это человек, — наступал Ногин. — До него на индукционной печи шло нормально, а он, сука, умней людей ставил себя, в Ломоносовы или лысенки метит — вот печь и запорол. Чесали мы таких инженеров дюжинами. Он, может и грамотей, товарищ главный инженер, но масла в башке нету. Всю дорогу на самом предельном режиме гнал, а плавки запаздывали.
— Почему раньше ничего не сигнализировали? — спросил Драгилев.
Ногин замялся. В голове было пусто. Ответить нечего. Гребешков, инструктировавший Ногина за стаканом водки с хвостом селедки, ответ не подсказал.
— Какая мне польза, Осип Григорьич, — заюлил вдруг Ногин, — если вы будете расстраиваться? Не хотел вас, значит, волновать. Живите, думаю себе, на здоровьичко, сто двадцать лет и пусть вам, как говорят, бог помогает.
— Врёте, Ногин, — отрезал Драгилев и отошел к Журину, продолжавшему плавку на дуговой печи.
— Не хотелось мне с первого дня принимать ваши нововведения, Журин, — крикнул Драгилев, стремясь быть услышанным в шуме работающей дуговой печи. Теперь всыпят в хвост и в гриву, и защитить вас сейчас не сумею — самого клюют.
— Нововведения хороши, — ответил Журин. — Люди не подходящие — не любят нового. Здесь на печи какой-то подвох подстроили. Прошу вас распорядиться, чтобы без меня не разбивали футеровку печи. Хочу посмотреть. Узнать причину.
— Все дело в людях, Журин, — уныло и с болью, как показалось Журину, проговорил Драгилев. — С нашими людьми трудно сварить кашу. Ох, как тяжко. Оподлели. Но я не потерял надежду. Верю, что идеалы партии победят и станет нам всем легче.
Разговор этот прервал оперуполномоченный Старинченко.
— Сдавайте вахту Ногину, — крикнул он Журину. — Через десять минут будьте на проходной!
— Я должен сам разбить футеровку печи, гражданин старший лейтенант, — попросил Журин. — Необходимо выяснить причину аварии.
— Прекратить разговоры! — гаркнул Старинченко. — Вредишь, саботируешь, срываешь и ещё претензии!
Старинченко резко повернулся и пошел к выходу, поскрипывая новыми сапогами.
Через несколько минут за Журиным пришел солдат.
4
— Сколько ж нам возиться с вами, Журин!
Майор Хорунжий всматривался в зрачки Журина горячим оцепеневшим взглядом. Старинченко расхаживал по кабинету.
— Вы поймите, чудак-рыбак, — Старинченко наклонился над сидящим против стола Журиным, невольно загораживая свет, бьющий из рефлектора в лицо Журина. — Мы вам добра желаем, но положение ваше очень тяжелое. Факты против вас. Вот акт комиссии о причине аварии. Вывод: вы вредитель. Надо довесить вам до двадцати пяти лет.
Старинченко берет со стола лист исписанной бумаги, просматривает, жуёт губами, покачивает головой.
Журин разбирает на перевернутом к нему акте:
«Согласен. Начальник цеха Синицын. Дальше текст. Подписи: Гребешков, Даль, Ногин, Шлыков, Данилов.
— Кто этот Данилов? — спросил Журин у Старинченко.
— Комсорг цеха, формовщик, честный человек.
Журин вспоминает заостренную тощую блеклую физиономию комсорга, угреватый нос, сальный подбородок, навек испуганные серенькие глаза и выражение угодливости, растерянной неуверенности во всём облике.
— С перебитым хребтом, — отметил про себя Журин. — А прочие-то каковы?! Подлецы, темнилы! Но зачем это им?
— Каковы все-таки выводы этой комиссии? — спросил Журин. — Какова причина аварии?
— Много будешь знать — рано состаришься, — пренебрежительно бросает Хоружий. — Узнаешь на суде. Мы тебе не защитники.
— У вас есть один выход, Журин, — цедит Старинченко. — Хотите — замнём дело, не получите довесок, вернётесь к семье, станете через пару лет равноправным человеком и можете еще выдвинуться.
Старинченко делает паузу, ждет естественного вопроса: «Что нужно сделать для этого?», но Журин молчит. С сомнением и тревогой всматривается в Старинченко.
— Бросайте, Журин, свою обреченную позу протестанта, сектанта, негативиста, — вкрадчиво втолковывает Старинченко. — Переходите на сторону народа, помогайте родине одолеть бедность, обрести мощь, чтобы не страшны нам были посягательства на наши земли, богатства, недра.
— Я ничего против народа не имею, — отвечает Журин. — Я — обычный человек. Хочу работать, быть полезным родине и семье. Вы всю дорогу из меня заговорщика выдумываете, вредителем рисуете.
— Доказать надо, Журин, — внушает Хоружий. — Москва словам, заверениям, клятвам не верит. Делами надо доказать.
— Какими?
— Помогайте нам, Журин, — дружеским тоном предлагает Старинченко. — Только так докажете свою лояльность. Иной дороги нет. Или с нами до конца, или враг наш тоже до конца. Врагов уничтожаем. Ясно?
— Уточните, — просит Журин.
— Уточню, — соглашается Старинченко. — Вы дружны с Кругляковым, а это отпетый мерзавец — антисоветчик и морально беспринципный тип. Он не церемонился, когда мы спросили его о вас. Он тут нагородил, что и нам не верится. Читайте! Читайте вслух. Майор не читал еще этого протокола.
Старинченко подносит к лицу Журина исписанный бланк протокола допроса:
«Журина знаю, как озверелого антисоветчика», — прочел Журин вслух. — «Он сообщил мне, что намерен серией аварий вывести из строя все оборудование сталеплавильного отделения, в том числе электрические устройства. Журин стремится сколотить в лагере банду для организации восстания, нападения на конвой…».
— Ну что, поняли? — торжествовал Старинченко. Вот его подпись, смотрите. Вы ведь знаете его подпись.
— Это ложь! — вскипел Журин. — Все ложь! Подпись его — ложь! Протокол липовый! Подумайте: какая мне выгода от аварии, какая польза?! Если авария подстроена, а я это подозреваю, то ищите кому это нужно, кому это выгодно. Ни один честный человек не поверит, что я подстроил аварию.
— Не отклоняйтесь от темы, — усмехнулся Старинченко. — Авария аварией, а сейчас речь о Круглякове. Вы не верите нам. Хорошо. Вы знаете, что в прошлом были методы, так сказать, специальные, но теперь иначе. Вы читали в газете, что пытки осуждены. Мы вас не пытаем. Легче всего было дать вам покурить, иль чайку хлебнуть, укол всунуть и подписали б как миленький. Сами знаете — не желторотый.
Старинченко щерит мелкие хищные зубы, смакуя перебирает способы пыток и избиений: «стойка», «подвешивание», «костоправка», «скуловорот», «маникюр», лампа, электроток, «тепловые процедуры».
С каждым словом тон становится все более злобным, ненавидящим. С садистским упоением выкрикивает он все новые названия пыток, пока голос не срывается в истерический визг.
— Палкой по пяткам, в почки, потрох, ливер мать! — захлебывается наконец криком Старинченко. Затем, внезапно вытянувшись в струнку, сжав кулаки, зажмурив глаза и проглотив комок, смолкает.
— Мы иначе сейчас работаем, — продолжает после паузы, спокойнее Старинченко. — Мы, вот, приготовили текст вашего показания. Подпишите, и я рву все эти бумажки об аварии — честное слово офицера.
— Читайте. Читайте вслух, товарищ майор не читал. Я без него тут составил.
Журин читает вслух:
— Знаю Круглякова Николая Денисовича как многолетнего заклятого врага отечества, агента американского капитала, люто ненавидящего наш народ, страну, наш социалистический строй. Это Кругляков подделал в сертификате на стальные балки показатель содержания фосфора, чтобы железнодорожый мост, выполненный из этих балок рухнул под поездом в морозный день. Он сам мне тайком сообщил об этом в бараке 18 апреля 1953-го года…
— А почему именно восемнадцатого апреля? — усмехаясь спросил Журин.
— Число не существенно, — торопливо отозвался Старинченко. — Это частность. Ставьте какое хотите.
— Я это не подпишу, — решительно произнес Журин. — Это ложь. Обычное делосочинительство, а говорите, что переменились, закон уважать стали. Кругляков раньше всех сигнализировал, что металл плох.
— Не горячитесь, — уговаривал Старинченко. — Уверен — подумаете и подпишете. Своя голова дороже. Круглякова песня спета. Мы не можем допустить, чтобы такой махровый, стажированный антисоветчик-рецидивист пользовался льготами, которые вот-вот наступят, вылез на волю. Один его вид людей мутит, раздражает. Всю жизнь стоит на своем, сколько ни ломали. Страна от нас требует того, что мы вам предлагаем.
— Вот что, Журин, — поднялся Хоружий, — хочу все-таки доказать вам, что мы честно поступаем. Докажу вам, кто такой Кругляков.
Хоружий подошел к тумбочке, на которой стоял магнитофон. Щелкнул выключатель, завертелись диски и Журин услышал хорошо знакомый голос — усталый, гибкий, с хрипотцой, рассудительный умный голос Круглякова.
«Журин сообщил мне», — неслось из магнитофона, — «что намерен серией аварий вывести из строя всё оборудование сталеплавильного отделения, в том числе электрические устройства».
Хоружий выключил магнитофон.
— Ну, что теперь скажете, Журин? Не ясно ли, что свет — кабак, а люди — бляди? Становитесь, Журин, в наши ряды. Будете счастливы. Выдадим скоро пропуск, дадим работу в конторе, сократим срок, переведем на статус ссыльного. Привезёте свою жену, сыновей. Будем вместе строить светлое будущее.
— Не может быть, — шептал побелевшими губами Журин. — Боже мой, не может быть.
— Своим ушам не верите? — участливо спросил Старинченко. — Можно еще раз прослушать.
— Нет, нет, пожалуйста, — запротестовал Журин. — Это — как обухом по башке.
— Подписывайте, подписывайте, старина, — похлопывал Журина по спине Старинченко. — Никто об этом не узнает никогда. Агентурные данные никто, кроме нас не увидит никогда. Нам не выгодно вас демаскировать. Будете полезны — можем и через полгода вас освободить, даже через три месяца. Поедете на большой завод и будете изредка встречаться за стаканом чая с товарищем из органов.
Жена ничего знать не будет. Ни одна живая душа не пронюхает. Будьте благоразумны. Мы вам уделяем время только потому, что вы человек настоящий: дельный, толковый, знающий, инициативный. Нам дороги такие люди. Мы боремся за человека, за вас. Сейчас у нас другой подход: «Больше внимания к людям, больше уважения, а не казенщины» — такая установка. Подписывайте, Журин и не крутите головой. Переведем вас на другой лагпункт и все будет в порядке. Договорились?
— Не могу я, — стонал Журин. — Рука не подымается.
Все тело его тряслось. Нога, заложенная на ногу, нелепо вскидывалась. Руки как бы отнялись.
— Не тратьте зря времени, — уговаривал Старинченко. — Не упускайте шанс. Сейчас или никогда. Вверху — или вечно под ногами. Вторично никто вам этого не предложит. Будете считаться злостным, неисправимым преступником.
Журин отрицательно качал головой, в которой все гудело, распадалось, лопалось.
— Я подумаю, — бубнил он, — дайте очную ставку.
— Очную можно, — соглашается Старинченко, — но вся беда в том, что Круглякова забрали в центральный изолятор. Им занимаются крупные работники.
— Пусть подумает в одиночке, — буркнул раздраженный Хоружий.
— Еще минутку, товарищ майор, — попросил Старинченко.
Наклонившись над Журиным, доверительным пеняющим тоном, понизив голос, он уговаривал:
— Чудак-рыбак, — вали на жидов. Для этого их и разводим. Чуть откормятся — и на зарез. Таков прынцып. Завсегда нужон Макар, на которого все шишки валятся. Кругляков твой ожидовел. Всю дорогу с меньшевиками якшается. Какой он теперь русский? Даже жена — дочь меньшевика, а меньшевики — то ж жидовский кагал, талмудисты, прохесора, кляп им в дыхало. Весь подрыв от них. От Бернштейна и до Эйнштейна — все уклонисты — жиды. Всегда пятна на солнце ищут. Всё пересмотреть, перетряхнуть норовят гниды. Вали на Круглякова и дело твое правое, победа будет за нами. Его к ногтю, а сам — пасись. Ясно? Что чудак бельмы вылупил? Добра тебе желаю! Выбрось навоз из головы! Подписывай и не канявкай!
— Довольно уговаривать! — стукнул ладонью по столу Хоружий, — не девка красная. Пробы ставить негде. Разжуй и в рот ему положь! У…у…у! Шкура!
— Знай, Журин, — чеканил Хоружий, — у нас нет срока давности. По любому документу прищучим тебя и через тридцать лет. Не надейся на потепление политической погоды. Скоро рассеется туман и кончится слабинка. Достанем тебя хоть со дна морского и кишки выпустим, если будешь контриком.
— Иди, думай и соглашайся. Мы тебе честь оказываем, а ты, чудак, кобенишься. Все лучшие люди с нами. Только незаметно это, и тебя не будут замечать. Не проворонь свое счастье…
— Мост я вам не подпишу, — выдавил из себя Журин. — Ну, а то, что он антисоветчик — так это все знают.
— Подписывай пока это, — оживился Хоружий, — то, что он антисоветчик.
5
После одиночки Журин очутился в бараке усиленного режима, в малой штрафной зоне. Погнали работать на каменный карьер и там Журин встретил не только Бегуна, Скоробогатова и Солдатова, попавшихся в вещкаптерке вместе с женщиной, но и Домбровского с Джойсом.
— Мы с Домбровским выводим из строя рабсилу, — мрачно шутил Джойс, объясняя Журину причину водворения в штрафную зону. — В двадцать седьмом бараке расстроились желудки. Обвинили нас, будто мы умышленно дали некипяченую воду. Фактически виноват дневальный. Поит людей сырой, грязной водой. Дневальный там Дронов, из сук, темнющая личность. Его не тронут. Ворон ворону глаз не выклюет. Так, кажется, у вас говорят.
— Это не тот ли Дронов, который на пересылке нашим дневальным был? — спросил Журин.
— Тот самый, — подтвердил Домбровский. — Еще подлее стал. Зол на весь мир. Поговаривают, что когда он в побеге был, то своего спутника-сообщника съел. В пристяжку с собой взял человека и зарезал сонного — съел. Тот тип. Вон Речиц его хорошо знает.
— И Речиц тут? — удивился Журин.
— Все тут или были, или сидят, или будут, — отозвался Речиц. Кто не был — тот будет, а кто был — тот не забудет. Злачное место пустым не бывает. Ежели развели болота — значит наплодятся и черти.
Узнав, что разговор был о Дронове, Речиц сказал:
— У каждого в душе любовь и ненависть и так ко всем. Народ свой то любишь, то презираешь и ненавидишь. Родину — то плачешь от песни, то готов ей кадык откусить. Поэтому в один момент можно разжечь в человеке зло и вовлечь в предатели, разрушители, а в другой момент разбудить любовь и сделать защитником, патриотом, героем. Единство противоположностей всегда в душе человека, единство борющихся противоположностей.
Другой раз как на сердце тише, — продолжал Речиц, — кинешь глазом вокруг и подумаешь: уж лучше свои гады, чем чужие. Пусть лучше чекисты погоняют, чем гестаповцы. Из двух зол выбирают меньшее. Случись сейчас бой, я бы, пожалуй, за Россию стоял.
— Много с вас толку, — зло возразил Джойс.
— Вас, Журин, тоже в стукачи вербовали? — спросил Бегун, стремясь переменить тему разговора, дабы предупредить нервную вспышку Речица.
— Вас тоже? — заинтересовался Журин.
— Всех до одного, — подтвердил Домбровский. — Каждого шантажировали, запугивали, уговаривали. Только подпиши им раз — и навек схвачен. Веревки вить будут. Что угодно будешь потом подписывать и защищать их, ибо одним миром с ними мазан, стукач; один с ними страх. Нас сюда сунули, а Кругликова, пока вас в одиночке мурыжили, куда-то с глаз угнали.
— В центральный изолятор, — выдохнул Журин.
— Его съесть хотят, — мрачно буркнул Скоробогатов. — «Если враг не сдается, его уничтожают», — процитировал мне Горького опер Хоружий. В броне цитат как улитки. На каждый случай жизни у них строка подобрана. Губошлёпов всех времен присвоили, для своих нужд приспособили, под свой горшок постригли.
После окрика бригадира разошлись по забоям колотить десятикилограммовыми кувалдами по клиньям, вбиваемым в трещины известковой скалы.
Журин работал в паре с Бегуном.
— Что приуныл, Сергей Михайлович? — спросил Бегун.
— Покоя не дают думки о Круглякове. Проиграли мне на магнитофоне показания Круглякова против меня, что вредитель я, аварию подстроил и другие подготавливал.
— Тут подвох какой-то, — вымолвил Бегун. — Кругляков не мог это сказать.
— Сам слышал, своими ушами. Все в башке помутилось как услышал.
— А я сам видел, понимаешь, Журин, сам видел фотографии. Следователь в Москве показал. Лежит это моя любимая под низом. Сверху чей-то мужской затылок и голова с оттопыренными ушами. По шею прикрыты одеялом. Моя-то глаза закатила, рот приоткрыла и, томится, доходит. Я было, тоже голову потерял, поверил.
— Разуй глаза, гад, — кричал мне следователь, — смотри, любуйся — твоя святая. Все они святые, пока мужик за холку держит, деньги несет, зад лижет. Продала она тебя с бутором, твоя святая, со всем твоим нутром контрика.
Приуныл я тогда, Журин. Все стало безразлично. Перетрясло. На ногах несколько суток устоять не мог. Валился плашмя так, что даже коридорные попки не трогали, хоть и запрещено было днем лежать.
Много позже подсказали мне люди, надоумили, что это обычный фотомонтаж. Пристроили головку моей хорошей в чужую постель. Так что и вам могли монтаж подсунуть. Например, заставили Круглякова вслух прочитать по шпаргалке показания против вас и голос записали на ленту.
Журин вспомнил, что он читал вслух подготовленную операми «липу» против Круглякова.
— Ты ведь знаешь, Журин, их основную цель, — продолжал Бегун. — Каждого стараются они сделать стукачем и, значит, ответственным за их черные дела. Один из главных способов вербовки стукачей — шантаж. В этом причина нашего ареста в вещкаптерке и, вероятно, твоего ареста, Журин.
Бегун заметил, как еще более бледным стало осунувшееся землистое лицо Журина. Неожиданно, вопреки обыкновения, Журин длинно выругался.
— Что с тобой? — встревожился Бегун.
— А то, что век живи, век учись и дураком подохнешь. Все это не ново, а на деле мы неопытные кролики — видим, что перед нами удав и как загипнотизированные ползем в его пасть.
Ни слова не произнес больше Журин до конца дня.
Машинально бил молотом по клину. Бил неточно, нервно, задыхаясь.
Перед концом работы осколок камня впился ему в глаз. На закопченном глазном белке показалась кровь. Бригадир соблаговолил отпустить Журина к врачу. В малую зону Журин не вернулся.
6
Приближалось полярное лето. В ночные часы давно уже не видны были звезды, но сугробы упорно держались в затененных местах. Нередко бирюзу и многоцветье небосклона занавешивали торопливые тяжелые тучи и налетала шальная пурга, захлестывая крупными хлопьями снега нежные клейкие лепестки былинок, набухшие почки карликовых берез и торопящиеся жить подснежники.
Тот, кто не жил годами в плотном удушающем зловонье лагерных бараков и землянок, где, как говорят, топор в воздухе вешай — не упадет, тот не поймет никогда наслаждения от обыкновенного прохладного весеннего ветерка, насыщенного едва уловимыми запахами просыпающихся просторов.
Журин пристрастился в эти дни уединяться за бараком на завалинке, откуда часами всматривался в прозрачную даль, врачующую изболевшее сердце.
Здесь его нашли Пивоваров с Хатанзейским.
— Сергей Михайлович, освобождают меня по амнистии, — доложил Хатанзейский. — Пришел попрощаться, посидеть рядом с вами последний час.
Журин молчал. Печальными пустыми глазами смотрел на Хатанзейского и чувствовал, как под щекочущими струйками ветерка выступают слезы.
— Что с вами, дорогой Сергей Михайлович! — тормошил Журина Хатанзейский, с тревогой всматриваясь в осунувшееся пожелтевшее, поблекшее лицо друга.
— Ничего, ничего, — очнулся Журин. — Устал немного, не беспокойся. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А ты как, в Россию подашься, иль к своим, в тундру? Учиться бы тебе надо, Петя. Знания — единственное, что гады отнять не могут, а учеба там — в Расее.
— Что вы, Сергей Михайлович? Как это можно в Россию! Это же все равно, что к черту на рога и смерти в зубы. Там только подлецы преуспевают. Всё там — мерзость против человека, народа и творить эту мерзость только прожженные подлецы способны. С моим характером туда — как мотыльку в огонь.
— Параши гудят, что меняется в Москве кое-что, — вымолвил Журин.
— Не надеюсь, — пожал плечами Хатанзейский. — Посмотрим. Если они снимут и загонят сюда миллионы маленьких Сталинов, тогда поверю, что меняется. Если же кадры упырей, делосочинителей, подлецов, душегубов, сосателей, подгонял, людоедов, их подсобников и подлиз останутся на своих местах, то ничего по существу не изменится, не может измениться. Бешеный пес не может переродиться в голубку, «Черного кобеля не отмоешь до бела», Жизнь — не сказка.
— И все-таки, хоть и еле заметно, а изменились чекисты, — вставил Пивоваров. — Душок из них вроде испарился, в глаза смотрят, бить перестали. Косого надзиралу, знаменитого избивателя куда-то перевели.
— Змея даже в прямой трубе извивается, — возразил Хатанзейский. — Сейчас у них главное — реабилитировать как-то большевизм перед миром. Вот и извиваются. Змея останется змеей, пока голова не раздавлена вдребезги. Сталин, как и Пугачев, окружил себя уголовниками, пропойцами, ибо сам был люмпен, налетчик. Он до революции банки грабил. В молодости кормился бандитизмом. Земляк его мне тут рассказывал:
— Сосо, — говорит, — это наш грузинский бандит-подонок, а у вас — он — царь. Лучшего, — говорит, — вы и не достойны, серяки, иметь. Испокон веков варяг звали. Всех вас, душа любезный надо этим… как это называется, что между пупом и коленом болтается… хунжалом, хунжалом резать.
— Ну, а в тундре, думаешь, легче будет? — спросил Журин и не дожидаясь ответа продолжал: — местное население заинтересовано в наличии лагерей. Кормятся при лагерях. Работают на привилегированных должностях и поэтому власть поддерживают. Завмагами, чиновниками в сотнях контор, на почте, надзирателями работают. Всюду, где не дует, не метет и комар не заедает, сидят и кормятся на нашем труде. Местные срослись с паразитической верхушкой, поэтому враждебны нам. Мы теперь для них — олени и дичь. Нас едят. Нашими жилами сшивают свои малицы, торбасы, пимы.
— Сергей Михайлович! Не узнаю. Разве можно всех в одну кучу валить, одним словом целый народ характеризовать?! — воскликнул Хатанзейский. — Есть и такие, о которых вы говорите, и много. Но есть и такие, что кочуют все дальше на восток, надеясь в Аляску пробиться. Ясно? Многим это удалось, а многих пограничники пришили, но всё-таки впереди светится огонек надежды. Всё поняли? Так бросим об этом.
Журин и Пивоваров пошли провожать Хатанзейского. Подойдя к бараку, в котором Хатанзейский жил, услышали одинокую печальную песню.
— Кто поет? — насторожился Пивоваров. — Что-то знаком мне этот дребезжащий голосок.
— Это пацан, — ответил Хатанзейский. — В апреле по амнистии выскочил, а двадцать третьего мая опять здесь объявился. Было у него сначала двадцать лет. Пришло объявление ему, что скостили по пересмотру пятнадцать и выгнали его по амнистии. На воле не успел покуралесить, как всех их похватали и без волокиты да дела сюда обратно. Испугалась Москва амнистированных. Затряслась, как увидела до чего людей довела. Резали они и друг друга и встречных и мильтонов, прокуроров, комсомольцев, доносчиков. Страху нагнали.
— Ручаюсь, это «Щипач» поет, — воскликнул Пивоваров. — Узнаю его альт.
Мы хлебные пайки несли для людей, Мешок тот гуртом охраняли. Нежданно накинулась банда чертей И кровные пайки отняли. В бою за те же пайки мне выбили глаз, А коришу рот разорвали. Свои мужики излупили все ж нас За хлеб, что шакалы отняли.— Это «Щипач», дорогуша! — ликовал Пивоваров. — «Щипач» рваный, битый, воскресший. Постоим, послушаем, друзья. Когда зайдём — разговоры пойдут, бросит он петь.
Свободно, не напрягаясь, пел будто плакал «Щипач»:
Под нары заполз я, а друг не успел — Под ноги попал он ватаге. Всю ночь, после этого, кашлял, хрипел, А утром помер бедолага. Погиб за черняшку, за лагерный хлеб, От буйства бригады голодной. Так пусть же чекисты все держат ответ За зверства в той тундре холодной!И, как раньше в вагоне, «Щипач» неожиданно сменил мотив и песню:
Стаканчики граненые Упали со стола. Упали и разбилися. Разбилась жизнь моя.Опять, как тогда в вагоне, хриплые, нечленораздельные отчаянные выкрики выплеснулись, заметались, взвились. Слышно было, как стучат в исступлении маленькие ножки «Щипача» и колотит он ладошками худенькие смуглые свои бока под вой и рёв, истерические выкрики, кликушеский визг окружающих.
— Зайдем! — не выдержал Пивоваров.
7
— Спрашиваете, как жисть, — усмехнулся Щипач, — жисть собачья, склещиться не дают. Мотался я на воле обыкновенно. Сначала на пересылке белобрысую докторшу употребили хором. Она, сучка, много людей в шахту загнала. Пришли, вроде на прием и оформили без гвалту.
В поезде раньше всего пришили фельдшера Александрова — суку, того, что мазки у девчат промеж ног брал. Пришили аккуратно и на ходу выбросили.
Мильтона одного переодетого — тоже на ходу под колёса сунули — самоубийца, мол. Совесть заговорила.
Разыграли пару начальничьих дочек — под трамвай пустили. Все тихо, благородно. В нашем составе сук не было, так что без резни обошлось. Маленько удавов пошебуршили — из придурков, писарей, охмурял, дармоедов. Благодарны остались, что выборочно изымали, не всё подряд. Одного, правда, красюка кочегары употребили, но тут уж пусть начальство ответ держит. Держут всю дорогу без баб — развелись кочегары.
Котлас двое суток наш был. Придурки попрятались, космоглоты поразбежались, у замутнёных зуб на зуб не попадал. Как подкинули садистов, так мы на поезд и лататы.
Я попёр в Молотов. Там мне нахально срок всучили. Со мной кирюх из воробратии компания. У всех на душе волки воют. Только один безрукий завязать надумал, на село подался.
— В деревне, — говорит, — след мужицкий сгинул. Со своей культей без работы промеж баб прокантуюсь. Всех ублаготворю. Дело проверенное.
— В Молотове на городского прокурора зуб горел и у других кирюх. Известная стерва. Мурло нажратое с бородавками. Пасть зычная. Рот шире ворот. Хрюкал на судах, аж пена клочьями. Любого, бывало, падла, зашьёт, обхимичит сквалыга: охмуряловку разведёт, сосатель, чернуху рассупонит, глядишь — зашил, угрохал человечка. Судил, падла, за растащиловку и приписаловку, опоздание на работу — за всё.
Подстерегли вечерком. В берлогу топал. Взяли на цугундер падлу. Свернули курдюпку. Здоров был боров. Плечи из бетона, насосался крови. Шпынять ножом уговору не было. Лёгкой смерти не заслужил. Поварзокались с пиратом до рассвета. Назавтра жена опознать не могла. Натешились. Кожаную перчатку так в хайло удаву запхали, что врачам вырезать пришлось через кадык. Заслужил, погань. У меня аж от души отлегло малость. В гудок ему, еще живому, кол впёрли.
С того дня — вечером ни один шакал, ни один доносила из подворотни не вылезал, а прочие, не повинные люди, не дрейфили. Знали, кого потрошим и за что.
Потом похватали. Переодетая погань скопом набрасывалась и, не спрашивая — в ящик. Оттуда срочно в мантульные места.
Сдрейфили они здорово. И не злость, как прежде в гляделках ихних, а страх, трясучка. Сами, гадюки, намастырили тигров, сами своим мясом и кормить нас будут.
Я с кирюхами гулял по-божески. Мы люди собрались смирные, а в других местах, в том числе и в Москве, хлопцы дали жизни да копоти. Зайдут в вагон и каждому пятому нож в дыхало. Работнут вагон и никто не пикнет — как заколдованные. Знают: виноваты кругом. На нашей крови державу смастырили. Нашей кровью сыты.
Еще одно любопытное дело, — продолжал «Щипач». — Теперь поботаешь по-фене, по-блатному значит, в присутственном месте, так все тебя понимают. Сначала удивился, а потом понял: жись-то вся заблатнёная. Все воруют, мантулят и по-фене трёкают.
Рядом со «Щипачем» сидел на верхней койке пожилой человек с бессмысленными черными глазами и фюрерской кисточкой под нависающим хрящеватым носом. Он обстоятельно ковырял рукой между пальцами ног и, поднося время от времени руку к носу, с наслаждением вдыхал едкую вонь.
— Слышь, онанисты, — обратился он к Журину и Пивоварову. — Что-то душок у вас, у мусоров, в натуре появился. Хвост стали задирать, блин буду. Вчера подхожу к генацвали. Посылку он, гад, отхватил. Говорю:
— Киш-миш, душа лубезны, выкладывай, а с прочим бутором канай. Он, халява, как заблажит! В грудь кулаком колотит, прыгает, пыжится.
— Я, — кричит, — молодой был, как звер был, — кидается, пенится.
Пришлось фиской по гляделкам полоснуть и заначить весь сидор. Раньше такого безобразия не было. Была сознательная дисциплина. Распустились!
Вы, там, фраера, предупредите труху свою: мозгляков, очкастиков, манипулянтов, затрух. Мы заинтересованы в мирном сосуществовании с фраерами. Мы за полное разоружение фраеров и за контроль над этим.
Мы «миролюбивые» люди. Нужно отрезать языки мусорам, которые войну поджигают между нами. Мы ведь сильные и всегда вас накроем. Нужно нормализировать отношения, кончать с холодной войной.
Мы — поддерживаем нейтральных. Мы — за дружбу. Ваше дело работать, помалкивать, платить нам налог. Не совать нос на пищеблок, в каптерки. Сколько вам чего положено — мы даем. В полном коммунизме, подлюки, живете. К чему же тут напряженность! Нужно крепить сознательность, бдительность. Мы заинтересованы в трудовом подъёме фраеров.
Так и передайте своим придуркам, чтобы нос держали по ветру. Победа всегда будет за нами. Подниметесь, и мы вас уничтожим как класс на базе сплошной резекции. Ясно?
Это Ленин им дорожку указал. Это Сталин нас с котомочкой послал. Эта партия к погибели ведет. Все, что есть у человека, — отберет.Напевал вполголоса «Щипач», перебирая струны гитары.
Нет у нас теперь ни жёнок, ни сынов, И лишили нас всех жизненных основ. Это Ленин им дорожку указал. Это Сталин нас с котомочкой погнал. В коммунизм эта партия ведет. Всё, что есть у человека, — отберет.— Жиган, не казни мужиков — обратился Щипач к соседу. — Это — фраера чистой воды. Они с чертями не связаны. У них померки своими думками забиты: политика, высшая грамота, мировые проблемы, космический размах.
Я не пел вам раньше: «воровать завяжу я на время, чтоб с тобою, милашка, пожить?» — обратился Щипач к Журину и Пивоварову. А вот эту вы наверняка не слышали:
Проклятый начальник первого отдела Палкою по пяткам колотил. Пришивал, терзатель, мне чужое дело. Злился, что не всех еще на свете загубил.Долго, с надрывом и болью пел «Щипач». Пел лагерные песни и грустные народные, оплакивающие горькую долю-неволю в мире жестоких людей.
По трассе, что мы здесь проложим, Сквозь горы, тундры, вглубь страны, Под каждой шпалою положат Одну, а то и две души. Пройду ли путь бесправных пешек Сквозь холод, голод, ураган, Или свалюсь между путейских вешек И там засыпет северный буран?Отложив гитару, «Щипач» выпрямился, закинул назад руки, и проникновенно, звенящим мальчишеским своим голосом продекламировал:
Хвататели, пытатели, грабители кремлёвские, Придет пора, обрушатся на вас дворцы московские, Каналы, шахты, фабрики, рабами возведённые, И ненависть безмерная в сердцах людских взращённая.«Щипач» кинулся к железной бочке, служившей печью; схватив две лучинки, он забарабанил в такт своим ритмичным строкам:
И хоть вы ловко прячетесь За щит чужой теории, Вас не спасёт ничто: Ни хитрая маневренность, Ни подлая уверенность, Что хватит дураков. Давно мы раскусили вас, Зато и ловите сейчас Заморских болванов…— Закругляй, «Щипач», — рыкнул Жиган, — не впадай в раж.
Глава восьмая. Протуберанцы душ
1
Труп «Бендеры» нашли в сортирном котловане. Когда весенние ручьи вызвали разлив зловонной жижи, затопившей подступы к уборной, приехали ассенизаторы с бочкой и заметили всплывший, разбухший омерзительный труп.
Исчез «Бендера» недели две тому назад. Начальство объявило, что он в побеге. После обнаружения трупа «Бендеры» двое стариков, пиливших дрова для солдатской кухни узнали, что солдат, дежуривший на вышке, слышал в одну из ночей донесшийся из этой уборной короткий жуткий крик. Через несколько минут он заметил двух людей, покинувших уборную и быстро пропавших в туманной мгле.
Писаренко шептал, в связи с этим происшествием, Пивоварову:
— Люди балакають, що за стукачество пришили «Бендеру». У людей на все одна балачка, а я знаю другое. Недавно на лагпункт прибыли двое блатных. Я бачил неожиданное спотканье цих двух с «Бендерой». «Бендера» оторопел, воздуху ему вдруг стало мало. Часа два трясло его писля их ухода. И ци двое, хоть и храбрилысь, но видно було, що перетрусили. Ясно: какая-то тайна була между цими людьми. Я догадываюсь какая. Булы воны вместе в каком-то зверском деле у фрицев и сумели скрыть свои преступления. Те двое — в блатных перелицовались. «Бендера» — мужиком хлябал. Ясно, что «блатным» мешал жить свидетель их прошлого и воны его подкараулилы ночью в уборной. Цей «Бендера» был молодец против овец, а против молодца — сам овца. Тильки ни одного звука никому, — просил Писаренко, — иначе затаскають оперы и головы нам не сносить.
Смерть «Бендеры» угнетающе подействовала на самочувствие Журина. Несколько дней он от еды отказывался. Мутило.
— Что с вами, Сергей Михайлович? — беспокоился Пивоваров. — Неужели глаза «Бендеры» так на вас подействовали?
— Да, глаза, — признался Журин. — Они показались мне глазами нашего оподленного поколения. В них почудился мне приговор всем развращенным, падшим советским поколениям.
— Опять вы обобщаете, — упрекнул Пивоваров. — Я всегда против огульных оценок, против уравнительных характеристик целых поколений, наций, рас, классов. Это метод рассуждения нацистов, расистов, большевиков — стричь всех под одну гребенку.
— Так, так, Юрий, — поддакивал Журин, — в твоём возрасте и мы любили людей, народ, родину, а знаешь ли ты, что если к тебе всю жизнь применяют подлость, беспощадность, держат в голоде, нищете, то честным оставаться невозможно. Проглотят походя.
Смотри правде в глаза, — убеждал Журин. — Кто у нас в стране задает тон? — Миллионы паразитов, подлецов, «Жиганы» большевизма и их оподлевшая челядь. Люди не дорвавшиеся до начальничьей кормушки вынуждены заниматься растащиловкой, охмуряловкой, «химичить туфту», «зашибать калым», «гоняться за леваком», дабы «барашка в бумажке заначить». «С волками жить — по волчьи выть». «Попал в вороны — горлань как они», иначе укоротят на голову. Народ арестантов, вдов и сирот, беспризорных и безнадзорных — наш закрепощенный, обездоленный, запытанный, обворованный народ не живет, а агонизирует, вырождается в нечто расчеловеченное, страшное.
— Сергей Михайлович, — взывал Пивоваров, — посмотрите кругом: сколько чудесных людей! Разве Бегун и Домбровский, Ярви и Кругляков тоже подлецы? А Шубин, Хатанзейский, Скоробогатов, вы — Сергей Михайлович?
Пивоваров заметил как съёжился и поник Журин. Будто что-то оборвалось у него внутри и иссяк задор. Наконец, посиневшими губами Журин выжал из себя:
— Мне проиграли ленту с показаниями Круглякова против меня и я в ответ дал показания против Круглякова. Видишь: всех нас замутили.
Пивоваров вспомнил, что со времени пребывания Журина в штрафной зоне, какая-то едва различимая тень легла между Журиным и Бегуном с Домбровским. Они разговаривали, но только о пустяках, избегая смотреть друг другу в глаза.
На миг сомнения и опасения охватили Пивоварова. Он смутился, опустил глаза, будто стыдясь за Журина.
Журин почувствовал, что остался один на ветру бед, один на один с подстерегающим последним злом.
— Пойми, Юра, — умолял Журин, — хоть ты один пойми. Ты честный и ты должен быть мудрым. В тебе, в твоём поколении надежда России и мира, тебе, вам передаем эстафету мы — изнасилованные, оподлённые, падшие поколения. Пойми: гады коварно, гнусно, дьявольски ловко обманули меня. Откуда мне знать все их уловки? Они сорок лет учатся подлостям у всех подлецов мира. А мне откуда знать их подвохи? Это их специальность, и я никогда в жизни из отвращения к ним не вдумывался в их тактику, методы, приёмы.
Пивоваров смотрел в пожелтевшее, постаревшее, осунувшееся на его глазах за последние несколько месяцев лицо, на горестные морщинки, поблекшие, исстрадавшиеся глаза, и жалость, бесконечная жалость до слез охватила его.
— Сергей Михайлович, дорогой мой, — шептал Пивоваров. — Никто ведь не знает ничего. Все вам верят, понимают, сочувствуют. Кругляков узнает — поймёт, простит. Он, ведь, умница — как и вы. Уверен, он уже давно понял, что вы ни при чем. Его обмануть труднее. Он всю жизнь в борьбе.
— Пусть он простит, — шептал Журин. — Пусть все поймут и простят, зато я себе не прощу никогда, никогда, пока жив. Гады думают, что на крючке я у них, а я им покажу, как глубоко они ошибаются. Я всем это докажу.
2
Перед обедом в зону впустили небольшой этап со стройки № 501. Это были строители железнодорожной магистрали Воркута — Салехард — Дудинка.
Бросив свои пожитки-лохмотья в бараке, путейцы устремились к хлеборезке, надеясь получить причитающуюся пайку. Здесь, возле столовой, новичков обступили старожилы.
Скоро выяснилось, что путейцы прошли страшный мученический путь. Голод, резня, произвол сук и начальства, невыносимые смертные условия в палатках и землянках, убивающий труд в стужи заполярных зим был уделом этих нормальных когда-то людей — плотников и счетоводов, кузнецов и учителей.
Выдача хлеба задерживалась. Заведующий хлеборезкой — один из тузов местной воровской аристократии, член секты «беспредельников» — пошел к счетоводу продстола выяснять, положено ли выдать хлеб прибывшим.
Журин и Пивоваров всматривались в загоревших до черна, худых заросших людей, с огоньками спрятанного безумия в глазах.
Среди путейцев Речиц узнал своего давнего знакомого по воле. С гордостью представил он Журину и Пивоварову маленького черненького невзрачного человечка с желтыми пронзительными глазами, морщинистым бледным лбом и рыжей порослью щек, контрастирующей с черной шевелюрой.
— Лучшего расчетчика пропеллеров мир не знает, — отрекомендовал его Речиц. — Это Михаил Ильич Бочан, сотрудник ЦАГИ. В десятилетке были мы конкурентами по математике и физике.
— Как живется — можется? — спрашивал Речиц. Какими теориями сердце гложется?
— Не до теорий, — проскрипел в ответ Бочан, — шум.
Он приложил к виску маленькую руку и пояснил:
— Шум в башке. Гипертония второй год. После резни в бараке. Началось с украденной пайки, кончилось сорока шестью трупами. Я под тремя покойниками спасся. Весь кровищей пропитался, ногу вывихнул, но жив. С тех пор шум в башке, будто издалека рев всех на свете пропеллеров врывается под черепок. Трудно. Люди осатанели, оподлели. Живем в эру оглупленных «измами» движений, в эру массовых заблуждений и безумств.
Журин незаметно ткнул Пивоварова в бок.
— Да, да, это же говорит и Сергей Михайлович. — выпалил Пивоваров. — Эра массовых глупостей… Преследования за классовую и национальную принадлежность. Разве это не безумие? Массы, одурманенные демагогами… Массы, ведущие себя не по-людски… Оглупленное мутное сознание. Нецивилизованные, чуть ли не дикарские дела. Век массового атавизма, озверения…
— Говорят, Звэр виноват, — продолжал Бочан, — а по-моему это упрощенчество. Если бы вся советская атмосфера десятилетиями не отравлялась призывами к ненависти, грабежам, убийствам, насилиям — то никакой Сталин не смог бы втравить миллионы людей в массовую подлость против других миллионов людей. Вся система, противочеловеческий строй повинны в подлости десятилетий. Система вызвала массовую психическую травму. Мы — больные поколения. Изнасилованные поколения… оподлевшие поколения. Мы — темный полусумасшедший многомиллионный сброд, воспаленный ненавистью…
— Вкусно! — не удержался от восклицания Журин, — и это голос с другого конца земли.
— Очень долго считал я, — продолжал ободренный сочувствием собеседников Бочан, — что разговоры о жизни, как о борьбе всех со всеми это — преувеличение и вульгарность. До сидки состоял я в тихой должности. Никому не мешал. В книги со всего света по уши зарылся. Не то, чтобы худое делал, а неласкового слова никому не сказал. Оказалось, однако, что если во время не огрызнуться, не вцепиться в подвернувшийся бок, не тиснуть своевременно доносик иль иную пакость не учинить, то — пропал, съедят походя, для точки зубов. Дабы за понюшку табаку протеже иль давалку на твоё место пристроить.
Так и живи постоянно начеку, вникай в шаги потенциальных и явных врагов и, все равно, не уследишь. Слопают. Чем больше человек в работу, в науку, в творчество вникает, тем беззащитнее он, тем скорее загрызут. Такой не чует охотников, как токующий глухарь.
— Не лишнее ли мы болтаем, — предупредил Журин, беспокойно озираясь вокруг. — Мы в начале срока тоже были общительные, говорливые. После одиночек и потрясений хотелось высказать, что накипело, что болело, будоражило. Теперь иначе. Нам обломали рога, подрезали языки, законопатили души.
— А я прошел сквозь это, — отозвался Бочан, — страхом страх попрал. Я готов умереть, не жалея ни о чем. Всё в душе сгорело. Ни к чему не влечет. Тянешь лямку по инерции — и это всё. Красные термиты-подлецы гложут мозг, сводят с ума.
— Держитесь, Бочан, — подбадривал Пивоваров, — одна пчела лучше роя мух. Такие как вы — богатство народа. Мы живем на рубеже эр, на стыке цивилизаций, в годы, когда из вякающего уродца, зачатого в бурях войн и революций, начинает выглядывать облик грядущего.
— Не коммунисты ли, по-вашему, водители в грядущее счастье для всех? — Насторожился Бочан.
— Ну, что вы! — воскликнул Пивоваров. — Думаю, что никто, кроме кодла в Кремле, не считает коммунистов достойными вести человечество в будущее. Даже в народных демократиях, пересиливая страх, ратуют за свой путь. Сейчас в нашей стране новая общественная формация — ультраимпериализм партократии, диктатура профессиональных уголовников, разгул великодержавного шовинизма озверелых держиморд. Это — козырь в руках смерти — факельщики атомного побоища…
— Ай да, сынок! — воскликнул искренно восхищенный Речиц.
— Да, просветили парня, смотрит в корень; этого не ссучат, не замутят.
Этапника, произнесшего эти слова, Пивоваров прежде не замечал. Да и можно ли было отличить его от других? В чунях и выцветшем тряпье, изможденные, перегоревшие казались эти люди одинаковыми как китайцы для впервые увидевшего их европейца.
Бочан представил незнакомца. С деланной, но не насмешливой торжественностью сказал: «Имею честь: Петр Борисович Славин. Генетик. За морганизм-менделизм, против Лысенко — 25 лет. Яснейшая голова. Доцент и кандидат. Из Ленинграда.
С любопытством и сочувствием все смотрели на темное, высохшее, как бы опалённое лицо невысокого сутулого человека с русой порослью щек и выцветшими светлыми печально-строгими глазами.
Славин почувствовал, что должен что-либо сказать, присоединиться к общему греху крамольного разговора, приобщиться к общей опасной ответственности.
— Молодой человек (кивок в сторону Пивоварова) сказал сейчас, что на верхотуре страны — шпана, профессиональные мучители с врожденными преступными наклонностями. Это очень меткое замечание. Это свежая и глубокая мысль.
Вздохнув, продолжал:
— Вспомните лица вождей и их подручных. Соберите их фотографии; сколько угодно фотографий. Разложите перед собой. Всмотритесь. Ведь это рожи бандюг. Им бы только в кино — на роли маникальных убийц, садистов, истязателей, вурдалаков. Представьте себе их в кино… И это не случайность. Всех этих шишкомотов в центре и на местах десятки лет тщательно отбирали и отбирают. Решающим для выбора, для возвышения, для попадания в касту правящих было и есть одно: врожденная предрасположенность к злодейству и соответствующая житейская практика.
— Давай, давай Петя! — оживленно подзадоривал Славина Бочан. — Крой генетикой! Ложи сосов на лопатки! Бодай их хромосомой!
— Скажу и с точки зрения генетики, — продолжал Славин, — потому, что Вы, как и почти все в стране, не могли об этом прочесть. В очень узком кругу это поняли и одних за это сразу укоротили, а других — с проволочкой.
Так вот, генетика доказала, что преступные склонности — факт, а не выдумка. Уголовная психика — следствие генетических дефектов. Таких людей можно отобрать из массы. Они охотно становятся кровопийцами, пытателями, начальниками-произволыциками. К примеру — Сталин. Я убежден, что у него аномальный состав хромосом и, как следствие, генетически-запрограммированная жажда злодейств. Они, гады, чуют, что генетика срывает с них маску и поэтому так лютуют, так корчуют генетиков…
— Петр Борисович, — попросил Бочан, — распахни-ка перед нами несмышленышами крылья, копни поглубже. Расскажи о нутре руководящих; ну хотя бы то расскажи, что говорил мне в палатке на Сивой маске и в котловане за Салехардом.
— О руководящих… Ну, хорошо. Но еще и о творцах, о новаторах.
Лицо Славина стало ещё строже. Кожа, обтягивающая скулы — еще темнее, а белесый взгляд пристальнее, требовательнее.
— Руководящая и, тем более, творческая работы требуют высокого интеллекта. Необходимо, чтобы был хорошо развит тот нейронный слой, который ведает анализом, обобщениями, абстрактным мышлением, а также самый верхний слой, ведающий глубоким проникновением в неизвестное; — это также слой творчества, воображения, фантазии, новаторства, особо высокой степени осознания интуитивных процессов…
— Петя, попроще, — попросил Бочан. — Ты всегда будто ученый диспут ведешь, инквизиторов изобличаешь.
Вряд ли воспринял Славин эти слова. Он продолжал:
— Часто люди высокоорганизованного интеллекта не идут на руководящую работу; еще чаще их не допускают к ней. Руководящими, особенно в бюрократической системе, чаще всего становятся посредственности.
— Силён Петя, — восхищался Бочан.
Славин продолжал:
— Такие люди понимают, или интуитивно ощущают свою относительную неполноценность, несоответствие уровню обязанностей и поэтому для укрепления своего служебного положения они подлизываются к власть имущим, дают взятки, организуют угощения и развлечения для начальства. Создавая обстановку кумовства и круговой поруки, такие люди снижают уровень работы, отрицательно влияют на подбор сотрудников. Это такие, по сути дела, полуинтеллигентные люди, становятся антиинтеллектуалистами, антисемитами; это они заполняют трудовые будни сплетнями, доносами, склоками, подсиживанием, клеветой, стремясь, таким образом, унизить, оговорить, подавить, вытеснить талантливых работников.
Руководители такого типа при возможности прибегают к наиболее простым методам руководства — к голому администрированию, к подавлению инициативы подчиненных, а в условиях бесконтрольной власти — к вождизму, в том числе нацистского типа, к тирании, терроризму, направленному против соперников и людей с более совершенной интеллектуальной структурой. Всё это усугубляется, если человек такого типа страдает болезненными расстройствами психики.
— Как например, Ёська — «Звэр», — вставил Бочан.
— Да, подобными людьми были Сталин и Гитлер; большинство их идейных сторонников и последователей любого ранга принадлежит к этому же интеллектуальному типу.
На крыльце хлеборезки появился её зав; он зычно крикнул:
— Мужики! Никакого хлеба! По аттестату вы и на завтра получили, так что нечего наводить тень на плетень! Нас не обхимичишь! Без хлеба меньше дрочить будете! Разойдись!
Путейцы зароптали:
— Охмуряловка везде! — выкрикивали в толпе. — Кровь выпили, гады!
— Без хлеба отсюда не уйдем!
— Зови начальников!
— Гони хлеб, гнида, педераст, сосатель, сексот!
— Не даром опера вы кумом зовете! Конечно, кумовья! Та не кума, что под кумом не была!
Зав хлеборезкой шепнул что-то белобрысому мальчишке-помощнику и тот юркнул в сторону барака воров «беспредельников».
— Вы-то сами сыты, пьяны, нос в табаке и с мальчишками спите! — выкрикивал Речиц.
— Все лучше, чем с Машкой Ладошкиной, — огрызнулся зав хлеборезкой. — У вас все мозги клацают, как в пересохшем орехе.
Из блатного барака неслись «тигры», «сявки», трутни-«машки», поднятые по боевой тревоге, застегивая на ходу ремни.
— Разойдись, мусора! — рявкнул Жиган с крыльца хлеборезки. — Разойдись, ядрёна вошь, затараканим вдребезги. В хлеборезке — наши. Волос с любого упадет — сто рыл запорем.
Обычная новоблатная брань хлынула из глотки Жигана вонючей ассенизационной жижей.
— Матом и блатом не руководят наркоматом! — крикнул неожиданно зычным голосом Бочан. — Накорми! Аттестат-то филькина грамота! Огрызаловка! Скидываете друг на дружку, чтоб заначить горбушку!
— Не по Тришке кафтан, так слезай с верхотуры! — кричал рядом стоявший худой путеец.
Журин всматривался в глубоко запавшие выцветшие глаза людей и не видел в них страха. Привычку стоять насмерть прочел Журин в глазах «атакующего класса».
— Как в атаке, — вспомнил Журин, — здесь та же передовая. Только не слышно ещё ругани, рёва, воя, с которыми прут в штыки.
— Братцы! — услышал вдруг Журин свой напряженно-звенящий прежний командирский голос. — Братцы! Выбросим воров за зону! Всю дорогу жизнь заедают!
— Верна… а……а! — кричали вокруг. — Нас три тысячи, а шакалов две сотни! Мы сдались без боя!
— За проволоку! Пусть там с чекистами милуются!
— Подымай народ! — кричали из первых рядов толпы товарищам, стоявшим сзади.
Десятки людей кинулись в бараки. Воры сплоченной сотней окружили Жигана, и, по его команде, кинулись в инструменталку за ломами, лопатами, кирками, топорами.
В толпе поняли, куда сорвались воры. Через миг вслед ворам затопала людская громада. Из бараков вывалил народ.
— Братцы! За налоги с работяг! — кричали люди.
— За заграбленные вещи!
— За жратву! За жиры!
— За побои!
— За изнасилования в карцере, в уборной!
— За отрезанный воротник, — визжал Речиц, — бей!!..
Часть воров, добежав до перекрестка бросилась не к инструменталке, а в сторону вахты, пытаясь спастись под охраной солдат. Увидев это, головная часть воровской ватаги, во главе с Жиганом, тоже бросилась к вахте.
Часовые разрешили ворам скопиться возле ворот, а когда приблизилась людская лавина, застрочили автоматы. Стреляли вверх.
Из вахты выскочила смена караула с оружием на изготовку. Толпа дрогнула, остановилась. Двадцатиметровая дистанция отделяла первые ряды от солдат и воров.
— Зови начальников! — кричали люди.
— Хватит офицерам таскать продукты из наших каптёрок!
— Выкидай воров из зоны!
— Не желаем больше власти воров и чека! — кричали все сразу.
Сотни кулаков вздымались над бурлящей толпой.
— Начальник! — кричал Журин, протиснувшись в первый ряд. — Выводи воров за ворота, а то быть беде!
Начальник караула, пожилой старшина сверхсрочник, внял совету Журина и вывел воров за зону.
Толпа продолжала бурлить. Требовали прихода начальства. Решили не расходиться пока начальство не заверит, что воров в зону больше не введут.
Из бараков вышибли еще человек пятьдесят блатных «беспредельников», не участвовавших в столкновении возле хлеборезки. Их пригнали, успев основательно побить по дороге.
Пивоваров увидел в воровской компании «Щипача» и рванулся вперед.
— Братцы! Отпустите «Щипача»! Это — певец, он пять дней как прибыл! Он хороший паренёк, я ручаюсь!
К призывам Пивоварова присоединились Бегун, Домбровский, Ярви, Скоробогатов, Солдатов.
— «Щипач»! Давай сюда! — кричал Пивоваров. — Сигай быстрей! Не бойсь! В обиду не дадим!
«Щипач» отделился от воровской ватаги и перебежал в толпу. Пивоваров упустил в этот момент из виду Журина.
К вахте подошел начальник лагпункта и старший оперуполномоченный Хоружий.
— Заключенные, идите в бараки! — зычно, сытой жирной глоткой рявкнул Хоружий. — Командовать нами не позволим. Зачинщиков будем судить. Приказываю разойтись!
— Братцы! — раздался отчаянный крик Журина. — Это главный гад! Братцы! Не расходитесь! Бей пытателя, кровососа, душегуба! Ты, мурло, зубы не заговаривай! — крикнул Журин Хоружему. — Воров убери, худо будет!
Обычно смуглое лицо Хоружего стало темнокоричневым. Руку сунул он в карман брюк. Щучьи челюсти угрожающе оскалились за приподнятыми в бешенстве тонкими губами.
— Молчи, провокатор! — загремел Хоружий. — С кем живёшь, тех и продаешь!
Журин метнулся к обломку кирпича, валявшемуся у ног, и запустил его в Хоружего.
Хоружий выхватил маленький пистолет и выстрелил в упор несколько раз.
На мгновение все смолкли, и затем, сразу ахнула, завыла, заголосила толпа.
— Бериевские бандиты!
— Людоеды!
— Негодяи!
— Народоубийцы!
— Чумная падаль!
— Садисты!
Сзади напирали на передних. Людская лавина медленно, но неотвратимо надвигалась на кучку солдат у вахты.
Хоружий отскочил в сторону и скомандовал: По врагам народа, огонь!!!
Застрочили автоматы. С вышек застучали пулеметы. Взметнулся крик раненых. Люди шарахнулись назад и побежали.
Только Пивоваров отбивался от захлестывающего потока отступающих. Он рвался вперед к Журину, расталкивая ревущих окровавленных людей.
Раскрытым ртом хватал Журин пыльный воздух, пытаясь приподнять посеревшее бескровное лицо.
Пивоваров почувствовал ожог в бедре.
— Боевое крещение, — мелькнуло в уме. Будто всматриваясь в себя со стороны он удивлялся бесстрашию и равнодушию к смерти, охватившим душу.
— Братцы, куда?! — услышал вдруг Пивоваров отчаянный вопль Речица. — Стой, братцы! Справедливость или смерть!
Пивоваров оглянулся и увидел над людской лавиной гордо вскинутую голову Речица, просветленное бледное худое его лицо, широко раскрытые блестящие, ненавидящие глаза, разинутый орущий рот с редкими зубами, растопыренные, хватающие руки.
Разбежаться быстро людям не удалось. Задние не сразу дрогнули. Несколько минут сдерживали они отступающих, напирали на обезумевших, окровавленных, орущих, царапающихся, охваченных паникой людей.
Многоглавая толпа гигантским живым водоворотом захлестнула узкое пространство между бараками и билась, безумея от страха, рёва, крови, слишком хорошо знакомого по войне грохота автоматического оружия.
— Братцы, остановись! — кричал Речиц. — Отомстим! Всех не перебьют! Куда ж, вы, братцы! Кролики! Стойте!
Пивоваров увидел задержавшиеся на миг возле Речица усы Писаренко. Услышал его хриплый басок:
— На котлеты гадов! Солянку из тухлого мяса чекистских баб!
Захлестнутый потоком тел Писаренко растворился в лавине.
Постепенно толпа рассасывалась — людям удалось вырваться из-под огня. На площадке возле вахты остались тела убитых. Вопили, подергивались, стонали, метались умирающие. Ползли к баракам раненые.
Автоматы и пулеметы смолкли.
— Огонь, подлецы! — прыгал возле солдат Хоружий.
Неистово матерясь, он тыкал свой маленький пистолет в безусые лица солдат и орал:
— Где запасные диски?! В казарме?! Таскать тяжело — поленились?! Боевое задание для вас — гульба?! Сгною гадов! К ворам брошу! Соломинкой кровину выпью!
— Предатели! Фашисты! Троцкисты! — вопил Хоружий.
Подбежав к сторожевой вышке он затопал ногами, замахал руками, заорал, захлебываясь бешеной пеной:
— Стреляй, вахлак, шкура, онанист! У тебя патронов невпроворот!
— Они ж разбежались, товарищ майор, — отозвался с вышки плаксивым голосом солдат.
— Я тебе, потрох трухлявый, похнычу! — горланил майор. — Бей по баракам, стерва! Бей! крохобор! солитер! малявка! Они б нас не жалели! В клочки б разнесли! Печенку на вертеле жарили! Бей, подлюка, застрелю!
С вышки опять застучал пулемет.
Пивоваров, стоя на коленях, пытался взять Журина на руки, чтоб унести, и с удивлением чувствовал, что бессилен подняться с телом друга.
Трясущиеся бессильные руки обнимали Журина.
— Неужели из-за этой ранки в бедре улетучилась сила? — отчаивался Пивоваров.
— Юра, ползи сюда! — услышал Пивоваров призыв Щипача. — В канаве пуля не достанет!
— Зато я тебя, контру, достану! — рявкнул Хоружий. — Я заткну твои песни в глотку!
Рванув за рукав сержанта, Хоружий бросился к «Щипачу».
Пивоваров видел, как эти двое подняли «Щипача» за плечи, ноги и сильно ударили задом о землю. Сердце Пивоварова замерло. На миг исчез мир. Он знал: «Щипач» уже не встанет. Он даже кричать не может… Судорожный хрип, да струйка крови из перекошенного рта. Внутри огонь, который только смерть потушит…
Пивоваров склонился над Журиным.
Липкими красными ладонями он пытался зажать кровоточащую рану на его спине.
Рядом с собой Пивоваров увидел вдруг ставшего на колени Речица.
— Милый, — бормотал Речиц, — и ты со мной! Нет, ты должен жить! Я ищу смерти, а ты живи, чтоб мстить. Справедливость или смерть! — Слышишь!
Пивоваров почувствовал, как дрогнуло и забилось, затряслось прижавшееся к нему тело Речица.
— Пуля, — пронеслось в уме Пивоварова.
Речица свалился на землю, увлекая с собой Пивоварова, наваливаясь на него всем телом.
— Не забудь…, — хрипел, задыхаясь, Речиц. — Ты вырвешься… Подними мир! Разбуди..!
В горле Речица забулькала, заклокотала кровь.
— Друг… брат… — едва разбирал Пивоваров страстный затухающий хрип Речица, — брат мой! Не забудь! Мсти!
Пивоваров чувствовал, что в прижатой к нему груди Речица что-то клокочет и бьется, будто силится выскочить из удушающего плена. Стремясь выбраться из-под отяжелевшего обмягшего тела Речицы, Пивоваров приподнял голову и окунулся оторопелым взором в черный глаз маленького пистолета, зажатого в скрюченных волосатых смуглых пальцах.
Пивоваров знал эту руку пытателя, терзателя, убийцы. В дни допроса после убийства Шубина, когда стряпал Хоружий дело «банды пособников врачей-шпионов» испытал Пивоваров на себе ненавистную жесткость этой когтистой злой руки.
Больше ничего не успел рассмотреть Пивоваров. Струя крови изо рта Речица залила его глаз. Страх тошнотой схватил за горло, навалился бесформенной парализующей удушающей громадой. Желтозеленый, как круглый глаз совы, вспыхнул свет.
— Мамочка! Мама! Мама!
Будто завороженный этим воплем-призывом смолк маленький пистолет.
— Кончилась вторая обойма, — догадался Хоружий.
Зло пнув кованым сапогом бок Пивоварова, Хоружий отошел.
— Будьте вы, звери, прокляты! — скорее ощутил, чем расслышал Пивоваров натужный страстный выкрик Журина. — Будьте навек прокляты!
Содержание статей Уголовного кодекса РСФСР и Указов, помянутых в книге[1]
58-1А. Измена родине… карается — высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок двадцать пять лет с конфискацией всего имущества.
58-1Б. Измена родине, «совершенная военнослужащим, карается высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией имущества».
58-1В. «В случае побега или перелета за границу военнослужащего, совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до сведения властей, караются лишением свободы от пяти до десяти лет с конфискацией всего имущества.
Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления — подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на пять лет».
58-2. «Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию… захват власти в центре или на местах… влекут за собой высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства СССР и изгнанием из пределов СССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества».
58-5. «Склонение иностранного государства или каких-либо в нем общественных групп… к объявлению войны, вооруженному вмешательству в дела СССР или иным неприязненным действиям, в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества СССР, разрыву дипломатических сношений, разрыву заключенных с СССР договоров и т. п. влечет за собою — меры социальной защиты, указанные в статье 58-2 настоящего кодекса».
58–10. «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст. ст. 58-2 — 58-9 настоящего кодекса), а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой — лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.
Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за собой — меры социальной защиты, указанные в ст. 58-2 настоящего кодекса».
58–11. «Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений… влекут за собой меры социальной защиты, указанные в соответствующих статьях настоящей главы».
58–12. «Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении влечет за собой — лишение свободы на срок не ниже шести месяцев».
59-3. «Бандитизм… влечет за собою — лишение свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела с конфискацией имущества».
59-Зв. «Нарушение работниками транспорта трудовой дисциплины (нарушение правил движения, недоброкачественный ремонт подвижного состава и пути и т. п.)… влечет за собой — лишение свободы на срок до десяти лет. В тех случаях, когда эти преступные действия носят явно злостный характер, применяется высшая мера социальной защиты с конфискацией имущества».
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
1. «Кража, присвоение, растрата или иное хищение государственного имущества — карается заключением в ИТЛ на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.
2. Хищение государственного имущества, совершенное повторно, а равно совершенное организованной группой (шайкой) или в крупных размерах — карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от десяти до двадцати пяти лет с конфискацией имущества».
«Недонесение органам власти о достоверно известном готовящемся или совершенном хищении государственного или общественного имущества, предусмотренном ст. ст. 2 и 4 настоящего Указа — карается лишением свободы на срок от двух до трех лет или ссылкой на срок от пяти до семи лет».
Выписки сделал А. Варди
Толкование некоторых слов
амба — пропал, конец, смерть, гибель, «все пропало»
байстрюк — внебрачный ребенок
баланда — жидкая лагерная похлебка, часто это кипяток, в котором разметана ржаная мука, так называют и другие лагерные супы
барбос — дворовая собака. Это слово употребляют и как оскорбление; так часто называют начальников, конвоиров, надзирателей и т. п.
баста — конец, все
благуша — кричащий благим матом, или болтун, крикун
блат — 1. воровской жаргон, 2. связи, протекция, используемые в обход законам
блатной — профессиональный уголовник; относящийся к преступному миру
бобёр — пожилой, состоятельный человек — не вор
ботать — рассказывать, говорить, сообщать
будка — физиономия
буза — скандал, протест, шум, беспорядок, бунт, волынка; иногда это в смысле — чепуха, безделица, вздор
бутор — личные вещи, багаж, имущество, все достояние заключенного
бытовик — осужденный по так называемой бытовой статье (хулиганство, мелкая кража, побои, половые и служебные преступления и т. д.)
вась-вась — взаимосвязь, взаимовыручка, общность в незаконном деле
винтарь — винтовка
вкалывать — тяжело работать в лагере
вкапался — попался
вмажь — ударь
вольняги — вольнонаемные работники
вошебойка — камера, в которой дезинфицируют одежду (уничтожают вшей)
втихаря — тихо
гармидр — шум, гвалт, беспорядок, толчея
генацвали (груз.) — дорогой
говорок — разговорчивый человек, краснобай
горлохват — скандалист, горластый крикун
госстрах — советская аббревиатура, означающая государственное страхование; лагерный смысл этой аббревиатуры — страх, возбуждаемый режимом
дневальный — дежурный в бараке, уборщик и сторож
долбарь — примитивный, грубый человек
доносила — доносчик
доходной — то же, что доходяга
доходяга — истощённый, больной человек, кандидат на тот свет
дрейфить — трусить, бояться
елдаш (азерб.) — товарищ
ералаш — беспорядок
загашник — запас, спрятанная вещь (деньги)
загиб — ругательство
загибаловка — массовая смертность
загнуться — погибнуть, умереть
задрока — капризный, непослушный, гордый
задубело — затвердело
заигранный — проигравший в карты и не уплативший проигрыш; такому человеку может грозить смерть, если он не уплатит карточного долга
замастырить — сделать, смастерить; чаще в смысле совершить подвох, сделать плохое
замутнённый — человек, который не стал сукой, но близок к этому; такого человека подозревают, что он помогает чекистам, однако он еще не уличен в большой подлости
заначивай — хватай, отнимай, присваивай и прячь чужое
запарывай — убивай ножом
застукать — донести
засундучу — засажу в карцер, в лагерь, в тюрьму
затараканим — изобьём, угробим
затруха — онанист
зачёт — сокращение срока за перевыполнение норм выработки и хорошее поведение
зыряй — смотри
жиган — воровская кличка; также — вор-рецидивист, главарь
жмурик — зевака, бездельник; в другой контексте — покойник
жоржик — любовник, хахаль, мужчина, занимающийся охотой на женщин
икристые — имеющие имущество, то, что можно отнять, украсть
калым — «левый» заработок, нелегальный доход, взятка
канай — уходи
каюк — конец, гибель, смерть
кивирялка — женщина, которая делает нелегальный аборт примитивными способами
кнацает — подсматривает, смотрит, наблюдает за объектом воровской акции
кодло — здесь это — руководящее ядро
кокиль — металлическая форма, в которую льют расплавленный металл, чтобы получить отливку
колдыбают — бредут хромая, спотыкаясь, падая
кондей — карцер
кореш — товарищ, приятель, напарник
кочегар (вор. жаргон) — активный педераст
красюк — красавец
крохобор — человек, который зарится на крохи другого; ворует, отнимает крохи (имущество бедняка, пайку)
кумпол — голова
курдюпка — часть лица, включающая нос, губы, щеки
курсак (туркм.) — желудок
лататы — уйти, удрать
лафа — удача, успешное дело, благоприятное положение
левак — незаконный заработок
липовый — фальшивый, поддельный
ловчило — ловкий, хитрый, оборотистый
лягявый и лягаш — принадлежащий к чекистскому миру, причастный к органам репрессий. Лягавым может быть и заключенный, например, доносчик. Работники МВД, МТБ, КГБ, милиции и т. п. — это лягавые.
маза — хорошие отношения, взаимопомощь в воровском деле
малявка — ничтожество (малявка — маленькая рыбка — малёк)
мандраже — дрожь
маникюр — пытка, загоняют иголки под ногти
мантулить — тяжело работать в лагере
масть — категория заключенных (политические, законные воры, суки, беспредельники, бытовики и другие категории заключенных)
мастырить — делать плохое, мастерить подвох; вообще что-то делать; совершить членовредительство
мокрушник — убийца; мокрое дело — убийство
мусор — презрительная кличка; так называют в лагере начальство и прислуживающую ему «придурню»
мусульмане (вор. жаргон) — доходяги, истощенные дистрофики, жизнь которых догорает
муторша — пожилая любовница
навар — венерическая болезнь
нарядчик — наряжает на работу — чин лагерной администрации; обычно заключенный
натыривает — натравливает, науськивает
нахрапник — нахал, подлец; наглый, дерзкий, бессовестный человек, действующий нахрапом
облвобл — областное управление по производству воблы — такого учреждения нет; это слово употреблено в качестве сатиры на советские аббревиатуры
обхимичил — обхитрил, обманул
обужа — обувь
обхиросимил — уничтожил (от слова Хиросима)
обшмонай — обыщи (шмон — обыск)
огрызаловка — обман
опер — оперуполномоченный, представитель первого оперативно-боевого отдела управления лагеря, осуществляет надзор, слежку, привлекает к ответственности, руководит доносчиками и т. д.
ОСО — особое совещание МВД или МГБ — орган внесудебной репрессии; выносило постановления о мере репрессии заочно
охмуряловка — обман
падла или падло — то же, что падаль
пайка — паёк заключенного, однако чаще всего под словом «пайка» разумеют хлеб, выдаваемый заключенному
памерки — сознание
параша — 1. бачок для нечистот в камере; 2. слухи, циркулирующие в местах заключения
партсосы — презрительная кличка — партийные кровопийцы (кровососы)
пацан — мальчик, отрок
пахан — старый вор, атаман
поварзокались — повозились, попачкались
подзаплыл — засыпался, попался
поканал — пошел
полундра — слово из лексикона моряков и портовых грузчиков; в воровском мире это: «Внимание!», «Тревога!», «Будь на чеку!», «Берегись!». Подчас это невразумительный возглас
помогала — помощник
помпобыт — помощник начальника лагпункта по бытовому обслуживанию лагнаселения
потаюхой — тайно
похерят — потеряют, захоронят
придурки — конторщики и другие служащие в лагере, как и работники лагерной обслуги
припухал — ждал, ожидая бездельничал или спал
прищучить — прижать человека; поймать, уничтожить, сделать плохо
прокантоваться — не работать, прокрутиться, сравнительно легко прожить
райкаравай — это насмешка над советскими аббревиатурами
регулексы — специальные электрогенераторы, регулирующие работу электродов сталеплавильной печи
сдрючат — снимут, разденут, отнимут
сексот — секретный сотрудник, доносчик
сербало — рот
сигай — прыгай
сидор — мешок, чаще — заплечный мешок
сквалыга — кляузник, сочинитель дел, склочник, каналья, а также скупец
скостили — сняли, сократили срок
сопатка — нос
сосатель или сос — начальник-кровосос
ссученный — ставший сукой, то есть помогающий чекистам командовать заключенными, угнетать и репрессировать их
столыпин — вагон для перевозки заключенных[2]
сука — помощник чекистов из числа заключённых
сшарамыжил — обманул, смошенничал
сявка — мелкий вор; часто прислуживает «самостоятельным» ворам
съактируют — в случае неестественной смерти заключенного составляют акт о смерти — актируют
Таганка — одна из тюрем Москвы тараканят — гробят, ущемляют
тельфер — грузоподъемник, передвигающийся по подвесному рельсовому пути
темнила — обманщик, лицемер, лгун
трёкать — болтать, разговаривать
туз — главарь
туфта — обман, очковтирательство, показуха
уконтрапупить — убить, доконать
укрцукр — украинское управление сахарной промышленностью; такого учреждения нет, — это насмешка над советскими аббревиатурами
ушатнуться — увильнуть, уклониться
фабзайчята — ученики и выпускники курсов и школ фабрично-заводского обучения
фарт — удача; чаще — воровская удача, воровская добыча
феня — блатной жаргон
филон — лодырь
фиска — лезвие безопасной бритвы
фраер или фрей — всякий не вор и не чекист
хабарник — взяточник
халява — резиня, растяпа, халда, рохля
хана — конец, гибель, смерть
хиляй — отойди, следуй дальше
химичить — обманывать, халтурить, работать нечестно
хипишь — скандал, бунт, шум, гам, а также: берегись! тревога! внимание!
хлёбало — рот
хлеборёзка — кладовая хлеба, где разрезают хлеб на пайки
хлябают — здесь — это ходят, живут, «проходят по жизни»
хохмач — умник
хруст — рубль
хрюкало — лицо
«червонец» — 10 лет лагерного срока
чимчикуй — иди, проваливай
чокнутый — ненормальный, помешанный
чувал — мешок.
шалашовка — бездомница; обитательница шалаша; живущая в общежитиях; также — женщина легкого поведения
шарамыга — человек без совести и чести шармач — вор, обманщик, мошенник
шары — глаза
шишкомот — начальник, администратор, чекист
шишкомотит — руководит, командует
шкет — хлопец, подросток
шмонька — женский половой орган
шмурак — ничтожество, слабый и забитый, презираемый человек
шмякнем — ударим, стукнем
штрафняк — штрафная работа и штрафной барак (барак усиленного режима — БУР, а также штрафной лагпункт)
шухер — паника, гвалт, тревога
щипач — карманный вор
эмведешник — чин системы МВД
эмгебешник — чин системы МТБ
Толкование некоторых выражений
баки не трави — не заговаривай зубов, не морочь голову
барашка в бумажке — взятка
брось травить баланду — не трепись, не балабонь
быть на крючке — быть зависимым от кого-то, бояться кого-то, чего-то (в том числе шантажа)
дело табак — дело дрянь
деревянный бушлат — гроб
друг ситцевый — друг закадычный, близкий
жизнь заблатнёная — жизнь, в которой уголовщина — обычное дело
законный вор — человек принадлежащий к воровскому миру и выполняющий законы этого мира (не ссученный)
заправлять бачок — в смысле: наполнить желудок
зашибать калым — брать взятки
отдать концы — умереть
ложу с прибором — выражение пренебрежения: плевать, мол, на вас хочу
мужиком хлябал — прикидывался мужиком, то есть обычным трудягой
набирайтесь сеансов — воспользуйтесь случаем посмотреть; запасайтесь впечатлениями
онучу жует — онуча — портянка к лаптям, «он тоже онучу не жует» — он не остолоп, не олух
первая подземная — категория состояния здоровья заключенного, означающая, что он годен для подземных работ
полная катушка — максимальный срок наказания
прижать писк — задушить, зажать рот
пустить петуха — испортить воздух
работать на швырок — работать плохо, небрежно, мало
с кандибобером — в том смысле, что внешность интеллигента
с отбитыми памерками — то есть забитые, запуганные
ссученный фраер — услуживает чекистам
улыбнется харч — исчезнет еда
хоть бы хны — хоть бы что, нипочем
что хныкало рассупонил! — чего хнычешь, скулишь (рот распустил)
шлёпанцами жуешь — губами двигаешь
Примечания
1
Основание: «Уголовный кодекс РСФСР», Москва, Гиюл, 1950 г., стр. 36–43, 45–48, а также: «Ведомости Верховного Совета СССР» № 19, 1947 г.
(обратно)2
Вагоны эти, построенные при премьер-министре П. А. Столыпине (по последнему слову техники) и предназначенные для проведения его проекта переселения крестьян (конечно, на добровольных началах) из Европейской России в Сибирь, были разделены на купе для удобства переезжающих семей. В советское время окна и двери, выходящие в коридор, были забраны решетками и, таким образом, стали клетками для заключенных. Название «столыпинские вагоны» при этом сократилось и употребляется обычно в этой сокращенной форме. — Изд.
(обратно)
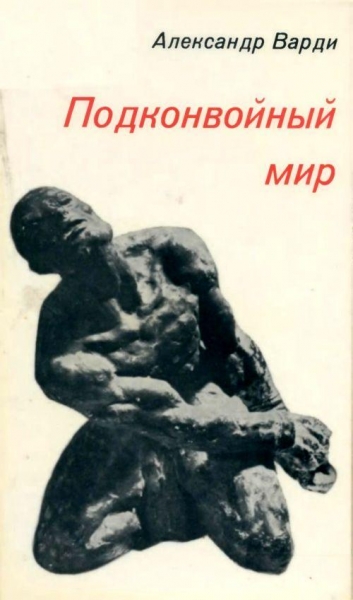




Комментарии к книге «Подконвойный мир», Александр Маркович Варди
Всего 0 комментариев