Ирина Озерова Память о мечте. Стихи и переводы
Предисловие
И есть ли в жизни большая награда,
Чем верность одержимости своей?
Ирина ОзероваМы живем на Земле, и Земля отражается в нас. Мы вбираем в себя ее запахи, краски и звуки, солнце, летящее над ней, звезды, гаснущие к рассвету. Все это, переплавленное стуком сердца, рождает новый мир – мир человека, тысячи, миллионы, миллиарды миров. Каждый из них интересен и неповторим, но не каждый открывается другому. Открыть мир – это привилегия дружбы, любви и поэзии. Только тот поэт становится интересен всем, необходим всем, мир которого настолько многогранен и богат, что умеет найти созвучие у каждого человека. И, пожалуй, еще одно: нужно очень любить людей, нужно очень проникновенно верить в них, воспринимать чужую радость и чужое горе радостнее и горше собственного, чтобы суметь до конца раскрыть свой мир людям – без фальши, утаивания и позы. Именно с таким поэтом читатель познакомится в этой книге.
Озерова Ирина Николаевна родилась в 1934 году в Воронеже. Умерла в Москве в 1984-м, не дожив до своего пятидесятилетия почти год.
Родители ее были актерами Воронежского драматического театра, ставшего для нее вторым домом; отец, Николай Ефимович Озеров, погиб в 1942 году на сцене, играя очередной спектакль, от прямого попадания бомбы. И поскольку детские годы Ирины Озеровой совпали с войной, ей в полной мере пришлось испытать тяготы эвакуации, бомбежки, когда земля стерегла «воронками за воротами» и «сирен завывание ночами болело в висках». Писать она начала очень рано. Будучи еще совсем маленькой девочкой, она выступала в госпиталях, читая раненым солдатам свои стихи и стихи любимых поэтов, которых уже тогда знала наизусть очень много.
Училась в Воронежском Государственном Университете, а затем окончила Литературный институт им. А. М. Горького, куда поступила по рекомендации III Всесоюзного совещания молодых писателей, участницей которого она была.
Более десяти лет И. Озерова работала в московских газетах «Литература и жизнь» и «Литературная Россия».
При жизни вышло только две книги ее стихов: в 1960 году в Воронеже тоненькая книжечка еще незрелых юношеских стихотворений «Это, правда, весна!..» и уже незадолго до смерти, в 1980 году, в московском издательстве «Советская Россия» избранные переводы и стихи «Берег понимания».
В силу крайней несозвучности «советской ноте», Ирина Озерова, хотя и печаталась периодически в газетах и журналах, полноценного отдельного издания своих оригинальных стихотворений так и не увидела.
Все эти 20 лет она вынуждена была заниматься переводами поэтов СССР, так как ее собственные стихи не издавали, обвиняя в антисоветизме, чуждой идеологии, мрачности и безысходности. Не помогали даже положительные рецензии, после которых неизменно следовали отрицательные редзаключения. Примеры таких положительных рецензий от признанных мастеров слова представлены в последнем разделе данной книги. Здесь же я могу привести лаконичную, но очень емкую рецензию Николая Рыленкова на одну из так и не изданных книг И. Озеровой: «Я давно хочу иметь эту книгу на своей книжной полке и не понимаю, почему до сих пор должен ее рецензировать». На что последовало редзаключение Я. Шведова: «Ни единой пометки я не сделал на полях рукописи, не мне учить, как и о чем писать Ирине Озеровой. Она давно сложившийся поэт, со своим складом и со своей авторской репутацией. Но характер ее произведений далек от поэтической правды, слишком много в отдельных ее стихотворениях подтекста, граничащего иногда с клеветой на нашего рядового труженика и на наш народ. Некоторые ее произведения антинародны и вредны. Подобная рукопись по своему содержанию чужда профилю издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», эти стихи ничем не помогут в деле воспитания молодых строителей коммунизма и будущих защитников нашей Родины. Она, рукопись, могла бы быть адресованной в издательство «Скорпион» или «Прометей», но их закрыла Революция. В подобном выводе нет никакого подтекста, есть только правда! Рекомендовать к изданию рукопись И. Озеровой никак нельзя! (Июль 1968 года.)» И так каждый раз.
Невольно вспоминаются строки Ирины Озеровой:
Мой храбрый мальчик! В недрах всех эпох Случались люди с обостренным слухом. Не нравились они царям и слугам, И никогда не помогал им Бог. Им приходилось рано умирать И трудно жить Всего за миг единый — За счастье видеть, и писать картины, И строчки торопливые марать.Да и «Берег понимания» вышел совершенно случайно: издательству надо было срочно латать дыру в плане, а в портфеле лежала как раз книга И. Озеровой. Но и эту книгу нельзя назвать полноценной: вышла она в серии «Мастера художественного перевода», и в качестве мощного паровоза к маленькому разделу зарубежных переводов и собственных стихов был прицеплен огромный раздел переводов поэтов РСФСР.
И только после смерти в 1985 году в московском издательстве «Современник», да и то в урезанном виде, вышла первая (и, увы, пока единственная) полноценная книга стихов И. Озеровой «Арена», пролежавшая в издательстве более 10 лет.
Но основные стихи поэта пока так и не дождались своего издания в книге, хотя многие из них печатались в различных газетах и журналах России, в Прибалтике, в Польше. Большая подборка стихов И. Озеровой вышла после смерти поэта во Франции. Ее стихи включены в «Строфы века-I», а переводы – в «Строфы века-II».
Немалую часть своего таланта И. Озерова отдала художественному переводу. Начав переводить ради заработка, она достигла в этой области настоящего мастерства, познакомив русскоязычного читателя с прекрасными произведениями таких поэтов, как Виктор Гюго, Шарль Бодлер, Райнер Мария Рильке, Джордж Гордон Байрон, Сидней, Роберт Грейвз, Ленгстон Хьюз, Эдгар А. По, Уильям Плумер, Геррит Кауверан, Симон Вестдейк и многих других. Кроме того, в переводах «с языков народов СССР» ею было переведено и выпущено в свет более восьмидесяти книг самых различных поэтов, – обычная форма заработка на жизнь для поэта «советской эпохи»; впрочем, и здесь Озерова проявляла себя как незаурядный мастер стиха.
Поэт – это прежде всего его судьба, впитавшая в себя не только каждый день его собственной жизни и осмысления мира, но и всю историю народа, подарившего поэту его оружие – язык. Ирина Озерова была человеком активной гражданской позиции, никогда в самые тяжелые времена она не боялась говорить ни в стихах, ни в жизни, то, что думает.
Ее высоко ценили и дарили ей свою дружбу Анна Ахматова, Мария Петровых, А. Твардовский, П. Антокольский, К. Чуковский, С. Липкин, Л. Кассиль, В. Аксенов, Ю. Алешковский, Б. Окуджава и многие другие.
Эта книга – дань памяти прекрасному Человеку, Поэту, Переводчику.
Книга состоит из трех разделов, позволяющих максимально полно представить творчество И. Озеровой.
Первый раздел включает собственные ее стихи, причем отобранные и выстроенные в определенном порядке самой Ириной Николаевной еще при жизни, когда она готовила новую книгу, так и не вышедшую в свет, надеясь выпустить ее к своему пятидесятилетию и тридцатипятилетию творческой деятельности.
«Книга состоит из стихов не датированных, но принадлежащих к разным периодам творчества, – писала она в заявке в одно из московских издательств. – Мне захотелось выстроить ее не по времени написания стихов, а по их творческой направленности, чтобы книга лучше сумела отразить мое постоянное желание быть непримиримой ко лжи и злу, нащупывать и вскрывать болевые точки эпохи.
35 лет – немалый срок, и потому вместе со страницами моей биографии он охватывает страницы биографии Земли, для которой 35 лет – мгновение.
В книгу вошли стихотворения, посвященные «месту поэта» в нашей жизни, его ответственности перед обществом, а также произведения, проникнутые памятью военного детства, философские стихи-размышления об извечной битве добра и зла, стихи предупреждения. Большой раздел посвящен экологии, защите природы, взаимоотношениям природы и человека. Некоторые из стихотворений написаны в форме сказки, но это не снижает в них непреходящего пафоса реальности наших дней.
Чувством гражданственности пропитана и так называемая любовная лирика. Ее нельзя оторвать от мыслей, чувств и дум человека сегодняшнего дня.
Некоторые из стихотворений могут показаться слишком горькими и печальными, но ведь и лекарства имеют горький вкус.
Стихи не делятся на «черное» и «белое», в них – все многоцветие радуги, весь спектр человеческих отношений.
Книга отражает сложный мир, существующий сегодня на планете, и активное стремление поэта вмешаться в современную действительность и в узловые ее моменты».
Боль и насмешка, философское раздумье и доверчивая исповедальность, осмысление времени и тревожная надежда – все это не поучение, а разговор с друзьями «о времени и о себе».
Время – не только мера часов, дней и недель. Время – это учитель, это форма, в которую вливаемся мы, как расплавленная сталь. Время подсказало Ирине Озеровой мудрость выводов, сформировало ее мировоззрение. Но только она сама могла по-настоящему оценить возможности своего голоса и, расширяя его диапазон, не перекричать, не сорваться, всегда оставаясь честной с собой и с читателями.
«При абсолютной простоте и ясности мысли, слова, образа, ее стихи отличают изысканная чеканность, богатство аллитераций, незаменимость слова в ряду других, неожиданная афористичность концовок, – писал о поэзии И. Озеровой А. Шагалов. – Все это вместе создает некую незащищенность, обнаженность нерва, отлитую в строго классическую и в то же время остро современную форму. Трагический темперамент поэтессы нигде не становится на катурны. Там, где другой закричал бы, Озерова говорит как бы шепотом, но этот шепот резонирует со Вселенной».
«Как часто изводятся нынче многие десятки, даже сотни строк, чтобы выразить мысль, для которой и одной-то строфы много, – сетует Леван Хайндрава. – У Озеровой же редко какое стихотворение длиннее двадцати–двадцати четырех строк, и при этом сколько мыслей! Эта краткость, строгая ясность, лапидарность стиля роднят ее с «королевой Анной», как сказала Ирина Озерова об Анне Андреевне Ахматовой в одном из своих стихотворений. Недаром великая Анна любила и ценила поэзию Озеровой, дарила ее своей дружбой.
И еще одну черту Ирины Озеровой необходимо выделить – творческую бескомпромиссность. Как поэт она всю недолгую жизнь шла своим путем, не искала легких, проторенных дорог. Муза Озеровой лирична и философична в одно и то же время, а философия ведь подразумевает наличие собственных мыслей, своего угла зрения на острейшие проблемы человеческого бытия. У Ирины Озеровой это было, и она умела облечь свои мысли в строгую, порою блестящую поэтическую форму. Как для всякого серьезного писателя – поэта или прозаика безразлично, – для нее главное было написать, создать, а не поскорее увидеть свое создание напечатанным. Она была очень строга к себе. Строга и бескомпромиссна. Поэтому так мало сборников собственных стихов успела она издать при жизни».
Второй раздел книги представляет переводческое творчество Ирины Озеровой, «воссоздавая карту мира во времени и пространстве».
Со многими авторами и произведениями из этого раздела читатель знаком по книге «Берег понимания», томам БВЛ и сборникам поэтов разных стран. Но такой полной и многогранной подборки блистательных переводов И. Озеровой еще не было.
«Думается, нет необходимости рассказывать читателям о таких поэтах, как Джордж Гордон Байрон или Виктор Гюго, Райнер Мария Рильке или Шарль Бодлер, Сидней или Эдгар По, – писал в рецензии на книгу «Берег понимания» А. Шагалов. – Важно, что у голландцев, и у южно-африканского поэта Уильяма Плумера присутствует тема России, восхищение нашим великим народом, его прошлым и будущим. Так замыкается круг. Рильке пытался писать по-русски, но нужны были горячее сердце и бережная рука русского поэта, чтобы при всей адекватности стихи стали достоянием многонационального читателя нашей страны.
Мы часто можем услышать дискуссии: переводить точно или переводить эмоционально верно. Переводы И. Озеровой демонстрируют, что успех достигается только тогда, когда оба эти начала слиты воедино. Тогда мастерство ненавязчиво, чужая мысль облекается плотью, и стихи получают второе рождение, становясь достоянием русской поэзии».
В трех сонетах о переводах Ирина Озерова спрашивает:
Легко ль чужой язык перелагать? Не речь – настрой души неодинаков.А чуть дальше она утверждает, что в процессе перевода «обретают общий ритм сердца», и тогда в гармонии понимания находишь и свой голос, и собственное лицо:
Какой обман – забвение и тлен! Гребет трудолюбивый перевозчик, Взрезают воды Стикса весла строчек, И мысль доносит память общих ген.«Ее перо не только позволило многим поэтам других народов заговорить по-русски, – писал Николай Старшинов о переводах И. Озеровой, – но и впитало в себя всю нелегкую науку постижения человеческой души, которую дарил ей каждый из переводимых поэтов».
Переводы Ирины Озеровой исключают одноцветность, ибо человеку глубокому несвойственно мыслить аксиомами: отсюда – разнообразие авторов и судеб, что предполагает столкновение разных, чаще противоположных цветов и оттенков, чтобы в их столкновении могла родиться истина. Вот почему в произведениях этого раздела не найдешь ни чистой грусти, ни чистой, безоблачной радости. Они неразделимы, как свет и тень, как счастье и боль, как жизнь и смерть. А позиция поэта-переводчика подчеркивает, акцентирует главное. То, что позиция всегда выражена точно, не допускает двусмысленности толкований, помогает созданию цельного и зримого образа. Творческая взыскательность и скрупулезность в работе над словом, стремление пристальнее вглядеться в лицо жизни, многозначность художественных образов – все это пришло к Озеровой-поэту от Озеровой-переводчика.
«Переводчик – это перевозчик, перевозящий с берега непонимания на берег понимания». И благодаря Ирине Озеровой мировая поэзия стала ближе и понятнее русскоязычному читателю, за что ей отдельное «спасибо».
Стало уже своеобразным штампом сравнивать жизнь с дорогой. Штампом потому, что далеко не всегда это точно. Не каждая жизнь – дорога. Иногда это скучное сидение на одном месте, унылая неподвижность во времени. Но когда жизнь наполнена движением чувств, раздумий и дел, она становится дорогой, по которой могут пройти и другие. Такая жизнь никогда не исчезает бесследно, как след корабля на волнах. Она скорее подобна трудной горной тропе когда-то давно пробитой в скалах, чтобы сотни людей, чтобы будущие поколения расширяли ее, забывая порой о том, кто оставил самый первый след.
Думается, нет необходимости рассказывать читателям о таких поэтах, как Джордж Гордон Байрон или Виктор Гюго, Райнер Мария Рильке или Шарль Бодлер, Сидней или Эдгар По, – писал в рецензии на книгу «Берег понимания» А. Шагалов. – Важно, что у голландцев, и у южно-африканского поэта Уильяма Плумера присутствует тема России, восхищение нашим великим народом, его прошлым и будущим. Так замыкается круг. Рильке пытался писать по-русски, но нужны были горячее сердце и бережная рука русского поэта, чтобы при всей адекватности стихи стали достоянием многонационального читателя нашей страны.
Мы часто можем услышать дискуссии: переводить точно или переводить эмоционально верно. Переводы И. Озеровой демонстрируют, что успех достигается только тогда, когда оба эти начала слиты воедино. Тогда мастерство ненавязчиво, чужая мысль облекается плотью, и стихи получают второе рождение, становясь достоянием русской поэзии».
Именно поэтому в третьем разделе книги собраны воспоминания, рецензии, отклики на смерть Поэта людей, в сердцах которых жизнь и творчество Ирины Озеровой нашли созвучие. Жаль только, что большинство из тех, кто знал ее лично, уже умерли, а мой архив был почти полностью уничтожен пожаром. Но и то, что удалось найти, даст возможность читателю взглянуть на Ирину Озерову еще с одной стороны, глазами людей, на которых она оказала влияние, которые любили и ценили ее.
«Ирина Озерова не искала легких путей ни в поэзии, ни в жизни, – вспоминала в рецензии на книгу «Арена» Татьяна Маршинина. – Наверное, не каждый бы решился на такое: оставить университет, будучи уже на четвертом курсе, чтобы поступать на первый курс Литинститута. А уж отказаться от издания в «Молодой гвардии» книги, рекомендованной к печати Всесоюзным совещанием молодых писателей, сочтя эту книгу недостаточно зрелой, – это, как хотите, поступок! И на целину она дважды ездила в составе бригады молодых литераторов не моды ради. Хотела узнать жизнь настоящую, черпать в ней материал, испытать себя на прочность…
Она и потом много ездила по стране. И с полной самоотдачей, не жалея сил и времени, помогала молодым найти себя в литературе, когда работала в «Литературной России». И как депутат Дзержинского райсовета добивалась предоставления квартир, а сама при этом жила в коммуналке.
Вот почему она имела право на иронию, говоря о тех, кто прячется от жизни за «двойными стеклами», когда «В своей квартире, как в тюрьме, скучаем, и телевизор запиваем чаем, двухмерности программ подчинены».
Не нужно вставать на ходули, чтоб выделиться из толпы «людей похожих», словно вылепленных «из однозначной пустоты». Истинно «непохожих» выделяет сама жизнь, и это они делают ее неповторимой и осмысленной, отрекаясь во имя этого от благополучия и сытости, от устроенности и проторенных дорог».
Эта книга – дань памяти прекрасному Человеку, Поэту, Переводчику.
Хочется верить, что и спустя более четверти века после смерти Ирины Озеровой, ее творчество никого не оставит равнодушным, как не была никогда равнодушной и сама Ирина Николаевна, считавшая, что человек должен отвечать за все, что он делает в жизни, за каждое сказанное слово.
Член Союза писателей России,член союза «Мастера художественного перевода,кандидат филологических наукЕ. О. ПучковаI Ирина Озерова (1934–1984) Стихи разных лет
Поэт
Наполовину оплыла свеча, А он не замечал в раздумьях долгих. Слова, как заклинанья, бормоча, Их ставил в ряд и в будущее вел их. И авторучкой заменив перо, И заменив свечу электросветом, Он мучился и созидал добро, И воевал со злом. Он был поэтом. Обманывал издатель и жена, А критики везде подтекст искали. Он высекал слова, как письмена Рабы египетские высекали. В постели умирал, бывал убит — То на дуэли, то ударом в спину. Бывал прославлен и бывал забыт, Но до сих пор перо его скрипит, Но до сих пор свеча его горит, Оплывшая всего наполовину.Шуты
Шуты! Их жребий предопределен: И комики, и трагики – все плачут, А публика об их слезах судачит — Вот испокон известности закон. Шуты везде и всюду на виду, Неверный шаг становится судьбою, И невозможно даже раз в году Шуту побыть наедине с собою. И каждый – соглядатай их любви, И каждый – их отчаянья свидетель… Шуты! Они как маленькие дети Всем тайны доверять должны свои. Чем публика за это платит им? На всех, конечно, не хватает славы. Шуты пред ней обнажены и слабы, Но шут – и слабый – ей необходим. Лишь тем благодарит она за труд, Лишь тем она за смех и слезы платит, Что и смеется вместе с ним, и плачет… А с ней – и после смерти – плачет шут.Милостыня
Актер стоит, как маршал на параде, Возносятся подмостки над толпой… И все ж у славы просит он скупой: – Подайте мне, подайте, Христа ради! О чем бишь, я? О пастухе и стаде? О паперти под пышным алтарем? О том, как мы живем или умрем? – Подайте мне, подайте, Христа ради! И милостыню в круговой поруке Религия спешит подать науке. За милостыней – руку тянет власть… Кто первый подал нищему монету? Она веками кружится по свету, Чтобы опять в его ладонь упасть.Скоморохи
Скоморохи – почти журналисты, Их припевки – всегда актуальны. Драматурги они и артисты, Из эпохи пришедшие дальней. Рот смеющийся выписан чисто, Слезы скроет их грим натуральный… То им солнечно в жизни, то мглисто, Но всегда скоморохи печальны. И стоит скоморох у порога… Он – создатель особого слога, — Как ненужная ветка, засох. И его раздавила эпоха — Ведь любое излишество плохо, В изобилье пропал скоморох.Скомороший клевер (Трилистник)
1 Атомы надежды
Отличать мы отучились Перепелку от щегла — Может, – лебедь, может, – чибис, — Невеселые дела. Не такие уже невежды — Просто заняты другим. Скоро атомы надежды В циклотроне расщепим. В новом доме крупноблочном, Голом, как на чертеже, Мы и плачем, и пророчим, Все познавшие уже. До земли – пролеты лестниц, Лифта медленный полет… …А на небе светит месяц, Словно песенку поет.2 Живая вода
Умираем мы от жажды Снова стать самим собой… Но является однажды Скоморох с живой водой. К представленью не готовясь, Он приходит в трудный час, Как надежда или совесть, Или сила жизни в нас. Не скулит и не суется В жизнь чужую, как в кино, — Над самим собой смеется И над нами заодно. И когда в последнем вздохе Приобщаемся ко мгле, Не пророки – скоморохи Остаются на земле!3 Молитва
Возношу тебе, Всевышний, Не молитву, а хулу. Я вдыхаю дух сивушный У палатки на углу. Божий мир… А, может, – глобус — Краска и папье-маше?.. В переполненный автобус Трудно втиснуться душе. Серый снег под небом серым, Серой улицы ледник, Дышит адским духом серным Тормозящий грузовик. Бесконечная дорога — То щебенка, то гудрон. И доносится до Бога Разных двигателей гром. Две ноги давно бессильны, И четыре колеса Благовоние бензина Воскуряют в небеса. Если бы ты был, Всевышний, Ты явил бы миру лик, Ты признался бы: «не вышло!», Уничтожив черновик. А теперь мы сами боги, И бездумно, без следа По космической дороге Уезжаем в никуда. …Но ночами детям снится, Что вот-вот Земля поймет: Почему летают птицы? Почему трава растет?«На арену выбегает клоун…»
На арену выбегает клоун, До опилок делает поклон он, И костюм его просторный вечен, И белила и багряный нос… Иногда бывает он бездарен, Гениален или же вульгарен, Если он немного человечен, На него не убывает спрос. Почему же не дано поэту Перенять непринужденность эту, Правдой незатейливых историй Искупить добра извечный плач. Но войска бессильны без приказа, А талант опасней, чем проказа. Мир теперь похож на лепрозорий, Где смеяться силится циркач. Но стекают слезы по белилам… И они становятся мерилом Гения, рожденного в сорочке, Истины искусства в ремесле. А поэт уже сутулит спину, Строчка превращается в морщину, Он творит в бессрочной одиночке На своей придуманной земле.Кустарь-одиночка
Я хочу бежать по росе, Отыскать студеный источник, Но я поздно встаю, как все, Как у всех, будильник испорчен. Душ приму и сяду к столу, Выпью чаю и газ закрою, После этого к ремеслу Я усердье свое утрою. Проклиная себя и мир, Буду думать строчку за строчкой, Как башмачник, как ювелир, Как изгой – кустарь-одночка. Но забуду я про часы, И про долю мою кривую… Может, в мире вместо росы Я сама теперь существую?! И напрасна вся воркотня, Уязвленной гордости жало, Если девочка вдоль меня Как по чистой росе пробежала.Чудак
Разлинованные тетради, Каллиграфии злая муштра… Педагог, как конвойный, сзади Подгоняет нас в жизнь с утра. Но единожды, счастья ради, Начался урок, как игра, И пророк на скудном окладе Заявил, что пришла пора Полюбить, убежать в бродяги, Верить сердцу, а не бумаге, Жить величьем черновика! Мы учебник перелистали И от всей души освистали Непонятного чудака!«Я завидую памятникам…»
Я завидую памятникам, Памятникам разных эпох. Массивные постаменты Связывают их с землей, И если в гранит упираются Не ноги, а копыта коня, — Это неважно: Герой состоит, как кентавр, Из единой гранитной плоти. Памятники ставят, Преимущественно, в средних широтах, А в средних широтах Не бывает землетрясений. И потому я завидую памятникам, Которые не знают, Что значит Почва, уходящая из-под ног. А кому завидовали некоторые Из этих бронзовых и гранитных людей В ту пору, Когда еще были живыми?!Цена
Со стороны или на стороне Искусство ценится, как в магазине, Наверное, по этой же причине Теперь оно особенно в цене. В чем ценность искры, спрятанной в кремне, Или воды, не найденной в пустыне?! — Рождественский обед в живой гусыне, Не знающей о праздничной цене. Но далеко еще до Рождества. Я обесценена, пока жива, — Сбиваю туфли, снашиваю платья. Когда отшелушится бытиё, Свершится воскрешение мое: Меня поймут, и всех смогу понять я.Законы механики
Хотите медовые пряники? Вот я, например, не хочу. Один из законов механики Для жизненной пользы учу. Мы все беззащитные странники. А я защищаться хочу. Затем и законы механики С таким уваженьем учу. За все, говорят мне, в ответе я. Но я по закону по третьему К ответу и вас призову. Механика в обществе сложная. Могу совершить невозможное, Пока я на свете живу.Печальные радости
Нет ничего и не было — Быль поросла быльем. Не угрожало небо мне Трассирующим огнем, Воронками за воротами Не стерегла земля, Не каркали вслед воронами Черные тополя. Нет ничего и не было, Кроме крапивных щей, Кроме запаха хлебного На ладони моей, И первого дня погожего После долгой зимы, И кругленького мороженого, Купленного взаймы. Ни ран у мен, ни ордена, Но памятна мне зато Бумажная радость ордера На байковое пальто. Еще сирен завывание Ночами болело в висках. Но вся сирень на развалинах Была о пяти лепестках! Я радости эти печальные В душе осторожно ношу, Как будто я буквы печатные, Первые буквы пишу. Мигает звездами небо мне, И птичье машет крыло… А остального – не было. Что было – быльем поросло.Ода чревоугодию
Ах, повара! Пора вам Пирами удивить, Диковинным приправам Вниманье уделить. Нам с ненасытным правом — Охотиться, удить, И обрывать бесславно Преемственности нить. Но ощущаю снова Сухарика ржаного Неощутимый вес. И слышу смутно сзади: – Подайте, Христа ради, Хлеб – чудо из чудес!Старая Рига
Ворожба старинных названий, Тех, что знала давным-давно, А на небе – гравюры зданий, Улиц каменное полотно. А во дворике, как украшенье, Упрощенная камнем судьба: Двух облупленных рук скрещенье, Попирающих два столба. Шлемом сплющенные парадным, С давних мучаются времен. Многотрудным подвигам ратным Стон их каменный посвящен. Но забыто ратное поле, Растворились черты лица, Только память смерти и боли Сохранила прихоть резца. Только память… Но память свята — В ней чужой безымянный плач. Прибежали во двор ребята, Притащили футбольный мяч. Штанга! Вздрогнуло рук скрещенье, Осыпается пыль веков… Я судья. Но мне для решенья Не хватает футбольных слов. Переулочки. Переулки, Потревоженные дворы Повторяют длинно и гулко Удивительный ритм игры. Повторяющееся действо, Обновившееся слегка, И опять побеждает детство — Побеждает во все века. Выше смерти и выше боли Мяч летит над живущим днем. Я, конечно, не о футболе, Но немножечко и о нем.Дом
Мне, видно, перестраиваться поздно. Стою я, словно обреченный дом, И, может быть, пора меня на слом. Но я ведь тоже приносила пользу — В два этажа, не в двадцать этажей, Скрипуче, деревянно, без комфорта. И дорогие, выцветшие фото Со стен снимают бережно уже. Плеснет щепа, известка запылит, И станет пол мой зыбким и неровным, И закричат обрушенные бревна, И каждое протяжно заболит. Я все пойму, я все приму сама — И эту боль, и разрушенья эти: Во мне когда-то вырастали дети, Чтобы построить новые дома.Гаданье
На неприметном полустанке Под паровозные гудки Проезжим ворожат цыганки По пыльным линиям руки. Ах, сколько линий на ладони, Все описать – не хватит слов. Ах, сколько судеб в эшелоне Меж чемоданов и узлов. Цыганка долго хмурит брови, Дрожит седая прядь на лбу: Как трудно в зеркальце рублевом Чужую разглядеть судьбу! – Ах, не давай ты мне задатка, Потертый кошелек закрой, Ведь будет все равно загадкой Небритый сумрачный король… Есть дальний путь, плацкарта в жестком, Все так, как было до сих пор. А впереди уже зажегся Огнем призывным семафор. Где завтра буду я счастливой? В каком бродить мне далеке? Ведь всех дорог не счесть, как линий На ожидающей руке.Пляска
Песню детскую написать И для взрослых придумать сказку… Я пошла бы нынче плясать, Но боюсь, не выдержу пляску. В жизни все случалось не впрок: Скорбный пляс на крыше вагона, И тяжелого хлеба кусок, И бессилье чужого стона. Это все ученье мое: Головою об стенку билась, Поняла про житье – бытье, Но плясать уже разучилась. На пуантах скорбит Жизель — У нее профессия это… Воет ветер, метет метель, Пляски нет и музыки нету.«Ах, уж эта мне полукровка!..»
Ах, уж эта мне полукровка! Никакого спасенья нет. И двусмысленность, и рисовка В мешанине моих примет. Об одном размечтаюсь крове, — А уже поманит другой… И воюют, воюют крови, Чтоб не выдюжить ни одной. Размечтаюсь я о погроме, Ради сытого живота, Чтобы в теле моем, как в доме, Не осталось потом жида. Ну, давай, биндюжники, дружно — Кладезь вы легендарных сил… Но усталостью пьян биндюжник, Он о планах моих забыл. Я его тороплю – скорее! Ведь упустишь такой момент! — Но биндюжник щадит еврея: Ведь родня – и интеллигент. Я ему про всю неуместность И про то, что наука – вред. Уважает интеллигентность И талдычит мой прадед: «Нет!» Согревается поллитровка, Утонув в его пятерне: «Ты – кровинка, не полукровка!» — Говорит он, довольный, мне.Моя поэзия
Я, как художник, с натуры пишу — Пейзаж, портрет, — И, глядишь — Уже на мокрое масло дышу Староарбатских крыш. Уже говорю, где боль, а где ложь, Где холод, где искра тепла… И если в будущем зла не найдешь, Значит, и я помогла.Воронеж
Над Воронежем моим летят утки, Летят утки над землей и два гуся, И румяная, как летнее утро, Там частушки распевает Маруся. Каруселью раскрылась пластинка, Современное ее чародейство… Поздней памяти дрожит паутинка, В ней пестрит, словно бабочка, детство. Паутинку эту бережно тронешь, И откликнется далекое эхо… За Воронеж, за Воронеж, За Воронеж Мил уехал, мил уехал, уехал… И живем с тобою розно мы, словно Перепутать перепутье могли мы От дряхлеющей петровской часовни До безвременной отцовской могилы. Но когда-нибудь на Севере дальнем Или в будничной московской квартире Стану бредить я целебным свиданьем С этим городом, единственным в мире. По какой-то небывалой побудке Вновь для долгого полета проснусь я. Захватите с собой меня, утки, Покажите мне дорогу, два гуся!..«Навеки ничто не дается…»
Навеки ничто не дается, Все может мгновенно исчезнуть, Но даже погасшее солнце Должна пережить наша честность. Ничто не дается навеки, Все может исчезнуть мгновенно, Лишь то, что всегда человечно, И в прах рассыпаясь, нетленно. Я верую в это! Иначе Не сладить с разрухой духовной. И я, словно колокол, плачу, Как колокол плачу церковный. Звучат причитания меди — Мы все беззащитны, как дети!Парадокс
Вселенная не знает недорода, Она подобна ищущему гению. Легко пылают свечи водорода И оплывают тяжким воском гелия. О, звезды! Миллионы лет калились вы, И – знали обо мне вы или нет — Далекие, но щедрые кормилицы, Вы посылали мне тепло и свет. На полпути к таинственной вселенной Топчу я землю, не жалея ног, Покуда не истек мой век мгновенный, Я вечна и всесильна, словно Бог. Творю я, претворяю, сотворяю… И, разума справляя торжество, Я двери тайн вселенских отворяю, Как будто двери дома своего. …Прикажут – и с космическою силой Зажжется водородная звезда, И превратятся в братские могилы Наполненные жизнью города. И оборвется удивленный возглас У края беспредельной пустоты… Земля вступает в свой опасный возраст, Земля родит тяжелые цветы!..Новое летосчисление
На деревьях повис рассвет, Неподвижный и серый… …Это было за много лет До новой эры. В те времена Еще были госпитали, Где сестры Бинтами солдат пеленали, В те времена Над погостами Солдатские звезды вставали. А в госпитале Сестра объясняла подруге: – Ну, как он мог?! Ну, как он мог?! Говорит, Не беда, что нету ног, Были бы руки! А потом был опыт поставлен В японском городе Хиросиме, Был ученый прославлен, А летчик — Рассказывают! — Сошел с ума… Просто остался он с ними, Убитыми в Хиросиме, Просто разум его оплавился, Как оплавились их дома. Тем, кто умер в тот день, Не досталось места в земле. Земля к тому времени Заполнена была. Другими. И они растворялись в воздухе, Оседали пылью в золе, И мы теперь дышим ими. Они в нас, Те, кому места в земле не нашлось. Невидимые и грозные, Как излучение… …С этого самого дня Началось Новое летосчисление.Тень
Я – тень. Неподвижная и короткая, Неподвижная, и короткая, Как смерть. Люди спят в комнатах. Куклы – в коробках. А у меня вместо стен – решетка, А вместо крыши – небо, В которое больно смотреть. У меня нет дома, Где уютно тикают ходики, Где секунды жизни считает маятник, Нет у меня усталости. Нет у меня отдыха. Я – памятник. Мне безразличны И тьма, и свет. Два осенних листка, Как монеты, Прикрывшие мертвые веки… Я только след. Я только след Спешившего человека. …Он проходил по улицам — А я семенила около. Солнце садилось — И я становилась Все длинней и длинней… Он проходил по улицам Мимо пестрых, как лето, окон, И распахнутых, словно ворот рубашки, Дверей. Кто был он? Женщина или мужчина? Девочка или мальчик? Я не знаю. Может, На свиданье к любимой спешил он, Нес серебристую рыбу с рынка, Или играл в разноцветный, Как мир, Мячик… У безногого есть костыли, У слепого сердце, Которое помнит Черноту земли и белизну снега. А я лежу, обезглавленная, в пыли: У меня нет человека!!! Где он – мой человек?! Я не знаю. Я только тень. У него было сердце, и память, и честь, — Но вдруг вспыхнул И погас день. И он исчез. А я только тень, Только след, Только памятник, Меня не оплакала мать И друзья не зарыли… А где-то, Как прежде, Качается маятник, Отсчитывая дни И недели От первого Атомного Взрыва.День
Был день как день — Из мелочей. Был человек — Как человечек. И дым майданекских печей Плыл дымом заурядных печек. Стал крик похожим на зевок, А боль – на сонную ломоту. И на дверях большой замок Весь день отпугивал кого-то. А в сумерках заквакал джаз, И юбки сделались короче, И сотни подведенных глаз Сквозь вечер устремились к ночи. А утром снова – поздний сон, И снова жизни наважденье. И так – до самых похорон. И так – от самого рожденья. Зачем потоп? Зачем война? Зачем летающие блюдца? От летаргического сна Сумеет ли Земля очнуться?!Врачеватель душ
Водосточные трубы из жести! Мы – как странно! – работаем вместе: Вы отводите злые дожди, А мое назначение – слезы, От обиды, болезни, угрозы… Их трудней, чем дожди, отвести! Только вас ремонтируют ЖЭКи, Значит, будет наломано дров, А беду починить в человеке Не сумеет синклит докторов. Человечество в атомном веке Позабыло очаг свой и кров… Что забывчивость? Все не навеки, Если век на Земле нездоров.Преемственность
И потный блеск тореадора, И пенный рев в ноздрях быка, Вся эта живописность скоро Уйдет в прошедшие века. И униженье, и отвагу На стенде спрячут под замок И окровавленную шпагу, И красной тряпки ветхий клок. Опять придут глазеть земляне На варварство иных веков, Свой счетчик Гейгера в кармане Храня, как луковку часов.Мирозданье
Мы вышли на околицу Вселенной, Прокладываем путь по целине… А может, тайнопись в загадке генной Скрывает мироздание во мне?! Венерой из пучины белопенной Восстанет совершенство, как во сне. А может, грозный Марс в броне нетленной Не побеждал, не понуждал к войне? Мы ничего не знаем о себе И, как слепцы, блуждаем по судьбе, То слишком снисходительной, то грозной. А может, собственный узнав секрет, Без кораблей достигнем мы планет, Иных путей в бескрайности межзвездной?«Не всем он ведом – этот страх…»
Не всем он ведом – этот страх, Когда Вселенная раскрыта И блещут звезды ледовито У черной вечности в глазах. И горизонт предельно сжат, Не шире он петли пеньковой, И вымер мир, отброшен снова На миллионы лет назад. И, мирозданьем облучась, Я остаюсь одна на свете, И только ветер, ветер, ветер Который век, который час! Но черный призрак отступил И бесконечный, и бесплодный, А иней, словно пот холодный, На черных травах проступил. Земля воскресла в свете дня, Рассвет возник, как довод веский, Голубенькою занавеской Задернув вечность от меня. Вот, словно иней, тает страх, Кукушка вечность мне кукует, НО ВЕЧНОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Все снова на своих местах.Смотри и слушай
Мне скажут: не смотри, не слушай, — Картины многие страшны… Зачем же мне глаза и уши Неосмотрительно даны?! Наш путь день ото дня все хуже, А ночи темные длинны, И сами с возрастом к тому же Мы недостаточно сильны. Но я, покуда сердце бьется, Смотреть и слушать и бороться Характером обречена… Глядишь – и стали очи зорче, И ночи сделались короче, Хоть жизнь сама не так длинна!Рождение
Рожая хлеб, земля изнемогла, Отдав колосьям жизненные силы. От чернозема лишь одна зола На пепелище засухи застыла. И в панике кричат перепела, Не ведая, где их жилище было. Земля вчера красивая была. Она себя – вчерашнюю – забыла. Закон рождения и смерти слеп: Земля погибла, создавая хлеб, Но землю не создашь уже из хлеба. От крика сердца разум мой оглох: Мне бескорыстно небо дарит вдох, Но от дыханья не родится небо.Транзисторы
Пронзительно транзисторы Орут, как будто в трансе. Транзитные туристы мы На бесконечной трассе. Все истины, как исстари, Узнав их в первом классе, Мы охраняем истово, На черный день, в запасе. Нам жаворонка тоненько Напомнит электроника Из-за стены соседней. Но нет успокоения — Последнее мгновение И соловей последний!Молитва
Я горячо шепчу: спаси вас, люди, От зависти, от лжи, от клеветы… Ведь молоком наполненные груди Преподают уроки доброты. О пониманье грежу, как о чуде, Но у чудес расплывчаты черты. И долговечна память об Иуде, И древние размножены кресты. И познанные истины забыты, И то, что с их содействием открыто, И бомбы нависают в небеси, И откровенье гения убого… Молю несуществующего Бога: Прости нам прегрешенья и спаси!Метеорология
Мне объяснил метеоролог Распутицу декабрьским днем. А день ни короток, ни долог, Пока мы суетно живем. Но в сердце радости осколок Забыть не даст мне аксиом: Ведь лед то холоден и колок, То обжигает, как огнем. Вокруг все по науке тает… Неужто снег знакомый станет Воспоминанием о нем?! Сыграть в снежки, лыжню освоить Иль бабу белу построить, Как строят храм, как строят дом.Барабанщик
Истории бродячий балаган Опишем в книгах, разместим по полкам… Две палочки, забыв про барабан, Стучат по барабанным перепонкам. Не бычья кожа, а сама судьба Гудит над смертным полем эшафота, И морщится безусая губа Под въедливыми капельками пота. А перед тем стучали молотки, Гвоздями доски влажные сшивая. Багровый след на желтизне доски И песня барабанная – живая! Шнур, как петлю, на шею нацепи, Поверх толпы гляди холодным глазом, На шелковом шнуре, как на цепи, Ты к барабану накрепко привязан. Будь каменным. Не смейся и не плачь. Пусть похоронный марш звучит как полька. Ты не судья. Ты даже не палач. Ты в стороне. Ты барабанщик только! Чем хуже ты любого из толпы? Что барабан пред гильотиной значит? Две палочки, две жизни, две судьбы И две слезы — мой барабанщик плачет.Имена
От первой клеенчатой бирки роддома До самой последней надгробной плиты Под знаменем имени скромно пройдем мы Содом и Гоморру земной суеты. Когда-то людей нарекали по святцам, Теперь наступил математики век. По старым законам младенцы родятся, По новым законам живет человек. Как формула, каждое имя условно, Абстрактно, как музыка, тень, а не плоть. Но мы бережем и храним его, словно Голодный случайного хлеба ломоть. Когда-нибудь сменится имя на номер. (Однажды был опыт поставлен такой.) Не скажут со вздохом: «Преставился, помер», А вычеркнут цифру бесстрастной рукой. Вовек не подняться сомкнувшимся векам, — Века безымянную плоть погребли. Он был в человечестве лишь человеком Белковой молекулой нашей земли.Пожар
Я поверила в этот пожар Ухищрением памяти странной… Так реально огонь пожирал Этот призрачный дом деревянный. Я поверила в этот огонь, Потому что поверить хотела, От ожога болела ладонь, И одежда под искрами тлела. И не дождь – только пепел с небес, Словно крупные черные слезы. Так окончиться может прогресс, Не сберегший себя от угрозы. А поверить пожару легко, Потому что и будни суровы… Хоть пылает пожар далеко, Но в него мы поверить готовы.Шар земной
Шарик земной — Крошечный, Он предо мной — Горошиной. Но изрезан он варварски На тысячу лоскутков. Обычай, мне скажут, таков. Сказители – благодетели Границ земных не заметили, Проблемы только всеобщие Всегда занимали их. Они, как слепые, ощупью Любили мир для других. На узких улицах вечности Теснится все человечество. Чело и вече отмечены Стремленьем друг друга понять. Потом будет поздно пенять. Хоть праздное разноязычие Хранит вековые обычаи, Но все понимаешь без слов, Раз кто-нибудь в мире готов Себя распахнуть пониманию, Как нашей Земле – мироздание.Раскопки
Не зря мы верим картотекам — В них нашей общности печать. Палеозой с двадцатым веком Мы вместе будем изучать. Красноречив итог раскопок, И все же чуточку уныл: Был человек и хил, и робок, А все-таки задирист был. Он то кремневый наконечник, То ядерный лелеял след, — Погрязший в частностях сердечник, Несущий мощный мозг скелет. Типичная, казалось, особь… Так почему же, почему Не можем мы открытий россыпь Всецело приписать ему. Как будто из иного мира Он вдохновенье прозревал: Свеча горела, пела лира… Он мог! Но что-то прозевал. И прозябал на полигонах Он в обезьяньей кутерьме, И видел звезды на погонах, А не в большой вселенской тьме. Использовал он сто наречий, Вступив на свой порочный круг… Но скрипка очень человечий, Понятный всем рождала звук. Казалось, он погряз в машинах, Казалось, он зашел в тупик. Но сохранялся на вершинах Его корней простой язык. И каждый жил в отдельной клетке, Презрев содружество пещер… Но это все же были предки, Как питекантроп, например. Небезопасно отрекаться От растворившихся во мгле… Как тысяча иллюминаций, Свеча горела на столе.Обряды
Я все еще сомнением объята, А значит, рано общий сбор трубить… Первопричину древнего обряда Уже давно успели позабыть. Давно обряд не исцеляет раны, Удачу на охоте не сулит. Но в бубны бьют сановные шаманы, И я танцую, как шаман велит. Мне не помеха умное неверье, Я самый стадный зверь среди зверей. Могла бы я уйти и хлопнуть дверью, Но в древнем мире не было дверей. Привычно на стене рисую тигра, Его пронзив магической стрелой, Потом прощаюсь вежливо. И тихо Две двери закрываю за собой. И шарф тугой петлей стянул на шее, Покорно руки прячу в рукава. …Бессмысленны, как жертвоприношенье, Во благо убиенные слова.«Мы все давно узнали, что – почем…»
Мы все давно узнали, что – почем, Какой ценою можно быть неправым. Мы делаем Историю. По главам. И в ней самих себя не узнаем. Самим себе когда-то сдавшись в плен, Речами, как цепями, мы бряцаем, И честно все на свете отрицаем, Не предлагая ничего взамен. А там – за гранью этой суеты — Опять рассвет, и солнце из-за тучи, И азбуку какой-то мальчик учит, И вечным пчелам дарят мед цветы, И девочка сбегает босиком К реке, чтобы умыться и напиться, И тянет то дымком, то молоком, И плачут птицы!Эрудиция
Раскованность, раскованность Ненужная моя, И знаний сфабрикованность Из сгинувшего дня. В мозгу их упакованность Компактную храня, Прикованность, прикованность Титана – не огня. Ведь рассуждая без затей, Я знаю, что не Прометей Огня похитил жар. А он, страдающий зазря, Столетья видит, как заря Родит лесной пожар.«Все смещено во времени…»
Все смещено во времени. И время Нас разделяет мраморной стеной. И Вы навечно остаетесь с теми — Ушедшими, Вы вовсе не со мной. Вы смотрите в упор. И все же мимо Скользит Ваш взгляд. Но я при нем как страж: И взгляд, и Вы мне так необходимы, Что этого в словах не передашь. Тепло руки, стихи и ожиданье — Все словно в восемнадцать лет. Меж тем Уже явилось горестное знанье, Которое является не всем. И мне не быть хозяйкой в Вашем доме, Насторожен, устойчив дом, как дот. По Вашим фотографиям в альбоме Меня другая, словно гид, ведет. И отделяет Вас, и отдаляет, И так оберегает от меня, Как будто временем повелевает, Не оставляя мне от Вас ни дня.Сострадание
Страданье или состраданье — В чем человеческая суть? Мы разобщенные созданья, И каждому намечен путь. Лишь боль едина в мирозданье, Она меняет нас чуть-чуть… Христовых мук переизданье — Как пуля в Пушкинскую грудь. Но, может, сможем мы опять И бескорыстно сострадать, Не унижая безразличьем. Одна слеза – и, может быть, Мы равнодушьем не убить Сумеем с подлинным величьем.К вопросу о бессмертии
Монах корпел в уединенной келье Над перечнем минующих минут. Ночами, словно мать над колыбелью, Он пестовал свой бесконечный труд. А светский франт раскованность безделья Коварным рифмам отдавал на суд, Не связанный тщеславием и целью, Слова сплетал он, как венки плетут. Перебирая, словно четки, даты, Мы узнаем, что жил монах когда-то, Что келью заменил ему архив. А вертопраха ветреное слово, Как старое вино, волнует снова: Он современник, он поныне жив!Королева
Люди, люди… Мы делим сдуру Бесконечный путь на отрезки. Четвертуем литературу С важным видом, по-королевски. Но судьбой, то гневной, то странной, Мы нащупываем мерило: Я сама с королевой Анной В тесной комнатке говорила. Всех веков и времен поэты Составляют ее державу. Страх презрела она и наветы, Долгий путь и вечную славу. Память сердца, как навык детства — То паденье, то восхожденье… Не воюет ее королевство, Но выигрывает сраженья. Справа бьют, подражают слева… О, великая сила слова… Не лежит моя королева Под крестом своим в Комарово, А в пространстве четырехмерном Снова строчки она находит. К ней опять по ночам, наверно, Сероглазый король приходит.«Зачем нам тень Булгакова тревожить…»
Зачем нам тень Булгакова тревожить, Цветаеву провозглашать святой?.. Их было столько, кто прошел сквозь строй Доносов и шпицрутенов острожных. Центральный государственный архив Разительно похож на колумбарий. Здесь боги спят. Но каждый бог, как парий, Почил, оставить имя позабыв. Они зовут, но мы не слышим их, Не видим звездных душ протуберанцы… А Пастернак и Мандельштам – посланцы Страны теней на празднике живых.«И полыхнула в полдуши догадка…»
И полыхнула в полдуши догадка, Вполсилы, вполнакала, в полстроки. О логика! Холодная печатка, Пустое повторение руки. Ты смотришь, но твои глазницы пусты, Как будто в дом покинутый стучусь. Поэзия! Высокое искусство, Бессмертная подделка смертных чувств. И ты легко переступаешь через Мир, сданный на хранение стихам, И не болит искусственная челюсть, Положенная вечером в стакан. А я, не став беспомощней и злее, Вновь безымянно растворюсь в толпе. Не удивляйся! Я тебя жалею: Еще страдать в бессмертии тебе. Там, в вечности, такая ностальгия, Что отомрет спасительная ложь, И хоть давно распалась на стихи я, Ты бронзовые губы разомкнешь. И позовешь, и назовешь впервые То имя, что мучительно скрывал, И, как морщины, трещины кривые Покроют потрясенный пьедестал. Но прошлое, как это имя, кратко, А вечность благодатна для тоски… Во времени забытая перчатка Теряет очертания руки.Триптих
I
Прошедшее горе – не горе. Уходит, как дым из трубы. Но сухо и холодно в горле От речи обычной судьбы. И если прочувствовать строго — Елабуга – в центре земли. Петляла, петляла дорога До самой пеньковой петли. Но все одинаковы раны, И все равноценны слова, И все забывается равно — Елабуга или Москва. Марина, Марина… Мария… Созвучны в любви имена, И славы пустой истерия, И жизни простой тишина. Сидит вдохновения филин На черном, сгоревшем суку. Ах, сколько же горьких извилин В твоем изболевшем мозгу! А память спокойна. Но в полночь, Лишь стрелки часов совпадут, На помощь, на помощь, на помощь Забытые мощи зовут. И ты встрепенешься в надежде… Но мертвые очи – в пыли. Как прежде, как прежде, как прежде, Елабуга в центре земли.II
Холм из цветов. А посредине гроб. И кто-то глаз с покойницы не сводит. И на ее разгладившийся лоб Последнее спокойствие нисходит. А для кого-то горе – не беда, Пока еще не ягоды – цветочки… И капает соленая вода В подставленные вовремя платочки. Оплачен щедро медный голос труб, Литавры сердце рвут в привычном ритме. Ведь похороны – это тоже труд, Искусство даже, что ни говорите. На кладбище промерзшая земля, Ее упорство ломик рвет неловко, У края ямы, душу веселя, До времени скучает поллитровка. И будешь ты стоять совсем один На комьях земляного пьедестала… Покойница узор своих морщин Сопернице коварно завещала. Одна ушла. Другой не подойти. Ты платишь запоздалые долги им. …За нас в начале и в конце пути Неутомимо думают другие.III
Сегодня холодно и снежно, Свободно по календарю. Я так легко и неизбежно Сама с собою говорю. Собаки лают, сосны стынут Среди нетронутого дня… Мои заботы не настигнут Такую легкую меня. Но как похожи в день морозный Десятки непохожих мест — И Переделкинские сосны, И скромный Комаровский крест. Мы долго числимся живыми, Посмертно изредка живем, Не каждый крест украсит имя Химическим карандашом. Нам столько суждено Елабуг! Но мертвым лучше, чем живым. И голову склоняет набок Ворона над плечом моим. Как бог языческий, искусство Расплещет кровь по алтарю, И станет вдруг легко и пусто, Свободно по календарю. И нету ни причин, ни следствий. Одна, одна, совсем одна Бегу по собственному следу, От прошлого отрешена. Зима дорогу поджигает Веселым снегом – не углем. Но будущее поджидает Меня спокойно за углом. И не в котомке, а в портфеле, С последней модою в ладу, Оно несет свои недели, Оно несет мою беду. Как неизбежность терпелива! Но угадав свою сосну, Я безмятежно и счастливо Сегодня за угол сверну.Круг
Неодолима сила алтарей И не скудеет звон церковных кружек. И манит телевизорный елей В синтетику закутанных старушек. Мы снова принимаем королей, В их честь палим из пролетарских пушек И не стыдимся голубых кровей И прочих антикварных безделушек. Неужто бесконечен только круг?! Иллюзия движенья – лишь недуг, Который хочет оправдать философ. На цыпочки привстану над чертой: Меня экзаменует граф Толстой, А вместе с ним – крестьянин Ломоносов!Оркестр
Я пальцами коснусь скрипичных струн И пальцы обожгу. А все же эхо Чужим смычком рожденного успеха Меня в оркестр поманит, как в табун. И подчинится духовой крикун — Ведь мне рожок пастуший – не помеха. Среди чужого ржания и смеха Кривую спину выправит горбун. Я слушаю – и все-таки не верю: Все скрипки – Страдивари и Гварнери, От светло-рыжих и до вороных. Я слушаю – и все же нет покоя: Ведь я касалась звучных струн рукою, А где смычок, чтобы играть на них?!Скрипка Паганини
Умирает скрипка Паганини В славе, под стеклянным колпаком. Раз в году встречаясь со смычком, Расхотела жить она отныне. Танца ресторанного рабыни, Скрипочки с фабричным ярлыком Могут в одиночестве таком Смутно вызвать зависть у богини. Но ее не каждая рука В силах тронуть волосом смычка, Чтобы пробудился звук счастливо. Лишь однажды он придет ко мне И сыграет на одной струне Все, что долго было молчаливо.Гойя
Офорты Гойи?! Что офорты! Добро рождается в борьбе, И в неизвестность распростерто Все то, что он прозрел в себе. Потом мы видели воочью, Как прялка сотворяла нить: Машины приезжали ночью, Чтобы офорты повторить. Теперь размножены офсетом Страданья сквозь туман стекла… Но не торопятся с ответом Боровшиеся против зла. Пусть палача возненавидел Тот, кто не пожелал прощать… Но Гойя ад в душе предвидел, Мы – явь боимся обобщать. Уймись, всесильный инквизитор: Я глух – твои тирады зря! Но потрудился реквизитор — И вот готовы лагеря. А глух – не оправданье это, Лишь кара Божья, нищета… Распятье над землей воздето, Всеобщей стала глухота.Аппиева дорога
Все мы голенькие, Как новобранцы На медкомиссии ангелов, Мы – не горлинки — Протуберанцы. Аппиева дорога. Шествие факелов. А на кресте Сотни мук, воплощенных в Христе, — Может, Бог он, а может, философ. А в кабачке придорожном, В полуверсте, Пьют солдаты вино, Не задавая вопросов. Детей народят мучители эти, Но дети всегда за отцов не в ответе. Кричат, как распятые, в пеленках своих. Но в зыбком и чадном Факельном свете Пойдут новобранцы Через столетья, И в этом – мука, проклятие их.«Плотники творили чудеса…»
Плотники творили чудеса, Возводили и мосты, и храмы, И текла сосновая слеза На распил крестообразной рамы. Чудеса творили кузнецы, Кружева сплетали из металла, И подкованные жеребцы Мчались так, как птица не латала. Им любой заказ в работе прост — Был бы смысл да толика таланта — И для казни сколотить помост, И сработать цепь для арестанта. Для чего перебирать слова? Все равно не обнаружишь сути… Плачет безутешная вдова, Проклиная палача и судей.Палач
Нет, он не убивал и не казнил — Он честно, до усталости работал, И смахивал ладонью капли пота, Как будто бы пахал или косил. Потом он шел домой, в семейный круг, Чуть семеня и чуть сутуля спину, Потом по голове он гладил сына, И голова не падала из рук. Он в меру пил, без люминала спал, Не помня крови и не слыша плача, Спокойных глаз ни от кого не пряча, Листал юмористический журнал. Не будет безработным он. Пока Привычный приговор выносит кто-то, И гулки площади, как эшафоты, И шея ненадежна и тонка.Песенка о Дон-Кихоте
Сеньору Сервантесу некогда, Исполнен смятения взгляд: Героя, рожденного некогда, Все чаще берут напрокат. Он снова проходит инстанции, Хотя заработал покой. И пишет писатель квитанции Дрожащей посмертно рукой, А шарик все крутится, вертится, И каждый приходит просить: – Хочу одолжить ваши мельницы, Чтоб мне Дон-Кихотом прослыть! Пожизненно в употреблении Бессмертный герой Дон-Кихот, Его размножают делением — И все Дульцинеи не в счет. Политики или наркотики Мифических мельниц сильней. И бродят в стихах Дон-Кихотики, Как будто в театре теней. Пока по инерции вертится Вселенское веретено, Как мамонты, вымерли мельницы, А новых не строят давно. И в ножнах ржавеют мечи мои, И нет безрассудных атак… Не выдержав гонки с машинами, Ушел Россинант в зоопарк. Для рыцарей есть резервации, Где застят заборы зарю… И все же сеньору Сервантесу Я так же, как все, говорю: – Хочу одолжить ваши мельницы, Чтоб мне Дон-Кихотом прослыть… — Но это такая безделица, Что даже неловко просить.Тиль Уленшпигель
Нашла рецепт бессмертья в умной книге я — Он для любого времени хорош… Мой друг похож на Тиля Уленшпигеля, Хрестоматийной внешностью похож. Он долговяз, смешлив и нежно бережен С любой из кратковременных подруг, Он остроумен и всегда безденежен… Ну, чем не Уленшпигель? Только вдруг Прозренье принуждает нас к признанию, Что сходство тратит понапрасну он, И скоморошье вещее призвание В бою не вынимает из ножон. И что ему удобнее умеренность, Привычны полусмелость-полустрах… И вот друзья теряют в нем уверенность, И ходят прихлебатели в друзьях. Неужто это признак измельчения? Почила в мире старая сова: Полуулыбка и полумолчание Сменили смех и дерзкие слова. Горит костер двадцатого столетия И правит инквизитор торжество. Мой друг твердит, смеясь, что нет бессмертия. А я упрямо верую в него!Выставка Ван-Гога
Ван-Гога выставляли на Волхонке, Бессмертье выставляли напоказ. И публика московская в охотку Не отводила от полотен глаз. В благоговейной тишине музея, Обычной жизни преступив порог, Преображалась публика, глазея, Как гениально бедствовал Ван-Гог; В искусно созданном сиянье света. Увековечен, понят, знаменит, Как благодарно он с автопортрета На запоздалых знатоков глядит. Но мудры мы лишь тем, что мы потомки. И смотрят с восхищеньем и тоской На выставку Ван-Гога на Волхонке Художник из подвальной мастерской. Во вдохновенной потогонной гонке На краткий миг приходит торжество; Ван-Гога выставляют на Волхонке, Как выставят когда-нибудь его.По законам сцены
Ты сыграл свою роль в этом старом спектакле — Клоунаде с трагически-странным концом. Благодарность и память мгновенно иссякли, И остались седины, как нимб, над лицом. Но для многих еще не окончена пьеса. И покуда твои остывают следы, Безымянный дублер в лихорадке прогресса Добровольно взойдет на подмостки беды. И неважно, что он все равно проиграет — Он сыграет свою невеселую роль. Может, к общему счастью пути пролагает Только общая, даже короткая, боль. И забудут его, как тебя забывают, Но вовеки не будут подмостки пусты: Ведь у вечных трагедий конца не бывает, Потому что родятся такие, как ты. Билетер отрывает контроль на билете, Равноценно доступный и злу, и добру. И в театр бытия допускаются дети, Чтоб на сцене и в зале продолжить игру.Память о мечте
Сквозь вздох органа Домского собора Послышался мне Даугавы стон — Задули ветры с четырех сторон, Колебля Землю – шаткую опору. Шутя, открыла сумочку Пандора, Закрытую с неведомых времен. И тьма настала, душная, как сон, Лишая зрения и кругозора. Придет похмельем память о мечте, Когда сотрутся в памяти все те, Кто просто жил и умирал без грима. История не зла и не страшна: Осуществилась странная страна — Живая тень искусственного Рима!Мы и звезды
Как в муках родовых Вселенная орала, Но для ушей людских был крик неразличим. И солнце среди туч светило вполнакала Между безумным сном и разумом моим. Я, может быть, во сне Офелию играла, Но пробужденье вмиг испепелило грим. Офелия… Так много и так мало, Но больше все-таки, чем мы понять хотим. Неистовство души – в консервах киноленты. Расчетлив скучный мозг, живущий на проценты… У маленьких комет – большой и длинный хвост. Шестого чувства нет. Есть только злая шутка. Безумие – всегда лишь следствие рассудка, Чтоб не оглохнуть вдруг от крика новых звезд.Наследство
Ты праведник, но проповедник Святых грехов моих. В себе несу я, как посредник, Остатки дней былых. Я терпеливый привередник… Но голос прялки стих. Взяла века я как наследник — И промотала их. О, ледников вершинных холод: Судьба войны, беда и голод… Я в рабстве с той поры. А выкуп мой так мал и жалок… Но мы спешили щедрость прялок Сменить на топоры.Сорочка
Говорят, я родилась в сорочке. Редко кто рождается в белье. Очевидно, дальний мой сородич Был портным у Бога в ателье. Но червяк сомненья душу точит, Изнутри сжирает сладкий плод: Сотворив меня, был Бог неточен, Значит, я по-своему урод. Есть у Бога вечные каноны, Строг Всевышний к своему труду. И подглядывает он с иконы, И под видом счастья шлет беду. Окольцует золотым железом, По плечу вериги подберет. Я молчу. Я никуда не лезу. Все равно выходит – поперед. И плюют отставшие вдогонку, И догнать камнями норовят… Господи! Ты эту распашонку Забери, пожалуйста, назад!Олимпийцы
Я проживала на Олимпе, В доисторическом раю. Ракушками века налипли На биографию мою. Грешна была. А кто не грешен?! Но, коммунальный рай ценя, Доисторические греки Тогда молились на меня. Мы жили там почти как люди — В пылу добрососедских склок. Хранили в глиняной посуде Прохладный виноградный сок, Мы тесто во дворе месили, Ловили рыбу, били дичь, И ели горькие маслины, Чтоб сладостный нектар постичь. Играя на бессмертной лютне, Мы смертных трогали до слез… А в Палестине, в жалкой люльке Уже орал Иисус Христос. Мария обнажала груди, Кормила мальчика Христа, И оставалась книга судеб Покуда девственно чиста. Костры над миром не алели, Оберегая божество, И не писали Рафаэли Мадонну сердца своего. Нас было много, слишком много Для этой маленькой Земли. И вот единственного Бога Однажды люди предпочли. О, непорочное зачатье, И вечных заповедей ложь! Но мы-то знали: без распятья Бессмертия не обретешь. И где-то, в новом поколенье, Приходит время старых тем, Нам возвращают поклоненье Для диссертаций и поэм. Теперь музеи – наши храмы, Но с инвентарным номерком. А где-то сына кормит мама Своим бессмертным молоком.Дарвинизм
О, генетическое древо! Как мне добраться до корней? Колосья древнего посева Лишь в тайной памяти моей. Ведь я совсем не королева На суетном суде ханжей, И древняя боялась дева Не только змеев, а ужей. Я начинаю понимать, Что помнить бабушку и мать Сознанью моему довольно… А Ева – прародитель жен — Ходила к Богу на поклон, Чтобы Адаму было больно!Горбун
Просите или не просите, — Заговорил молчун. В полночном светится зените Десяток светлых лун. На ближнего ножи точите — Ведь ближний дик, как гунн… В Элладе, в Индии, на Крите Спокойно жил горбун. Раскрыли мы ему объятья И громко восхищались статью, Как будто горб – не в счет. Мы сами – авторы иллюзий, Но не спасая от контузий, Фантазия течет.Ясак
Говорим, говорим, говорим… Нас кольнул Грибоедов намеком, Но снимаем сегодняшний грим, Суть его не считая уроком. Пусть во прахе прославленный Рим. Эй! В пути подтянись одиноком! И фалангам сражаться. Но им Так всегда предназначено роком. В камне – матери дрогнувший лик… Мы идем против войн, против клик, Мы готовы кормить побежденных! Все теперь в этом мире не так: Побежденному носит ясак Победитель в ладонях сожженных.Скульптура
Природа, пользуясь рукой творца, Жизнь из темницы камня отпускает, И мудрой плоти вечная пыльца Родившуюся женщину ласкает. И вот уже видны черты лица, Стыдясь, Венера руку опускает. Но боль неутолимого резца Она и в вечности не расплескает. А время, притаившись, как паук, Ждет часа, чтоб лишить Венеру рук, Морщины высечь с тупостью невежды. Уже без головы летит Нике… Но в этом удивительном броске Она возносит торжество надежды.Очевидцы
И снова привирают очевидцы И сами верят домыслам своим. Мы в зеркалах кривых чужие лица Взамен своих – утраченных – узрим. История! О, как правдив твой грим, О, как пронумерованы страницы! И оживает прошлое, как Рим, Припавший к мраморным сосцам волчицы. Уходит человек, как пилигрим, Сквозь памяти рассеявшийся дым В какие-то грядущие столицы. О прошлом ясным днем мы говорим, Его в пример приводим молодым. А по ночам нам будущее снится.Хорей
Все говорят мне: «Будь серьезней — Сонет хореем не пиши…» Но сердце бьется силой грозной Хореем в глубине души. Приходит пониманье поздно, В свой час. А раньше – не спеши. Всю жизнь живи с хореем розно, Но на понявших – не греши. Кто знает, что такое зрелость: Плода проверенная смелость Иль ранней завязи урок?! Для зрелости необходимо Все в жизни принимать терпимо. Тогда пойдут уроки впрок!Бродяги
Когда сверкнула вольтова дуга, Душа не изменилась в человеке, Аллеи в асфальтированном веке Не отменили рощи и луга. Все так же белы вечные снега, Все так же сини небеса и реки, Мы из Варяг плывем все в те же Греки, Два локтя положив на берега. То плавно подчиняемся теченью, То волоком одолеваем тренье — Нам по плечу и суша, и вода. Себе придумывают жизнь бродяги… Поблекли Греки, вымерли Варяги. А мы плывем – неведомо куда.Местоимения
Не принимает мысль местоименья МЫ. Что в нем – лишь Я и ТЫ или ОНИ для суммы. Статист статистики за счет чужой сумы, За счет безличности выходит в толстосумы. Но в ярмарочный день сметливые умы Не купят у меня подержанные думы. Я жизнь беру свою у Времени взаймы, И Вечность для меня, как ростовщик, угрюма. Опять Бетховен глух, в лечебнице Ван-Гог И Достоевский вновь романы пишет в долг, — Не дожили они до нового стандарта. Но Мона Лиза ждет в бессмертье полотна, Когда к ней подойдет в иные времена Не Homo Sapiens, а Homo Leonardo.Реставратор
Я очень средний реставратор, И все ж клиентам нет числа, Как будто мистификатор Иль зазывалу наняла. Пока настороже локатор, Найдутся для меня дела… Я тихой жизни декоратор, Рисую видимость тепла. Ведь люди памятью пустою Стремятся возродить устои, Боясь грядущих перемен. Среди картин, не слишком редких, Скупают предков в пышных клетках Своим прапрадедам взамен.Любовь
Любить и быть любимым — Какой святой удел! Но мы проходим мимо, Уходим за предел. Мы пишем, пишем, пишем Отчеты и труды, Не замечая свыше Ниспосланной беды. Мы точим, точим, точим Какую-то деталь, И о любви хлопочем, Как будто режем сталь. Мы пашем, пашем, пашем… Потом, смывая пот, Глядим – под крышей нашей Влюбленность не живет. Но разговоры эти По-своему смешны: Монтекки с Капулетти Нам больше не нужны. И все летит планета В бездумный оптимизм… Ромео и Джульетта — Сплошной анахронизм.«Не боги, конечно, горшки обжигали…»
Не боги, конечно, горшки обжигали, С Олимпа пошло разделенье труда. Но боги горшечников не обижали, И сами усердно трудились тогда. Воители, судьи, певцы, костоправы В обмен на горшки отдавали умы. Они не гнушались почета и славы, Но разве гнушаемся почестей мы? – Юпитер, ты сердишься, значит, не прав ты! Ну, как громовержец такое терпел? Его одаряли всей горечью правды Горшечник, кожевенник и винодел. И смертная женщина Бога рожала В страданьях, в неведенье и торжестве. И даже сомнению не подлежало, Что Бог и ремесленник – в кровном родстве. И ныне, и присно с пером или плугом В счастливой усталости избранных дел, Мы все одинаково служим друг другу, И каждому свой достается удел.Археология
Как режиссер, распределяет роли Эпоха. И когда-то Эхнатон Настолько был правителем крамольным, Насколько это может фараон. Богоотступник и богоискатель, Провидел он забвенье и позор И повелел тогда, чтобы ваятель Жену увековечил. До сих пор Царица Нефертити правит миром, И, покоряясь диковинной судьбе, Она дешевым стала сувениром, Брелоком, медальоном, пресс-папье. Чужого счастья крохотный осколок, Чужой беды глазурный черепок — Из праха извлекает археолог, Как в скважину замочную, глядит. Деяния описывая скупо, Хранит всегда невозмутимый вид, Но иногда мне кажется, что в лупу, Как в скважину замочную, глядит. Находкой уникальной увлеченный, Толпе зевак и праздному суду Раскапывает молодой ученый За давностью забытую беду. Постойте! Истины не говорите — Она бывает бесполезно зла… Но трудно скрыть: У нашей Нефертити Безвестная соперница была. Любовь иль только прихоть Эхнатона? Счастливица она или изгой? Не фараон — Супруга фараона Решала участь женщины другой. Запретна память, Имя на гробнице Соскоблено усердием раба. Судья всевышний! Разве у истицы Наладилась от этого судьба?! В невинности научного журнала Трагедия нашла последний акт. Неразбериха древнего скандала Преобразилась в беспристрастный факт. И вглядываюсь я в изображенья, Прислушиваюсь к голосу молвы И нахожу приметы пораженья В надменности бессмертной головы.Атлантида
Говорят, что нашли Атлантиду — Смертной вечности ветхий лоскут. Как быка после пышной корриды, По арене ее волокут. Смыта кровь океаном и лавой, Бандерильи ничтожно легки, И тореро, увенчанный славой, Протирает счастливо очки. Завершают работу потомки, Из гипотез открытия ткут, И научных сокровищ потоки Под музейные стекла текут. Но пройдут катаклизмы оваций И газетных статей суета. Кратковременны сроки сенсаций — В скучный факт превратится мечта. Все легенды подвергнут очистке, Отделив достоверности грамм, И чудес инвентарные списки Станут пунктом учебных программ.Обратная связь в обратном сонете
За горизонтом, за чертой, за краем Мы пристани привычные теряем, Но обретаем новые моря. Мы только в детстве в моряков играем, Потом, забыв о море, умираем, Бросая в бухты быта якоря. И откровенья древнего царя Сегодняшней наукой поверяем… Молчи, Екклесиаст! Все это зря — Ведь мы иную участь выбираем. Успокоенье – участь бунтаря, Прельстившегося обретенным раем. Ведь все мы начинаем с букваря И непременно Библией кончаем.Маски
Четыре маски греческих трагедий Сегодня четвертованы. И вот Одна из них другую не найдет. Вторая позабыла облик третьей. Среди церквей, костелов и мечетей Благочестиво мечется народ, И простота язычества не в счет В тупой замысловатости столетий. Но думаю, что знал уже Софокл, Как человек коварен и жесток, Как он идет, в хитоне камень пряча. Не дрогнула тогда его рука. И он настиг меня через века: Трех масок нет… Осталась маска плача.Шарлатаны в граните
В какую ночь обычную зачат Младенец, ставший необыкновенным? Причуда хромосом, а не стандарт, Ошибка гения в балансе генном. Но почему-то люди говорят, Что мало совершенства в совершенном. Поэт, безумец или телепат — Все шарлатаны в этом мире тленном. И лишь потом, в посмертной суете, Его оценят и поймут все те, Которым он казался костью в горле. Ну, что ж! Пусть он взойдет на пьедестал, Чтоб мне его спросить: «Ты не устал?» Чтоб руки снег со щек гранитных стерли.«Всегда мне странно сочетанье…»
Всегда мне странно сочетанье Ракет и древних птичьих стай. В бессмертье скачут изваянья, И едет в прошлое трамвай. Он так обидно обезличен. Как экспонат придя в музей, Не завоюет он табличку: «В НЕМ ЕЗДИЛ НЕКТО». Жизнью всей Для всех трамвай был предназначен, Дугой привязан к проводам, Неповоротлив и невзрачен И ненадолго нужен нам. И я совсем не понимаю, Как, просто оторвав билет, Трясутся в медленном трамвае Изобретатели ракет. Идут на переплавку рельсы… И вот полупустой вагон В последнем недалеком рейсе Гремит на стыке двух времен.Март на Цветном бульваре
Цветной бульвар… Такой недлинный, А все же нет ему конца. Два долгих шага от Неглинной И до Садового кольца. Цветной неон кинотеатра И снега белая печаль Как будто в середине марта Еще бесчинствует февраль. Вокруг толпа людей похожих, Как будто чьи-нибудь персты Лепили мартовских прохожих Из однозначной пустоты, Как будто с помощью копирки Размножен был незрячий взгляд… Послушно повторяет в цирке Мое смятенье акробат. Под видом солнечной мимозы На запорошенных лотках Втридорога́ сбывают слезы Торговки в вязаных платках. Дыханье стало снежной пылью, Отторгнутое от меня… Стеклянный призрак изобилья — Центральный рынок – в центре дня.Гармония
Не фразы надоедливо-трескучие, Не повседневной спешки марафон, — Гармония случайного созвучия Во мне рождает эхо, словно стон. Гармония любви и благодарности, Гармония рассвета и щегла… Гармонии не нужно популярности — Она всегда пребудет, как была. Летела пылью вслед за дилижансами, Как воздух, принимает самолет, Она звучит старинными романсами И скрипкой удивительной поет. В мир диссонансов, в чрево разногласия Ворвется памятью, остудит лоб, Единственная, искренняя, страстная, Тревожащая душу, как озноб. Иному теоретику покажется, Что каждому – гармония своя. Она не возразит и не покается — Она ведь просто сущность бытия.Рассвет
Уже рассвет на небе, как обнова, — Над крышами бараков и дворцов, Один из многих истинных даров, Надежды и любви первооснова. Пылает солнце в блеске куполов, Безбожниками позлащенных снова, На обновленных призраках былого И на фасадах блочных близнецов. У человека странный интерес: Он, как в тюрьму, загнал себя в прогресс, Пытался перестроить всю планету. Ему не по заслугам повезло, Что всем стандартам нынешним назло Восходят нестандартные рассветы.«Источены на безделушки бивни…»
Источены на безделушки бивни. Но мне-то что за дело до слонов? И что за дело мне до незлобивых Охотников, торговцев, мастеров? Живу я в доме, сложенном из камня, По ровному асфальту я хожу, И музыка высокая близка мне, И в книгах я отраду нахожу. И худосочная луна над садом, А не над лесом девственным плывет. Но слоник костяной трубит надсадно — В нем мертвый слон неистово живет, И клавиши под пальцами бунтуют, Их острия мне в грудь устремлены, Не я убила их, но негодуют И на меня восставшие слоны. И тем мне тяжелее, тем обидней, Что начинаю понимать уже, Как много созданных для битвы бивней На безделушки извела в душе.Параскева-пятница
Ни до Углича, ни до Суздали Все добраться мне недосуг, Суетливые будни создали Заколдованный, прочный круг. Древний мастер… На смутный лик его Время ставит свою печать. Говорят, до Ростова-Великого В электричке рукой подать. И теперь с удивлением пялится, Вековые глаза скосив, Со стены Параскева-пятница На оптический объектив. Надо б съездить к ней, объясниться мне, Показать бы ей, как пароль, Что и я ношу под ресницами Вековую черную боль. Я святых мольбами не балую, У меня они не в чести, Ну, а с нею, как бабе с бабою, Душу хочется отвести!«Однажды мальчик мне сказал…»
Однажды мальчик мне сказал: – Я слышу, Как в небе шевелятся облака! — И тоненькая, с цыпками рука Вспорхнула, чтоб лететь все выше, выше! Мой храбрый мальчик! В недрах всех эпох Случались люди с обостренным слухом. Не нравились они царям и слугам, И никогда не помогал им Бог. Им приходилось рано умирать И трудно жить Всего за миг единый — За счастье видеть, и писать картины, И строчки торопливые марать. Так было. Быть тому во все века. И потому, всех тяжестей превыше, Мне храбрый мальчик говорит: – Я слышу, Как в небе шевелятся облака!Капли датского короля
Не заметив морщин и проседи, Как заправские лекаря, Вы из детского сна приносите Капли датского короля. С кашлем каплями вы не сладите, И не в силах я помешать По-аптекарски к детской сладости Взрослой горечи подмешать. Вы меня все лечите, лечите, Говорите: «Дыши. Не дыши». Словно снежную бабу лепите Из моей озябшей души. Но весна грачиная кружится, Так неистова и светла, И топорщится в мутной лужице Под ведром дырявым метла. И бесплодными прутьями машет мне, И подмигивает хитро, А над ней жестяными маршами Жестяное гремит ведро. Ну, куда же теперь податься мне?! Словно мыльный пузырь – Земля… Разве вылечат принца датского Капли датского короля?!«Язычников крестили христиане…»
Язычников крестили христиане, А христиан воспитывал Ликбез. Уже в защитном френче, не в сутане, Нам нес пророк веление Небес. И мы уже привычно обвиняли Ярилу, Иисуса и других, И мы уже публично забывали О том, что сами выдумали их. И за колючей проволкой безбожник, Как на костре среди горячих тел Друзей своих не проклял осторожных, Лишь Господу возмездия хотел. А Бога нет. Нет Бога никакого. И нам самим ответственность нести, И нам самим себя карать сурово, И нам самих себя просить: «Прости!»… …Молчи! Не надо говорить об этом. Пусть засосет трясина тишины. Галактикам, и звездам, и планетам Орбиты – постоянные – нужны!Эмансипация
Чистота – такой пустяк В центре светлого круга… Правда, был бы особняк, Пригодилась бы прислуга. А в стандартном доме так: Ждешь ли мужа или друга, Уберет любой дурак Блочный рай в часы досуга. Значит, все-таки прогресс: Независимость и вес — В собственных глазах, хотя бы. Надрываемся с утра… Устают не как вчера Независимые бабы.Молчание
На морозе губы онемели, От молчанья онемел язык… Кажется, от самой колыбели Я несу свой молчаливый крик. Снег под Рождество украсил ели — Этот снег из слякоти возник. Пониманья чуткие качели Равновесье обрели на миг. Замер мир. Не помню, где я. Может быть, я просто молодею, Или отказали тормоза? Но покуда в бездну жизнь несется, Я самозабвенно вижу солнца — Мирозданья чуткие глаза.Осень
Осень долгая, как вечность — Хоть за птицами лети. Слякотную бесконечность По кривой не обойти. Бесконечная беспечность Тоже не нашла пути, Даже неба многосвечность Не сияет на пути. Очень хочется поплакать… Но до слез ли в эту слякоть?! Не найти дорог своих… Бесполезны все упреки. Все равно глаза и щеки В крупных каплях дождевых.Сердце
Сердце стучит у меня, как у птицы, Птичий – известно – так короток век, Трудно мне с птичьим уставом ужиться, Все понимаю я, как человек. Но ощущение синих небес Жалует мне наслажденье такое, Что превращаются пустоши – в лес, А ручеек протекает рекою.«Облетели меня, обошли…»
Облетели меня, обошли Все мои долгожданные птицы. Не курлыкали мне журавли, Не ласкали ладони синицы. Может, скоро настанет зима, Воробьишкой голодным пройдется. А быть может, я птица сама, И меня кто-то ждет – не дождется?! Но взмахну я усталым крылом, Путь укажет мне серая стая… Все мы ждем. Все кого-нибудь ждем, Друг от друга всегда улетая.«Когда-то бабы голосили…»
Когда-то бабы голосили, То от беды, то просто так, Как будто душу выносили На праздный пересуд зевак. Незрячи и простоволосы, Причитывали мудрено… Их древнее многоголосье Не слыхано уже давно. Теперь мы стали терпеливей, Гром не гремит среди грозы… Но разве горше прежний ливень Одной теперешней слезы?!«Опять дожди, опять идут дожди…»
Опять дожди, опять идут дожди, Опять тревога ожила в груди. Не жди меня. Не жди меня. Не жди. Разлука будет долгой, как дожди. Не видно птиц. Не видно в небе птиц. У черной тучи четких нет границ. Как много в мире незнакомых лиц! Нет твоего лица, как в небе птиц. Замерзнет дождь и превратится в снег. Засохнут слезы, превратятся в смех.«О капли, капли, словно камни…»
О капли, капли, словно камни, И стон оконного стекла… Из-за Печоры или Камы Ты, туча, под окно пришла? Дожди невыносимо сея, Рассеяна и тяжела, Из-за Оби иль Енисея Ты, туча, под окно пришла? Дожди привычны и нередки, Но почему же так темно?! Ты вобрала в себя все реки И выплеснула мне в окно.«А я иду по улице…»
А я иду по улице, И древний шар земной Все крутится, и крутится, И мчится подо мной. Вот серый дождь сменяется Бесчинством белых вьюг, В итоге получается Один и тот же круг. О головокружение Одних и тех же лет! И тщетность поражения, И суетность побед. Долбит капель по темени, Прозрачна и черна, А может, нету времени? Все выдумка одна!«По графику отходит электричка…»
По графику отходит электричка От суетной перронной полосы. Всегда спешить – уже вошло в привычку, Но у меня испортились часы. Ругая августовскую погоду, От жажды и жары сходя с ума, Пьет очередь у автоматов воду, А на моем календаре – зима, Играют в спортлото девчонки в мини И парень в джинсах с челочкой на лбу. Сложна гознаковская четкость линий, А я уже проверила судьбу. Мгновение давно остановилось, Один и тот же день, одно число — Судьбы моей единственная милость… А все считают – мне не повезло. И у людской реки, не зная брода, Я медлю, неподвластна бытию. Миную газированную воду, Из родников воспоминаний пью.Свидание
Сломаюсь я в земном поклоне, А хочешь – буду бить челом. Но ты доверь моим ладоням Свой меч, свой щит и свой шелом. Ты под рубахой домотканой Былые шрамы не таи. Войду я плакальщицей странной В былины первые твои. Бесстрастно времени движенье. Сто лет назад или вчера Ты сделал вечностью мгновенье По мановению пера, И снова, снова – Где ты? Где ты? Кричу я с древнею тоской, Поруческие эполеты Черкесской трогая рукой. И наша встреча длится, длится… Дымится грива у коня. Войной опалена страница. Тревожна память про меня, И мы с тобой не знаем сами, Что срока ожиданью нет. Когда-то след чертили сани, Теперь ракеты чертят след. Но мы воспоминанья гоним, Но мы на вечный миг вдвоем. И ты доверь моим ладоням Свой меч, свой щит и свой шелом.«Мы нежность принимаем за любовь…»
Мы нежность принимаем за любовь, Отсутствие беды считаем счастьем… К абстракции приводит нас лубок, К инфаркту – трепет пульса у запястья. И опыта оптический обман, Как в перевернутом бинокле, – мелок, И мне сложней не кажется орган, Чем барабан и медный гром тарелок. Но в старомодной простоте души Твержу: «Люблю!», не смея чувств проверить. И ты моей невольной, честной лжи Не торопись, пожалуйста, поверить. Нам бремя непосильных скоростей Смещает время, путает оценки. Опасны относительность страстей И правды всевозможные оттенки.«Я, наверное, в детство впадаю…»
Я, наверное, в детство впадаю, Я в неверное сердце стучу. Приглядись – я еще молодая, Я тебя потерять не хочу… Разговоры, опять разговоры! Разве горы словами свернешь? Не любовь – деловитость конторы, И привычная, нежная ложь. Но я верю еще в воскресенье, В восхожденье счастливого дня. И прошу у тебя я прощенья: Ты прости, что ты предал меня! Будет утро беспамятно чистым, Без единого следа снежок. Будут дни, неподвластные числам, И январского ветра ожог. Удивленное, детское зренье, Звук, вобравший в себя тишину, В первый миг моего сотворенья На тебя в это утро взгляну. Первым чувством своим угадаю Неизбежность любви и потерь… Я, наверное, в детство впадаю, Если этому верю теперь.«Не было белого самолета…»
Не было белого самолета. Была нелетная погода тоски. Не было белого самолета — Было только купе, Черное от угольной пыли, И три пассажира, И ни одного свободного места Рядом со мной. Колеса — Бухгалтерские счеты времени — Складывали секунды, Вычитали их из моей жизни… А я все верила в невозможное, Я верила, Что увижу на перроне тебя И медленно вытру слезы Твоими ладонями. Тысячи метров медной проволоки В землю зарыты, Чтобы я могла слышать тебя, Но я не знаю, Что нужно зарыть в землю, Чтобы я могла видеть тебя, И молчать, И к тебе прикасаться. Меня встретили незнакомые люди, И осталась в душе Чернота угольной пыли. Только где-то — В самой глубине неба — Покачал крыльями Белый, Невероятный самолет…«Посреди августовского неб…»
Посреди августовского неба Жарко желтело солнце, И казались волосы нимбом Над цветущим лугом из ситца. Был твой голос так странно нежен, Словно детский бумажный кораблик, Был твой голос так странно нужен, Что обман меня не коробил. Разве дело во лжи или правде? Только завтра ложь обнажится, Трону я оголенный провод — И уже не смогу обижаться. А сегодня на карусели Я лечу на алой лошадке, Так по-детски мы куролесим, Что вспотели на гриве ладошки. Все стремительней конь несется — Я поводьям не доверяю, И сижу я, как на насесте, На коне моем деревянном. Карусели мне надоели… Вон торгуют с лотка леденцами! Видно, детство меня надуло — Леденцы я тогда не ценила. Так пойдем же бродить по лесу, И румянец в тени остудим, И пройдя по опавшим листьям, Сорок влажных следов оставим. Ускользающие секунды, Заверения и заветы… Но пойми, есть только сегодня, И вовеки не будет завтра. Правда, есть у надежды живучесть, А у времени – сто уловок… Может быть, покорится вечность Совпадению двух улыбок?!«Вот Библия с гравюрами Доре…»
«Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Песня Песней Вот Библия с гравюрами Доре. Огромный том заласкан и залистан. И в нем сегодня, словно в букваре, Ищу я азбуку предвечных истин. То плачу, то совсем без слез скорблю, Переживая снова боль чужую… – Я не люблю. Я вовсе не люблю… — Тебе влюбленным голосом твержу я. Мой черствый век! Он научил меня Быть сдержанной. И на мое несчастье Взамен живого, теплого коня Мне выдумал троллейбус синей масти. А ты меня антоновкой кормил, Поил вином… Но все мне было мало — И мне вино не прибавляло сил, И яблоко меня не освежало. Сухой траве уже не нужен дождь, И небо ни к чему убитой птице. И ты уйдешь. Когда-нибудь уйдешь. Чтоб никогда уже не возвратиться. И потому так тяжко я скорблю, Переживая снова боль чужую… – Я не люблю. Я вовсе не люблю… — Зачем… зачем… зачем тебе твержу я?!«Окружена твоей любовью…»
Окружена твоей любовью, Поражена, обожжена, Склоняюсь тихо к изголовью Того, которому жена, Того, с которым я делила И черный хлеб, и черный день, Того, которого любила, Того, которого укрыла Сейчас моя чужая тень. Он спит. Он ничего не знает. Он не узнает ничего. Тихонько тень моя сползает С лица усталого его. Пусть думает, что сон не в руку, Доволен будет пусть судьбой! А нам – нести любовь, как муку: Все врозь и все вдвоем с тобой.Перестук
Ты приходи ко мне, любимый, А не придешь – так позови. Все поезда проходят мимо Несостоявшейся любви. Их перестук однообразен — Невдохновенный перестук. Наверное, таким обязан Быть вечный перестук разлук. У каждого – своя орбита, А значит – не бывает встреч… Поэтому и приходи ты, Чтоб перестук любви сберечь. И сердце барабанной дробью Любовно встретит твой приход… Что называется любовью — Гадаю я который год. И краткость противостояний, И отрезвление разлук, Когда уходит мирозданье От тяжких, неподвижных рук. Когда стучит сама природа В незримой жилке на виске, А после твоего ухода На долгий век – тепло в руке.Любовь
В любви мы и всезнайки и невежды — Таков физиологии удел, Когда свободно сбросив ложь одежды, Мы доверяем искренности тел. Но неосуществимые надежды Однажды кто-то выдумать посмел, И отчуждение возникло между Двумя, перешагнувшими предел Безмерной щедрости и подаянья, Усталости, бессилья, увяданья, И выдумок и радостей земных. И капля яда в приворотном зелье Сулит необратимое похмелье, И невиновен ни один из них.Сила привычки
Время идет – я все меньше нужна, Но не ропщу: ведь бывает и хуже. Наша дорога все уже и уже, Пыльным бурьяном покрылась она. Так незаметно-привычна жена, Словно жара или зимняя стужа… Все перемены известны к тому же, Словно застыли навек времена. Кажется, чувства предчувствует он, Знает, какой я увидела сон, Что намечаю на будущий день я… Может, привычкою он ослеплен? Жизнь нам диктует опасный закон — Вечно изменчивый облик мгновенья!Игра
Где этот нераскрывшийся бутон, Которому цвести необходимо? Любого времени загадка он, Его разгадка – неисповедима. Где мне послышался, как эхо, стон? Куда бежать – на помощь или мимо? Пока поступку я ищу резон, Причина удаляется незримо. Ведь жизнь – не в рабстве пленки, как кино, И ей остановиться не дано, Чтобы монтаж решить совсем иначе. Продуманного не сыскать добра. Судьба любви – нелегкая игра, В которой поступить нельзя иначе.Шахматы
В тени ветвей, на лавке шаткой, Уже который час подряд Бойцы неутомимых шахмат Свою стратегию вершат. Кто б ни был – конный или пеший — Все бьются из последних сил… Вот резвый конь усталой пешке На миг дорогу уступил. Слоны метались вправо, влево, И наступая, и разя. Ах, как нелепо, как нелепо Терять сановного ферзя! Летело солнце, плыли липы, Плескался в небе дальний флаг, А черные вторгались лихо На шаткий королевский фланг. И все вокруг – земля и солнце, И пыль аллей, и свежесть крон — Глядело: как же он сдается, Бессмертный шахматный король. …О, шахматных сражений пекло! А я – потом. Всегда – потом. Ты мне скомандуешь, как пешке, Свое короткое: «Пойдем». Тебе скажу я откровенно: В спортивных тапках, вся в пыли, Я все равно, как королева, Я не сдаюсь, как короли. Когда признанья отзвучали? Не сможем, верно, вспомнить дня… Но ежедневно, как вначале, Ты завоевывай меня!Лошадки
Деревянные лошадки На заброшенном дворе… Лет и ливней отпечатки, Словно на живой коре. Кто играет с жизнью в прятки В затянувшейся игре?.. Дней останки, чувств остатки, Как листки в календаре. Ах, раскрашенные кони! Вам не ринуться в погоню За подросшим седоком. Жизнь стремительнее речки… Я сама хожу в уздечке С полинявшим поводком.Заборы
О, листвы тревожный шорох, О, зеленый шум земли! Может, это грозный порох, Тот, что не изобрели?! Вечный бег, но в прочных шорах Мы однажды предпочли, Душу выразив в заборах И границах – как могли! Мне под шум листвы тревожно. Я пытаюсь осторожно В сердце этот шум унять. За стеною кто-то дышит… Но кричу – никто не слышит, Не спешит меня понять.Кровообращение
КРОВАВЫЕ РЕКИ ВПАДАЮТ В СЕРДЦА И СНОВА ИЗ НИХ ВЫТЕКАЮТ. По кругу… по кругу… И так до конца, И к сердцу умы привыкают. Инфаркт, лейкемия, кусочек свинца Бессрочную тьму предрекают. Природа дрожащей рукою скупца Давая нам в долг, – упрекает. Кругляшки минут я напрасно коплю — Терплю и люблю… Все равно уступлю И бегать по кругу устану. О, этот извечно просроченный долг В Каспийское море спадающих Волг, Где выхода нет к океану.«Поговори со мной, поговори…»
«Поговори со мной…»
Г. Иванов Поговори со мной, поговори… Среди домишек старого квартала Качаются старинно и устало Забытые прогрессом фонари. Поговори, поговори со мной… Вот вынырнет из-за угла пролетка, И лошаденка рыженькая ходко Тряхнет ветхозаветной стариной. Поговори со мною, не молчи! В окошках здесь решетки, как у тюрем, За желтоватым довоенным тюлем Обоями прикрыты кирпичи. Поговори, избавь от тишины! Здесь время так немыслимо тягуче, И погасило дуновенье тучи Огарок оплывающей луны… А за углом квартала – шар земной — Высотное, машинное величье… Там спешка, суета и безразличье… Так не молчи – поговори со мной.«То полдень, то полночь…»
То полдень, то полночь… В природе Все встало сегодня вверх дном, Большая Медведица бродит, Как призрак, под Южным Крестом, Тяжелые, мокрые травы От ветра встают на дыбы. Налево иду, как направо, К судьбе ухожу от судьбы. Вчерашним иль завтрашним жаром Мне губы опять обожгло? Сомнение дождиком ржавым С дрожащей ресницы стекло. А песня – о счастье кричала В чужом освещенном окне! Но в ней ни конца, ни начала Узнать не позволили мне. Живи золотой серединой, Минутой единой живи! И звуки ударили в спину, И я отреклась от любви.«Вот ты уверен…»
Вот ты уверен, Что ты виртуоз: Ты мною владеешь, ты жаждешь успеха! Как сладко быть повелителем слез, Как лестно быть повелителем смеха. Но ты ошибся: Я не труба, Я тропа, Я обрывом кончаюсь. Шорох камешков, как пальба, Ты стоишь над обрывом, качаясь. Я слишком долго была слаба, Была я доверчивой, доброй и нежной. Теперь я груба, Я – твоя судьба, Я слепа, И я неизбежна. К другим уходи. С моего горба Сбрось этот груз, Эту грусть, ради бога! Но я тебя обступлю, как толпа, Но я тебя обману, как дорога!Паденье
Паденье – это только совпаденье Моей судьбы с законом тяготенья. Для этого не надобно уменья — Лети, одолевай законы тренья. И вечность, заключенная в мгновенье, Единственного требует – терпенья, И видит обострившееся зренье Цветную точку моего паденья. Для этого не надобно уменья, А только – ускоренье, ускоренье… Последний миг – как первый миг творенья! А может, это просто невезенье? Паденье – это только совпаденье Моей судьбы с законом тяготенья!Степь
Трава в степи засохла до корней — И травы, и цветы, как губы, сухи. Как после сокрушительной разрухи, Осталась степь, изведав суховей. И жизнь бесплодна, как театр теней, И безголосы домысли и слухи… Стоят цветы как древние старухи, Пугаясь зримой бренности своей. Но все минует – осень и зима, Я вспомню нежные слова сама, Как вспоминает вечность плод в утробе. Минует прошлогодняя трава, Но вновь родятся нежные слова, Как солнца луч на голубом сугробе.Деревянный дом
Дощатый пол, дощатый стол, Дощатый потолок… Я жду тебя! Ты приходи Ко мне на огонек. И деревянные дрова Начнут трещать а печи. Послушай музыку огня, Почувствуй, помолчи… О, скромный, деревянный скрип Сосновых половиц! Здесь все их дерева, Но нет Здесь деревянных лиц. Здесь все из дерева, Но нет Здесь деревянных слов, Лишь стрекот старого сверчка И стареньких часов. Сосновый дух, суровый вздох Деревьев за окном… Я жду тебя! Ты приходи В мой деревянный дом. Пока он здесь, пока он есть, Пока еще могу Построить деревянный дом Из щепок на снегу!Ты
Гордиев узел разрубя, Я принялась за дело: Пою с тобой и без тебя, Как до тебя бы пела. В охотничий рожок трубя, Я защищаю смело Все, что любя и не любя Присвоить я хотела. А ты все знаешь: фальшь и ложь, Но мне ни в чем не подпоешь, Наверно, жить умеешь. Бродячих кошек и собак, Наверное, жалеют так, Как ты меня жалеешь!Тяжести
Голова болит опять — В сотый раз я повторяю. Но и в боли претворяю Все, что можно претворять. У иных – такая гладь Что известно им едва ли, Как одна седая прядь Тяжела… Да тяжела ли?! Больно оглушает медь… Ей – начищенной – шуметь Должно в марше на параде! Но ни в чем не уступлю, Если боль в глазах ловлю И растерянность во взгляде!Счастье
Я босиком по терниям иду. Мне за подол цепляется репейник. Ведь поняла я на свою беду, Что я – как Галилей или Коперник. И задыхаясь на костре в чаду, Я стражду за тебя, мой современник. Губами обгоревшими, в бреду, Стихи шепчу, стихи не ради денег. В моем бреду помочь бессилен врач. Мой друг, ты стетоскоп участья спрячь: Рецепты счастья выглядят иначе. Мне тягостны сочувствие и лесть. Я повторяю только то, что есть: Я думаю, смеюсь, люблю и плачу!Маскарад
О этот странный маскарад: Здесь маски, как живые лица, В пределах моды и традиций Осуществлен любой наряд. Здесь с голубого потолка То Солнце, то Луна сияет, И зиму здесь весна сменяет, И танец тянется века. В ладони горяча ладонь, Причудливо смешенье красок. А мы с тобой вдвоем без масок Летим как бабочки в огонь. Вдвоем, среди враждебных глаз, В лохмотьях крыльев обожженных — Два человека обнаженных. Смотри – они боятся нас!Монолог сосны
Клянусь, кляну и заклинаю, Клин клином вышибаю боль… Привычностью закалена я — От перемен меня уволь. Я – как игрушка заводная, Актер, не выучивший роль… В чем сахар жизни, я не знаю, Но знаю я, зато, в чем соль. Я, как сосна, росла и крепла… Мгновенье – от огня до пепла, Не открестишься от судьбы. Мы были зелены, красивы, Но главное – мы были живы, Теперь мы – мертвые столбы.Старый дом
В запустенье старинного сада Умирает заброшенный дом. За морщинистым ликом фасада Выцветает минувшее в нем. Но еще сохранилась ограда, Старый дуб с опустевшим гнездом. Пустотой равнодушного взгляда Полон каждый оконный проем. Нерадивые, странные дети! Вместо грядок – колонки в газете, Вместо лошади – велосипед. Продолжением старых погостов Догнивает бревенчатый остов, Уходящий за прошлым вослед.Хищники
Мы легкомысленны от века, Мы легкомысленны всегда. Легко сгоняет краткость века Нас в безответные стада. Меня пугают лесосека, Плотины, шахты, невода… О, хищный норов человека, Убийств мудреных череда. А наши дальние потомки Возьмут, как нищие, котомки, Пойдут к природе на поклон. Она добра, она ждала бы, Но так сопротивлялась слабо, Что нет ни гроша испокон.Прощание
Однажды на излучине речной К природе приобщались горожане. И вдруг заречье выплеснуло ржанье — Сраженье звуков с тишиной ночной. О, странное видение коней Над разудалостью консервных банок, Бутылок, колбасы, ржаных буханок, Расстрелянных газетных новостей. Зачем нас призрак прошлого настиг, Медлительный, как дротик на излете?! Ведь кони не из бронзы, а из плоти, — Как мамонт или саблезубый тигр. Они легко переплывали тьму По магии мальчишеского свиста, Как будто бы прибывшие из Свифта В наш мир. Но по касательной к нему. А может, это просто полотно, Натянутое на подрамник леса? И вдруг изображение исчезло, Как будто кончился сеанс в кино. Прощайте, кони! Мне привычна боль. Мы все при расставании, как дети. Век обозначен на моем билете, История оторвала контроль.Красная книга
А птицы щебечут, щебечут, Щебечут они до поры, И все еще мечут и мечут Валюту икры осетры. Но кто-нибудь лес изувечит, Отравит речные дары… А после все лечат и лечат Природу с азартом игры. И пестуют «Красную книгу», Где строчки, подобные крику Последних созданий живых… Начнем с ненасытной любовью Зверей умножать поголовье, Чтоб снова отстреливать их.Тишина
Копилка звуков – тишина, В ней все отчетливо и ясно. Я знаю, тишина прекрасна, Но онемев – умрет она. А смерть особенно страшна, Когда вся жизнь прошла напрасно, Хотя не все, что безопасно, Жизнь может оправдать сполна. Я думаю, что важно в ней — Тревожной тишине моей? Неужто только накопленье?! Догадок у природы тьма, Но вывод делаю сама: На накопленье – наполненье!Трагедия с хорошим концом
Горит бесполезная лампа, От серого утра светло. В окне совершенство эстампа Сквозь пыльное видно стекло. Но стол мой – незримая рампа — Добро я играю и зло… Нет, мне не нужны дифирамбы — Мой зал не свистит – повезло. Так короток вздох перерыва… Но рампа – граница обрыва, И зрителей нету за ней. Но я не способна смириться: Ведь слушают звери и птицы Трагедию жизни моей.Давным-давно
Давным-давно прекрасны были кони, Леса полны и ягод, и грибов, И чудо материнства на иконе, Как чудо гнезд на островах дубов. Кто выдумал за техникой в погоне Металл станков или бетон домов, Чтоб жизни коротать, как на перроне Ждать поездов, удобных, как гробов. Давным-давно… Но ведь уже тогда Рождались, как уродцы, города — К дню нынешнему вел нас день вчерашний. И в этом самом дальнем далеке, Не находя секрета в языке, Жизнь разрушалась Вавилонской башней.Снег
Снег, словно сон – неощутимы сны, И снега мы совсем не замечаем. Пораньше электричество включаем, Двойными стеклами защищены. И так до половодья, до весны В своей квартире, как в тюрьме, скучаем, И телевизор запиваем чаем, Двумерности программ подчинены. И времени меняет серебро На медяки мне автомат в метро, Проматывая скудное наследство. Лишь очень редкий, странный человек, Светлеет и сеется, видя снег, Как будто он сумел вернуться в детство.Иллюзия
За окном метет метель… Это в Антарктиде, что ли?! Я качаю колыбель… Так положено по роли! Перед Новым годом ель, Выросшую в чистом поле, Украшает канитель Будто бы по доброй воле. Мы спектакль играем все В доме около шоссе, В душном запахе бензина… Может быть, и домик наш Просто-напросто муляж — Выдумка из пластилина.Помощь
Я, звери, благодарна вам, Что вы в беде идете к нам, Забыв жестокие обиды. Всегда отыщется чудак И вам поможет просто так, От всей души, а не для вида. И вот олени на шоссе Перед машиной замирают, И не на взлетной полосе Разумно лебеди взлетают… Но щеки у меня в росе, Роса под жарки солнцем тает… Спасли немногих мы. Но все От нашей спеси вымирают.Всемогущество
Кто выдумал, что всемогущи люди? Все те же люди… Выдумкой гордясь, Большой Вселенной маленькие судьи Плетут законов вычурную вязь. В угоду самомненью и причуде Они с природой рвут за связью связь, Усердствуя то в ханжестве, то в блуде, От чистоты не отличая грязь. О, муравьиный труд лабораторий! В водовороте – щепочки теорий, Открытия сомнительная честь! Хоть люди судят о природе честно, Бестрепетной Вселенной неизвестно, Что у нее такие судьи есть!Деревня
Продаются избы за бесценок, Продается речка, лес густой. И хозяйки, бросив пятистенок, Городской довольны теснотой. И стремится, радуясь удаче, По проселку частных шин пунктир В модные бревенчатые дачи Из просторных городских квартир. Все закономерно и законно, Кроме странной праздности земли… Даже деревенские иконы В моду у безбожников вошли. За мешок картошки платят щедро, И взамен гимнастики пешком Ходят новоселы до райцентра За консервами и молоком. Только не парным, а порошковым, Как позавчерашний черствый хлеб. Больше места нет в хлеву коровам — Ведь в гараж преобразился хлев. Правда держат петуха покуда, Хоть петух не вовремя кричит, — Достоверной делает причуду И подчеркивает колорит. Видно, мир околдовали черти. И над одиноким колоском Бывшая деревня на мольберте Застывает масляным мазком.Филателия
Филателия – странная забава. Филателистам нынче нет числа. Тщеславие не отличишь от славы, А шлюха, словно девочка, чиста. В альбомах умещаются созвездья, А среди них вращается земля. Не ради добрых иль дурных известий Почтовые чернеют штемпеля. В прозрачной современной упаковке Преуспевают звери и цветы. Шедевры Лувра или Третьяковки — В бумагу превращенные холсты. Как временем, подернутые клеем, В альбомной аккуратной тесноте Служитель Бога рядом с Галилеем Обосновались на одном листе. Ты держишь мир при помощи пинцета, Ты держишь мир – и не дрожит рука, И новенькая. Пестрая планета Летит как мячик через все века. И острия Истории – не остры, И острые углы закруглены. Планеты круглой глянцевитый остов Размножен с указанием цены.Карусель
Город – огромный асфальтовый круг Под выцветающим куполом неба… Городу хочется зрелищ и хлеба, А не одних коммунальных услуг. О, этот ярмарочный балаган И деревянные лошади в мыле… Мы центробежной подвержены силе Так же, как встарь самодельным богам. Крутится круг. Неизбежен закон, Нас относящий к простору окраин… Глухо кремень ударяет о камень, И высекается микрорайон. Пятиэтажный унылый барак — Ноев ковчег городского потопа… В нем мы живем, словно в чреве Циклопа — Темном убежище вечных бродяг. Будьте добры, отведите метраж Под потолком двухметрового блока, Пусть модерновое наше барокко Входит неистово в новый вираж. Где же начало? Где над Арарат? Плуг деревянный готовит оратый… Крутится круг каруселью проклятой, Мчится вперед, возвращаясь назад.«Ах, почему бессонны города…»
Ах, почему бессонны города, Когда седьмые сны глядят деревни?! Стооких зданий серая гряда И у подножий – чахлые деревья. Они сюда случайно забрели, Они необычайно одиноки На круглых голых островках земли, Затерянных в асфальтовом потоке. Все камень, камень… Камень – я сама. Героев нет. Остались их музеи, Ми я для крупноблочного ярма Сама, согнувшись, подставляю шею…Пустота
Только пыль на чердаке — Рухлядь стала нынче в моде, Хоть совсем не время вроде Нам копаться в сундуке. Но отныне налегке Мы от прошлого уходим Вдоль по сумрачной погоде Лишь с купюрами в руке. Покупают все подряд — Вещи бабушкины – клад, И не будешь ты в накладе. Безымянна и чиста Нынче только пустота Остается где-то сзади.Птицелов
Кем станешь ты, случайный птицелов? Тюремщиком в навязчивой заботе, Иль хлебосолом, давшим корм и кров На долгий зимний перерыв в полете? Ах, птицы, запертые на засов! О чем вы в клетке весело поете, Оплачивая песнями без слов Все хлопоты о ненадежной плоти? Хозяин к вам уже давно привык, Вы человечий поняли язык, В глаза глядите преданно и добро… Но грянет птичий зов когда-нибудь, И вы о клетку разобьете грудь, Как сердце разбивается о ребра.«О чем печально утки крячут…»
О чем печально утки крячут Над озером в вечерний час?.. Они почувствовали, значит, Ружья холодный круглый глаз. И, приподняв над камышами Свои тяжелые тела, Куда лететь – не знают сами — От наведенного ствола. Но выстрелив разящей дробью, Но дело выполнив свое, Как утка раненая, вздрогнет Победоносное ружье.Нокаут
Что это? Ринг? А может, эшафот? Качаются канаты. Все едино. Юпитеры, Судья. Толпа ревет. И мы вдвоем идем на середину. Босые ноги, влажный чернозем, Подснежники на вырубке старинной, Бумажный змей и деревянный дом Моей когда-то были серединой. Все справедливо. Кратко грянул гонг. Удар. Еще удар. Гудят перчатки. Скользящие перемещенья ног. Геометрический квадрат площадки. Иллюзия могущества… Испуг… Испуг… Иллюзия… И многократно Вычерчивался этот адски круг, Который только кажется квадратным. Все эти апперкоты и крюки Когда-нибудь в воспоминанья канут. Но чертят лампы странные круги. Мир повернулся И исчез… Нокаут. Неведома нам книга бытия. Но вот уже квадрат стремится к кругу, И вскинет не судья, а судия Поверженную, призрачную руку. Когда забрезжит светом темнота, И вверх взлетит победная перчатка, Соперники займут свои места. Какой дурак назвал победу сладкой?!«Как примириться с мыслью странной…»
Как примириться с мыслью странной, Что и во сне – не полетишь. Жизнь стала широкоэкранной, В ней мелочей не разглядишь! Кленовый лист упал в ладони — Но то не лист, а листопад. Минуты понесли, как кони, Им нет уже пути назад. О, это светопреставленье, Мысль, пулей бьющая в висок, И неизбежное движенье — Жизнь, уходящая в песок. Законы логики, законы, Изобретенные навек, В законы физики закован Закоченевший человек. И все миры давно открыты, И не тоскуешь ни о ком, И радиус земной орбиты Натянут жестким поводком. А я все домики рисую, Трубу и над трубою дым, И дождь в линеечку косую, И солнце круглое над ним!Сонеты о машинах
I
Изысканность рисунка перфораций Машинам уготовит пьедестал… Но электронный питекантроп стал Тупицей, не способным сомневаться. Хотя он знает, что творил Гораций, но кружит людям голову металл. И новым культом – культ машины стал: Лишь ей решать – нам нет нужды решаться. Во мне давно забытая латынь Кривой улыбки порождает стынь Крупицей золота в осколке рудном. Хотя сама латынь давно мертва, Но в сотне языков ее слова Остались в совершенствованье трудном.II
А кто сказал, что заключен прогресс В болтах, винтах, транзисторах и прочем?! Мы ярлыки к явленьям приторочим, Явлений смысл не понимая без… А может, это балуется бес, Игрушки пчелам выдавши рабочим? И мы играем, а потом пророчим, — Такой у нас, наверное, замес. А пчелы видят цвет и аромат, За каплей меда попросту летят, Потом нас медом потчуют пчелиным. Но совершенство шестигранных сот Прекрасно, как и первый наш урод, И поколенье первое машинам.III
Я машину научу… Научу — Лучше нашего слова выбирать, Даже в шахматы, как боги, играть, Если только захосу. Захочу! Мне все это по плечу? По плечу! И оставлю я машинную рать На земле мои дела продолжать, Если к звездам полечу. Полечу? Но задумаются горько они, На планете оставаясь одни, Кто им жизнь такую трудную дал?.. Может, маленький и злой человек? Так не смог бы он придумать вовек! Их, наверно, Бог машин создавал.Друзья
Есть, на счастье, друзья у меня. Мы не видимся с ними подолгу… Но дошедши до черного дня, По любви мы живем – не по долгу. Как в набат, в телефоны звоня, Говорим непонятно и волгло, Ибо память о прошлом храня, По любви мы живем – не по долгу. И друзья мои слышат набат И приходят не ради наград, А, как водится, – буднично просто. И становится легче чуть-чуть Эта боль, источившая грудь, И друзья мне такие – по росту.Тайна
Веселое пятно на потолке… Но – говорят – он просто не побелен, А зайчик солнечный в моей руке Неощутим, бесплотен и бесцелен. Я угадала Моцарта в сверчке, Но он на сто Сальери был поделен. И я брела сквозь время налегке, Поскольку груз мой был в пути потерян. Уже давно побелен потолок. Но зайчик жив. Он выжить мне помог В наивном хитроумии эмоций. Сверчка не слышно на закате дня. Но по ночам есть тайна у меня: В моей душе готов проснуться Моцарт!Больничные раздумья
Неощутимая утрата — Старинной клятвы перевод… Я вспоминаю Гиппократа, Когда болезни час придет. И сострадание не свято, И все страшнее каждый год Звучит больничный стон палаты, Когда болезни час придет. Наверно заблуждались греки, Преуспевая без аптеки, Пред алтарем склоняясь ниц. Вступая с Гиппократом в сделки, На них работали сиделки И воскрешали без больниц.Похоронный марш
Еще нескоро оплывет свеча, Еще рассвет затеплится нескоро. Лишь сердце, похоронный марш стуча, Найдет неведомые переборы. Тогда мастеровитость палача Осуществит бескровность приговора, И не поможет знахарство врача, Увещеванья чьи-то и укоры. А, в сущности, что делали князья, Кого-то милуя или казня? Они присваивали Божье право. Но вот уже оплыли свечи слов… Я ощущаю холод кандалов В чужой толпе безлико и кроваво.Онкоцентр
Коридоры, коридоры — По окружности комфорт. Страха гордого затворы, Боль надежды – первый сорт. Но ведь это – исключенье, Странных судеб круговерть… Даже методы леченья Здесь подсказывает смерть. Добрый доктор! Почему же Вы избрали свой удел?! Коридоры кружат, кружат, Может, выберешься цел. Стерта разность интересов, Только боль и человек… Век невылеченных стрессов, Рака и инфаркта век. Путь прогресса – гордость мира, За гуманность этот мир… …Прежде честности рапиры Доверял любой турнир. А теперь наука, скальпель, И наркоз, как шум дождя… И бесчисленные скальпы Над вигвамом у вождя. Скоро хлынет дождь кровавый — Непонятный, проливной. Победители со славой Возвращаются домой. И забрало поднимает Эскулап в крови – росе… Он один не понимает То, что понимают все.Страх
Страх… На что он похож? На слезу? На церковное пение? На тифозную вошь? На предчувствие? На прозрение? Страх… Он глуп, глух и слеп, Искажает он время и зрение. Страх по сути нелеп, Как нелепо всегда невезение. Он не только слабых берет в полон, Просто сильный в него не верует, Потому и опасен он, Что никто его смысла не ведает. Страх… Не надо! Ведь это крах — Мысли высквозит, Сердце остудит. Для чего нам бессильный страх? Только люди его осудят. Не сжимайся, сердце, в комок И не бей о ребра с размаха! Страх еще никому не помог. Нет ничего Унизительней страха.«Я боюсь пробуждений…»
Я боюсь пробуждений, Когда светлосерый рассвет Давит в тонкие стекла Неотвратимостью лет. Я боюсь побуждений — Обманчиво-пестрой тщеты, В мире сделано столько, Что больше не сделаешь ты. Нужно снова подняться И снова посеять зерно, Чтобы в несколько зерен Смогло превратиться оно, Чтоб неверные пальцы Найти в себе силу смогли Разгадать, как он черен — Комочек родящей земли. Я боюсь этих всходов, Боюсь их, как снов наяву — Ведь до времени жатвы Я попросту не доживу, До столетних восходов, Когда понимаешь с утра, Что в ладони зажата Опять лишь крупица добра.Не убий
Иисус Христос скончался на кресте. О. ненадежность заповеди пятой! Веками в бронзе мучился распятый И воскресал под кистью на холсте. Но не дает житья один вопрос, И я неслышно подхожу к распятью. О. нарисованный Иисус Христос, Как мне без Бога жить, хочу понять я. Пред кем теперь колена преклоню, Кому свечу грошовую поставлю, Кого в беде бессильно прокляну, Кого в минуту радости восславлю? Добро, добро… Опасная стезя! Твои костры, твои кресты – несметны. Ты сам умрешь, умрут твои друзья, И только толкователи бессмертны. Бог в неисповедимости путей Впрок вылепил не личности, а лица И дал самоуверенность арийца Он глиняным поделкам всех мастей. Приказ, призыв, призвание – убей! А – НЕ УБИЙ – забытое, в завете… Мечтатели, художники и дети Немыслимых рисуют голубей. Безбожник превращается в попа, Над прочими случайно возвеличась, Но только в муках сотворится личность, И станет человечеством толпа.«Уеду на перекладных…»
Уеду на перекладных, Задам работу бренной плоти, Пусть дремлет в креслах откидных На реактивном самолете. Трясется на грузовике По допотопному проселку, Потом в вагоне, налегке, На верхнюю взлетает полку. Меня, как щепочку река, Всю жизнь несет слепое время. Гостиниц шумная тоска Стучит в висках, долбит мне темя. Бесплотная маячит цель На тонком острие смятенья… И все метель, метель, метель — Потоп и светопреставленье. Не помню, где была вчера, Не знаю, где я завтра буду. Пилоты, словно кучера, Готовы выполнить причуду. Четыре теплые стены Мираж рисует незнакомо, Не для меня возведены Защитные пределы дома. И я бегу по шпалам строк К тому глухому полустанку, Где пращуров высокий слог Сулит мне краткую стоянку. Остановлюсь, передохну, Смахну нечаянные слезы… И снова задавать начну Неразрешимые вопросы.Логика жизни
К чему тебе логика мысли, Коль сердце трепещет пока, И в небе хрустальном повисли Крахмальным бельем облака? Вино ли, нектар ли, кумыс ли Туманят, дурманят слегка, Пока превращаются листья В надгробную плоскость пенька. Утрачена радость. И разом Во тьме пробуждается разум, Чтоб выход открыл лабиринт. И поздно, так поздно, что рано Врачует смертельные раны Фантазии кипельный бинт.Ремесленник
Сапожник набивал набойки, И было все ему сруки. Стояли украшеньем стойки Игрушечные башмачки. Его клиенты были бойки — Шутя, сбивали каблуки. Но были украшеньем стойки Игрушечные башмачки. В сей месяц и сего числа Исчезла гордость ремесла, А выгода пошла на убыль. Суров конвейер волшебства, И стала забывать молва Секреты золушкиных туфель.Монолог Бабы-Яги
Забыла я рецепты колдовства, И, чуда не творя, скольжу я мимо, И даже приворотная трава Уже от прочих трав неотличима. Разношенная ступа мне тесна, Как туфли новые, И отчего-то Я ночи напролет сижу без сна, Гляжу, как пролетают самолеты. О, как удобен их стальной полет, Как мощен рев их в поднебесном мире… И что мне омут – есть водопровод В любой благоустроенной квартире. Я жить хочу на пятом этаже, Цветы растить не на земле, а в плошках, Мне слишком ветхой кажется уже Моя избушка на куриных ножках. Давным-давно не забредал ко мне Иван-царевич. Стал костер золою, И я, сгорев в его живом огне, Живу теперь не доброй и не злою, Я и сама не верю в чудеса, Я – тихая, обычная старуха. И сказками не колют мне глаза — Ни слуха обо мне теперь, ни духа. Но иногда в душе застонет бес, Но иногда привидится такое, Что до смерти захочется чудес И вовсе не захочется покоя!Снегурочка
Она жила, она была – Снегурка. Не знаю – где, Но знаю – где-нибудь. И ледяное сердце билось гулко. Ей ледяную разрывая грудь. Ей валенок к морозам не валяли И не вязали пуховой платок. С ней пани на гулянках не гуляли: Отпугивал Снегуркин холодок. Из голубого снега рукавицы, И голубые волосы до пят, И ледяные слезы на ресницах Солеными сосульками висят. Ее соседи, как могли, любили, Так деловито, буднично добры. Они для обогрева запалили Веселые сосновые костры. О, люди добрые, вы мне поверьте: Лишь миг один помедлив на ветру, Она рванулась к вам, а не в бессмертье, Легко шагнув к последнему костру.Рыба
Ухожу головою в омут. Разомкнулась, сомкнулась волна, И не женщина я, а омуль, И желанна мне глубина. Я плыву, раздвигая жабры, Я ищу свой рыбий народ, И в себя я вбираю жадно Из зеленой воды кислород. Я плыву, раздвигая водоросли, Смыслу здравому вопреки, Развеваются, словно волосы, По бокам моим плавники. Что меня ожидает? Не знаю… У меня рыбьих навыков нет. Я такая еще земная, Я несу в себе солнечный свет, Я стараюсь еще по-земному Чешую, как пальто, распахнуть. Но уже к неизвестному дому Мой невидимый тянется путь — Новых родичей острые лица И земных рыбаков невода… Никогда мне теперь не напиться, Если всюду – вода и вода. В глубину не проходит волненье, Ни любви, ни беды в глубине… И горчайшая сладость сомненья Исчезает бесследно во мне…Емеля
Успехи его отшумели. В сомнении он и в тоске Сидит, как на печке Емеля… А щука – в далекой реке, А щука – в другом поколенье, В другом измеренье плывет, И щучьего нету веленья, И он без веленья живет. Идет к государыне-рыбке, Кричит, надрываясь, во тьму. Но, видно, теперь за ошибки Придется платить самому. Ах, время! В муку перемелют Емелю его жернова. …Но чает, но чует Емеля, Что прежняя щука жива!Сотворение мира
Над первозданной зыбкостью болот, Где мошкара парит, как испаренья, Меня несет трудяга-вертолет, Как будто в самый первый день творенья. Я вглядываюсь в полотно земли… На нем художник, гениально-строгий, Рисует время, скрытое вдали, Штрихами санно-тракторной дороги. В ненастной немоте нелетных дней, Когда буксуют, что ни метр, колеса, И падают, лишенные корней, Порывом ветра сбитые березы, Прислушавшись, сумеешь различить Невиданные, чистые созвучья. Но их нельзя по нотам разучить, Таким напевам только жизнь научит. А вибробур врезается во тьму, Пласты времен соединяя вместе, И я теперь, наверно, не пойму, Где центр земли, а где ее предместье. О. вечного движенья маята — То океан, то вакуум под килем, Уходят люди в новые места, Подверженные центробежной силе. Они через снега и грязь идут, И Землю поступью своей вращают, Они самих себя находят тут, И сотворенье мира завершают.«Попутный ветер в странствия велит…»
Попутный ветер в странствия велит, Вперед плывет бумажный наш кораблик, И на фуражке капитанской крабик Воинственно клешнями шевелит. Пересекаем океан. Но вот Окончен со стихией поединок — Нас потопил космический ботинок Прославившейся фирмы скороход. И не было спасательных кругов, И канули мы, словно в лету, в воду. А впрочем, что за дело пешеходу До маленьких бумажных моряков?! Мы совершали заурядный рейс, Никто не вспомнит нас в стране бумажной, И не почтит наш экипаж отважный Ни вежливая скорбь, ни интерес. Удел всего непрочного таков. Но гордо мы не опускаем флаги, — Кусочек разлинованной бумаги Среди асфальтовых материков.Финиш
Эгоистична, добра ли — Вам доверять не хочу. В межгалактическом ралли Я одноместно лечу. В гиперпространстве едва ли Путь я себе облегчу. Риск – в стародавней опале Риску детей обучу. В вакууме, словно в зыби, Страшно единственной рыбе — Было б хоть два корабля! Не суетливым смятеньем, А человечьим терпеньем Встретит свой финиш Земля.Движение
Отмерьте мне хоть полчаса, Оставьте краткий миг хотя бы! О, благодатные леса, Как вами надышалась я бы. Ведь все еще хитра лиса, И курочки, как прежде, рябы… Еще касается роса Ступней простоволосой бабы. Куда – вперед или назад? На сей предмет различный взгляд. Пускай вода из крана льется! Но я, наверно, предпочту Тяжелых ведер простоту — Былую глубину колодца!«Чтоб записать симфонию души…»
Чтоб записать симфонию души, Немыслима условность нотных знаков, И почерк у людей неодинаков, И разной жесткости карандаши. Как выразить себя, себя найти? И что принять – октавы или кванты — Как меру исчисления таланта, Как верстовые столбики пути? Но равно Данте или Галилей Имели ключ от рая и от ада… И есть ли в жизни большая награда, Чем верность одержимости своей. Победы редки. Человек живет, Не думая о славе и карьере. Зачем ему бессмертие Сальери? Лишь времени он предъявляет счет, Не поднимая воспаленных век, Он формулы или поэмы пишет, Они ему как воздух или пища Нужны. И потому он – человек.«Я хлеб в гречишный мед макала…»
Я хлеб в гречишный мед макала, Присев, как у стола, у пня. И, как на бедного Макара, Валились шишки на меня. И пахло иглами – колюче, И сладко – дымом и листвой, И птицы, черные, как тучи, Сгущались в синеве лесной. Все было, как на самом деле — Хоть на неделю, хоть на год… Но только листья – не летели, Не насыщал гречишный мед, Была коротенькой тропинка, Беззвучным был пчелиный рой, И даже тонкая травинка Не гнулась под моей ногой. И шишки были невесомы, И неподвижна синь небес… Он был так ловко нарисован — Душистый мой сосновый лес, Что я, не угадав обмана, Присев у пня, как у стола, За два шага, за два тумана До леса так и не дошла!Особый день
Еще бывают чудеса На белом свете, По сто чудес за полчаса На всей планете. У смерти в кузнице коса — Не гибнут дети. Просохнет полночи слеза В таком рассвете. Я проявляю интерес — Побольше бы таких чудес. Поменьше страха. И синий, словно небосвод, Характер над землей взойдет — Взойдет из праха!Чудеса
Вот говорят, что нет чудес, И спорить я не буду. Но как прожить на свете без Хоть маленького чуда?! Велит спешить лукавый бес, Велит спешить повсюду! Как хорошо, что не исчез, Поддерживает Будда, Как паренек, под локоток… Но мир достаточно жесток, Своей наукой гордый. Не верю. Вырвалась. Иду. И сразу на свою беду В грязь удивленной мордой!Голуби
Я не видела этого города, Не увижу его никогда. По асфальту там ходят голуби. (Так похожи все города!) Им бросают хлебное крошево, Или просо, или пшено. А над ними – облако-кружево Прикрывает небо-окно. А над ними – другими птицами Дотемна кишит синева. Только к ним не идут с гостинцами, Не рифмуют с ними слова. Может, просто они не символы, Может, песня их не слышна, Может, просто пугает синяя, Непонятная вышина. Слышат птицы охотничьи выстрелы. Можно ранить их и добить. Но умеют жизнь свою выстрадать, Не с ладони прокорм добыть. Им известна радость парения И паденья безмолвный страх. Только им неизвестно сидение На подметенных площадях. Им всегда высоко, рискованно Жить! И так же вот – умирать. Быть живыми, не нарисованными, Крошки хлебные не подбирать. Я не видела этого города, Я и знать его не хочу! По асфальту ступают голуби… Ну, а я – над ними лечу!«Светает…»
Светает… Лампу погасить пора, Как шестьдесят свечей… Одно движенье — И вот уже сменилось освещенье Над странной вязью вечного пера. Какую легкость мне дает прогресс… Но я уже не думаю о чуде. От этой легкости теряют люди И к чудесам душевный интерес. Не пенье птиц – вращение колес Теперь в оркестре утра различаю. Не удивляюсь я, а изучаю Причины смеха и причины слез. К асфальтовому ровному шоссе Мне невозможно, как к земле, приникнуть. Так почему ж я не могу привыкнуть Вращаться, словно белка в колесе?! Орешки грызть, простую песню петь, Что вот, мол, день счастливый начинаю… Куда спешу всю жизнь, сама не знаю, Но вечно опасаюсь не успеть. Придумана жестокая игра, В которой мы послушны, словно пешки… Медлительно я привыкаю к спешке. Светает. Лампу погасить пора.Бездна
Передо мною открылась бездна, Сжалась в жалкий комочек плоть… Подскажите, будьте любезны, Как мне бездны зов побороть. Звезд простершаяся десница, Указующий луч, как перст… Неужели бездна боится Бесконечной бездны окрест?! Ведь галактика – лишь частица Тех, пока не познанных, мест. У вселенной – своя граница, А за ней – Голгофа и крест. Люди! Сядьте на свой насест.«Есть дверь и есть замок в квартире…»
Есть дверь и есть замок в квартире, И ты совсем один. А все ж В огромном мире, странном мире Ежесекундно ты живешь. И радио шумит, как примус, — Прибор давно минувших лет, И воздух обретает привкус Не только крепких сигарет. Он пахнет хлебом, хлевом, морем, Бензином, гарью иногда, Он пахнет ложью, пахнет горем… Пахнет – и сгинет без следа. Лечу по круговой орбите, Лечу с восходом на закат, И тесен мир, как общежитье, Где койки выстроились в ряд. Всего полметра иль полвека, Но мы – различные миры, И для другого человека Другие правила игры. Мы не ведем об этом речи, И, покидая отчий кров, Доверчиво идем навстречу Скитальцам из других миров.«Словарь… А в нем слова, как в сотах…»
Словарь… А в нем слова, как в сотах Пчелиный выстраданный мед… Ах, сколько надобно полетов, Чтоб их упрятать в переплет! Слова таинственны и святы — Сто тысяч чувств, сто тысяч лиц, И точные координаты На территории страниц. А мне всего одно найти бы, Ну, хоть не слово, только след… Слова безмолвствуют, как рыбы, Они известны сотни лет. Они давно в употребленьи — Из уст в уста, из уст в уста. И стерлось их первозначенье, И потускнела чистота. Ну, что мне делать? Пусто в горле, Нагая мысль меня томит… Но в сердце, как в кузнечном горне, Огонь неистово горит. Я старое расплавлю слово, Не доверяя словарям, Тебе на счастье, как подкову, Его когда-нибудь отдам.«В пожарище, в мой сорок третий год…»
В пожарище, в мой сорок третий год Войдете, ноги вытерев у входа, И пояснения экскурсовода Благоговейно впишете в блокнот… В люминисцентном свете я молчу, Передавая вам мое наследство — И самодельную коптилку детства И юности горящую свечу. К чему вам жизни беглый пересказ, Папье-маше в искусной панораме. Вы приговор нам вынесете сами, И нас самих поймете лучше нас.«Вопрошаю тебя, о Боже!..»
Вопрошаю тебя, о Боже! Почему дела мои плохи? Я сама – порожденье эпохи, Я во всем на эпоху похожа. Я и в том себе потакаю, Чтобы совести был неподсуден Равнодушный итог моих буден, — Эти будни я пропускаю. Кто движенье мое направил К невозможному ускоренью? Кто забыл про законы тренья, Узаконив игру без правил. Да и что за игра такая, Если нужно играть поневоле… Чтоб не выть по-бабьи от боли, Эти игры я пропускаю. О, фольга картонной короны И фольга моей веры, где вы? Я дошла от созвездия Девы До созвездия Скорпиона. Но кого же я упрекаю? Кто велел мне плыть по теченью? Горечь саморазоблаченья Осторожно я пропускаю. Вдовы плакали о кормильцах, О любви своей выли когда-то… В переулке вблизи Арбата Храм «Успения на могильцах», К водостокам новым стекая, Слезы канут, не тронув храма… Чтобы впредь не изведать срама Эти слезы я пропускаю. На могильцах живу – и простила Мне земля и покой и усталость. Ничего за душой не осталось — Слишком многое я пропустила.«Беззащитно мое семейство…»
Беззащитно мое семейство, А его все мордует Бог… Он забыл мне выделить детство, А ошибку забыть не смог. Но себя обвинить не в силах, И задуматься не успев, Он теперь на всех моих милых Расточает свой Божий гнев. Изощренно мучает дочку, Мужу сердце когтями рвет… Не пора ли поставить точку И закрыть этот старый счет? Ах, фразер, демагог и практик! В нашей крови Твои персты… Но на свете столько галактик — Я не знаю, в которой Ты? Ни проклятия, ни молитвы Не тревожат Твоих ушей, Даже рифмы мои и ритмы Гонишь Ты от себя взашей. Не смутить ни криком, ни стоном Педантичного божества. Объясняешь Ты все законом Сохранения вещества. Ты молчишь. Значит, все в порядке. Зря я дую в мою дуду… Я не знаю Твоей разгадки И Тебя вовек не найду. Для чего Ты создал планету, Где беда, как душа, в судьбе… Может, скажешь мне по секрету Для чего мы – люди – Тебе?!Дайте срок
Жизнь затвержена, словно урок… Полустертое новой главою, Встанет прошлое, снова живое. Дайте срок! Слишком часто нам память не впрок… Вдруг забудутся все оправданья И откроется правда страданья — Дайте срок! Прилетят, словно со́рок соро́к, Сорок дней или сорок историй, Станет тесной душа для теорий — Дайте срок! Может, в миг этот щелкнет курок, Словно краткий сигнал излеченья, Или вырвется вздох облегченья… Дайте срок! Как регламент у времени строг! Как медлительность наша жестока! Вдруг уйти мне придется до срока?.. Дайте срок!Народные промыслы
Вологодские кружева Оживут в узорах последних. Я имею на них права, Как прямой, упрямый наследник. Кисти палехских мастеров Сохраняют секреты цвета, Как секреты трав и цветов Сохраняет потомкам лето. Но осталась тень ремесла Этих древних, как мир, изделий. По закону сего числа Мастеров согнали в артели. По секрету из рода в род Доносили люди уменье, Но принес коллективный подход Коллективное вырожденье.«Я знаю клинопись моей тревоги…»
Я знаю клинопись моей тревоги Никем не расшифрована пока. Так быстротечна времени река, Историки медлительны, как боги. Прочтут. Меня при жизни осудить Им все равно, что оправдать посмертно. Они в тревоге роются посменно, Чтобы ее отменно осветить. А я ее в глазах моих несу: Смотрите, люди добрые, читайте, И непохожести мне не прощайте, Как чернокожему кольца в носу. Ну, что ж, исследуйте мою беду — Я вечно беззащитна перед вами. В чужую печку, с мокрыми дровами Свои глаза – сухие – я кладу.«Неправда это все, неправда…»
Неправда это все, неправда, Что нужен поводырь в пути. Когда хочу идти направо, Налево тянет он идти. Хочу бежать на плач кукушки, А он ведет меня, как всех, На канарейкины частушки И соловья счастливый смех. Неутомимей светофора Он зажигает красный свет — И нету на пути забора, А все равно дороги нет. Меняет он свои обличья Десятки раз в теченье дня… Он неприметен. Он обычен. Он добр. Он мучает меня!Цирк в коммунальной квартире
В квартире, словно в цирке шапито, И потолок, и стены слишком зыбки, И по белилам красные улыбки Рисует деликатное ничто. В синкопах эксцентрических кастрюль Преобладает кухонная тема, И гордо ноги удлиняют тело До сбивчивого уровня ходуль. Тарелками играя, как жонглер, Один актер в домашнем этом цирке Уже спешит к иллюзиону стирки И хищников выводит на ковер. А я одна под куполом кружусь, Отчаянно работаю без сетки, И желтый, любопытный глаз соседки Все жжет, все ждет – когда же я сорвусь. Сияют лампы в тысячу свечей, Взбесился на стене электросчетчик, Опять не приходил водопроводчик — Дробь капель вторит дерзости моей. Когда-нибудь не соберу костей!Сны
Мне никогда не снится Сатана, Но слишком часто снится мне Иуда, И я кричу, кричу, кричу, покуда Не выберусь из подземелья сна. Враг – это враг. Он нужен мне, как тень, Не только для сраженья – для сравненья. Но, чтобы не лишиться этой тени, Необходима ясность, нужен день. Я моему врагу всегда верна, Меня Иуда много больше мучит. Продаст. И мзды за это не получит — Теперь пошли другие времена. Брезгливо отстранит Иуду тот, Кому его предательство поможет. Страдает, но не предавать не может, Бессильно и бесплатно продает. Он запросто приходит в дом ко мне, То женщиной рядится, то мужчиной… Как различить лицо мне под личиной? Ведь он Иудой кажется во сне.Женщины
Родить и выкормить детей, Кричать от радости и боли… Среди немыслимых затей Сегодня баба в новой роли. С утра – ребенка в детский сад, В обтяжку брюки, сигарета… Клянусь, полсотни лет назад Казнили бы ее за это. А нынче, что ни говори, Идет походкой королевской — Не счесть теней Мари Кюри И копий Софьи Ковалевской. …Хотя на острие пера Несу и я мужское бремя, Желая женщинам добра, Былое вспоминаю время. Призвание – для единиц, А дети, муж и дом – для каждой. Не знают женщины границ, Отвоевавши их однажды. О мать, творящая людей! Нет выше чуда, выше доли — Родить и выкормить детей, Кричать от радости и боли. Но народ уже привык, Сам собой поет язык: «Я и лошадь, я и бык, Я и баба, и мужик»…Радуга
Семицветная радуга — Триумфальная арка дождя! Не подскажут по радио, Где зажжешься ты, чуть погодя. Не расскажут синоптики, Как под радугой счастья пройти… Вдохновение оптики, Запрещенные людям пути. Но я слышала исстари, Что под радугой были следы — До последнего выстрела, Черной речки и прочей беды. Вдохновенье безжалостно — Столько в нем и труда, и суда. Но, прошу я, пожалуйста, Покажите дорогу туда. Чтоб кого-то обрадовал Выстрел – гром опоздавшей грозы, Чтобы вспыхнула радуга, Из моей начинаясь слезы.Песочные часы
Восславить я хочу песочные часы За то, что нет в них высшей фальши круга. Песчинки – это вечные весы, Чтоб людям не обманывать друг друга. О, острие отточенной косы! О, полумесяц в небесах досуга! В иллюзии твоей ночной красы Неведенья неясная услуга. Сплетенье многомудрых шестерен Нам возвещает времени закон, Нам обещает вечность без починки. А нынче электронное нутро Придумано особенно хитро… Но падают минут, как песчинки.Перчатка
В ажурной нищете перчатки нитяной На безымянном пальце след иголки. В ажурной пустоте у вышки нефтяной Минувшей жизни жидкие осколки. В привычной тесноте за блочною стеной Бессмертны синтетические елки. И в личной доброте коллективизм сквозной Захлопывает прочные защелки. Логичной простоте смятенья не понять… Я вовсе не хочу, чтоб шло движенье вспять. И выводы закончены в зачатке… Непобедимый век и человек смешной, Как штопка на моей перчатке нитяной, И как дуэль без брошенной перчатки.Даты
Равнозначных дней поле́нница Ровно сложена в года. Я пожизненная пленница Подневольного труда. И ничто не переменится Вплоть до Страшного Суда. Жизнь однажды перемелется — Но и это не беда! И плита моя надгробная Будет всем другим подобная — Вез особенных примет: Даты смерти и рождения, А меж них без снисхождения, — Прочерк вместо долгих лет!Из старой тетради
I
Закончен день. Нет, нам его не жаль, Всегда желанно будущее людям. И лунная дорожка манит вдаль, И завтра мы еще счастливей будем. А если нет? Сомнения невежд И нас, уверенных одолевают… Но крохотные зернышки надежд Существованье наше продлевают. Ведь не прожить нам миллионы лет, Закроем раньше страждущие вежды. Но лишь тогда появится ответ На наши суеверные надежды.II
Ты отпусти меня туда, Где невозможны города, Где над землей Струится вереска мгновенность. И только там, и лишь тогда Я не нарушу никогда И в обыденности возвышенную верность. Ты отпусти меня туда, Где только небо и вода, Где солнце жжет, где шторм ревет, Где ближе вечность. И только там, и лишь тогда Помогут радость и беда Мне обрести давно утраченную верность. Но ветхих истин невода, Как будто рыбку из пруда, На сушу душу волокут — В обыкновенность… Я говорю уныло: «Да!», И исчезает без следа, Чуть обозначившись, утраченная верность.III
О смысле жизни размышлял философ, Не о бессмертье размышлял – о смерти, Когда на мертвой, выжженной планете Никто не сможет задавать вопросов.Малеевские зарисовки
I Березовый закат
Закат разлит в лесу березовом, Среди ветвей оцепеневших, И по деревьям светло-розовым Мелькают тени первых леших. Здесь так реально все и призрачно, Таинственно и откровенно, То акварелями, то притчами Лес отзывается мгновенно. Здесь все – движенье и отсталость… Великой кажется пропажей, Что мало на земле осталось Таких березовых пейзажей. Как острова среди асфальта, Как память и как небылицы… Здесь белочка в рекордном сальто По розовым ветвям струится. Она уже почти ручная, Почти привыкшая к утратам. И нечисть прячется ночная, Боясь людей перед закатом.II Лесной рассвет
Светло. Лучей не разглядишь. И, кажется, деревья – вечны. Часы рассвета быстротечны Над строем деревенских крыш. Еще нестроен птичий хор, Еще природа бестелесна, Сосны седеющий вихор Торчит меж зелени окрестной. Еще хранит Вертушено Бальзам из древнего колодца, Но все уже завершено. И ни во что не разовьется. В безликой блочности домов Давно затеряны избушки, И сладость крошечных садов Трепещет на весах старушки. Всех в люди вывела детей За грани этого рассвета. И вдоль малеевских аллей Идет по-стариковски лето.III Иллюстрации
Природа, словно иллюстратор, Отыскивает верный тон. И каждый день – она новатор, Как здесь бывало испокон. Костер лучей в древесном чуде, Над ним скользящий ребус туч… То звери рыжие, то люди, — Их в небесах рисует луч. Но не остановить мгновенье, В машинах не запечатлеть. Один короткий час мгновенье Над старым домом будет тлеть. Неуловимость небосвода Оттенков бесконечный путь Творит художница природа И не жалеет их ничуть.IV Шатровая ель
Ассиметрия старой ели… С дорожки глянь – как все, она, И ветви тяжело осели, И прикоснулась желтизна, Лишь в тайном ракурсе откроет Она серебряный шатер, И восхищение утроит Ее таинственный узор. Я понимаю: ели этой Не до уловок и идей… Зачем игру теней и света Она скрывает от людей? А может, в повороте странном Большая мысль заключена: Открой ее – тогда, как с равным С тобой заговорит она.Неделя
Пятница
Как долго тянется неделя! Все кажется – не доживешь… Трамвайного движенья дрожь, Ледок под снегом на панели, И на вчерашний день похож Сегодняшний… А все иначе! И числа четко обознача, Плетется ожиданья ложь. Я все такая же: не плачу, Могу все так же спать и есть. Но день прошел. Осталось шесть. Как расточитель дни я трачу. Бывает сладкой даже лесть, Самообман – необходимым… Я встречусь в пятницу с любимым. Семь пятниц на неделе есть!Суббота
Готовы крылья для полета, Но надо мной нависла твердь. Две трети отберет работа, А для любви оставит треть. Я еду, но стою на месте, Стою на месте, но – лечу, Я одержима жаждой мести И всем вокруг добра хочу. А снег не бел сегодня – красен, Дубы не в инее – в огне… Сегодня мир предельно ясен. Все сложности его – во мне!Воскресенье
Тоски и нежности скрещенье, Сплав холода и теплоты, И снега белое круженье, И сосен синие кресты. Казалось, мир необитаем. Но воскресенье – день чудес, И тесно человечьим стаям, Слетевшимся в морозный лес. Я понимаю птичьи речи, Но речи – надоели мне! И небо валится на плечи В кричащей криком тишине. Все этим бредом, как обрядом, Переполняют краткость дня. А бесконечность – где-то рядом, И в ней пересеклась лыжня. Лишь за моей спиной суббота Неясным облачком плывет, И вновь предчувствие полета Самозабвенней, чем полет!Понедельник
Время – вредное излучение, От него излеченья нет. От гипотез, от изученья Не меняет свой ритм и цвет. Все – по графику, все по сете, Все – к зиме бредет от весны. И на Северный полюс смерти Стрелы стрелок устремлены. Правда, есть еще Южный полюс. Но для нас – только тот, один… В антимире, в снегу по пояс, Черно-белый бродит пингвин. Черно-белый… Исчезли краски, Растворились в бесцветном льду. Бьют часы. И по их указке В обесцвеченный мир бреду. Но хронометров всех точнее Измеренья души моей: Три оставшихся дня длиннее Четырех отлетевших дней!Вторник
Не хватит сил, и брызнут слезы, Как будто впрямь пришла беда… А вдруг заносы, вдруг морозы Застыть заставят поезда?! Исчезнут все аэродромы, Привычный мир, обжитый быт… Иль просто голосом знакомым Мне телефон не позвонит. А утром в пятницу утрата Утроит страх, что был во сне… Но деревянная лопата Дорожку расчищает мне, И я иду… Спасибо, дворник, За ремесло, за колдовство — Ты так расчистил этот вторник, Как будто не было его!Среда
Среда, средина, сердцевина, Мой день творенья, день шестой. Неужто чересчур густой Я плоти замесила глину?! Неужто разум мой померк, И мною овладело тело?! Я звезды зажигать хотела, А вспыхнул – жалкий фейерверк. Среди толпы, среди среды, Одарена уединеньем, Оглядываю с удивленьем Мои напрасные труды.Четверг
Десять детских дощатых горок, В парке санная карусель… Воздух был по-взрослому горек Все семь дней. Или семь недель?! Завершилась моя седьмица, День восьмой – журавль вдалеке. И сидит надежды синица На озябшей моей руке.Три сонета о переводах
I
А. Ревичу
Легко ль чужой язык перелагать? Не речь – настрой души неодинаков. Легко ль на плечи гордые поляков Российские рубахи надевать? Словарь славянский славен, словно рать, Но древний Суздаль не похож на Краков. Без всяких сроков и сановных знаков Легко ль дружину дружбы собирать?! Две стороны единого удела, Двойное торжество святого дела И тяжесть двуязычья для руки… О непосильный груз сердечной дани! И русский шлет ясновельможной пани В небытиё две страстные строки.II
Жизни собственной легка ль маета? Тесно в сердце, как в дорожной котомке. А быть может, не поймут ни черта После смерти эти люди – потомки. Ведь в мешке не покупают кота. А в столе, не то, что в книге, – потемки. И к плечам твоим приладит мечта Вместо крылышек бумажных – постромки. Только кто-нибудь потребует вдруг Твой восторг, твою любовь и недуг, Краткость слов твоих и строчек протяжность. И покажется обычной тогда Сладость горького от века труда, Невесомой биографии тяжесть.III
Кто по национальности Верлен? Сегодня, изменив язык и почерк, Как и его беспечный переводчик, Свершает он невиданный обмен. Какой обман – забвение и тлен! Гребет трудолюбивый перевозчик, Взрезают воды Стикса весла строчек, И мысль доносит память общих ген. И обретают общий ритм сердца, И вдруг привычность своего лица, Как в зеркале, в чужом лице находишь. Великому не надо доброты, К нему приникнув, вырастаешь ты: Творя себя, другого переводишь.Мир вашему праху
Мир вашему праху! Те, кто умер в своей постели, Те, чьи кости в земле истлели, Те, чью голову положили на плаху! Душам, отданным страху, В долгоживущем теле, Всем тем, что выжить сумели — Мир вашему праху! Вечность часто короче недели… Столько сделать все не успели! Мир вашему праху! Не оракул я и не знахарь… Воин, зодчий, палач и пахарь Мир вашему праху!Мель
Не милостыни – милости молю, Бессмысленно взывая к добрым людям. Мы слишком просто говорим: «Люблю», Хоть знаем, что непостоянны будем. Но ближним я раздумывать велю — Тогда мы дальних, может, не осудим. Нам глубина нужна, как кораблю, Тогда и мы куда-нибудь прибудем. Но тем, кто правит, только канитель Промеривать, где глубина, где мель, Мужицкими холеными руками. А если мель – то ни к чему промер: История оставила пример, Как пользоваться можно бурлаками.Земной рай
Ах, рай земной! Прекрасная юдоль, Поскольку нет теперь иной юдоли. Но кто-то отдавил мою мозоль, И нет в аптеках средства от мозоли. Старались мыло запасти и соль, Когда старухи о беде мололи. Нет у меня беды. Есть только боль. Зато в аптеках средства нет от боли. А прокормиться можно бы пока: Есть хлеб и даже пачки молока, А иногда – глядишь – подбросят мяса. Коровушки не снизили удой… И все же, как перед большой бедой, Уже пора готовить нам припасы.Цивилизация
Муравьиных не счесть формаций, Но, эпохи в генах храня, Столько бывших цивилизаций Муравьи несут для меня. И для новеньких популяций, Муравьиных прав не тесня, На одной из безвестных станций Я отдам эстафету дня. Все проходит – фижмы и тульи… Но заметьте – мы строим ульи По подобию городов. И, когда воцарятся пчелы, Позабудут, как все учел он Этот пасечник – САВАОФ!Старая большевичка
Не книга жизни – только предисловье, Миг радости – и вечная печаль. Страницы первых глав пропахли кровью, Там, что ни строчка, – то свинец, то сталь. Но вновь кладет газеты к изголовью. Свинца вдохнет – и снова станет жаль, Что где-то, кто-то жертвует любовью, И вновь она с тревогой смотрит вдаль. И в даль грядущего, и в даль былого, Но ничего не переделать снова, Недаром стал всесилен человек. Все грезила о перестройке мира. Есть на Арбате у нее квартира — Арбата хватит ей на краткий век.Оловянные солдатики
Нет чинов и нет наград, Но мои команды святы. Так раскрашенных солдат Муштровала я когда-то. Песни петь учила в лад, Разъясняла, что им свято. И ходили на парад Оловянные солдаты. Пели бодро на параде, Что чужой земли ни пяди Получить мы не хотим. Шли мы оловянным маршем, И в цветном бездумье нашем Путь наш – неисповедим!Присказка
Может, плыть кораблю, Может, швартоваться, Может, говорить: «Люблю», Может, притворяться. Может, жизнь загублю — Нет нужды стараться, Может быть, во хмелю Буду услаждаться. Может – да, может – нет, Невелик мой секрет, Несложна задача. Хмель, еда и табак — Не Земля, а кабак! Может, все иначе?!«По Москве я блуждаю тенью…»
По Москве я блуждаю тенью, Растеряв почему-то плоть… Но не в силах я внять смиренью — До сумы, до каторги вплоть. И за днем все теряю день я, И не могут меня смолоть Жернова могучего тренья, — В этом дух помогает хоть! Руки в стороны, ноги врозь! Спрячьте розги – пройдут насквозь. Что мне сделается, скаженной?! Сквозь людей прохожих иду, Вижу все на свою беду — Новостроящийся Блаженный!Олимп
Мне, в общем-то, не привыкать Все парадоксы объяснять Логичною причиной. Выкрикиваю в пустоту Я сумасшедшую мечту, Взываю: «Будь мужчиной!» Нет, не простил Олимп измен, Но исчезали боги И совершали свой обмен На новые чертоги. Дорога – кладезь перемен. Мне с каждым – по дороге. Коль новый бог придет взамен, — Я встану на дороге!Странный проситель
Мне, словно божества, – слова, Я не гожусь на роль просителя… И плещется бассейн «Москва» Там, где был храм Христа Спасителя. А ты, осмыслив мир едва, В себе провидишь победителя… И плещется бассейн «Москва» Там, где был храм Христа Спасителя. Теперь я скромно говорю, Что всем бассейн «Москва» дарю. (О, москвичи! Меня простите ли?) Но не отдам я никому Мою суму, мою тюрьму, Мой Китеж – ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.Начало расплаты
НЕ по щучьему веленью — По хотенью моему Всенародному терпенью — Всенародную суму. Нам привычно это тренье… Если терпишь – то забвенье Почему-то… Почему?! Я ни в чем не виновата, Для меня живое свято, И неведом мне азарт. Плохо в мамонтовой шкуре… Но сегодня в Байконуре Состоялся новый старт.Музей вечности
О бравой бренности на поле брани Я почему-то слов не нахожу. Ведь я всего лишь вечности служу, А вечность – не предмет для собиранья. Но, может, если приложить старанья, (Об этом умозрительно сужу, Хотя витриной умников ссужу), — Собрать удастся звездное сиянье. Всегда неполон будет каталог. Но честь тому, кто хоть отчасти смог Представить людям вечности частицу. Но чтоб не спятил этот гусь с ума, Я лучше объясню ему сама. Что вечность в вечности – не сохранится.«Вычеркивали строчки черной тушью…»
Вычеркивали строчки черной тушью, Как будто вырубали топором. И гром гремел. И был не слышен гром. И мне переворачивал он душу. И черной тушью белый лист пестрел, Как в честном поле частые могилы. Мы видели. Мы знали. И могли мы Воображать, что это не расстрел. А строй случайно уцелевших строк Иное обретал существованье, И лишь черновики хранились впрок, В надежде на посмертные изданья. Их оживят. И к ним проявят такт… Но запоздало возвращенье к жизни: В нелепом и смешном анахронизме Не боль души — литературный факт!Главный цензор
Главный цензор Российской Империи! Безоглядно сегодня вам верю я — Вам доверие возвращено. Рифмы – вздор. Но такими мерилами Вы измерены славянофилами, Что не верить вам просто грешно. О, свобода за строчками Тютчева! Разум в странствии, как пилигрим… Ты цензуре была не обучена, Презирала подделку и грим. Мы – наследники духа могучего — О величии прошлом грустим… Но не верим мы слабости случая — Новых тютчевых мы запретим!«На родине – а все-таки в изгнанье…»
На родине – а все-таки в изгнанье, Свободные – а все-таки рабы… Довольствуемся скудным подаяньем Привычной, узаконенной судьбы. Пришла пора спросить себя: готов ли Ты променять на творчество уют, И против внутренней работорговли Поднять незримый одинокий бунт? И совести горчайшее лекарство Недуг сомненья исцелит во мне… Любовь, рукомесло или бунтарство Со временем поднимутся в цене. Когда я справлюсь с этой долгой болью, Я простоту надежды обрету. Но как пока темно в моем подполье, И как борьба похожа на тщету! Я вышла бы в леса, на волю, к свету, Но нынче вырубаются леса. Бензином и соляркой пахнет лето И ядохимикатами – роса. К друзьям ушла бы… Но у них все то же — В оконной щели – нездоровый свет. Я помолилась Богу бы… Но – Боже! — В двадцатом веке даже Бога нет. На бесконечный спор с самой собою Себя я добровольно обреку. Знакомство и с тюрьмою и с сумою Нам на коротком выпало веку. И потому шепчу я утром: «Здравствуй Самой себе неведомая Русь!» Когда окончится эпоха рабства, Безвестно я на Родину вернусь.Стихи Ирины Озеровой в переводе на английский язык Уолтера Мэя Из книги «The Tender Muse», 1976 г.
Ballad on Don Quixote
Poor Señor Cervantes is busy, He glances around in despair: The hero, once born of his vision, Is so often now taken on hire. Round departments he goes for a pittance, Though retirement long since he earned. And the writer makes out his quittance With mortally trembling hand. But the globe turns around on its spindle, And everyone begs for a loan: «Will you kindly lend me your windmill — As a Quixote I wish to be known!» From his lifetime in full requisition Deathless Quixote is tired out, They multiply him by division — But still Dulcinea doesn't count. The mythical windmills are weaker Than narcotics, politic tirades, And little Don Quixotes wander Through verse, like theatrical shades. While out of inertia hammers The firmament's spinning-wheel, The windmills have died out, like mammoths, And they've built no new ones, nor will. And my sword in its sheath is rusting, And there's no foolhardy attack… Put out by the motor-cars rushing, To the Zoo Rosinante's gone back. For knights there are reservations, Befitting the time and task. But still to poor Senor Cervantes, Like the others, I come and ask: «Will you kindly lend me your windmill — As a Quixote I wish to be known…» But that's just a trifle, so little, That to ask it is awkward, I own.The Poet
The candle to the half-way mark has guttered, But he's not noticed, pondering on his lines. Odd words, like some strange oaths, he's often muttered, And led them, ranged in rows, to future times. He's changed, for fountain-pen, the quill out-dated, No candle, but a bulb sees what he wrote; Himself he was tormented, good created, And fought against the bad. He was a poet. The editor, and his own wife, have tricked him, The censors everywhere false meaning sought. He chiseled out his words, like hieroglyphics Which the Egyptian slaves in stone have wrought. He died in bed, or underfoot was trodden — Here slain in duel, and there stabbed in the dark. He has been famous, and has been forgotten, But till this day his quill-pen still is squeaking, And till this day his candle still is gleaming And guttering only to the half-way mark.Paradox
The universe knows nothing of poor harvests. It's like a restless, ever-questing genius. How readily blaze the hydrogen candles harnessed, And gutter with the heavy wax of helium. O orbs, a myriad years you have been burning, And knowing-maybe not-of my existence; So distant, but so generous in your nursing, You poured upon me warmth and light insistent. Half-way towards the universe of mystery, Not sparing tired limbs, the earth I've trod. While still my time has not passed into history, As deathless and omnipotent as God. I make, unmake, and remake what is broken And, celebrating reason's triumph alone, The doors of cosmic mystery I open, As though they were the doors of my own home. …They give the order, and with infinite power The terrible star of hydrogen ignites, And changes to a communal grave that hour, A city pulsing with a million lives. A cry bursts forth of anguish and amazement Upon the verge of boundless empty gloom… The earth is entering on its dangerous age now, The earth brings forth most painful heavy blooms! 1967II Избранные переводы
Из английской поэзии (перевод с английского)
Филип Сидни (1554–1586 гг.)
Сонеты
№ 7
Когда природа очи создала Прекрасной Стеллы в блеске вдохновенья, Зачем она им черный цвет дала? Быть может, свет подчеркивая тенью?.. Чтоб свет очей не ослепил чела, Единственное мудрое решенье Природа в черной трезвости нашла, — Контрастами оттачивая зренье. И чудо совершила простота, И красота отвергла суесловье, И звездами сияла чернота, Рожденная искусством и любовью. Прикрыв от смерти траурной фатой Всех тех, кто отдал кровь любви святой.№ 9
Храм добродетели природа возвела, — Мы видим в нем лицо прекрасной Стеллы; Фасад из алебастра нежно-белый, Из золота литого купола. Жемчужными замками заперла Она врата порфирные умело! А мы зовем щеками два крыла Ее живого мраморного тела. Сквозь два окна ее небесный взгляд Не может в мире отыскать сравненья С тем черным светом, что струит гагат, Всесильный, как земное притяженье. Сам Купидон гагат отшлифовал: Я – как соломинка, твой взгляд – как шквал.№ 14
Увы, нанес я другу много ран, Тому, кто людям дал огонь небесный, Чью грудь терзал свирепый Гриф над бездной, А я опустошал Любви колчан, Но горький, как ревень, ответ мне дан, И стала грудь для вздоха слишком тесной, В трясине грешных мыслей тонет честный Порыв души, и даже смерть – обман? Но если грех мне формирует нрав, Скрепляет правдой слово и деянье, Страшась позора, за позор воздав, Он верностью венчает воспитанье. И если грех Любви святое чудо, То я вовеки грешником пребуду.№ 16
Так создан я, что за собой влекли Меня красавицы, как самоцветы, Бурлящий дух мой попадал в тенеты, Которые Любовью нарекли. Но языки огня меня не жгли, Мне боли страсть не причиняла эта, И я решил, что неженки наветы На страсть из-за царапин навлекли. Я с этим львенком лишь играл, пока Мои глаза (на счастье, на беду ли?) Узрели Стеллу. Сломана строка, Ее глаза мой мир перевернули. Теперь с любовью мы накоротке — Она как яд в отравленном глотке.№ 22
На небосводе солнце посредине, Прекрасных близнецов покинув кров, Без шарфа белоснежных облаков, Обрушивает жар в своей гордыне, И всадницы прекрасные отныне, На ветер не бросая данных слов, В благословенной тени вееров Спешат укрыть ланит непрочный иней. И только Стелла, лишь она одна, Лицо, подобно солнцу, не скрывала, Беспечностью своей защищена, Она своих богатств не растеряла. В тот день красавиц много обгорело, Но солнце лишь поцеловало Стеллу.№ 85
Я вижу берег! Сердце, не спеши: Твой парус судну шаткому опасен… Порыв, рожденный радостью, прекрасен, Но он сулит крушение души. Так слабоумный лорд в ночной тиши Закон измыслит, что для всех ужасен, И людям, для которых путь был ясен, Укажет тропку, где обрыв в глуши. Свободу слугам предоставь своим, Пусть уши разуму доносят звуки, Лик красоты глазам необходим, Дыханью – аромат; пускай же руки Обнимут мир – с любовью и людьми, А ты – всю царственную дань возьми.№ 93
О провиденье, о провинность! Мне Не отыскать блаженства милосердья, Моя беда черна в своем усердье: Страдает Стелла по моей вине. Но истина (коль я не пал вдвойне) Свидетель мой, что не в игре со смертью, Не от беспечности над вечной твердью Шквал чувств оставил разум в стороне. Для оправданий слов не отыщу, Я повредил тебе (и жив при этом!). Пусть все простят, но сам я не прощу, И будет только боль на боль ответом. Все ссадины твои я залечу — Твоей слезою я кровоточу.№ 105
Она исчезла. Горю нет конца… Бесплотно и бесследно, как виденье. Иль зеркала воруют отраженья, Которые еще хранят сердца? Клянусь, я был невинней мудреца, Когда в невероятном ослепленье Все зеркала заставил в исступленье Служить свеченью одного лица… Но хватит плакать. Ожерелье слез Мне не вернет потерянного Бога. Будь проклят паж, который факел нес, Будь проклят кучер, проклята дорога. Ты поровну на всех проклятья раздели. Я трижды проклят сам за то, что был вдали.№ 106
О, боль разлуки – Стеллы нет со мной; О, ложь надежды лестной! С честным ликом Она лгала, что в этом месте диком Увижусь я со Стеллой неземной. Вот я стою один над крутизной, Страдание во мне созрело криком. Но в ослепленье жалком и великом Хочу молиться я тебе одной. Здесь вижу много я прекрасных дам, Плетущих кружева беседы нежной, Но в сердце им я заглянуть не дам, В их утешенье привкус неизбежный Целебной лжи, которая всегда Несет туда веселье, где беда.№ 108
Когда беда (кипя в моем огне) Прольет на грудь расплавленный свинец, До сердца доберется, наконец, Ты – свет единственный в моем окне. И снова в первозданной вышине К тебе лечу, как трепетный птенец, Но горе, как безжалостный ловец, Подстережет и свяжет крылья мне. И говорю я, голову склонив: Зачем слепому ясноликий Феб, Зачем глухому сладостный мотив, И мертвому зачем вода и хлеб? Ты в черный день – отрада мне всегда, А в радости лишь ты – моя беда.Джордж Гордон Байрон (1788-1824)
Из «Еврейских мелодий» (1814-1815)
О, плачь о тех…
1
О, плачь о тех, в чьем прахе Вавилон, Чьи храмы пусты, чья отчизна – сон! О смолкшей арфе Иудеи плачь: Там, где жил Бог, теперь живет палач.2
Где смоет Израиль с израненных ног Засохшую кровь бесконечных дорог? И где же напев Иудеи найти, Что вызовет трепет, забытый почти?3
Ноги в дороге избиты, измучена грудь; Где ты спасешься? Приют обретешь где-нибудь? Норы – для лис, а для ласточек – тысячи гнезд, Для человека – отчизна, а для Иудеи – погост.Когда изнемогшие стынут сердца…
1
Когда изнемогшие стынут сердца, Где дух совершает бессмертный полет? Он без лица, он без конца, Но он свой сумрачный прах отряхнет. Тогда, покинув телесный плен, Пойдет ли он по следу планет? Иль чьи-то глаза, сквозь забвенье и тлен, В пространство пошлют ему царственный свет?2
Мысль – вечна, безбрежна, сильна, Все видно невидимой ей, Все, все будет помнить она, — И землю, и небо над ней. Она в озаренье поймет Поблекнувших лет череду, И в памяти стершийся год Воскреснет в грядущем году.3
О дух! Увидит хаос он До заселения земли. Там, где рождался небосклон, Его дороги пролегли. Распад вселенной, смерть светил, Творенье времени и прах… Он в отрешенности забыл Про боль в расширенных зрачках.4
Любовь, надежды и невзгоды Дух видит без сердечной смуты, Века проходят, словно годы, А годы кратки, как минуты. Летит, бескрыл и бессердечен, Не существующий, а бывший. Без имени, без чувств – он вечен, И что такое смерть, – забывший.Если б в сердце…
1
Если б в сердце таилась неверия тень, Галилею покинул бы я в тот же день; Я бы, веру отвергнув, проклятие снял, Что над родом моим от начала начал.2
Если зло отступилось от нашей судьбы, Ты свободен и чист, – грешны только рабы. Если изгнанных небо отвергнет людей, Ты живи в своей вере, умру я в своей.3
Больше дал я за веру, чем можешь ты дать; Бог, даря тебе счастье, не может не знать, Держит он мое сердце, надежду мою; Ты – хранишь свою жизнь, я – Ему отдаю.И дух предо мною прошел от иова
1
И дух предо мною прошел. Я узрел Бессмертного лика бесславный удел. Все спят. Но в бессоннице передо мной Явился бесплотный он, словно сквозной, И дрогнула плоть вплоть до взмокших волос, Когда мой пришелец ночной произнес:2
«Прав человек иль Бог? И разве чище Вы, люди на духовном пепелище? Живущие в пыли, созданья праха, Вас червь переживет, не зная страха. Игра мгновенья, отблеск увяданья, Вас губит ночь, вас ослепляет знанье».Стансы, написанные в дороге между Флоренцией и Пизой
1
Молчи, что в веках имена величавы; Лишь дни нашей юности – дни нашей славы; Ведь мирт или плющ для меня драгоценней Всех лавров, венчающих гибель мгновений.2
К чему нам увенчивать старость короной? Цветок не воскреснет, росой окропленный! Венки уберите оттуда, где иней! В них слава – и только – с пустою гордыней.3
О, слава! Однажды тобой соблазненный, Тогда я прельстился не фразой стозвонной, А тем, что в глубинах любимого взгляда Безмолвно сияла любовь, как награда!4
Искал я в глазах у любимой признанье; Мгновенным и вечным казалось сиянье; Оно освещало судьбы моей главы — Узнал я любовь – воплощение славы.Ну, что ж! Ты счастлива!
Ну, что ж! Ты счастлива… Теперь И мне счастливым стать пора; Всем сердцем я хочу, поверь, Тебе, как прежде, лишь добра. Счастливчик муж – наносит он Мне боль удачливой судьбой; Но гнев – о, сердце! – исцелен Лишь тем, что он пленен тобой. Мне мог ребенок твой, шутя, Улыбкой сердце разорвать… Но я не мог винить дитя — Целуя сына, видел мать. Я видел мать, хотя отца Он мне напоминал сильней, Твои глаза с его лица Дарили свет любви моей. Прощай же, Мэри! Я уйду: Ты счастлива – к чему роптать? Но будем врозь, чтоб, на беду, Не стал бы я твоим опять. Я думал – время, гордость, стыд Остудят пыл минувших лет, Но если ты вблизи – горит Он – прежний и надежды нет. К спокойствию приговорен, Я снова чувствам властелин. Преступный трепет усмирен, И нерв не дрогнет ни один! Ты ищешь на лице моем Смятенья и смущенья знак; Сегодня лишь одно на нем — Отчаянья спокойный мрак. Прочь! Ухожу! Былой мечты Не захвачу с собою в путь. О, вечность Леты! Где же ты? Умри, душа, или забудь!Роберт Грейвз (1895–1985)
Мое имя и я
Мне имя присвоил бесстрастный закон — Я пользуюсь им с тех пор И правом таким на него облечен, Что славу к нему приведу на поклон Иль навлеку позор. «Он – Роберт» – родители поняли вмиг, Вглядевшись в черты лица, А «Грейвз» – средь фамильных реликвий иных Досталось в наследство мне от родных Со стороны отца. «Ты – Роберт Грейвз, – повторял мне отец (Как пишется, не забудь), — Ведь имя поступков твоих образец, И с каждым – честный он или подлец — Безукоризнен будь». Хотя мое Я незаконно со мной, Готовое мне служить, Какой мне его закрепить ценой? Ведь ясно, что Я сгнию под землей, А Роберту Грейвзу жить. Отвергнуть его я никак не могу, Я с ним, как двойник, возник, Как личность, я звуков набор берегу, И кажется, держит меня в долгу Запись метрических книг. Имя спешу я направить вперед, Как моего посла, Который мне кров надежный найдет, Который и хлеб добудет, и мед Для моего стола. И все же, поймите, я вовсе не он, Ни плотью моей, ни умом, Ведь имя не знает, кто им наречен, В мире людей я гадать обречен И о себе, и о нем.Метка
Не угадав, что будет впредь, Ты, может, поспешишь стереть, Забыть о том, Как властным ртом У локтя, в перекрестье вен Клеймом я твой пометил плен. Но, опыт совершив такой, Найдешь ли ты покой? Ни от клинка, ни от клыка Отметин не было пока, Твоей руки живой атлас Ни сыпь не тронула, ни сглаз, И губ моих не виден след — У кожи тот же нежный цвет, Питает женственности кровь И кожу, и любовь. Ни пемзою, ни кислотой, Хоть ты до кости плоть отмой, Мой знак не сможешь смыть. Должна вовеки метка быть, Свидетельством любви гореть, Ее ничем нельзя, стереть, Затушевать или забыть — А лишь себя убить.Кошки-принцессы
Извращенная прихоть у кошек-принцесс, Даже у самых черных, черных, как уголь, Кроме юной луны, на каждой груди горящей, Коралловые языки, берилловые глаза, словно лампы, И лапы в галопе, как трижды три в девяти, — Извращенная прихоть, походя, отдаваться В правдоподобном любовном экстазе Бродячим дворовым котам с разодранными ушами, Которые ниже настолько обычных домашних котов, Насколько они их выше; а делают это назло, Разжигая ревность, – и не стыдятся ничуть Крупноголовых котят кроличье-серого цвета, С удовольствием их оставляя.Назови этот брак удачным
Назови этот брак удачным — Ведь никто под сомненье не ставил Его мужество, ее нежность, Совпадение их воззрений; Лишь один бездомный графолог Почему-то качал головою, Прозорливым оком сличая Начертанье букв у супругов. Хоть нечасто найдет поддержку Моногамная аксиома: Зуд в том месте, что ниже бедер, Отчуждать не обязано сердце, — Назови этот брак удачным: Хотя нет от него потомства, То, что этих двоих связало, Зримей несовпаденья их. Назови этот брак удачным: Ссор при людях не допускали И вели себя осторожно; А превратности их постели Никого не касались, покуда Не случилось нам, как присяжным, Выносить решенье по делу О взаимном самоубийстве.Белая богиня
Ее оскорбляют хитрец и святой, Когда середине верны золотой. Но мы, неразумные, ищем ее В далеких краях, где жилище ее. Как эхо, мы ищем ее, как мираж, — Превыше всего этот замысел наш. Мы ищем достоинство в том, чтоб уйти, Чтоб выгода догм нас не сбила с пути. Проходим мы там, где вулканы и льды, И там, где ее исчезают следы. Мы грезим, придя к неприступной скале, О белом ее, прокаженном челе, Глазах голубых и вишневых губах, Медовых – до бедер – ее волосах. Броженье весны в неокрепшем ростке Она завершит, словно Мать, в лепестке. Ей птицы поют о весенней поре. Но даже в суровом седом ноябре Мы жаждем увидеть среди темноты Живое свеченье ее наготы. Жестокость забыта, коварство не в счет… Не знаем, где молния жизнь пресечет.Умерших воскрешать
Умерших воскрешать Не колдовство – искусство. Не каждый мертвый – мертв: Подуй на уголек — Раздуешь жизни пламя. И оживет забытая беда, И зацветут засохшие надежды. Своим пером его освоив почерк, Естественно, как собственную, ставь Его автоматическую подпись. Хромай, коль он хромал, Как клялся он, клянись. Он черное носил – ходи лишь в черном, Подагрой он страдал — Страдай подагрой ты. Интимные безделицы копи — Перчатку, плащ, перо… Вокруг вещей привычных Построй привычный дом Для страшного жильца. Ему даруя жизнь, остерегайся Могильного пристанища его, Чтобы оно теперь не опустело. Завернутый в его истлевший саван, Сам место ты свободное займешь.Латники на границе
Готы, гунны, вандалы, исаурианские горцы, Римляне не по рожденью, а по случайности службы, Знаем мы все так мало (больше мы знать не хотим) О Метрополисе странном: о храмах его со свечами, Сенаторах-педерастах, облаченных в белые тоги, Спорах на ипподроме, кончающихся резней, О евнухах в пышных салонах. Здесь проходит граница, здесь наш бивак и место, Бобы для походной кухни, фураж для наших коней И тяжесть римских доспехов. Ну, хватит! Лишь тот из нас, Кто в сумасшедшей скачке, достав тетивой до уха, Вбивает тяжелые стрелы в чеканные латы персов, Пронзая насквозь доспехи, успех завершая копьем, — Лишь тот достоин почета, достоин нашей любви. Меч свой в ножны вложить властно велел Христос Святому Петру, когда стража их превзошла числом. Тогда и была дана Святому Петру возможность Словом поднять толпу, на помощь ее призвать. Петр нарушил обет и от Христа отрекся. У нас за случай такой – забрасывают камнями, А не возводят в сан… Ни веры, ни истины нет, ни святости в Церкви Петровой, А справедливости нет ни во дворце, ни в суде. Священнику все равно, что мы продолжаем дозором Посменно стоять на валу. Достаточно нам вместо Бога, Чтоб на хоругви дракон от ветра распахивал пасть. Сердце империи – мы, а не этот облупленный город: Гнилому дереву жизнь продлевает только кора.Сельский особняк
Этот дом старинный, столь известен Лепкой и великолепьем лестниц, Он высокомерием шелковиц Унижает все дома в округе. Прежде были у него владельцы: Был отец, наследник-сын и внук. Пережив последнего из рода, Дом теперь в пожизненной аренде. Не было намека на крушенье — Ни фамильных призраков, ни крыс, И в саду фруктовые деревья Зеленели стройными рядами. Спальня с очень низким потолком В эти годы не пугала спящих. Новым поколеньям неудобства Принесли бессонницы удушье. В чопорной почтенности гостиной Старые ирландские бокалы Были вдвое ярче, отражаясь В навощенной памяти стола. Временно обоями с цветами Здесь хозяйка приручила стены, Но благочестивый реставратор Серые панели обнажил. Дети старый дом до слез любили, Были многоцветны цветники, Под защитой полога супруги Долгой ночью радовали плоть. Хлам – на чердаке, в подвале – плесень, Не играют соки в старом дубе Прочных балок: если распилить, Как живое дерево, заплачут. …Парр почтенный прожил сто пять лет (Королю он так похвастал Карлу), Когда он покаялся публично В прелюбодеянии с потомком. Умер Парр, не умер особняк, И его жильцы переливают Юность в исторические вены, Не роняет черепицу крыша. Хоть покинул дом последний в роде, Разрывая давнее заклятье, Ставят к трапезе ему прибор И постель пустую на ночь греют. Не вернуть его к беседам праздным Над прудом с рисунком белых лилий, К ритуально-чинному застолью Генеалогических гостей. Этот дом лишь радостями детства Взрослого способен заманить, Но и в колыбели, и в могиле Он – приемыш на чужой земле. Ненависти нет у бунтаря, Радости былые не отверг он, А побег из мест не столь почтенных Не польстит тщеславию его. Он в себе несет недуг новейший: Благодарность с примесью досады, Унаследует он древний титул, Ибо некому продолжить род.Витой полет
Капустницы полет витой (Его идиотизм святой) Не изменить, ведь жизнь пройдет, Чтобы постичь прямой полет. Однако знать – не значит мочь! Она витает наугад К надежде, к Богу – и назад. Стриж – акробат, но даже он Таланта этого лишен.Прометей
К постели прикован я был своей, Всю ночь я бессильно метался в ней. Напрасный опять настает рассвет, Стервятник лучами его согрет. Я снова титан, потому что влюблен, К вечерней звезде иду на поклон, Но ненасытная птица опять Желает прочность любви испытать. Ты, ревность, клюв орошая в крови, Печень живую по-прежнему рви. Не улетай, хоть истерзан я весь: Та, что ко мне привлекла тебя, – здесь.Симптомы любви
Любовь – это всемирная мигрень, Цветным бельмом в глазу Она рассудок застит. Симптомы подлинной любви всегда — Суть ревность, худоба И вялость на рассвете. А признаки и призраки ее — Тревожно слушать стук, Ждать с нетерпеньем знака: Прикосновения любимых пальцев В вечерней комнате И пристально взгляда. Так наберись же мужества, влюбленный! Сумел бы ты принять такие муки Не из ее неповторимых рук?Тезей и Ариадна
На высокой резной постели входит в сон его Воспоминанье: вот она идет по тропинкам, По колючим морским ракушкам, между двух цветников душистых, По тенистой прохладе дерна, под раскидистым виноградом. Он вздыхает: «Оставшись в прошлом, среди бед моих и ошибок, Она призраком бродит в руинах по густым сорнякам лужаек». Но, однако, стоит, как прежде, царский дом вдалеке, за морем. Он от старости покосился, стал он ниже ровесниц-сосен. В этом доме впервые Тезею надоело ее постоянство. Ариадна уверенней ходит, чем ходила, когда чернела Его гнева близкая туча, грохотала грозой над нею, Когда сосны в предсмертных корчах на ветру беспощадном бились И цветы глядели свирепо обезумевшими глазами. С ним теперь покончены счеты. Никогда она снов не видит, Но о милости молит небо, призывает благословенье На места, где в его виденьях стало все травой и камнями. И сама Ариадна – царица, и друзья ее – благородны.Песня о несообразности
Даль бывает под рукой, К близкому – тропа длинна. Принесет любовь покой — Будет неверна. На отчаянный призыв Из глубин бездонных сна Отзовется, охладив Страсть твою она. Плеть и кровь согрела ночь, Днем – невинность холодна, Страсть и радость превозмочь Чистота должна. В чем же смысл? Глаза пусты, Призрачно-бедна Тень любви, призыв тщеты — Одинок в день свадьбы ты И она одна…Заступничество в конце октября
Как трудно умирает год; мороза нет, Мидас облокотился на золотой песок, Не слыша стонов камыша и волн. Еще крепка, душиста ежевика, И бабочками старый плющ цветет. Его ты пощади чуть-чуть, Старуха, — За чистоту надежд, за искреннюю страсть.Благодарность за кошмар
Его облики неисчислимы, Его сила ужасна, Мне неведомо имя его. Неделями, съежившись, он лежит, Подавая лишь изредка признаки жизни, Словно приступ странного совпаденья. Есть сытно, одеваться солидно, спать удобно И превращаться в достойного гражданина С долгосрочным кредитом в магазинах и кабаках — Так опасно! Я очень боялся, что этот патлатый дьявол Не согласится с моим соглашательством И устроит себе берлогу в чьем-то пустом животе. Но когда он внезапно взнуздает меня во сне, — «Все прекрасно!» – хриплю я и к лампе на ощупь тянусь Со вспотевшим лицом и грохочущим сердцем.Остров яблок
Хоть море до гор затопило залив, И хижины разнесло, Наш виноград на корню просолив, Хоть ярко луна и опасно плывет, И цикл у нее иной, Чем солнечный цикл, завершающий год, Хоть нет надежды добраться с тобой На остров яблок вдвоем, Но если не буду сражен я судьбой, Зачем мне бояться стихии твоей, И зеркала – полной луны, И части плода со священных ветвей?Дверь
Когда она вошла, Мне показалось, что не затворится вовеки дверь. Не затворила дверь – она, она — И в дом морская хлынула волна, И заплескалась – не сдержать теперь. Когда она ушла, улыбки свет Угас навечно — Всюду черный цвет, И закрывалась дверь за нею бесконечно, И моря больше нет.Конец пьесы
Настал конец игры, теперь уж навсегда, И мы, и прочие, хоть редко признаются, И нынче видят небеса, как встарь, С улыбкой веря в звездный плащ Марии. Хоть кажется, что жизнь, по-прежнему беспечна, Бездельничает средь цветов июньских, И пахнет резкой зеленью трава, А вера благостно нисходит с неба, — Все только призрак: зеркало и эхо Совмещены со зрением и звуком, Зов веры, прежней смелости лишенный, Звучит как жалоба слепца: «Я слеп!» Конец безделью, и роптать наивно, Как плакать о своих зубах молочных, Но ропщут многие и на коленях Взывают к непорочности Христа. Мы больше не мошенники, не лжем, Мы, наконец, не думаем, как прежде, Что, затаившись в каждом редколесье, Лев или тигр готовы нас сожрать. И страсть теперь не будет в ложной спеси Невинных втягивать в стыдливый танец От робкого касанья сквозь перчатку До исступленно стиснутой груди. Любовь, однако, выживет, зарубкой На плахе под секирой палача. И наших тел безглавым отраженьем, Как зеркало, нас память удивит.Наставление преемнику Орфея
Как только твой затмившийся рассудок Остудит тьма, припомни, человек, Что выстрадал ты здесь, в Самофракии, Что выстрадал. Когда минуешь реки царства мертвых, Чьи серные пары иссушат горло. Судилище предстанет пред тобой, Как чудо-зал из оникса и яшмы. Источник темный будет биться слева Под белой мощной сенью кипариса. Ты избегай его, ведь он – Забвенье, Хотя к нему спешит обычный люд, Ты избегай его. Потом увидишь справа тайный пруд, А в нем форель и золотые рыбки В тени орешника. Но Офион, Змей первобытный, прячется в ветвях, Показывая жало. Пруд священный Питается сочащейся водой. Пред ним бессонна стража. Спеши к пруду, он означает – Память. Спеши к пруду. Там стража строго спросит у тебя: «Ты кто? О чем ты хочешь вспоминать? Ты не страшишься жала Офиона? Ступай к источнику под кипарисом, Покинь наш пруд». Но ты ответишь: «Я иссох от жажды. Напиться дайте. Я дитя Земли, А также Неба, из Самофракии. Взгляните – на челе янтарный отблеск, Как видите, от Солнца я иду. Я чту ваш род, благословенный трижды, Царицы, трижды венчанной, дитя. И, за кровавые дела ответив, Был облачен я в мантию морскую И, как ребенок, канул в молоко. Напиться дайте – я горю от жажды. Напиться дайте». Но они в ответ: «Не утомил ли ты в дороге ноги?» Ты скажешь: «Ноги вынесли меня Из утомительного колеса движенья На колесо без спиц. О, Персефона! Напиться дайте!» Тогда они тебе плодов дадут И поведут тебя в орешник древний, Воскликнув: «Брат наш по бессмертной крови, Ты пей и помни про Самофракию!» Напьешься ты тогда. И освежит тебя глоток глубокий, Чтоб стать властителем непосвященных, Бесчисленных теней в утробе Ада, Стать рыцарем на мчащемся коне, Предсказывая из гробниц высоких, Где нимфы бережно водой медовой Твои змеиные омоют формы, Тогда напьешься ты.Филип Ларкин (1922–1985)
Иллюзии
Конечно, мне подмешали наркотик, да столько, что я не приходила в себя до следующего утра. Я ужаснулась, поняв, что меня погубили, и несколько дней была безутешна и плакала, словно ребенок, которого убивают или посылают к тебе.
Мейхью, Лондонский Труд и Лондонская Беднота Даль ко мне доносит горький вкус беды, Острый стебель в горле у тебя застрял, Солнечные блики, случая следы, Стук колес снаружи, отзвук суеты, Там, где Лондон свадебный на ином пути, Свет неоспоримый с трудной высоты Разъедает шрамы, извлекает стыд Из его укрытья; целый день почти, Как ножи в коробке, разум твой открыт. В трущобах лет ты похоронена. Не смею Тебя утешить. Что сказать смогу? В страданье – истина, и перед нею Любое понимание – пустяк. Тебе свое страдание важнее, Чем то, что жизнь перед другим в долгу — Насильником, что, млея и бледнея, Взбирается на нищенский чердак.Сиднею Беше
Ты держишь этой тонкой ноты дрожь, В ней Новый Орлеан, как отраженье, И слуха пробужденье в ней, и ложь. Квартету создано сооруженье Из ярусов, кадрилей и цветов, Любой здесь любит, чувствам не до шуток — Играй, глухой, ведь твой удел таков, — Для тех, кто слышит. Толпы проституток Вокруг, как тигры в цирке (но они Ценней рубинов), прихоть – их победа, Пока кивают знатоки в тени, Закутанные в личности, как в пледы. Мне этот звук сумел на душу лечь, Мой Полумесяц – Город возле моря, Где стала вдруг твоя понятна речь, Чтобы добро в овации вовлечь, Услышать ноту в партитуре горя.«Куда б летело, сердце, ты…»
Куда б летело, сердце, ты, Свободу получив? Подальше от земной тщеты, В заоблачный обрыв, Необитаемый? Теперь Через моря и города, Скажи, летело б ты куда? Я отворило бы засов, Бежать – моя мечта, Минуя западни лугов. Вся в мире красота — Залог потерь. Не отыскать, чтоб голову склонить, кровать И друга, чтоб обнять.Зима
Две лошади в поле, Два лебедя в речке, А ветер все резче, Пустырь им заполнен, Там чертополох, Как люди, продрог; Мои размышления – дети — Со взрослой тревожностью лиц; Вставать мы их учим Под небом текучим Из тайных гробниц. Контур лебедь полощет В зеркальной воде — Быть зиме, как беде. А вольная лошадь Грызет удила, Как любовь, что ушла, И – ах, им украсть помогла Мой спрятанный разум, — Не вернуть ни крупицы, Пока помню их лица, Что забудутся разом. Тогда пустошь застонет, Застанет людей врасплох, Они столпятся, как чертополох, Ветер их сжаться заставит, В бесплодном месте тесниться; Но чудо смотрит за ставни, Которыми скрыты лица, И находит здоровый росток, Который навеки застынет. Золотое зимнее солнце К вечной ясности не стремится.Исцеление верой
Женщины двигались длинной шеренгой, как в храм, Туда, где стоял он в очках без оправы, седой, В темном костюме и белой рубашке, святой. Распорядители их направляли к простертым рукам, Из которых забота живительной теплой водой Изливалась двадцать секунд. Ну’c? дорогое дитя, Что болит? – вопрошал его голос густой, И, немного помедлив, молитвой простой Он указывал Богу на чей-нибудь глаз и колено. Их головы объединялись; затем удалялись, Внезапно теряя мысли, одни брели молчаливо, Робко отбившись от стада, ожить не смея пока, Но другие все еще непреклонно Судорожно и крикливо Кликушествовали хрипло, словно лишась языка, Как будто в их душах дебил выпущен из-под замка, Чтобы, услышав голос, творить добро терпеливо. Только их этот голос возвысил издалека. Их речь нечестивых бесчестит, глаза выжимают стены, Громада неслышных ответов вещает им справедливо — Что болит! Усатые, в платьях с цветами, трясутся до дрожи, И все же – все болит. Здесь покоится в каждой Чувство жизни в крови, свое пониманье любви. Можно ближних любить, свое сердце тревожа, Можно даже потешиться жаждой, Лишь к тебе обращенной любви, Но ничто не поможет. Постоянная, нудная боль, Словно слезы оттаяли в зимнем жестоком пейзаже, Тает медленно в них – громче, голос зови, Говори Дорогое дитя, и все время на лжи не лови.Дайте жилище детям
На мягкой соломе, на блестках стекла Из хлама готовит постель им забота. Ни трав, ни земли, ни зимы, ни тепла Мам, дай поиграть нам хоть что-то. Живые игрушки исчезнут не в срок, Взрослея, мы их почему-то теряем. Коробка от туфель и старый совок… Мам, мы в похороны играем.Сесил Дэй Льюис (1904–1972)
Все ушло
Вот море высохло. И бедность обнажилась: Песок и якорь ржавый, и стекло: Осадок прежних дней, когда светло Пробиться радость сквозь сорняк решилась. А море, как слепец или как свет жестокий, Прощало мне прозренье. Сорняки — Мои мгновенья, ум – солончаки, Бесплоден плоти голос одинокий. И время высохло, и призрачны приливы, Ловлю натужно воздуха глоток… Молю, чтобы вернулось море вспять, Опять пусть будет добродетель лжива. Нахлынь на мой иссушенный песок, Чтоб жизнь иль смерть мне как свободу дать!Клен и сумах
Клен и сумах вдвоем над осенью парят, Взгляни: их письмена так ярко заалели, За эти изжелта-багровые недели Из всех закатов ткут они себе наряд. Вам, листья, кровь дана от целой жизни года. Какой с востока плыл фламинговый восход! Какой закат стекал по кронам целый год, Чтоб в славу хрупкую одела вас природа. И человек, как лист, однажды упадет Снаружи пепельный, внутри кровоточащий. Осенний отсвет многоцветной чащи Немыслим в тупике, где он конец найдет. О, первозданный свет и небосклон в огне, За всех, кто обречен, кричите вы во мне.Джордж Баркер (р. 1913)
Летняя идиллия
К исходу лета на сносях земля, От тяжести склоняет ветви книзу, Скрыв глубоко живую сладость соков, Она цветы выносит напоказ и золото, Усердно маскируя свой тайный сговор… Под покровом соков Покоится холодная зима, Покоится, произрастая, голод, Вмороженный в початки кукурузы. Под щедрым изобильем – обнищанье, И бедность, как богатство, клонит книзу Тугие ветви, и нужда – зерно. Их облачи в великолепье лета и вкось Проникни в кость, иль во владеньях Весны ты ими овладей; под грудью Пространство пустоты, как пустоцвет, как призрак Порочного цветка – размах нужды, ее давленье На зеницы духа, на существо Бездеятельных тел, давление На их передвиженье и на осуществление любви, Давление на жизнь, как в бездне моря, Становится порою нестерпимым, Хотя его обязаны стерпеть. Едва ослабит лето на мгновенье Давленье это, многие встают И плещутся в реке или под вечер Спешат к увеселеньям, как в крольчатник, Рассыпанные в парке, как бумажки, Купаются в поту, как комары, А позже блуду предаются в спешке, Гонимы сторожем и полицейским, они играют, Как и я, мечтая об отдыхе, достатке, чистоте. Сады, как начинающие шлюхи, Регалии сезона выставляют, Когда их овевает смутный запах, Манящий чистотой и красотой Мужчин, в кораллах светлых утонувших. Но только женщин обнажает лето — Снимает пиджаки и полуголых Мужчин пускает в лодках по реке, Влача их пальцы по воде тенистой; Они спешат покорно за рекой, Сквозь тени волн выслеживают руку, Которой незачем искать свой берег. Лицо в воде – как яблоко гнилое. Соборы и строительные фирмы С их появленьем рушатся. Все громче Бетховена играют, чтобы эхо Сумело в звуках утопить Уэльс, И ветер лета Средиземноморья Как лебедь, белоснежный лебедь плыл.Джеффри Григсон (р. 1905)
Апрель на сцене детства
Встречая вновь едва знакомый разговор, И странный вырез листьев, и цветок сердечный, И туповатую сову спугнув, открыв плюща узор, И полдень задержав лучом на башне вечной, — Не в этом ли нетленно бытие? Как мне уговорить Все это стать единым? Но бомб правительственных громыханье Мне не позволит двери отворить В мой старый дом. Навеки я в изгнанье.Идея мая
Да, в первые шесть дней открытий мая Желто-зеленые под теплым ветром Обновы буков, путь единый выбирая, Разорваны небесным светом. У мая даже есть свои паденья… Коричневые свитки оплели Зеленые ростки объятьем тленья И медью падают на чернь земли. Но ни отступничество, ни святая вера, Ни смертный приговор, весне внимая, Не опровергнут ни листву под ветром, Ни плодотворную идею мая.Алун Льюис (1915–1944)
Прощай
Итак, мы произносим: «Доброй ночи» — И, как любовники, идем опять, На самое последнее свиданье, Успев лишь вещи наскоро собрать. Последний шиллинг опустив за газ, Смотрю, как платье сбросила бесшумно, Потом боюсь спугнуть я шелест гребня, Листве осенней вторящий бездумно. Как будто бесконечность помню я, Как мумия, завернутый в молчанье, Я воду набираю питьевую. Ты говоришь: «Мы отдали гинею за комнату последнего свиданья». Затем: «Оставим мы любовникам другим Немного газа, пусть тепло лучится…» Лицо твое испуганно – вдали, Язык твой Вечных слов всегда боится. Мне поцелуями глаза закрыв, Смущаешься, как будто Бог ударил Дитя с его наивным, детским страхом. Мы бесполезность слез друг другу дарим. Но мы не отречемся от себя, Наш эгоизм не расстается с телом. Наш вздох – дыхание земли, Следы – навеки на сугробе белом. Мы создали Вселенную – наш дом, Мы сделали своим дыханьем ветер, Сердца в груди – опоры наслаждений. Перешагнем семь океанов смерти. Тела покуда воедино слиты. Когда ж уйдем мы в разные края, Ты сохранишь колечко, я – заплатку, Пришитую тобой, любовь моя.Норманн Маккейг (1910–1996)
Летняя ферма
Соломинка, как молния ручная, в траву стекла; Другая, расписавшись на заборе, зажгла огонь зеленого стекла Воды в корыте лошадином. В сумрак синий Бредут, покачиваясь, девять уток по колее дух параллельных линий. Вот курица уставилась в ничто одним проникновенным круглым глазом И клюнула. С пустыни неба разом Упала ласточка, покинув вышину, Конюшню облетит – и вновь в голубизну. Лежу в прохладе девственной травы, Боясь того, что может мысль – увы — Прыжком кузнечика перенести меня В пространство странное невиданного дня. Сам под собой, как множество, стою, Нанизанный на время, но мою Могу я ферму, крышу сняв, скорбя, Внутри увидеть самого себя.Шагая к Инверъюплейну
Горя решеньями в благоуханной тьме, Иду я, мудрый, Но разгорается проблема утра. Дошел я до моста – на Стоер поворот. Меня возносит Проблема дерева – она решенья просит. Ли По в душе. Ополовинен ум. Сесть. Пить до дна, Покуда не опустится луна. Мой виски зажигается созвездьем. Мудрым быть Умеет каждый, В чем суть проблемы, я решил однажды. Коль вы не знаете ответов, знаю я, Рад вам помочь… Я щурюсь на луну, убрал бутылку прочь. Затем я вновь иду (еще так много тайн, Их разгадать бы смог!), Но мучает проблема стертых ног.Поле боя у Инвернеса
Здесь только мертвые тела лежат, потому что мечты наши не похоронишь. Вы не можете придавить погребальным камнем зловоние чести и верности, которое все еще отравляет воздух. Сколько трупов в землю легло с тех пор, как воздух прогнил в Куллодене.Карл Сэнберг (1878–1967)
Трава
Сложи холмы из тел под Ватерлоо, в Аустерлице; В землю их зарой и дай пробиться мне — Я все покрою, я лишь трава… Потом сложи их грудой в Геттисберге, Сложи их грудой в Ипре и Вердене, Всех закопай. И мне позволь пробиться. Минуют годы; спросят пассажиры проводника: – А это что за место? – Где мы теперь? А я трава всего лишь. Позволь мне действовать.Сумерки буйволов
Исчезли буйволы. И все, кто видел этих буйволов, исчезли. Все, кто смотрел, как буйволов стада растаптывают дерн зеленых прерий, и к праху из-под тысячи копыт свои большие головы склоняют в величественном шествии к закату, кто видел их, уже давно исчез. И буйволы исчезли безвозвратно.Буква «S»
Река – это жидкое золото в закатных лучах Иллинойса. Кто-то золото плавит, меняя его назначенье. Женщина месит тесто для свадебного пирога, Кладет в него масло и яйца, и тайную щедрость заката. Река, изменяя русло, изгибается буквой «S». С этой буквой беседу ведут небеса Иллинойса.Плывущие против течения
Сильные люди преуспевают. Их ломают пуля, веревка, болезнь, разоренье. Но они продолжают жить и бороться и поют, как удачливые игроки. А сильные матери силятся вытянуть их… Сильные матери силятся вытянуть их из пучины моря, одиночества прерий, из горных обвалов. Спой аллилуйя, произнеси «аминь», излей благодарности благодать. Сильные люди продолжают преуспевать.Плавники
Рассекайте отмель морскую на отмели, как луну из луны добывает море; отмель, утес и песок – необходимо создать. Плывите, плывите, плывите, эти отмели переплывая, качается солнце над вами в морском голубом галопе — сидите на волнах, как в седлах, всадники скачки морской. Вверх и вкось возноситесь, серебряные волнорезы, стоны вашего танца исторгните; пенистый смех рассыпьте вечностью радуг. Крылья пены, летите; подхватите смелых пришельцев, пусть их зеленое тело с розовыми плавниками заблещет в искрах дождя и кружеве белой пены. Мужчины моря, как прежде, ушли к тяжелой работе, женщины моря ушли покупать булавки и шляпки, золотом ржавчину скрой на покрове бескрайнего моря.Реквизит
I
Разверните этот плед; в нем находится кокетка. Посмотри: ее нога виртуозна, как в балете; разверните плед; она — робкая беглянка; или — собирается ее кто-то ветреный похитить; вот шалунья ваша; как сможем мы играть, скажите, если нет ее у нас?II
Ребенок появился в урагане сценическом: «дочь грешная моя, ты впредь не пачкай моего порога», и нежные родители ребенка законному проклятью предадут; ребенок, спрятав кучку безделушек в платок, уходит медленно со сцены. Дверь закрывается; теперь она навеки вышла в ураган на сцене, навеки вышла; снег, включите снег. Ты, сын охотника.Тонкие ленты
В мастерской ювелирной я видел: мужчина чеканит тонкий лист золотой. И я слышал, что это плачет женщина плачем своим вековым. Я под деревом персика видел цветов лепестки — …это тонкие ленты истлевшего платья невесты. Я слышал, плачет женщина плачем своим вековым.Панно
Западное окно – это панно из марширующих луковиц. Пять новых кустов сирени кивают ветру и доскам ограды. Дождь обновил иссохшие доски ограды, промыл заплывшие лунки сучков, мир – большой гелиограф. (Сколько лет здесь дрейфует этот дощаник и буря завывает в лунках сучков, предвещая зимний, военный ритм барабана?)Прощание с луной
Японские гравюры проступают на западе: в них тополя на фоне неба. Причудливые лунные пески удвоили изменчивость картины. Луна творит прощальные картины. Пуст запад. Пусто все вокруг него. И в пустоте умолкли разговоры. Лишь темнота внимет темноте.Круги дверей
Я люблю его, я люблю его, – на губах у нее звенело, И она его имя пропела, вылепив на своем языке. И она ему слово послала, что любит его так сильно, Что смерть в ничто превратилась, что работа, искусство и дом Превратились в ничто, а любовь изначальна была И вечна; и звенело опять на губах – я люблю, Я люблю; знал он дверь, для него открытую настежь, А за дверью – новая дверь, и еще, и еще бесконечно, Зеркала до самых глубин их виденья удвоить, утроить Торопились: пьянило круженье Бесконечных зеркал и дверей, то с шарами невиданных ручек, То без ручек – их можно открыть только медленным, сильным нажимом, То готовых тотчас распахнуться лишь от нежности прикосновенья. Знал он, стоит ему захотеть, он свободно последовать мог бы Быстрым шагом по кругу дверей, слыша Изредка ласковый шепот: я люблю, я люблю, я люблю, Или отзвук высокого смеха. Сколько будет дверей впереди – десять, пять? Сколько — Пять или десять – миновал он? Возможно ли счесть? Пыль зеркал, как сама бесконечность. Я люблю, я люблю, я люблю, – она пела тревожно и быстро Истомленным высоким сопрано, и он чувствовал предназначенье Невесомого отзвука смеха, дверь за дверью И все зеркала и стремленья ее беспредельность. И предел, за которым всегда путь откроется к новым приделам.Рой Фуллер (1912–1991)
Времена войны и революции
За годом год идет познанье истин, Открытие случайных очертаний По атласу, который перелистан. В едва знакомом – мест любимых облик, — В их проявлении – безмолвный отклик. Он принимает форму циферблата, где стрелки устремляются к надежде, Как то, что в снах неясных было прежде, Свершается под взрывами желаний. Листы обугливаются. Память знаний нам изменяет, Как чувства, что когда-то потрясали нас в юности, уже такой далекой… Познанье истин в зрелости моей – не постигает разум одинокий… Есть боль, и не придумана она. И беспокойно нам, когда над картой Испании мальчишечья головка склонена.Из американской поэзии (перевод с английского)
Эдгар А. По (1809–1849)
Тамерлан Поэма
Отец! Дай встретить час мой судный Без утешений, без помех! Я не считаю безрассудно, Что власть земная спишет грех Гордыни той, что слаще всех; Нет времени на детский смех; А ты зовешь надеждой пламя! Ты прав, но боль желаний – с нами; Надеяться – о Боже – в том Пророческий источник ярок! — Я не сочту тебя шутом, Но этот дар – не твой подарок. Ты постигаешь тайну духа И от гордыни путь к стыду. Тоскующее сердце глухо К наследству славы и суду. Триумф в отрепьях ореола Над бриллиантами престола, Награда ада! Боль и прах… Не ад в меня вселяет страх. Боль в сердце из-за первоцвета И солнечных мгновений лета. Минут минувших вечный глас, Как вечный колокол, сейчас Звучит заклятьем похорон, Отходную пророчит звон. Когда-то я не ведал трона, И раскаленная корона В крови ковалась и мученьях, Но разве Цезарю не Рим Дал то, что вырвал я в сраженьях? И разум царственный, и годы, И гордый дух – и мы царим Над кротостью людского рода. Я рос в краю суровых гор: Таглей, росой туманы сея, Кропил мне голову. Взрослея, Я понял, что крылатый спор И буйство бури – не смирились, А в волосах моих укрылись. Росы полночный водопад (Так в полусне мне мнилось это), Как будто осязал я ад, Тогда казался вспышкой света, Небесным полымем знамен, Пока глаза туманил сон Прекрасным призраком державы И трубный голос величаво Долбил мне темя, воспевал Людские битвы, где мой крик, Мой глупый детский крик! – звучал (О, как мой дух парил, велик, Бил изнутри меня, как бич), В том крике был победный клич! Дождь голову мою студил, А ветер не щадил лица, Он превращал меня в слепца. Но, знаю, человек сулил Мне лавры; и в броске воды Поток холодный, призрак битвы Нашептывал мне час беды И час пленения молитвы, И шло притворство на поклон, И лесть поддерживала трон. С того мгновенья стали страсти Жестокими, но судит всяк С тех пор, как я добился власти, Что это суть моя; пусть так; Но до того как этот мрак, Но до того как этот пламень, С тех пор не гаснущий никак, Меня не обратили в камень, Жила в железном сердце страсть И слабость женщины – не власть. Увы, нет слов, чтобы возник В словах любви моей родник! Я не желаю суеты При описанье красоты. Нет, не черты лица – лишь тень, Тень ветра в незабвенный день: Так прежде, помнится, без сна, Страницы я листал святые, Но расплывались письмена, — Мелела писем глубина, На дне – фантазии пустые. Она любви достойна всей! Любовь, как детство, – над гордыней. Завидовали боги ей, Она была моей святыней, Моя надежда, разум мой, Божественное озаренье, По-детски чистый и прямой, Как юность, щедрый – дар прозренья; Так почему я призван тьмой — Обратной стороной горенья. Любили вместе и росли мы, Бродили вместе по лесам; И вместе мы встречали зимы; И солнце улыбалось нам. Мне открывали небеса Ее бездонные глаза. Сердца – любви ученики; Ведь средь улыбок тех, Когда все трудности легки И безмятежен смех, Прильну я к трепетной груди И душу обнажу. И страхи будут позади, И все без слов скажу… Она не спросит ни о чем, Лишь взором тронет, как лучом. Любви достоин дух, он в бой Упрямо шел с самим собой, Когда на круче, горд и мал, Тщету тщеславия познал, Была моею жизнью ты; Весь мир – моря и небеса, Его пустыни и цветы, Его улыбка и слеза, Его восторг, его недуг, И снов бесцветных немота, И жизни немота вокруг. (И свет и тьма – одна тщета!) Туман разняв на два крыла — На имя и на облик твой, Я знал, что ты была, была Вдали и все-таки со мной. Я был честолюбив. Укор Услышу ль от тебя, отец? Свою державу я простер На полземли, но до сих пор Мне тесен был судьбы венец. Но, как в любой другой мечте, Роса засохла от тепла. В своей текучей красоте Моя любимая ушла. Минута, час иль день – вдвойне Испепеляли разум мне. Мы вместе шли – в руке рука, Гора взирала свысока Из башен вековых вокруг, Но башни эти обветшали! Шум обезличенных лачуг Ручьи стогласно заглушали. Я говорил о власти ей, Но так, что власть казалась вздором Во всей ничтожности своей В сравненье с нашим разговором. И я читал в ее глазах, Возможно, чуточку небрежно, — Свои мечты, а на щеках Ее румянец, вспыхнув нежно, Мне пурпур царственный в веках Сулил светло и неизбежно. И я пригрезил облаченье, Легко вообразил корону; Не удивляясь волшебству Той мантии, я наяву Увидел раболепство черни, Когда коленопреклоненно Льва держат в страхе на цепи; Не так в безлюдии, в степи, Где заговор существованья Огонь рождает от дыханья. Вот Самарканд. Он, как светило, Среди созвездья городов. Она в душе моей царила, Он – царь земли, царь судеб, снов. И славы, возвещенной миру. Так царствен он и одинок. Подножье трона, дань кумиру, Твердыня истины – у ног Единственного Тамерлана, Властителя людских сердец, Поправшего чужие страны… Я – в царственном венце – беглец. Любовь! Ты нам дана, земная, Как посвященье в тайны рая. Ты в душу падаешь, жалея, Как ливень после суховея, Или слабея каждый час, В пустыне оставляешь нас. Мысль! Жизни ты скрепляешь узы С обычаями чуждой музы И красотой безумных сил. Прощай! Я землю победил. Когда Надежда, как орлица, Вверху не разглядела скал, Когда поникли крылья птицы, А взор смягченный дом искал, — То был закат; с предсмертной думой И солнце шлет нам свет угрюмый. Все те, кто знал, каким сияньем Лучится летний исполин, Поймут, как ненавистна мгла, Хоть все оттенки собрала, И темноты не примут (знаньем Богаты души), как один, Они бы вырвались из ночи; Но мгла им застилает очи. И все-таки луна, луна Сияньем царственным полна, Пусть холодна, но все же так Она улыбку шлет во мрак (Как нужен этот скорбный свет). Посмертный нами взят портрет. Уходит детство солнца вдаль, Чья бледность, как сама печаль. Все знаем, что мечтали знать, Уходит все – не удержать; Пусть жизнь уносит темнота, Ведь сущность жизни – красота. Пришел домой. Но был мой дом Чужим, он стал давно таким. Забвенье дверь покрыло мхом, Но вслед чужим шагам моим С порога голос прозвучал, Который я когда-то знал. Что ж, Ад! Я брошу вызов сам Огням могильным, небесам, На скромном сердце скорбь, как шрам. Отец, я твердо верю в то, Что смерть, идущая за мной Из благостного далека, Оттуда, где не лжет никто, Не заперла ворот пока, И проблеск правды неземной — Над вечностью, над вечной тьмой. Я верую, Иблис не мог Вдоль человеческих дорог Забыть расставить западни… Я странствовал в былые дни, Искал Любовь… Была она Благоуханна и нежна И ладаном окружена, Но кров ее давно исчез, Сожженный пламенем небес, Ведь даже муха не могла Избегнуть зорких глаз орла. Яд честолюбия, сочась, В наш кубок праздничный проник И в пропасть прыгнул я, смеясь, И к волосам любви приник.Ленгстон Хьюз (1902–1967)
Ленокс-Авеню: Полночь
В ритме джаза живи — Это жизни ритм, Друг мой. Над нами смеется Бог. Усталое сердце любви Разбил мучительный опыт. Тембр, темп, Тон, стон, Машинный грохот дорог, Дождя шелестящий шепот. Ленокс-авеню, Друг мой, Полночь, И над нами смеется Бог.Вариации мечты
Руки я протяну К солнечному венцу, Будет танец меня кружить, Пока день не придет к концу. Даст мне отдых в прохладе вечерней Высоких деревьев семья, Пока ночь приближается нежно, Темная, как я, — Это моя мечта! Руки я протяну К солнечному лицу. Танец! Круженье! Круженье! Пока день не придет к концу. Даст мне отдых сумрак вечерний, Высоких деревьев семья, Ночь приближается бережно, Черная, как я.Хранитель мечты
Доверьте мне все ваши мечты, Мечтатели. Доверьте мне все мелодии Ваших сердец, Чтобы я мог скрыть их В голубой глубине облаков От слишком грубых пальцев Этого мира.Наша земля Стихи к декоративному панно
Землю солнца мы обретем, Блеск ее обретем, И землю прозрачной, чистой воды, Где сумерки так нежны, Как розовый с золотом мягкий платок, И мы забудем в тепле, Как жизнь холодна на этой земле. Землю деревьев мы обретем, Их высоту обретем, Там пестрый на ветке сидит попугай, Яркий, как летний свет, А здесь у птиц только серый цвет. Землю радости мы обретем, Землю песен, любви и вина, И радость там лживой быть не должна. Любимая, уйдем! Единственная, милая, уйдем!Стань, Америка, Америкой опять
Стань, Америка, Америкой опять. Стань такой, какой в мечтах прошла сквозь годы, Стань такой, какой хотел тебя создать Первый зодчий, возводивший дом свободы. (Я в Америке Америки не знал.) Чтоб мечту в тебе мечтатели нашли, Чтобы сила не была в любви слаба, Сделай так, чтобы тираны не смогли Мир делить на господина и раба. (Я такой тебя, Америка, не знал.) О, земля моя, землей Свободы стань, Без фальшивого венца из громких фраз, От возможности к реальности воспрянь. И свобода станет воздухом для нас. (Но на «родине свободы» никогда Я свободы не заметил ни следа.) Скажи, ты кто, бормочущий во тьме? Заштриховавший флаг решеткой, как в тюрьме? Я – белый, но бедняк, сквозняк в моей суме, Я – краснокожий вождь, но изгнанный с земли, Я – беженец в краю несбыточных надежд, Но всем другим – я волк, и мне не помогли, Есть господин и раб – таков закон невежд. Я – негр, а значит, я «проблема из проблем». Я – весь народ простой, голодный ежечасно. Голодный в этот час, мечтающий напрасно. Неужто создали Америку затем, Чтобы она была бесчеловечна И я, беднейший, в ней батрачил вечно? Да, я один из тех, кто знал закон мечты В том Старом Свете, где служил царям, Так были дерзостны черты моей мечты, Что песня ширилась и вырастала в храм, И в каждом камне, в каждой борозде Америку мечты я создавал в труде. Я человек, проплывший по морям, Я человек, искавший дом везде, Ирландии покинул берега, Поляны Польши, Англии луга, От Черной Африки отторгнут, я пришел, Чтоб строить «родину свободы», нищ и гол. Свобода? Кто сказал о свободе? Не я? Неужто не я? И не те миллионы, что пособия ждут? Миллионы, что без гроша живут… Для того ли мы в сердце храним мечты, Для того ли мы песни нетленные пели, Для того ли знамена поднять мы сумели?! Миллионы, что без гроша живут, — Лишь мечтой, словно чуда какого-то ждут. О, стань, Америка, Америкой опять, Землей, которой не было в помине, Которая должна существовать — Чтобы свободным каждый стал отныне. Нам всем принадлежащая земля — Любой бедняк, индеец, негр и я — Творим Америку. Наш пот и кровь, беда и доброта, С металлом, с пахотой, с дождем слита, Чтоб вновь смогла могучей стать мечта. Да, Сегодняшняя речь моя проста, Я в Америке Америки не знал, Но станет Америка – клятву я дам — Той, о которой мечтал!Как я становился старше
Это было давным-давно. И мечта моя полузабыта. Но она и потом Манила меня, Светлая, словно солнце, — Мечта. Долго росла стена, Росла медленно, Медленно, Между мной и мечтой. Росла медленно, медленно, Ослабляя, Скрывая Сиянье мечты. Росла до самого неба — Стена. Тень. Я – черный. Я опрокинут в тень. Больше нет света мечты предо мной, Надо мной. Только толща стены. Только тень. Руки! Мои темные руки! Прорвитесь сквозь стену! Найдите мечту! Помогите мне рассеять этот мрак, Сокрушить эту ночь, Разметать эту тень, Чтобы засветилась тысяча солнц, Чтобы закружилась тысяча видений Солнца!К черной возлюбленной
Ах, Черная любимая моя, Ты не красавица, Но обладаешь Очарованием Превыше красоты. О, Черная любимая моя, Ты вовсе не добра, Но обладаешь Той чистотой, Что выше доброты. Ах, Черная любимая моя, Ты не светла, Но все ж на алтаре сокровищ Полна ты будешь небывалым светом Прекрасной, светозарной темноты, Полна ты светом, Как ночное небо.После множества весен
Сейчас, В июне, Когда ночь – это безбрежная нежность С искрами синих звезд И сломанный луч лунного света Падает на землю, Неужто я слишком стар для зажигательных танцев? Больше нигде весен я не найду.Юность
У нас есть завтра. Словно страсть, Оно сияет перед нами. Минувшей ночи власть Закат зажег, как пламя. Сегодня Радуги игра горит над нашими путями. Нам в путь пора!Из французской поэзии (перевод с французского)
Шарль Бодлер (1821–1867)
Приглашение к путешествию
Дитя, сестра моя! Уедем в те края, Где мы с тобой не разлучаться сможем, Где для любви – века. Где даже смерть легка, В краю желанном, на тебя похожем, И солнца влажный луч Среди ненастных туч Усталого ума легко коснется, Твоих неверных глаз Таинственный приказ — В соленой пелене два черных солнца. Там красота, там гармоничный строй, Там сладострастье, роскошь и покой, И мы войдем вдвоем В высокий древний дом. Где временем уют отполирован, Где аромат цветов Изыскан и медов, Где смутный амброй воздух околдован, Под тонким льдом стекла Бездонны зеркала, Восточный блеск играет каждой гранью. Все говорит в тиши На языке души, Единственном, достойном пониманья. Там красота, там гармоничный строй, Там сладострастье, роскошь и покой, В каналах корабли В дремотный дрейф легли, Бродячий нрав их – голубого цвета, Сюда пригнал их бриз, Исполнить твой каприз, Они пришли с другого края света. А солнечный закат Соткал полям наряд, Одел каналы, улицы и зданья, И блеском золотым Весь город одержим В неистовом предсумрачном сиянье. Там красота, там гармоничный строй, Там сладострастье, роскошь и покой.Фантастическая гравюра
На странном призраке ни признака наряда, Одна картонная корона с маскарада, Которая с его костлявым лбом слита. Загнал конягу он без шпор и без хлыста. И призрачный Конь Блед под призрачною тучей Роняет пену с губ, как в приступе падучей. Две тени врезались в Пространство. Путь открыт. И вечность искрами летит из-под копыт. Он поднял над толпой пылающую шпагу И гонит по телам поверженным конягу. Как домовитый князь, свершает он объезд Погостов без оград, разбросанных окрест. Почиют крепко там при свете солнц свинцовых Народы всех времен – и сгинувших и новых.Беатриче
В краю, лишенном трав и страждущем от жажды, К природе жалобы я обратил однажды. И, разум отточив острее, чем кинжал, Холодным острием я сердцу угрожал. В тот миг могильной мглой над самой головою Нежданно облако возникло грозовое. Порочных демонов орду оно влекло, Глазевших на меня и холодно и зло. Сто любопытных глаз впились в меня во мраке — Так на безумного, толпясь, глядят зеваки. Шепчась и хохоча в зловещей тишине, Они злословили бесстыже обо мне: «Вы видите вон там, внизу, карикатуру? Безумец Гамлета задумал корчить сдуру! Рассеян мутный взгляд, он немощен и нищ, Не правда ли, друзья, как жалок этот хлыщ?! Шут в вечном отпуске, комедиант без сцены, Кривлянием себе набить он хочет цену, И песней жалобной, десятком жалких слов Он силится увлечь и мошек и орлов. Нам, изобретшим все подобные уловки, Он преподносит их в бездарнейшей трактовке». Конечно (мрачная душа моя горда И выше вознеслась, чем демонов орда), Я отвернуться мог, божественно спокойный, Но вдруг я разглядел в толпе их непристойной Ее – которая в душе моей царит. (И солнца не сошли с начертанных орбит!) Смеясь моей тоске, отчаянью, невзгодам, Она врагов моих ласкала мимоходом.Виктор Гюго (1802 – 1885)
Оды и баллады
Сильф
Гроза обрушилась, шутя, На беззащитное дитя. – Откройте, – крикнул он, я голый! Лафонтен. «ПОДРАЖАНИЕ АНАКРЕОНУ» «Ты, что жадному взору в окне освещенном Вдруг предстала сильфидой в смирении скромном, Отвори мне! Темнеет, я страхом объят! Бледных призраков полночь ведет небосклоном, Дарит душам покойников странный наряд! Дева! Я не из тех пилигримов печальных, Что рассказы заводят о странствиях дальних, Не из тех паладинов, опасных для дев, Чей воинственный клич откликается в спальнях, Будит слуг и пажей, благодарность презрев. Нет копья у меня или палицы быстрой, Нет волос смоляных, бороды серебристой, Скромных четок, меча всемогущего нет. Если дуну отважно я в рог богатырский, Только шепот игривый раздастся в ответ. Я лишь маленький сильф, я дитя мирозданья, Сын весны, первозданного утра сиянье, Я огонь в очаге, если вьюга метет, Дух рассветной росы, поцелуй расставанья И невидимый житель прозрачных высот. Нынче вечером двое счастливых шептали О любви, о горенье, о вечном начале. Я услышал взволнованный их разговор, Их объятья мне накрепко крылья связали, Ночь пришла – а свободы все нет до сих пор. Слишком поздно! Уже моя роза закрылась! Сыну дня окажи ты великую милость — Дай до завтра в постели твоей отдохнуть! Я не буду шуметь, чтобы ты не смутилась, Много места не надо – подвинься чуть-чуть. Мои братья уходят в цветущие чащи, Открывают им лилии сладкие чаши, Травы в чистой росе, как в вечерних слезах. Но куда же бежать мне? Дыханье все чаще: Ни цветов на лугах, ни лучей в небесах! Умоляю, услышь! Ночи темные эти Ловят маленьких сильфов в незримые сети, К белым призракам, к черным владеньям влекут… Сколько сов обитает в гробницах на свете! Сколько ястребов замки в ночи стерегут! Близок час, когда все мертвецы в исступленье Пляшут в немощной ночи при лунном свеченье. Безобразный вампир, полуночный кошмар, Раздвигает бестрепетной дланью каменья И могиле приносит могильщиков в дар. Скоро карлик, весь черный от дыма и пепла, Снова спустится в бездну бездонного пекла. Огонек промелькнет над стеной камыша, И сольются, чтоб в страхе природа ослепла, Саламандры огонь и Ундины душа. Ну, а если мертвец, чтоб от скуки отвлечься, Средь костей побелевших велит мне улечься?! Иль, над страхом смеясь, остановит спирит, Мне прикажет от мирных полетов отречься, В тайной башне мечты и порывы смирит?! Так открой же окно мне, покуда не поздно, Не вели мне отыскивать старые гнезда И вторжением ящериц мирных смущать! Ну, открой же! Глаза у меня, словно звезды, И признанья умею я нежно шептать. Я красив! Если б ты хоть разок поглядела, Как трепещет крыло мое хрупко и смело! Я, как лилия, бел, я прозрачнее слез! Из-за ласки моей и лучистого тела Даже ссоры бывают порою у роз! Я хочу, чтоб сказало тебе сновиденье (Это знает сильфида), что тщетны сравненья: Безобразна колибри, убог мотылек, Когда я, как король, облетаю владенья, — Из дворца во дворец и с цветка на цветок. Как мне холодно! Тщетно молю о тепле я… Если б мог за ночлег предложить, не жалея, Я тебе мой цветок и росинку мою! Нет, мне смерть суждена. Я богатств не имею — Их у солнца беру и ему отдаю. Но укрою тебя я во сне небывалом Шарфом ангела, феи лесной покрывалом, Ночь твою освещу обаянием дня. Будет сон этот нового счастья началом, От молитвы к любви твою душу маня. Но напрасно стекло мои вздохи туманят… Ты боишься, что зов мой коварно обманет, Что укрылся поклонник за ложью речей?! Разве слабый обманывать слабого станет? Я прозрачен, но тени пугаюсь своей!» Он рыдал. И тогда заскрипели засовы, Нежный шепот ответил нездешнему зову. На балконе готическом дама видна… Мы не знаем, кого удостоила крова, — Сильфу или мужчине открыла она!Великан
Даже облака в недоступном небе боятся, что я последую за моими врагами в их лоно…
Мутанабби О, воины! Рожден я был средь галлов смелых, И Рейн переступал мой пращур, как ручей. Меня купала мать в морях обледенелых, И колыбель была из шкур медведей белых, Поверженных отцом, сильнейшим из мужей. Отец мой был силён! Но возраст сгорбил спину, На лоб морщинистый легла седая прядь. Он слаб, он стар! Увы, близка его кончина… И трудно вырвать дуб и вытесать дубину, Чтобы дрожащий шаг в дороге поддержать. Я заменю отца! Хотя умрет он вскоре, Он завещал мне лук, и дротик, и быков. Я по следам отца пойду, осилив горе, И если дуну я на дальний лес со взгорья, — Дыханием сломлю столетний дух стволов. Став отроком едва, я на альпийских кручах Торил себе тропу в нагроможденье скал, И голова моя тогда терялась в тучах. И часто я следил полет орлов могучих, И с голубых небес их прямо в руки брал. Перекрывало гром в грозу мое дыханье, Гасило молнии извилистый полет. Когда резвился кит в бескрайнем океане, Я ждал у берега моей законной дани И доставал кита, создав водоворот. Ударом удалым учился настигать я Акулу в глубине и ястреба вдали, Медведю смерть несли жестокие объятья, Ломала рысь клыки, но лишь рвала мне платье, — Мне причинить вреда укусы не могли. Но отрочества мне прискучили забавы, И устремлен теперь я к мужеству войны. Проклятья плачущих, победный запах славы И воины мои с оружием кровавым, Как пробужденья клич, сегодня мне нужны. Во мгле пороховой, в горячке рукопашной Все, словно вихрь, войска сметают пред собой, А я встаю один, огромный, бесшабашный, И, как баклан в волну врезается бесстрашный, Ныряю смело я в кровавый, мутный бой. Потом иду, как жнец среди колосьев спелых, И остаюсь один в поверженных рядах. Доспехи – словно воск для великанов смелых, И голый мой кулак легко пробить сумел их, Как узловатый дуб в уверенных руках. Я так силен, что в бой иду без снаряженья, Одетые в металл, мне воины смешны. Из ясеня копье не знает пораженья, И волокут быки мой шлем без напряженья, Когда они в ярмо попарно впряжены. Ненужных лестниц я не строю для осады, Я просто цепи рву у крепостных мостов, Кулак мой, как таран, легко крушит преграды; Когда в пылу борьбы мне ров засыпать надо, Обламываю я ограды городов. Но, как для жертв моих, и мой черед настанет… О, воины! Мой труп не бросьте воронью! Пусть гордый горный кряж моей могилой станет. Когда же на хребты здесь чужестранец глянет, Не сможет разглядеть средь многих гор – мою.Послушай-ка, Мадлен
Любите же меня, покуда вы прекрасны.
Ронсар Послушай-ка, прекрасная Мадлен! Сегодня день весенних перемен — Зима с утра покинула равнины. Ты в рощу приходи, и снова вдаль Нас позовет врачующий печаль Звук рога, вечно новый и старинный. Приди! Мне снова кажется, Мадлен, Что, уничтожив зимний белый плен, Весна оттенки пробуждает в розах… Так хочет угодить тебе весна: На вереск ночью вытрясла она Цветное платье, вымытое в росах. О, если б я овечкой стал, Мадлен, Чтобы затихнуть у твоих колен, Когда коснутся белой шерсти руки! О, если б я летящей птицей стал, Чтоб в бездне неба я затрепетал, Призыва твоего услышав звуки. Когда б я был отшельником, Мадлен, Ко мне бы ты явилась в Томбелен Для исповеди и для покаянья, Свои уста приблизила б ко мне, Шепча в благочестивой тишине Про грех вчерашний девичьи признанья. О, если бы я получил, Мадлен, Глаз мотылька моим глазам взамен, То в темноте я стал бы страстно-зорким, И билось бы нескромное крыло В прозрачное, но прочное стекло Твою красу скрывающей каморки. Когда выходит грудь твоя, Мадлен, Из плена крепостных корсетных стен, А черный бархат разомкнет объятья, — Стесняясь неприкрытой наготы, Торопишься простосердечно ты На правду зеркала набросить платье. О, если б захотела ты, Мадлен, Ты воцарилась бы, как сюзерен, Над преданностью слуг, пажей, вассалов. В твоей молельне, радующей глаз, Скрывал бы камни шелк или атлас, Пышнее, чем убранство тронных залов. О, если б захотела ты, Мадлен, То не вербена или цикламен Тогда твою бы шляпку украшали, Тогда носила бы корону ты, И вечные жемчужные цветы На ней бы никогда не увядали. О, если б захотела ты, Мадлен, Дворец бы дал на хижину в обмен Я – граф Роже, я – раб твоей причуды. Но если хочешь, буду пастухом, Вдвоем с тобою в шалаше глухом, Как во дворце, я вечно счастлив буду.Пьер Дэно (р. 1935 г.)
«зима взлет чибиса и небеас…»
зима взлет чибиса и небеса и солнце зимнее и зимний воздух под шепот ливня шелестит плетень ручей цветущий прорастает в русло наш дом в дремоте ночи напролет меж близостью волны и близостью ненастья лучи дождя надежные дороги наперекор ветрам благодаря ветрам а может быть благодаря морям пишу стихи я как стихия неба и строчки разорвут оковы слова как птицы притяжение земли«интимно бесконечен вечный берег…»
интимно бесконечен вечный берег в галактике волны и невесом песок как след дыханья и тьма и мы как призраки сиянья хрип ветра стон бездонности небес полуслепых призыв последний взгляд сраженная вершина и молния зачавшая зарю освобожденный обнаженный корень одну ладонь с другой единый слил порыв над морем чистота парит крыла раскрыв и будет крик расти покой небес порвав«тотчас падет туман…»
тотчас падет туман едва посмею исторгнуть жест и взгляд и слово изнутри вовне на неподвижную страницу немую даже для самой себя смола как лабиринт и не сумею преодолеть переплетенье пальцев тумана этого и лабиринта и тело слитое с другим реальным телом отныне безымянно недвижимо непостижимо«тьма всех ночей без сна…»
тьма всех ночей без сна сведет с ума ее поток лишь врозь огнями вспорот она ведет сквозь полустертый город сквозь мысль отсутствие и отрицанье и сердце рвет предчувствие страданья мысль меркнущую перед толщей стен в их сердцевине вязнущую прочно бормочущую вздорно и неточно ущербную поверженную в прах и в дрожь отсутствием и отрицаньем предчувствием страданья и страданьем«запустенье впереди и сзади…»
запустенье впереди и сзади лишь одно дыханье где-то здесь чей-то вздох по крайней мере есть в надписях дрожащих и напрасных в прошлом в безвозвратности и вечном запустенье дуновенье ветра успокоившегося давно разжимая и сжимая руки и в объятиях сжимая снова эту тяжесть эту невесомость в запустенье непрозрачных стен где у них нет трепетного тела отрешенности бесстрастной нет«огни внезапно заалели…»
огни внезапно заалели и нам не одолеть бы их на бакенах горящих морскую даль пронзая жестким взором не бросить вызов но удержит зыбь а свойства этой зыби неизвестны она засасывает укрощает с туманом вместе безупречной пылью и наготой без горизонта стекол с шагами затоптавшими слова и поступь по пустыне и в пустыне отверженности мрачные огни«единственный размноженный единственный…»
единственный размноженный единственный велящий преступить препоны шрамы застывшие навеки волны улиц в единственном стекле а в недрах волн безумный вызов пространству четкому и я такой далекий от самого себя такой далекий словам уничтожающим друг друга малейшее движенье взгляд признанье последнее и мне необходимо все сызнова начать«кто идет сюда…»
кто идет сюда ты ли это но никто сюда не приходит и не может прорвать препятствий и не я ли не ты ли жестоки в этот час против нас самих соглашаемся первый идущий возвестит нам истину в слове снимет маску и тяжесть плоти этот холод с тупым пристрастьем нас терзающий уничтожая и последний приют защиты пядь земли между наших пальцев пядь земли и я неизменный но другой меня не ищи ты«буря…»
буря брызги стекла мятеж клочья смеха техцветье флага распростертого безвозвратно над ликующим кликом дроздов волны сотканы из пурпурной вечно-чистой голубизны о приподнятая земля продолжающая вздыматься смута исступленье дыханья в стоне моря облученье властью вещей неизменней земли лучистой невещественнее волны«слово…»
слово дитя в миллионах оттенков значенья перебежит перепрыгнет огонь обжигающий только поленья то обрушится искрами то вознесется как факел даже в пепле оставшемся тот же угасший огонь сам себя пожирающий в самосожженье в душной толще грядущего в легких обломках значенья зачинается это дитя зачинаемся мы зачинается слово лишь в слове живое мгновенье«на острие…»
на острие рождающихся жестов всегда блестящий мир все то о чем молчим или кричим рука несет другой руке навстречу и отдает и принимает дар деяния в себе вмещают слово сиюминутное оно победоносно оно идет тропинкою судьбы притягивая все перспективы их незапятнанность и раскрывает значение мгновенья в продвиженьи тропинкою судьбы значенье каждой вещи значенье нас самих«мужчина спящий сном спокойным это…»
мужчина спящий сном спокойным это и смысл согласия и суть рассвета и женщина которая паря танцует над землей и с ней заря мужчина или женщина интимно с землей соединяют небеса как радуга в интимности всеобщность ни ты ни я а воплощенье всех в обширной истине любые люди любвеобильны люди проникают и проникаются подобно нам мы отраженье их их робость радость их край земли одна из многих радуг«извечно…»
извечно здесь меня никто не ждал никто ко мне конечно не выходит извечно возникаю одиноко но я не знаю из каких глубин какого будущего а в словах моих лишь плоть которую терзают когти но раны никакой или стенанья или смятенья в горле но пространство вторгается в какое-то лицо из вечности«поля дрожат от предвкушенья жатвы…»
поля дрожат от предвкушенья жатвы рокочущим снопам набухшим зернам слов свершение суля из вековых глубин исторгнутым волнам из тьмы словесной к строчкам-жемчугам венкам словосплетенья речь обрести веля стирают немоту мой путь и снег и пламя и распластавшая пожар земля«почему земля…»
почему земля обречена то прошлому то будущему и я оцеплен со всех сторон погружаюсь наивно во тьму времен погружаюсь опять выплываю плыву и в неведенье снова живу чтобы скоростью молнии овладеть и забыть замереть охладеть орошенная мной бесконечна земля погребенная под а земля в самом деле прекрасна погружаюсь в нее покидаю ее не напрасно продолжаюсь и продолжаю«круговороты…»
круговороты все более нежные на самой границе ветра нервы водорослей или кружева сотканы щедро все больше и больше все шире аллеи поля прилистники пламени прорастающего островами растениями песками густыми волнами гнездами глиняными их теплым дымом песчаными гнездами их пухом незримым галоп травы знамена плюща корни крадущие берега утонувшие в вечном тумане«меховые мосты моховые озера…»
меховые мосты моховые озера заболонь капля за каплей и кровь каплет заросли ежевики низкокрылые к семени семя заболонь куст врастающий в куст уголь тлеющих трав брызги крови а в скальных глубинах на вершинах колодцев заболонь прорастающая в горизонт постепенно от дерева к дереву следом новый прилив все растенья вселенной«парусников гордых лемеха высекают молнию…»
парусников гордых лемеха высекают молнию в зигзаге видно очертание плеча и роится по вершинной воле песенка мгновенная и абрис круглой словно яблоко груди плавных бедер а по воле листьев песенка все звонче и живей фраза к фразе дополняет образ теплых очертаний живота где леса объединились вместе где органный нарастает звук вереска охапка светлячков невод погружаемый все время в волны золота суровый лемех подтверждает нежность парусов«Их поступь не слышна ни на мгновение…»
Мари Карлье
Их поступь не слышна ни на мгновение и облик их скрывает сновидение кустарник с перламутровыми иглами и новорожденный незрячий свет им колет пальцы те которых нет носительницы воду принесли источника иссякшего вдали как те застывшие в молчанье капли на кончиках нависших сталактитов помедлив канут в жизнь мою в забвение. Вода которую между ресниц коплю и между букв слагающихся в имя моей жены уснувшей вода ладоней слившихся в объятии здесь на опушке сна вода на стеклах в окнах уснувшей комнаты между раскатов бури. Они с немым терпением идут по длинным улицам мертвы пороги завесы из иссушенной коры стропила крыш леса без гнезд веселых вода сгнивающая подо льдом поблекший образ. На границе ветра утонет город остановит их и губы приоткроются на миг морской песок янтарь тысячелетний глаза их где кончаются потоки их щеки когда солнце пьет росу и если льется дождь по их рукам груди то создается замок на мгновенье. Лишь на границе ветра пробужденье. Круг горизонта как крыло в движенье и синий жаворонок в миг полета.Мимолетность
В городе, в его нимбе, выкованном из солнца, улицы бегут вдоль каналов, где светится тьма, цепляясь за престарелый плющ берегов, где свежесть становится дымом, выдыхаемым трюмами барж, укрываясь в тени подмышек, осязая свежесть груди; улицы обвивают полинявшим шарфом фасадов шею женщины торопливой; улицы, покачнувшись, протягивают грозе тополиную стройность, ноги танцовщиц, белизну молока в осиянной оправе черных чулок, и разбиваются на букеты стеклянных иллюзий, окрашенных цветом нарцисса: мои пальцы пробивают дорогу в пыли и пыльце среди хрупких яичных скорлупок на краю тротуаров, в мерцании, рядом с лужами после дождя, среди вывесок неугасимых, и гораздо больше дрожащих, чем ресницы в любовном экстазе; среди праздно гуляющих женщин, у которых медовые ноги, и пчелиные талии, и шиньоны, распростертые крыльями чайки, хотя крылья так часто жмутся к ее пепельно-серому тельцу и несытому животу; их походка создана наспех из разорванных кружев джаза; среди окон таких высоких, что мыльные пузыри облаков, проскользнув сквозь узор занавесок, проникают во тьму и молчанье покинутых спален – пробивают себе дорогу, чтобы строго окуривать серой; ей не терпится загореться, ибо я закрываю глаза: платье, мокрое от дождя, сохранив тепло ее тела, завладело телом моим на скрещенье бегущих улиц Триумфальной Арки и Танремонд, и я сплю, хотя в Лилль шагаю, в этот день – 18 мая 1961 года.
Франсис Карко (1886–1958)
Прощай
Этот жалкий кабак много лет Осень долгим дождем убивает. Я пришел, но тебя уже нет, От страданья любовь убывает. Я страдаю, когда ты ушла, Я смеяться учился искусно. Плачу я без любви, без тепла И живу с той поры только грустно. Ты хотя бы на память храни Мое сердце, тоски неизбежность, Ты храни эту древнюю нежность И от ран почерневшие дни. Грудь чужую осыплет мой смех, Лаской губы чужие я встречу. Их зубами своими помечу… Все равно ты прекраснее всех.Полночь
В переулке пустом, Занавешен дождем, Ждет гостей дом свиданий. Плач полночных часов, Словно скрипнул засов В глубине сонных зданий. Кто крадется тайком Здесь, в ненастье таком? Тени двух ожиданий… В переулке пустом В ночь небесных рыданий.Морис Фомбёр (1906–1981)
Эта красотка весна
Эта красотка весна Из дому гонит девиц, Эта красотка весна Солнцем озарена: Девушке пара нужна, Парень в кадрили как принц… Нежно скрестила пути Юных парней и девиц Эта красотка весна Солнцем озарена. Эта красотка весна — Времени капля одна, Очень красива весна — Недолговечна она.Песня о красавице
Под деревом в цвету Красавица сидит, Красавица грустит — Возлюбленного нет, Возлюбленного нет, — Никто не защитит. Под деревом в цвету Ей студит сердце снег, Ей студит сердце снег, Белеет на лету. Красавица, не плачь, Любовь – причина бед! Страданье предпочту, Страданье от любви, Страданье предпочту Я одиноким дням, Где сердце студит снег Под деревом в цвету.Из немецкой поэзии (перевод с немецкого)
Райнер Мария Рильке (1875–1926)
«Одна новинка; да всего одна…»
Одна новинка; да всего одна разыскана за книжными рядами, смущается, обласканная вами, и отрицает то, что есть она, и жребий свой. Но книгами, вещами вещает нам желанная страна, их счастьем будничность окружена, они смягчают грани между нами. Жизнь – это жизнь, ущербности в ней нет. Зачем же там невидимые вещи, где полон дом: одушевлен, согрет! Пять обостренных чувств; а все же скрыт существованья смысл: и говорит тогда в кусте горящем голос вещий.«Я шел, я сеял; и произрастала…»
Я шел, я сеял; и произрастала судьба, мне щедро за труды воздав, но в горле слишком прочно кость застряла, естественной, как в рыбьем теле, став. Мне не вернуть Весам их равновесья, не уравнять непримиримость чаш; но в небе – знак, не знающий, что весь я ушел в иной предел, покинув наш. Ведь звездный свет сквозь вечные просторы летит так долго, чтоб настичь людей, что мой уход проявится нескоро, как росчерк призрачной звезды моей.Санта Мария а Четрелла
1
На храме замок, былых свершений нет, ты взаперти. Иль нет тебя? Время ушло за отшельником вслед, храм хранившим, любя, милая Мария а Четрелла. Отшельник ушел, и дом твой, как тюрьма, только тьма собеседник твой; я так одинок, одинок, как ты сама, чуть слышен мой зов живой: милая Мария а Четрелла. Лавр у храма помнишь ли ты? Он еще здесь, и сад не заглох. И каждым нервом его листы чувствуют ветра вздох — милая Мария а Четрелла — смотри: взбудоражена ветром листва, он увлекает (ты помнишь – как), ты ощущаешь: тепла трава и запах свой шлет во мрак, милая Мария а Четрелла.2
Эти дни трепещут. Но невинно их спугнешь, и канет свет во тьму. Возлагаю ветку розмарина трепетно к порогу твоему; посмотри, как нежно он цветет. Мы ему придали смысл унылый, чтобы навевал он жизнью милой мысль о смерти. От твоих щедрот стало трудно излучать тебе милосердье, не подозревая, что из лона, сердце надрывая, ты открыла мир Его судьбе, крепнувшей, пока не осенен был весь мир твоим всесильным сыном: и низверг он, ставши господином, лик того, кто старше был, чем Он.3
Не шагов ли шорох слышен в храме? Подойдешь ли ближе? Будет срок, когда ты соединишься с нами, как живой, но сорванный цветок. О, пускай лица ты не покажешь, не откроешь двери, – подойди, чтобы сердце новое в груди застучало так, как ты прикажешь. Нам и так безмерно тяжело чтить тебя, не видя постоянно. Мы любили женщин, но обмана чувство их от нас не отвело, краткость встреч или разлук стихия — скудный дар. Скажи, в чем сущность их? Почему, оставив нас одних, ускользают в никуда, Мария?4
В храм каждодневной дорогой иду (я по праву прав): замкнутый и далекий людям чужд твой нрав; когда-то Ты возвышалась в центре склоненных голов, и целый год раздавалось эхо тысяч шагов. Мой шаг одинокий ныне звенит среди пустоты. Я твой рядовой в пустыне. Необъятна ты. Стремлюсь я тебе в смятенье все сущее передать; от ливня весеннего тени невидимо движутся вспять.5
Он любил тебя; робко лелея, охранял. Посмотри сквозь года, как в саду по центральной аллее он с тобою гулял иногда; путь всегда выбирал покороче (соболезнуя, крепла рука), чтобы небо не жгло твои очи, и земля не была бы жестка; ты терялась, когда между делом наклонялся он к новым росткам, — ты – бесстрастна была к пустякам, — отрешенно заботясь о целом.6
Так травы нездешние зыбко в немыслимых скалах растут: твоя чистота и улыбка над скорбью тебя вознесут. Скорбь неодолима, ужас и снег все белей. Как отличать могли мы гордость от скорби твоей, если сама ты не знала грани бедствий своих. Сплетены концы и начала, и бесконечность в них; словно отверзло лоно сверхвеличью врата, вечность непреклонна, след ее – темнота.7
О, как молода ты в этом крае: словно друг доверчивых детей. Пастухи, простой мотив играя (те, что старше вечности твоей), коз привычно собирают в стадо, иль мужей скликают в тот момент, когда тяжки лозы винограда: ведь большой мелодии фрагмент отклик музыкальный обретает (виноградарь свой венок сплетает), крик звериный – аккомпанемент. Слышишь ты, как крик рождает крик там, где исчезают все дороги, и не знаешь ты, где он возник, и трепещет сердце от тревоги. Выйдешь ты в испанском платье пышном, драгоценные блеснут оковы, а велят – ты шагом еле слышным из чужой страны уйти готова.Молитва об умалишенных и осужденных
Вам, от которых рок скрыл доброту лица, тот, кто одинок, перед началом конца, со свободы, в полночный час одну молитву прочтет: пусть ваше время течет; время есть у вас. Когда память очнется от сна, студит пальцы волос тепло: всё роздало время сполна, всё, что быть могло. О, немоты вашей мрак, у сердца крадущий год; мать ни одна не поймет, что бывает так. Сквозь раздвоенье листвы смутно видна луна, ее заселили вы, одинока она.Гонг
Превыше слуха: Звон. Не мы внимаем звук, Он впитывает нас. Дом наизнанку. Дух Проекцией вовне… Рожденный в муках храм, Развязка, где богов Не разгадаешь…: Гонг! У суммы немоты Лишь собственная власть, Самопознанья хмель, Лишающий лица. И миг из леты лет, Отлитая звезда…: Гонг! Ты, незабвенный долг, Рожденный из потерь, Нам непонятный пир, Вино бесплотных уст, Внутри опоры вихрь, Обвал, прервавший путь. Предательство во всем…: Гонг!Из нидерландской поэзии (перевод с голландского)
Симон Вестдейк (1898–1971)
Круговорот года (Цикл сонетов)
Январь
Сквозь пестрый праздник белизна взошла — Сиянье снега или льда свеченье; Но блеска их обманчиво значенье: Свинцовость небосвода тяжела. Рождественские дни не знали зла, Неделя эта ищет продолженья, Пока не сняли с елок украшенья И праздничные яства со стола. Скорей развязку в драме, чем начало, Вся эта безысходность означала — Так запоздалой ласки ждет вдова. Ты говори ей лживые слова, Чтобы она в них лжи не различала, Ведь синь небес и на земле жива.Февраль
И вдруг – капель, желтеет белизна, Как старых кружев нежные узоры, Когда метелей снежные повторы Неразделимы, как метель одна. И старомодна неба глубина, И бесконечны чаек разговоры, Их крики и злопамятные взоры, Когда добыча их обречена. И снова мокрый снег; и дождь опять; Лишь иногда – прикосновенье света; И снова инеем земля одета. Изменчива и кратка благодать — Разнообразие минует это, Как боль таланта, канувшего в Лету.Март
Чертенок-март! Энергией своей Он может вызвать в море шторм суровый, В трубе каминной спеть мотив сосновый, Вращает лихо флюгеры церквей. Потом летит над графикой ветвей, Гордясь весенним небом, как обновой, Лошадку со счастливою подковой Впуская в одиночество полей. Идет по обнаженной мостовой Чертенок-март, томимый нетерпеньем Желаний смутных, жаждой вековой, Идет он по обветренным ступеням, И небо синее над головой Спокойно тишиной предгрозовой.Апрель
И вот набухли почки на рассвете, Как девочки, в девичество вступив И тайн своих сердечных не раскрыв, Всё зиму помнят, думая о лете. Но все-таки они уже не дети, И, парню ничего не разрешив, Они душой осознают порыв, Уже за грех свой будущий в ответе. Любовь творит плотины и потопы, В уединенье вересковом тропы, И сумерки, и ожиданья мед. Влюбленный даже в городе поймет Игривое значенье гороскопа, Когда мгновенье в вечность перейдет.Май
Уже тепло. Но все же зябнет тело Ягненка белого во тьме ночной, А дерево вишневое весной Уже цветы нарядные надело. Оно вступает в состязанье смело С ягненком, с маргариткою лесной, И украшают зелень белизной Цветок, ягненок, вишня – нежно-белы. А ночью, словно старый сон лелея, Земля про зиму вспомнит, не жалея, Что белый сон приснился ей. Ягнята, снег и нереальность дней, Когда весь спектр искусством чародея Смещает краски – белого белей.Июнь
Июнь, самоуверенный и прыткий, Шумлив, как гуси-лебеди в пруду, Короткой ночью северной в саду Шагнешь – и встретишь утро за калиткой. Терзаешься несбыточной попыткой Уснуть, но просыпаешься в бреду, И видишь утро к своему стыду Далеких ярмарок цветной открыткой. И все звенит, и все цветет стократ, И звезды черной магии парят, И чудо пробуждают спозаранку. И сон короткий видит акробат, И, падая, он чувствует канат, И слышит каждый грустную шарманку.Июль
Взыскуют первые плоды ответа: Для жизни или смерти зреем мы? Уже в садах фруктовые шумы Над благодатью яблочного лета. И шутки осени не горше света, Который размягчает нам умы, Хотели бы мы крылья взять взаймы, Но зрелость не позволит сделать это. Созреешь, дабы сгнить. И все труды Понравиться – доводят до беды. Мы жить хотим, но жить уже не смеем. Простые, не волшебные плоды Должны у смерти отбирать бразды, Мы безмятежно умирать умеем.Август
Теплее стали, но короче дни, Как будто смерть протягивает длани, Смерть года за отсрочку просит дани, И бронза, как в патине, вся в тени. О жаркий день! Ты нам зерно верни, Пока не хлынул снег на поле брани, Пока Король Зимы, шаги чеканя, Не выстроил сугробы вдоль стерни. Как в лихорадке, старец похотливый Сгорает, думая, что он счастливый, Все будущее сжав в ладони дня. Когда, убитый собственной поживой, Он упадет, то головы плешивой Коснется отблеск бывшего огня.Сентябрь
О время холода под знаком Девы! Лежишь лоскутным одеялом ты, Не знавшее любви и теплоты, Невинное, не ведавшее гнева. Для старых дев исчерпаны напевы; Визит к друзьям, домашние цветы, Сукно на тощих бедрах, как бинты, — Вот всходы от бесплодного посева. Напрасно жаждет мужества земля; Коровы возвращаются, пыля, И на полях пустынно и уныло. Ни бабочки, ни дерева в цвету, И скошены луга на корм скоту, И все молчит, и все уже остыло.Октябрь
День умирающий живее все ж, Чем нарисованный. Светлей заката Сочится сукровица розовато, И цвет ее на рану не похож. Деревья нищие бросает в дрожь Былая роскошь, вянущее злато. Они сквозь ветви смотрят виновато На бледный сон, как на последний грош. Кроваво-красный свет ночных сигналов, И варварских охотничьих кинжалов, И женской жажды – ты огнем гори. Будь нежен к небу даже в тучах мглистых, Октябрь; и в окропленных кровью листьях Ты страсти запоздалость усмири.Ноябрь
Ты предпоследний, как Вениамин, Ты, как Иосиф, искренен и в малом, Но над могильным роковым провалом По воле братьев ты стоишь один. Не все мы доживаем до седин. Но, достопамятным гордясь началом, Козлами отпущенья в свете алом Средь предпоследних разбрелись равнин. Все, что не умерло, живет упрямо, Двусмысленностью наполняя драму, В которой злые силы – напоказ. Сомненье тронет руку Авраама, Но только нож его избегнет срама И Бога сохранит в последний раз.Декабрь
Закутан в мантию, уходит год, Он стар и хром, его семейство плачет, Под капюшоном он морщины прячет, С волос, как с неба, снег густой идет. Он говорит: «Всем жертвам счет ведет Природа и над жертвами судачит, И я не ведаю, что это значит, И мой вопрос в ответ вопроса ждет». Так спрашивай в отчаянии вечном, Старик, несущий год в мешке заплечном — Двенадцать разных радостей и бед. Штрих времени в творенье быстротечном На стеклах инеем оставишь млечным, Но канет твой рисунок в Лету лет.Эпилог
Забудь тот год, в котором грусть теснится, Забудь тот год, где страхом правит власть, Забудь героев, пожелавших пасть, Забудь постель больного, где не спится. Нет ничего, чему нельзя забыться, От целого видна нам только часть; И чем бездумней оказалась страсть, Тем легче закрываются страницы. Но кажется другим, что этот год Уходит, принося тоску невзгод, Отчаянья тупое очищенье. Хранящий верность прошлому найдет К сокровищам забвенья тайный вход И призрачность счастливого мгновенья.Геррит Каувенар (р. 1923 г.)
Эльба
На мне кровавая куртка, и я стою на Эльбе, Наполеон меж Наполеонов, и я стою на Эльбе, имен у меня немало, и я стою на Эльбе. О, генералы живые, узрите мой клюв на Эльбе. Со мной прогуляйтесь по паркам бессонниц, сомнений и ссылки, когда я брожу ночами, как пес бездомный, блохастый. Мундир мой – черные скалы, глаза мои – ваши радары: за душу атомной бомбы вам, господа, спасибо! Но страх проживает в Париже, в нем память моих парадов. Химерам на Нотр-Даме, Эйфелевым ажурам – признаюсь: в безвременье моря я – символ вашего страха, его филиал на Эльбе. Ты думаешь, что я умер? Стою я в кровавой куртке, и тело мое большое вмещает в себя, жирея, Бисмарка, Гитлера, Ницше, Чаплин – шут, но украл он славы моей эполеты для ярмарочного балагана, историю битв – для черни! Подайте протест, генералы! Труп мой стоит на Эльбе. Отведайте, генералы, гимн моего гниенья, плотью меня облеките. Я жду вас в склепе музея, где виселицы и Шпенглер, плотью меня облеките, зову я, но не надейтесь. Рабы-солдаты не верят теперь в краали-казармы, Я зовусь среди прочих Наполеоном с Эльбы, а Святая Елена – будет.И так далее
Меж тем постоянно приходит любовница и опять ищет отдыха от суеты, тараторит и просит то поесть, то попить и выгадывает неподотчетную пятиминутную паузу — опять, как пядь в лихорадке часов, словно все еще в благоухающем рту остается среди золотого запаса коронок, как в музее, бесценная правда зубов. А теперь уходи; видишь – дети повсюду играют, там, где люди бездумно прошли сквозь людей, сквозь глаза разноцветные, сквозь красоту, что стихов не дождется, когда снова кричат новорожденно-голые мысли в необъятной постели, как утро вчерашнего дня. 1. по дороге бегут; 2. смотрят фильм, где бегут по дороге; 3. вспоминают, что видели фильм, где бегут, и так далее – вечно, по кругу.Встреча
Иногда люди стареют настолько, что от них остается лишь собственность. Они еще ездят в купленных когда-то машинах, дремлют в дедовском кресле и трижды садятся за стол, ищут прошлое в семейном альбоме, гладят личную кошку, кормят птицу, сидящую в клетке… Они еще покупают собственный, привычный табак и дарят слепым жемчужины собственных мыслей о кабинете министров и вечно грозящей войне. Но иногда бесплатный бумажный стаканчик кажется домом призрения, пахнет восковой рукой попечителя; и в собственных руках люди чувствуют чужую, непривычную дрожь.Историческое
Какая редкость – соль в сорок четвертом Но мы реальность мира ощущали сегодня обесчещена она. Чтобы отведать призрак сбитых сливок в горячке были преданы навечно сокровища родного языка и нам казался сладким и воздушным сырых бобов нездешний аромат. Но между тем о соли: опоздавший ты можешь взвесить; килограмм рассола (за ним стояли женщины всех рангов с бутылями у соляных колонок на амстердамских страждущих мостах стояли слитно и неотчужденно пока полиция в другом квартале решением еврейского вопроса усердно занималась) стоил столько как нынче десять ароматных банок меда или собрание высоких сочинений в пяти томах.Две осени
Скисает сладкая еда, на чердаке смердят объедки; в осенних каплях стол пустой; лишь карточками на продукты покуда правит пестрота… Облизываясь, волк губастый, жует газету, и воняет привычный утренний эрзац. А у промокшей птицы в клюве осталась горсть раскисших зерен, и небо падает на ферму, даря одну надежду детям: быть может, и весна придет. Народ спасен и бессмертен — пришла настоящая осень, какой давно не бывало: желтеют зеленые листья, и синий ветер белеет, и ниже склонилась трава; качается от ударов и пьет свой седьмой стакан, потом оседает в кресле. От сладкой точки отсчета по вечной дороге странствий он может брести до зимы, пока по такой погоде отыщет путь настоящий по бесконечной стезе.Некий день
Некий день случился потом; свет истаял, как поздний воск; колокол бил; опоздал почтальон; время стало. Отныне ему не двинуться дальше некого дня. Руки его тяжелы; небеса — белый листок на черном листке, рухнул пол у него за спиной, уснул воробей за грудью его… В два неба он упакован был — теперь в два слова замкнули его; отмерили метром кусок земли, под неким днем черту подвели.Поскольку бомбы не едят мяса
Между тем в этом мире прекрасном могут женщины спать обнаженными, словно в собственной спальне. Что может с ними случиться, поскольку они не солдаты?! Все было, все было, все близко, но что-то разъяло нас, развело давно… А может, недавно? Нет горизонта, и нет луны, обнажены слова о покое, можно обдумать донос и сомненье без завершенья – земля кругла.Ветер утих
Посващается Пауле
Ветер утих, как собака, однако вздыхает по людям… Мы судим о ночи по снам, но нам невдомек, что скорость неподвижностью рождена, что храм начинается с кирпича, из луча и коры огонь возникает, и в тело тепло его проникает лишь тогда, когда гаснет костер. А детям кажется, что до сих пор мы чтили только безжизненный прах: их шаг – это первый шаг.Скоморохи, которые смеют
1
Не надо закрывать глаза на то, что каждая букво-секунда в прошлом меж ветошью зажата и цементом, и наши ребра или позвонки раздавлены давленьем атмосферы. Так было, и бывает, и пребудет — глумливой гарпии очкастый труд. Но после этой вычитанной мысли мне мягче пуха камни мостовой, как после действия поводья реплик. Развязывая Каиновы петли, я плоть дарую мраморным рукам, пока не затрепещет каждый мускул воображеньем — пеной мозжечка.2
Со свежей храбростью налево сверху, спускаясь с белоснежных гор бумажных в долину карлика с прудом зеленым, в сандалиях, оленьим быстрым шагом к домашним лодкам и снастям рыбачьим по выровненным уличным дорогам шел человек, то в гору поднимаясь, то вновь спускаясь, шел он с воплем страха — не в разуме, не в сердце — в животе. Эй! Озеро, зеленое от тины, с девчонками в полузабытых бантах! Эй! Тростниковый старенький петух! Пинок под зад неужто дать ты хочешь? Но храбро лодка к берегу плывет. — Сбегайся, краснокрышая деревня! Сбегайся, краснокрышая деревня! Сбегайтесь, краснощекие девчата! Не для чего-нибудь, а просто так…3
Этой радости быть вовеки: распахнем дыханьем ворота, проторим шагами дорогу и пройдем по старому парку мимо птиц, лошадей, деревьев. Все мы – странные скоморохи, скоморохи, которые смеют. Это радость: пушки умолкли, рифма может отыскивать пару, трубы фабрик – это сигары, что дымят тепло и привычно: вам их больше нельзя увидеть, их опишет потом газета. Ты забыл о гнезде далеком? Там ты мог под защитой парка семенить по дорожкам тенистым, а навстречу сочилось солнце, словно сочный грейпфрут из Яффы. Их теперь и во сне не увидеть. Но такой лишь бывает радость скомороха, который смеет.Сегодня рано стемнело
Сегодня рано стемнело. Моя комната стала родильной палатой, и на кружеве материнской сорочки кровь по краю, как оторочка, и я на весах – кричащий младенец; я родился, я создан, я существую для правды, и засыпаю в пеленках этой ноябрьской ночью будущим сном; мне снится, что мать отцу отдается на примятой траве газона, под небесным, свинцовым законом; прочь бежала какая-то птица, надо мной простирая крылья; я бы мог явиться однажды перед странником запоздалым легкий, как предрассветный ветер, сильный, словно удар боксера. Как молчит мое долгое время в этой комнате, рано стемневшей, мой язык, как колокол в глотке, бьет в беззвучный набат о нёбо: дай мне пить, всесильное небо — мои крылья съедены молью, мои жабры вырваны с болью, я теперь пожираю душу, я Адам XX века.Я никогда
Я никогда не стремился высечь нежность из камня добыть огонь из воды сделать из засухи ливень И все-таки холод мне тяжек ибо солнце было однажды до краев наполнено ею солон был мой хлеб или сладок ночь была темна как и должно Может, вся беда от познанья? Я себя перепутал с тенью как слова иногда заменяют ночь и день единого цвета К плачу долгому глухи люди Никогда ничего иного только высечь нежность из камня и добыть огонь из воды или сделать из засухи ливень Дождь идет я жажду я пьюЭто
Это совсем не красиво, это нельзя прочитать, это неведомо детям. Это, пожалуй, не тайна, это не зря восхваляют: это – всего лишь нутро двери наружной, и все же: тянется палец к губам и призывает к молчанью; возле дверей под ногами прошелестела газета; за день, за месяц, за год; снег, не растаявший в пекле, в месяц морозный умрет. Тужилось слово напрасно, правда лгала, и ничто ей не дало благородства.«Видишь: солнце стоит так низко…»
Видишь: солнце стоит так низко, ландшафт типичен – все в нем и вовне, свет постоянен, словно во сне; вдруг! Изменяется все вокруг – это не существует, существует иное, иное – в рассказе раненье сквозное, долина в горах на закате пути; еще можно двором проходным пройти, еще можно окно распахнуть, задержать насилье над солнцем, но — свершиться истине суждено.Это всё
Нет человека — есть только люди, нет стиха — есть только поэзия, — поэзия мимо проходит вперед, не оставив строчек о неизвестном. Есть люди, и если я говорю: «Я люблю их», – я лгу, но если я лгу, я все равно люблю их, потому готов я правду сказать — любую правду – об одном человеке. Я утверждаю, что только они делают камни камнями, делают воду водою. Они создают свой мир, который им уготован, ими будет он заселен, и это сказано дважды. Так фанты ложатся ближе двусмысленности и смысла — как люди. Они не милы мне, но сам я один из них: это всё.Комната
Движенью воздуха внимает ухо, как о́рган слуха, как орга́н, а перепевы спектра, словно трубы. И окна этой комнаты, как губы, жару, как птица воду в клетке, пьют. Кровь этой комнаты волнует лето — и ветер вопрошает ухо это, и жаждет этот ненасытный рот, когда закат, как кровь земную, пьет. А я – ребенок пред органом света, ловлю волшебной раковины звук, но раковина падает из рук, стоустым человечеством воспета. И комната в закатный небосклон Раскроется, как розовый бутон.Рука
Моя рука бежит по дороге, как голая пятипалая лапа. Она возвращается к пауку, паук говорит, что охотно он ночует под сенью ажурных блузок. Видишь – женственность остановилась поплакать, пусть рука успокоит ее мечтой. Мне пригрезилась молодость. Я лениво качался на водной глади кожаных, первобытных мехов. Предгрозовая медлительность обещала отблески молний, но мне было выдано прошлое серой, скучной завесой дождя. Я смастерил настил на террасе — две черных доски на садовых стульях, чтобы охотиться на паука. Но слепой садовник смеялся. И я бежал пятилапо направо — к дому левого отца и налево — к дому умершей матери, пока не проснулся. Женственность осушила слезы и рассмеялась. Паук вынул скучную книгу и спрятал женскую радость меж пожелтевших страниц. Рука продолжает, читая, мой путь от первой строки.Язык
Язык, наверно, выдумали птицы. Я – слишком человек, чтобы летать, я возвышаюсь над землей, как зданье, — создание и выдумка земли. Я – отблеск, Что таится у стены И вылетает призрачно из окон прозрачной задней комнаты, воняя почти любовью и почти дерьмом. Я – дерево, родившееся в кадке, я – птица в клетке, мной язык придуман, а люди робко прячутся в словах.Пространство
Мы среди сена и цветов вдруг свет нездешний сотворили — знамение безмолвной ночи из комнаты не разглядеть сквозь пыль бумажных занавесок и шум горячечной попойки. Мы были круглы, словно ядра, перед травинками – ничтожны, но больше молний шаровых перед ничтожностью мгновений. Рукомесло — как рук останки — мы отдавали нервам пальцев и познавали тайны речи, и блеск, и смех, и стон пространства. Узнали ночью мы, что в доме вдвоем остались, остальные давно ушли, одна бутылка с молчаньем и другая – с медом нас ожидали щедрым утром. Останемся ли мы потом? Усладу нам древесный шепот сулил: мир здесь, но рыбаки твердили, что белокуры, молчаливы, они прошли под парусами над устьем бесконечных далей.Полуостров
Я – потомок моллюсков, вышедший к звездам из моря, живу по чужим букварям и доволен стойлом ослиным. Могут люди крысами стать с их любовью к ячменному полю. Жадность влачу, как вериги, преступая голод и жажду. Если прилечь захочу — надо мною пикирует буря: человечности полуостров обступают стихии жестоко; там – другое: без предков, без взлета от древних моллюсков — только ракушка одна, словно спящий скелет возле моря.Сказать, подумать…
Реки знают, что вспять они не потекут по возвышенным руслам, к вершинным забытым истокам, реки знают значительно больше, чем люди. Реки дань отдают удивительно плоской земле, где моря и озера для них обещанье покоя. И они, безвозвратно теряясь в конце, никогда не кончаются – вот их великая сила. Реки знают значительно больше, чем люди. Видит их человек и находит забвенье метафор. А потом опускается ночь над стихом, с отключившимся зреньем поэт опускается в воду. Но стремнина стремительна. И, не погибнув на месте, убегает к мерцанию обетованной земли. Он живет и не знает, живет ли. У собственных стонет останков и бессмысленно тянется к зеркалу, чтобы сказать – где же, где я? Подумать – каков я, каков?Смерть дерева
Медленно сердце сдавалось. Я должен в землю заглянуть глубоко, пока по капле сочится расщепленное древесное сознание, в котором вечная память того, что удары сердца быстрей, чем удар топора. Свет вечерний болтливо растекался вдоль стен домов, словно бабочка-однодневка, примирившаяся с бытием. Плоть мою разнимает острие топора, но боли моей не знает и не ликует оно; из темной моей сердцевины я зорко слежу за ним. Я осязаю, что есть он, что открыто мое нутро. Сумерками он был, станет позднее ночью, объемля коротким мгновеньем мою предзакатную жизнь.Антони Кристиан Винанд Старинг (1767–1840)
Заложение основ морского могущества России, торжественно отпразднованное Петром Великим 23 августа 1723 года
Смотрите, гордые князья, Отбросив скипетр и державу, На победителя по праву — Не вам венок сплетаю я. Тому, кто невский склеп болот Разрушил жизнью многотонной, Тому, кто в варварстве рожденный Был призван просвещать народ; Учитель, плотник, воин, жрец! Его приветствую! И славу Пою его крутому нраву, И вторит мне оркестр сердец. Вот ботик, что познал почет, Когда был юн его создатель, На праздник, словно зачинатель, По волнам трепетным плывет. Он – прародитель тех судов, Чьи кили глубину пронзили, Что вслед за ботиком проплыли, Расправив крылья парусов. Мир чествует, как господина, Того, кто замер у руля, От скал, где Новая Земля, До плещущихся волн Эвксина. На вас, на ваше торжество, На воинство свое морское Он смотрит с гордостью мирскою, — И видит весь народ его. Подходит ботик! Все суда Честь отдают ему с почтеньем, Морская гладь полна волненьем, Своею ношею горда. «Да здравствует!» – звучит вокруг, Кроншлот грохочет над гранитом, И медь сияет под зенитом, И барабанный бой упруг. Гром пушек с самого утра, И дым, как флаг, окутал клотик: Приветствуют петровский ботик, Любимый первенец Петра. Но Петр за маленьким рулем Застыл, грядущее провидя… Любя, воюя, ненавидя, Там шел народ своим путем. По мановению судьбы Мгновенно обострилось зренье, И он увидел восхожденье К вершинам славы и борьбы. Фундамент прочен, ведь не зря Его своим скрепил он потом, Свой город каменным оплотом Народу русскому даря. Не дрогнул русский великан Под западным суровым шквалом, Над белым снегом следом алым Чужой рассеялся туман. И снова праздновал народ Петровскую годину чести И с победителями вместе Тогда, казалось, Петр идет. Когда взмахнул мечом тиран Над синим Средиземным морем — Его отвага стала горем, — Не врачевали лавры ран. И в Дон и в Неман кровь текла Грабителей, в бою сраженных, В московском полыме сожженных, Не стало крыльев у Орла. Но вновь клинки обнажены — Теперь султан считает раны, А благодарные Балканы Россией освобождены. Вот что увидел взгляд Петра — Строителя и полководца… Вокруг звучит иль в сердце бьется Несокрушимое – ура! И вот он руку подает — Искатель и знаток талантов — Помощнику из Нидерландов! С ним Кройс. Моя душа поет!Мороз
Мороз, хотя седобород, Кровь с молоком старик. Со вкусом ест, в охотку пьет, Спешить он не привык. Над каждым саженцем в саду Кряхтит, весь день отдав труду. Коль все цветы защищены, Сорвет он поцелуй весны. Когда скует озера лед, Дорожкой станет беговой, — Он на коньках добыть почет Спешит, как будто молодой. На санках с девушкой скользит И, как повеса, егозит. Снежинки, как пчелиный рой, К нему летят со всех сторон. С печалью свыкнувшись, порой Без устали хохочет он. Водить он любит хоровод Иль долгой ночью напролет Играть в головоломки слов, Не замечая бой часов. Вот ветер западный возник — И сразу оттепель и грязь. Тогда в поэзии старик С погодою находит связь. Боль в наслажденье перейдет — Восточный ветер верх берет. Дорогу снова лед мостит, Как мост, друзей соединит. От злоязычных прочь речей! Жизнь у Мороза нелегка. Короче сон его ночей, Все тает скарб у старика. Мы поднесем ему в свой срок Из веток пальмовых венок. Хотим, чтоб голос струн вознес Наш клич: «Да здравствует Мороз!»Паровые машины
Столетиями мчал нас по дорогам конь; Но разум тайна странная томила. И слабым смертным дал обузданный огонь Все силы покоряющую силу. Не зная устали, стихии укротив, Несет сокровища из глубины бездонной. Повозки без коней, просторы проглотив, Бегут по колее бессонной. Бьют лопасти колес и движут корабли, Освобожденные от парусов и весел, И поршни, как сердца, одушевить смогли Тупую тяжесть всех ремесел. О Нидерланды! Вы – распахнуты морям, От ила и песка освобождайте воды, Пусть золото зерна моря приносят к вам, Понявшим таинство природы. Невежества покой всегда ведет в тупик, А разума заря – светла и неизбежна, Пусть век чудес пока к литаврам не привык, Его венчают лавры нежно. Веди, стремление! Все ближе высота, Где слово вещее слышнее в скромном храме. Пока еще мой прах не давит немота, Я славлю знание, как знамя! И будущего мглу пронзает зоркий взор. Каким величием его чревато лоно! Лишь предрассветный сумрак до сих пор Я чтил коленопреклоненно.Из норвежской поэзии (перевод с норвежского)
Юхан Себастьян Вельхавен (1807–1873)
Весенняя ночь
Ночи весенней смутные сны Дарят долинам покров тишины, Реки протяжные песни поют В ритме ночных колыбельных минут. Словно в идиллии, Молят у лилии Эльфы: «Позвольте остаться нам тут!» Скоро взойдет молодая луна, Свет серебристый рассыплет она, И проплывут над землей облака Сном лебединым, неясным пока. Вскоре лучистые, Девственно-чистые Высветят чувства картину слегка. Так пробудись! Пусть согреет твой взгляд Воспоминаний бесценнейший клад. Здесь ты один. Созови на совет Память нетленную прожитых лет. Тихо, как облако, Призраком облика Время проступит сквозь трепетный свет. Слышишь, как птицы поют в сосняке Всё, что мечтал ты услышать в тоске. Всё, что открыл ты в природе теперь, В лунном свечении Лед облегчения Прежних страданий твоих и потерь.Бергенский округ
Ветер подул с востока, В листьях лип вздохнул одиноко, Туча на запад плавно плывет, Грусть унося с собою, Туда, где в пене прибоя Детство стареет за годом год. Детства дни золотые — В книжке старинной картинки цветные, Каждой картинки напев узнаю, Все, что грезилось, рядом: Под пенистым водопадом Мне Хульдра вручила арфу мою. Знаешь ты влажные нивы? Словно храм, они молчаливы, Безымянны, безлюдны, бесплодны они. Над речками цвета стали Березы мне подсчитали Всех утрат моих черные дни. Видел ты лес, нависший Над рекой, над волной наивысшей В тяжеловесной графике скал? Там, на полянах цветочных, Счастья глубинный источник Под птичьими гнездами я отыскал. У ограды райского сада Вечной стражи сурова преграда: Хребты рассекли небосвод, как клинки, Но на доспехи героя Дисе роняет порою Всех беззащитных роз лепестки. Там берега пустынны, К ним плывут киты-исполины — В шторм даже их защищает земля, Флаги над бухтами реют, Фрукты червонные зреют Около мачт твоего корабля. Так создал Господь на пробу Тень бессмертья для смертной особы. Там лес и залив звучат, как хорал, Песню дрозда повторяя, Эхо сурового края Слышится в храме сводчатых скал. Мечта не знала заката В моих светлых дубравах когда-то, Где качалась моя колыбель в тишине; От страшного сновиденья, От тяжкого пробужденья Память лучше лекарств помогает мне. Душа Норвегии, здравствуй! В зимних бурях опасных странствий Ты как титан, закаленный в борьбе; Но под броней тяжелой Вижу тебя веселой, Бьется сердце любви в тебе.Хенрик Арнольд Вергеланн (1808–1845)
Моей Лакфиоли
Когда ты блеск утратишь свой, я не прощусь с твоей листвой, я буду там, где мы росли, как часть земли. Тебе я шлю последний крик, последний взгляд к тебе приник; и в трепете воздушных струй последний поцелуй. Я дважды прикоснусь к устам, сначала попрощаюсь сам, а роз моих любимых куст твоих коснется уст. С ним разминусь, уйду во тьму… Ты передай привет ему, пусть на могиле зацветет, когда пора придет. Хочу, чтоб на груди моей лежала роза новых дней… Прошу, в дом смерти призови ты только свет любви.Армия правды
Слово? Кто услышит слово? Боль стихов? Вечна беззащитность слов. И когда слова готовы в бой идти, где им силы наскрести? Правдой мир пренебрегает. Но пред ней небо блеск своих огней в молнии переплавляет. Это весть, что величье правды – есть. Почему ж в сраженье этом не видна та, что небом рождена и одета звездным светом? Что ж вперед на врага нас не ведет? Почему не разбивает войск шатры там, где в бой идут миры, где героев убивают? Тем, кто должен пасть, дай над жизнью власть. Войско тьмы сломить не просто. Так прочны суеверия опоры, так черны, что от люльки до погоста краток путь. Трудно тьму перешагнуть. Но – вперед! – сквозь боль и беды, войско слов! Ведь творцом, в конце концов, вам обещана победа. До конца — с правдой, детищем творца. Слово! Правды славный воин! Ты храбрец! Из достойнейших сердец будет храм тебе построен. С той поры солнце выткет вам шатры. Слово! Приоткрой забрало и – вперед. Сила слова все растет, хоть порою сил так мало. Ты сильно, коль бессмертье суждено. Потому, малыш отважный, не ропщи, в пораженье отыщи отблески победы важной. В мраке лжи тропку правды подскажи.Весне
Весна! Спаси меня, весна! Тебя любил я всех нежнее. Трава ценней, чем изумруд, И анемоны – сердце года, Хотя наступит время роз. Они порою снились мне, Ко мне склонялись, как принцессы. Но Анемона, дочь весны, всегда душой моей владела. О, Анемона, подтверди, как я склонялся пред тобою! Ты, мать-и-мачеха, и ты, бездомный пыльный одуванчик, Скажите, как я вас ценил – превыше злата неживого. Ты, ласточка, поведай всем, как для тебя я пир устроил, Когда вернулась из скитаний Ты, как посланница весны. Скажи холодным облакам, чтоб не вонзали больше иглы В мою израненную грудь… Ты, старый дуб, как божество Мной почитаемый, я почки Твои воспел, как жемчуга! Хотелось стать мне юным кленом И крону нежную мою связать с твоим бессмертным корнем! Скажи, старик, что это правда, Ты подтверди – тебе поверят, Ты защити, а я вином поить весною корни стану И бескорыстьем поцелуя все шрамы вылечу твои. Весна! Старик давно охрип, У Анемон устали руки, Простертые к тебе с мольбой, — Спасти того, кто любит верно.Я сам
Неужто я не в духе, Моргенблад? Хоть мне необходимо только солнце, чтобы от счастья громко рассмеяться… Вдохнув листвы нежно-зеленый запах, я, как от легкого вина пьянею, и забываю бедность и богатство, друзей моих и недругов не помню. О щеку трется кошка нежной шерстью и ссадины душевные врачует, в глазах собаки, как на дне колодца, топлю я беды горькие мои. Плющ под окном мне на ладонях листьев приносит разные воспоминанья, которые не надо бы хранить. Прошепчут капли первого дождя мне имена людей, меня предавших, и лабиринты дождевых червей они отравят, соскользнув на землю. Меня, кто сто восторгов испытал от центифолии столепестковой, меня всего один листок газетный принудить хочет, чтобы я убил секунду радости. А это – словно коварное убийство беззащитных небесно-нежных и пурпурно-пышных беспечных бабочек, подобный грех бессмыслен и до дна души пронзает. И еще – попытка серым пеплом седины мне волосы до срока опалить, стряхнуть жемчужины секунд счастливых, которые усердно сеет время. Нет, горе-борзописцы! Лисьи когти напрасно вы вонзаете в скалу, цветы и мох соскабливая с камня. Как в раковине злобная песчинка, жемчужиной нападки станут в сердце, и диадему крепнущего духа они однажды радостно украсят. Где ненависть? На тысячу локтей ее уносят, улетая, птицы, она, как снег под вешним солнцем, тает и растворяется в морской пустыне. Но почему бы крови не кипеть в живущих жилах? Разве справедливо лишить ландшафт кипящего ручья?! Вы, ивы высочайшие, терпите, когда ручья стремительная пена среди камней омоет ваши корни. Мне не по нраву это голубое, похожее на круглый глаз глупца, извечно одинаковое небо. И разве небо хуже оттого, что в нем живут изменчивые тучи — необъяснимые вассалы солнца? И если бы я был совсем один, то разве стал бы менее великим тогда Господь наедине со мной? Не жалуйся на беспросветность жизни, на звезды глядя, — ведь они, мерцая, о вечности беседуют с тобой. Сегодня ярко светится Венера! У неба тоже, может быть, весна? О ней мечтали звезды зимней ночью; теперь они сияют: Аллилуйя! У смертных множество богатств несметных! Душа цветеньем неба наслаждаясь, приветствует цветение земли. Она прекрасней, чем весною звезды, хотя зенит цветенья не настал. Я обнажаю голову пред ликом звезды вечерней. Словно дождь хрустальный, она на землю изливает свет. В родстве с душою звезды. По вселенной идет душа, лицо, как маску, сбросив, и грубый грим морщин стерев легко. Потом в душе застынет звездный свет, напоминая алебастр покоя. Как статуя, душа внутри меня; внимательно в ее черты вглядитесь. Теперь они, наверное, такие, как вам хотелось. Да, они застыли в немом сарказме. У моей души – отныне кроткая улыбка трупа. Так почему же вы опять боитесь? О, черт! Под алебастром сердце бьется, смеется и трепещет. И не в силах к нему вы жадность дланей протянуть.Из африканской поэзии (перевод с английского)
Уильям Плумер (1903 г. р.)
Скорпион
Гневно вскипев, Лимпопо забурлила, Бурой и мутной водой подхватила Дыни, маис, тростниковые крыши. Мертвое дерево и крокодила. Устье речное натруженно вздулось, Виден на солнце отчетливой тенью Труп негритянки, разбитый о камни, Стынущий на берегу запустенья. Волны рассвета его омывают, Будто бы мертвой забота нужнее, С вытекшим глазом, обвисшею грудью, Бусами и бубенцами на шее. Вот она – Африка! Так одиноко В странствиях видели мы удивленно Знак геральдический жаркого гнева — На раскаленной скале скорпиона.Разрушенная ферма
Спокойное солнце цветком темно-красным Клонилось к земле, вырастая в закат, Но занавес ночи в могуществе праздном Задергивал мир, растревоживший взгляд. Безмолвье царило на ферме без крыши, Как будто ей волосы кто-то сорвал, Над кактусом бились летучие мыши, И крался пугливо грабитель-шакал. Был полдень мучительно полон печалью, И вечность предчувствием скорбным полна, Змея при Безмолвье свернулась спиралью, Над каждым рассветом смеялась она.Топор в саду
Летом 1911 года, через семь лет после смерти Чехова, «Вишневый сад» был впервые поставлен в Лондоне. Впоследствии сообщалось, что в конце второго акта появились признаки неодобрения и многие покинули театр. К концу третьего акта ушла половина публики.
Тихо в зале, только шорох Элегантного атласа. Пару знатную заметив, Смотрят все из-под ресниц. Эта пара сочетает защищенность с превосходством, И печать верховной власти На породистости лиц. Сэр Никто и леди Некто (Их теперь никто не вспомнит) – эта леди, как принцесса Из созвездья королей, Из волос ее служанка гордый шлем соорудила, Бархат зимних роз пурпурных Приколов на платье ей. Тем, кого она узнала, смело может поклониться Сэр Никто, как славный воин, Непокорной головой, И усов его холеность обнаруживает важность Их носителя, который Чтим влиятельной молвой. О, зачем они в театре? Праздны и нелюбопытны. Но должна хозяйка дома, в это верит леди Некто, Современной быть во всем, Чтобы поддержать беседу, Обсудить с гостями пьесу Среди скуки за столом. Между сценой и четою возникал полупрозрачный Флагманский корабль, затмивший Этой пьесы колдовство, Сэр Никто и леди Некто Никогда б не угадали, что их флагман обреченный Назывался status quo. Сэр Никто в своей программке выудил холодным взглядом, Как преступно в этой пьесе Попран избранных закон. Он кричал: «Ну что ж, посмотрим!» (Это означало: «Хватит».) Весь театр встревожил он. «Что за тип? Какой-то русский? Никогда о нем не слышал. Но, держу пари, свернул он Где-то с верного пути. Господи! Четыре акта! И у этих иностранцев Сами имена к тому же Неприличные почти!» Утешала леди Некто: «Тише, дорогой, я знаю», — К раздражительному тону Подготовлена она, Слышно только бормотанье: «Удивительные люди: Ничего не происходит! Эта вещь – глупа, скучна». Заразительно брюзжанье, до конца второго акта Громогласно объявил он, Что уже идти пора. Как они держались прямо! Словно отчитать решили молодого драматурга, Не творящего добра. Но, как было неизбежно, когда сцена опустела И домой ушли актеры, Бутафоры – все ушли, Гулко разнеслись удары, Это топора удары Вырубали сад вдали. И стучал топор все громче, Он стучал невыносимо, Вырубая сад легко. Он умолк. И только пушки Ухали в садах французских. И была от них Россия В двух шагах – недалеко.Трансваальское утро
В миг пробужденья яркий цвет шафрана Окрасил комнату, айвовый цвет сменив. Две птичьи ноты прозвучали странно, Веранду дважды высветлил мотив. Чужак предстал пред африканским ликом Небес желто-зеленых, пред такой Неверной вечностью, деревья в мире диком, Угрозу затаив, ему несли покой. Кристаллы кварца на холме блестели Скульптурой. Красной пыли пелена Корицей мелкой заполняла щели, Копилась и текла, как тишина. И снова ноты, и зелено-мховый Создатель их – непостижимый дрозд, В углу веранды, упорхнуть готовый В безветрие без солнца и без звезд. Незнаемое будит незнакомца, Как тонкую струну. Ведь говорят, Что может здесь лишить рассудка солнце, Припорошить незримым ядом взгляд. У диких птиц устойчивое зренье, И если б не тускнела новизна И не вело прозренье к заблужденью, Он знал бы: «Птичья зоркость мне дана!»Ночью
Когда ночной покой сменили размышленья, И отзвук тишины привычным звуком стал, И зыбким отсветом стал свет воображенья, Забытой жизни лик из памяти восстал. Бой башенных часов нам говорит про время, Их трепет бронзовый, их крик вдыхаем мы На жизненном пути, влача надежды бремя, И откровений боль, и страх внезапной тьмы; Удач своих удар, тщету чужих запретов, Как дети, прячем мы в наивной тайне снов, Но мудрость нам вручит ключи от всех секретов Верней календарей, счислений и часов. Нас потрясает мысль, возникшая внезапно, Нерв замыкает цепь, включая яркий свет, И больше нет машин, несущихся на запад, Есть только комната – предчувствий силуэт. Разлука, риск и рейс к неразличимой цели И пониманья тень, простертая вдали, Дают нам жизни нить, чтоб мы пойти сумели Завещанным путем, как наши предки шли. Плоть вечности опять сквозь облако синеет, В аллее голоса, распахнутая дверь — Все близко, но потом видение тускнеет, Как будто было то, что вспомнилось теперь. И завтра суть вчера в раздумье запоздалом, Для глаз хорош пейзаж, для сердца он – палач, Так белостенный дом, там ивы над каналом — Воспоминание о небывалом… Ты слышишь горький плач? Но не от этих ран мы истекаем кровью, Ни время, ни любовь не зарубцуют их. Загадка бытия склонилась к изголовью, И ветер, словно вздох, в ночной листве затих.Из арабской поэзии (перевод с арабского)
Муин Бсису (1928–1984)
Волк
Что это – или кажется мне: апельсин, как часы, стучит на стене? А письмо мое – пустилось в бега и упало в руку врага. Ты поэзией искушала меня с колыбели, и я устремился на крик газели. Звезда – волк, небеса – волчий глаз. Пиши, пиши признанье мое сейчас: я не устал еще, не устал, однако, я видел и я узнал. Я был первым из тех, кто звезду предрек, когда капелькой крови был этот рок. Пиши признанье: я не устал, однако, я видел и я узнал. Когда река становится шеей удавленника, когда колодец становится волком, тысячу раз апельсин простучит издалека, и в лапы врага письмо дотащат волоком.«О, Родина!..»
О, Родина! Подсвечник – еще не петух, а глаз поэта гонимого — еще не камень в оправу, я приближаюсь и вижу: огонь еще не потух, и кружится, кружится мир, и это мне не по нраву. И всякий раз, как избавляюсь, и всякий раз, как избавлю, и всякий раз, как избавлю мотылька от подсвечника женщины, которую я люблю, мне бывает душа кого-то из павших завещана, цветами, и пулей, и гимном его я молча славлю.Станция
Не знаю я, отправиться ль мне в путь? Взглянуть и плюнуть бы на все пейзажи с площадок погребальных. Был я даже на всех назойливых похоронах, обувши ноги в старые газеты. И проданы, и выпиты все вина, а для стихов – осталась лишь вода, и умирал я на краю колодца. А смерть была лишь поводом для пули, работодателем для почтальонов, и поводом для ярких фотовспышек… Над головой моей луны излишек, под головой – подушка из камней.«Пусть успокоится немой певец…»
Пусть успокоится немой певец. Пришла пора со свистом падать камню. Пришла пора дождю посеять капли. И только голова моя – истец. Река моя лежит, раскинув ляжки, и к ней идет земля походкой тяжкой. Вот повод для так долго ждавшей пули, вот повод для цветов, так долго ждавших, вот повод Газе с Яффой переспать. Вот повод для отчизны распродать все весла с палубы гнилого судна… Все поводы грязны, но неподсудны.Погибший гонец
Он в темноте, как крылья ветра. Льется кровь. Слово смутно, слово щедро. В нем любовь. Колокольчики надежды на руке… Во тьме, на стене мрака отпечаток ладони.«Грянул выстрел, плюнул свинцом…»
Грянул выстрел, плюнул свинцом. Он упал. Обнимая землю, беременную концом. А шаги убийцы заглушила граница. И вновь вернулся кровоточащий вопрос.Послушайте меня!
Послушайте меня! Послушай ты, отчизна! Оковы осени на всех открытьях дня. Хотел бы сжечь я тень моей нелегкой жизни, чтоб в полдень не разнежиться в тени. Тише! Умерьте труд бравурных трубных трелей. Я – мышь летучая на дереве качелей, а у причастья – золотой телец. Молчи! Пусть знамя вознесет творец и молнии, и бури потайной, раскроются объятия креста и сердце разомкнут мне, и уста. И пусть на крыльях ветреных, случайных летят туда, где есть одно окно, оно не крашено, черно от молний окно на Родине – оно черно. Окно, которое меня, наверно, помнит. Там есть лоза, обвиться вкруг меня мечтающая. Мне мечтать о том же… О, Родина! Скажи, дождусь ли дня, когда с ладоней ты своих напоишь меня глотком грозы и зельем туч? Собрать бы реки все в застольный кубок; я захлебнусь, я выплесну себя в горнило солнца! Хочу кричать, а кто-то вслед смеется.Из ночного дневника
На стене моей бессонной ночи я нарисовал любимый голос и лилейный ненаглядный облик, видимый с крутой равнины моря на песке в бессоннице сумбурной, — лунный всадник догонял меня. Я нарисовал любимый голос, прошептал лелеемое имя… Словно ветра розовый бутончик засветился для меня в геенне одиночества пустынной ночи.Чаша
Для того, кто будет после меня, Палестина – женщина, а мне – только жертвы завещаны! Когда постигает меня горячка, я лечусь кровью. Кровь – недуг, от которого не лечат любовью. Для того, кто будет после меня, небо – женщина. А для меня – это обитель пророков. Ах, каким сладким станет оно, когда прогонят пророков с его порогов. О, Палестина – воров и соглядатаев мать — куда от чаши твоей бежать? Любого, кто тебе протянул гроздь, в винном склепе пытают, в руку вбит ржавый гвоздь. Испей же хоть раз чашу мою. Я всю жизнь твою чашу пью.Я вручаю верительные грамоты чрезвычайного посла принцессы «Син» во дворце королевы «Джим»[1]
Моя государыня! Я утратил цель. Выслушайте, чтобы не верить слухам: в аэропорту у меня конфисковали газель со вспоротым брюхом. А газель эта самая была моей верительной грамотой — конфискованная, зарезанная газель. Послушайте, внемлите моей мольбе, каков заговор, представьте себе?!«Кит – он спрятал Иону во чреве…»
Кит — он спрятал Иону во чреве. Кит защитил Иону. А мы здесь – в этом безграничном отечестве, — в страхе и гневе, в этом мире бескрайнем, словно в море бездонном, все еще верим в собственного кита или заняты сбором фигового листа, и все – суета.«Признаюсь – я очевидец того, что свершилось уже…»
Признаюсь — я очевидец того, что свершилось уже, мое прежнее лицо газетами вылеплено, как папье-маше, признаюсь — из фаянса лицо мое новое было, я упал, и вдребезги земля лицо мне разбила.«Моя государыня! Примите или отвергните…»
Моя государыня! Примите или отвергните моей верительной грамоты фиговый лист. Я жду, когда вы не ответите… Я не слишком грязен и не слишком чист, у меня, стеклом залатавшего плаща пелену, у меня, разукрасившего мозаикой шлем, у меня, пристрастившегося к дурному вину в барах, доступных всем, у меня голова закружилась. Моя государыня! Примите или отвергните моей верительной грамоты фиговый лист — просто у ворот дворца я выпустил пулю из дула своей винтовки, я выстрелил в этот, моими стихами исписанный лист, я прострелил себе руку и сердце. А когда, моя государыня, поэт становится кротким и на его стихи нельзя опереться голове бунтаря, схваченного неумолимым клыком и когтем, стоит ли жизнь спасать поэту, житие не способному описать?Стихотворение в раздел «Письма читателей»
Не гневайтесь, если с корзиной пуль и гранат не пришел я к сезону взрывов и землетрясений… Если не вывесил стихотворений, как объявлений, на этой стене… Если не отталкивал я жадных рук, что тянулись ко мне за пустотой удостоверений. Я предоставил носителям ярлыков — как их много, и каждую ночь все больше — написать о скрежете фронтовых жерновов, о героизме оливы, когда ей бывает больно… Когда были вы искрой, вестью благой, я любил вас, как любит каждый изгой — самозабвенно любил до непорочности. Вестника маленького до непрочности. Он нес, этот вестник, словно свечу, огромный вопрос, я его изучу… Он ненавидел газеты и стихи, как перо на берете… Но вы шепотком подменили язык, бури отчаянный крик… Когда вы подменили «аппаратурой Ронео» типографский станок, и в «луже чернил» скорчились, как инвалиды, лягушки, когда кто-то время вывернуть смог в причудливость средневековой старушки, когда кровь пропитала рисунок пор, я оставил лягушкам с тех пор болота их типографий и пошел, вопрошая о маленьком вестнике — может быть, даже моем ровеснике, — и нашел его мертвым под стеной объявлений, и не было места для стихотворений — там подрядчики собирали в пробитую каску пожертвования на букеты с яркой раскраской вместо прозрачных невянущих слез… Вы, читающие хронику про наши ранения, не придете к стене, где кричат объявления, в ваших альбомах – мы приложения к фотографиям, где никто на себя не похож, — признайтесь однажды, что все это – ложь, что мачты пестрых знамен — это опоры виселиц, знакомых с давних времен, что под нами – тюремная камера, что над нами – тюремная камера, что хроникерская кинокамера на нас нацелена, словно луна, что в зеркалке акула зеркальная не видна, когда жертвы свои поджидает она… Вы! Родовитые джентльмены! Не подстреливайте неизменно беззащитных гусынь — пускай плодятся, чтобы нести золотые яйца в ваши глаза, карманы и уши!.. О, наша шкура! Шершавый лист типографской бумаги! Над Родиной утренних и вечерних газет кровавые флаги. Берегись подлецов! Береги лицо! Лицо, которое вижу повсюду. Всегда, когда полумесяц округлялся полной луной по нему открывали огонь!На баррикады
Карту отчизны из крови моей и оков нарисуйте, тяжелые руки. Горечь цветов пожните в горах на откосах разлуки. Всем их отдайте, кто знамя несет, несмотря ни на гнет, ни на муки, чьи руки в оковах, но песня свободы в сердечном прерывистом стуке. Вы, очи поднявшие в поиске в страстной и трудной науке, Если завидите тучу в крови, знайте – где-то заря, как река на излуке! Лучи ее правду вещают – заря нас берет на поруки. Жертва в объятиях жертвы, с руками сплетаются руки. Вулкан не дымится под пеплом – огнем рождены его звуки. В небе, окрашенном кровью, пусть нас разглядят наши внуки. Шагом единым пойдем, грянут маршем шагов перестуки.Поэма на листках папируса
Если правы жрецы, цветы лотоса для фараона то же, что История на листах папируса. История – это баран безрогий, история – это послевоенный калека убогий. Войны – жнецы. История – жертва, а не истица. Когда глазам фараона понадобилось на постижение мира – мгновенье, — под ве́ками, над века́ми, пустыня и сад, штиль и шторм, — мог он постигнуть зреньем, а не руками. Однако запутался верный жрец. Как мог ошибиться он? Как ошибиться мог фараон? Как это мудрость могла ошибиться? В сосуде для сурьмы – все тайны мира, идут цари земные босиком, чтобы нести весь груз его порфира… Моря и суша из-под тяжких век бежали. А баран, рогов лишенный — история, – превращена в орла… Не нужно ей, чтобы она лгала Глазам жреца и плахе фараона. Жрецу бы за пропажу поплатиться — ведь жаждет жадность – царская десница. Цветок лотоса, листок папируса, брошенный в воду. Баран брошен в воду. Камешек брошен в воду. Чело воды трещина прочертила — и потекла кровь Нила, и для крови берегов не хватило. Вырвал жрец оскорбленный глаз, — и потекла кровь Нила, и места в берегах не хватило. Бросил жрец священную трость, но она потопа не преградила. Как наложить повязку на раненое чело реки? – Нил одинок – дайте ему невесту, и будет потомство рек и проток являться тогда к священному месту! Закричали цветы лотоса, закричали листы папируса, закричали женщины, — и появилась у Нила невеста. Появилась у смерти свадьба. Теперь Нилу спокойно лежать бы. Но на весь его долгий век единственной женщины мало, чтобы ручьи и протоки рожала. Ведь он привыкнет к ее поцелуям, если жертву только одну даруем! Решили – построим плотину! И отдали Нилу женщин по числу его крокодилов… И отдали Нилу женщин по числу лепестков лотоса и чаек — ему все мало! Мы тяжесть Нила не измеряем — под ним рождаемся и умираем. Давайте просто построим плотину! – Предатель, – жрец закричал, прижимая жертву. – Предатель, – закричал заклинатель змей. – Предатель, – сказали бабы, ощупывая свои животы, мечтая родить для Нила невесту. Все кликушествовали: «Предатель!» …Предатель! Предатель!.. Продавщица цветов заорала: «Предатель!» Нареченная Нила орала: «Предатель!» Мастер, сшивший иглой одеянье невесты, бормотал вслед за ними: «Предатель!» Предатель… Предатель… Предатель… — звучало в их общем хоре. – Как поставим мы стену под ликом Нила? Как оставим невесту без ласки Нила? Как останется Нил без жертв и без женщин? Как прожить человеку, не принося жертвы? Как История будет без жертв создаваться? Появилась у Смерти Книга — Книга волков и газелей… И завопила всеобщая глотка: – В Нил его бросим! В Нил его бросим. Они бросили в Нил его тело, и поплыло оно смело, стало тело расти все длиннее и шире и заполнило русло Нила.Газель
Посвящается Рите Бальтазар
Я замираю мертвой газелью… Рана моя – не роза, лицо мое – не апельсин. Давайте, пока послание не взорвалось, пока есть мгновенье безделья, согласимся, чтоб взрыв этот был справедлив и един, что бабочки, хоть и ярки, не отличаются от почтовой марки, что дым от сожженья поэтов старинных идет от томов современных, невинных. Давайте согласимся, пока до взрыва есть время, что корабля, разбившегося на почтовой марке, незримый остов — не что иное, как остров, что знак беды на левой щеке принцессы — это просто не тема для прессы, как след от последней пули, которой бедняк и беднячка две жизни перечеркнули. Давайте согласимся, что есть нечто различающее, Рита, скипетр и подсвечник. Есть много законов древних: женщины тонут в деревьях, а деревья в женщинах тонут и стонут. Женщины в рыб погружаются, рыбы погружаются в женщин, и никто из них не сражается — стонут. Ах! Между песней и эхом – расстояние, между водой и росой – расставание. Когда тонет твоя отчизна, появляются корабли, и появляется пядь земли, когда корабли уходят, не угрожая жизни. А ты сейчас стала словом в странствии долгом почтовом. Если бы ты потеряла память, если бы ты потеряла память!.. Сейчас земля отдает свой крик самолету и кто-то… Давайте согласимся, что есть различие между ударом весла и ножа… О, Рита! Бабочка лежит, не дыша, а на марке почтовой она хороша и в моей руке, и в твоей руке. Согласимся: письма писать вдалеке друг от друга мы устали, как птицы, коснувшись воды, устают оставлять на небесной пустыне следы. Все наши проекты осуществлены, как один: свершилось, Рита, – я воду пью, и воздух живительный ртом ловлю, свершилось, Рита: придуман жасмин и женщина, которую я люблю. Дай мне опьянено откинуться на зеленый луг. Я и ты – две птицы, то в облаках, то на водах, по воде – круг, в воздухе – круг — нас окружили вода и воздух. Давай согласимся: нечто отличает, о Рита, воробья от пули, и когда становится пуля звездой, чем же становится Родина — живой человеческий улей? Судьбой? Ты странствуешь пулей по этой стране, а потом афишей висишь на стене. Ты во времени странствуешь, все бренное скинув, но вернешься поэмой или ящиком апельсинов. А когда рассеется тьма, и спадет роса, и высохнут слезы, и я останусь один, давай согласимся до взрыва письма, что рана моя – не роза, лицо мое – не апельсин. Заминированы все письма, даже твои… Кто мотыльку подскажет, что над бурей летит он к беде, кто газели покажет, как опасно ступать по воде? Ты все еще пишешь… или уже устала от писем? Раньше с тобой мы ходили Вдвоем по заоблачным высям. Если бы память ты потеряла — ты бы меня спасла, поддержала. Если бы ты потеряла память, ты бы меня убила – мне так одиноко падать! Пиши мне, пиши — это эпистолярной смерти пора. Ты все еще пишешь. Видишь – рубят кедр острием топора, чтобы поставить шлагбаумы, а дети при этом, балуясь, изобретают тайком мешок с песком. Ты пишешь еще… А слыхала ты о том, как звезду обезглавили и поддели штыком, и гасят во рту луны сигарету?! И вырубили сердце у кедра. Когда красной бабочке у шлагбаума сказали: «Нет», она раненому передала свой цвет. До того, Рита, как стала кровью эта пыльца, до того, Рита, как она коснулась лица… Вот сейчас по каналу, Рита, крадутся суда. А ты, словно я, на почтовой марке, — приходишь сюда, на бумажном кораблике. Рита, ты боишься бумаги, пролетают суда, как зяблики, несут бумажные флаги. О, лебедь… Подорожала вода, Хедив[2] вернулся, вернулся, Рита, на ложе Египта. Канал очистили от пальцев убитых солдат, от слез Египта, от пыли Египта, от стихов, родившихся несколько дней назад. Вот лик Египта грозит разорваться миной, вот сердце Египта грозит разорваться бомбой. А ты все пишешь, ничто не проходит мимо. Память – это тяжко и больно. Ты смерть возлюбила на ложе бумажном, тебе ненавистно, Рита, тонуть. Давай признаемся и честно скажем, что мой с твоим пересекся путь. Не было визы в руке моей, не было визы в руке твоей. Я не хотел ни капли чернил от тебя, не хотел ни строчки стихов от тебя. Рита, сквозь стены я странствую до сих пор, всем плакатам наперекор. Я устал от писанья стихов при Луне, от писанья деревьев, словно во сне, от писанья рек на этой стене. Я устал от сочиненья плакатов и от чтенья плакатов. Я устал от сочинения Родины и от чтения Родины. Есть нечто отличное в этой стене, Рита, есть личное в этой стране… Есть нечто, отличающее бокалы, Рита, от кораблей. Ты пришла, как Родина, и тебя было мало, как мало Родины всей. Далекая, словно на марке почтовой, страна, речка, что в бутылку заключена… Давай признаемся: мы устали вести нашим письмам счет, признаемся: этот век, этот отель, забронированный на целый год, на наш век. И эта поэзия вовсе не наша. И все, что пришло из Книги воды, нас не касается… Против нас новостей миллион, и в справочнике любого туриста адресов наших нет. Каждый в нас, как в газеты, одет. Аккуратно и чисто, в нас гуляют люди живые, а потом бросают на все мостовые. Согласимся же до взрыва сего письма: собирает подсвечник бабочек, как сувениры, собирает море всю рыбу, как сувениры. А ты собрала почтовые марки сама и приклеила их на тело, как карту — карту живого мира.Из афганской поэзии (перевод с пушту)
Сулейман Лаик (р. 1931)
Новая мелодия
Снова мелодия битвы звучит. Слушай, что эта мелодия значит? Либо загадка любви озадачит, Либо свиданья Любовь не назначит… Сердце печальною песней стучит! Боль от ее красоты все острее, Пишет она Только кровью моею, И, как всегда, обжигает, не грея… Локон любимой любовью завит. Книгу учитель забрал в медресе, Пир посвятил Несказанной красе. Я подружился с гулякой, как все. Песню любовь моя переиначит. Все мое тело трепещет: «Люблю!» Кружит мне голову, как во хмелю. Старую лодку мою потоплю. Новый мотив поцелуя не спрячет!Движение
Природа ищет силу во вращенье: И время, и пространство – все в движенье. Пока ты спишь под шерстью одеяла, Другой переплавляет в путь мгновенье. Ты на тропинку загоняешь коз, Я вижу горных туч коловращенье. Как жаль, что ты лежишь в объятьях сна! Куда ни погляжу – весь мир в движенье. Ты вытащил на берег свой корабль: Ведь океан во гневе и смятенье. Не будь невеждой, если ты не раб И если есть в груди сердцебиенье. Я не поэт для соловьев и роз — Земля, вода и небо – все в движенье. Веду я караван ночей и дней И песней прославляю пробужденье. Я счастлив, если мой земляк – в движенье.Моя Родина
О, Родина! Моя живая плоть! Мой дом и колыбель, все – до гробницы вплоть. Ты – как отцовский кров, как материнский плач, Вот почему меня вовек не побороть. Ты из живых цветов постелешь мне постель, Не дав меня репьям случайным уколоть. В ущельях гор крутых, в долинах бурных рек Всех песен не пропеть, всех зерен не смолоть. И каждый камень твой стать крепостью готов, Здесь зубы враг ломал – тебя не побороть! Склонюсь к твоим ногам в своем смиренье горд — О, Родина, лишь ты моя душа и плоть.Знамя народа
Меня качели мысли раскачали, Я погружаюсь в океан печали. Когда бы смог я в кровь тиранов окунуться, Тогда б рекою слез я плыл в иные дали. Наставник, снизойди до моего уменья, Оставь меня в огне, чтоб я сгорал, сгорал, Я снова, как Меджнун перед Лейлой, бессилен. Иду с надеждой в путь, сияет цель, как лал. Танцую танец свой, в одежду слов одет. Я – знамя в страждущих руках народа, И содрогаюсь я в страданьях многих лет. Кто я? Родной народ, что вдаль меня ведет, — Движенью этому конца и края нет.Ради тебя
Я, кому велели плакать жизни горькие печали, Я, которого несчастья каждодневно удручали, Я, кого свои желанья искушали и терзали, Я, которого и в детстве сиротою притесняли, Я, кто слышал голос тигра и змеи, шипящей жаля, Я, кого к стреле обиды недостойно приковали, Я, кто, как пастушья дудка, слышен во дворцах едва ли, Я, которому все люди о недоле рассказали, Я, кого в огонь бросали, словно семена спелани, И в цветке костра вращали саблями тупого страха, Я, который не однажды в играх времени жестоких Падал в прах лицом и снова гордо восставал из праха. Все стерплю, омоюсь кровью… Родина! Я жив любовью.Из индийской поэзии *(перевод с телугу)
Девараконда Балагангадхра Тилак (род. в 1921 г.)
Моя поэзия
Моя поэзия – не философский трактат, Не та, что слывет интеллектуальной, Не хаос модерна, который все берут напрокат, Не монумент устойчивости патриархальной. Хрустальные волны лунных морей, Благовонные светильники цветов джаджи, Волшебный мир колоннады моей Во дворце сандаловом многоликих чудес на параде. Острые когти страданий из всех веков, Поступки героев, их гибели путь кровавый, Меч милосердия, мир и любовь без слов — Вот подвиг искусства, не осененного славой. Голуби сострадания, в глазах у которых страх, — Это строки мои; Молнии гнева народного, обратившие зло во прах, — Это строки мои; Нежные девушки, танцующие в лунных лучах, — Это строки мои.Отчет о жизни и смерти клерка
Покойный Котишвара Рао, Как следствие установить смогло, В наш век холодный воплощал тепло Минувшее. О праведное время! Для полицейского скупого рая Годился он, Поскольку жил без тайны, Без заговоров, Даже без врагов — Случайно жил И умер он случайно. И однако, В отеле «Дилакс», В номере тринадцать Скончался Рао в деловой беседе, А это — Знак его плохих манер. Все ясно, И не стоит разбираться… Его начальник мог бы, например, Увидеть в смерти нарушенье долга. (Боялся лифтов клерк.) А на поверку Опасней был восход ступенек долгий, Шел клерк по лестнице пешком, И сердце исполнительного клерка Приказы отказалось выполнять. И этот бунт Закрыл глаза навечно. Врач просто засвидетельствовал смерть. Была анкета клерка безупречна: Отец был клерком, Дед и прадед тоже… И стала исполнительность Семейной, Покорность, респектабельность — Их путь. А в доме — Одна старуха-бабка, Шесть детей, Единственная кошка И одна Жена, клянущая свое здоровье И тяжесть вечную квартирной платы, Две комнаты Плюс ванна и чердак. Носил покойный красные рубашки, Хотя не знал он цвета коммунистов. Любил по узким улочкам бродить, Хотя не понимал сюрреалистов, Гуляя, бормотал и улыбался, Хоть не был йогом в воплощенье этом, И в небо отрешенно он смотрел, Хотя и не был никогда поэтом. Он аккуратно погашал долги молочнику — Все до последней пайсы. Всегда, когда был месяц на исходе, Его жена и дети голодали. Он иногда себе позволить мог Ходить на уличные представленья, Но не курил сигар, Дешевых даже. Раз в год ходил в кино. Но не был членом организации Литературной или политической — Не все ль равно? На выборах он голос отдавал тому, Кому советовал начальник. Он гимны Богу по субботам пел, Патикабеллам[3] с наслажденьем ел. Не брал он взяток, Не бранил коллег, Он верил в Бога, Одарял калек. Однако за день до своей почтенной смерти Он друга, дрогнув в первый раз, спросил: «Как счастье выглядит? И как его достигнуть?» Незнанье это отягчало, как ярмо, А потому и смерть его должна бы Оставить на лице страны клеймо.Уходите, уходите
Кто вы, женщины в морщинах слез, У которых пайты[4] сползли с плеч, Вдоль старых кладбищ, вдоль стихших гроз Несущие свой бесконечный плач? Вы – матери, жены, не залечившие ран, — Из каких вы народов и стран? В каком бою погиб ваш единственный милый? Когда это было? Если это было на поле Курукшетры, спроси Кришну, Если это было в битвах Боббили, спроси генерала Бюсси, Если это было в Крымской войне или войне в Корее, В первую или вторую мировую войну, Спроси Бисмарка, спроси Гитлера, Спрашивай, спрашивай всемогущего Брахму. В час, когда тьма густа, как сироп, В час, когда в джунглях пантеры и тигры нападают на антилоп, В час, когда девочки-вдовы бросаются в пасть колодца, с жизнью устав бороться, В час, когда собаки на кладбищах из-за костей умерших дерутся, В час, когда на священном баньяне птицы смолкают и к веткам жмутся, Человек один остается. Мир всемогущий страхом объят, Когда вокруг пенится яд — Яд вражды, Яд нужды, Яд беды, И перед ним бессильны суды. Уходи, уходи, о согбенная! Не броди, не броди Вокруг мест погребения. Мертвые замолчали навек, Кладбища сорной травой порастут И не укажут, какой человек Был похоронен тут. Могилы не знают жалости. Замкните рыданья свои в груди, Выколите глаза, Неосужденного не осуди Горячечная слеза. Ваш мир обратился в прах. Так скройтесь в норах или в горах — Скрывайтесь, скрывайтесь, скрывайтесь!Письмо солдата
Я жив пока… А ты жива там, мама, Хлопочущая посреди нужды?.. Как длинноногий наш журавлик – братишка младший мой?.. У нас здесь ночь. Но страх Стреножил помысли мои и мысли… Лишь слышен вдалеке сапог капрала скрип Да храп товарищей моих, Как хрип Предсмертный. И холод! Смертный холод, А от него, чернея, стынет кровь. Я выкурю большую сигарету И горло обожгу остатком виски, Чтоб корку льда на сердце растопить. Но страха все же мне не растоптать. Ведь завтра снова — Перелески, реки, В руке винтовка, в небе самолет, И – марш вперед! Раз, два, три – убит. Убит ты, убит я. Получит телеграмму семья — Мол, так и так (Ваш сын убит). Как будто скован анестезией, Позвоночник струной натянут, Его уже смычок надежды вечной Не коснется. Кругом война… Война… Она несется Под Сталинградом и в песках Ливийских Равно. Как пес сбесившийся И оттого жестокий. О, этот вездесущий холод Средь сонной тишины, — Все умерли?! Лишь полночь Пронзает одиночеством межзвездным, Как будто пламя сердце истязает, Как будто тает человек во мне, Как будто бы лицо мое вовне, И – нет меня. И вот не остается Ни чувств во мне, ни веры, ни желаний: Убить сегодня или быть убитым Вошло в привычку. Стало просто это, Как просто сбросить пепел с сигареты. Невидимы, под этой униформой Живут отчаянье, жестокость, страх, Подобные реке, Зажатой В стальных, жестоких берегах. Я самому себе противен — Я убиваю, снова убиваю, и виски пью, но все не убываю, и нет другой заботы у меня. Но вот рассвет. Вдали на Альпах снег плавится, Как плавится печаль в душе измученной, И горы Плывут серебряными парусами В рассветный океан. Но я не знаю, увижусь ли я с вами. Услышу ли Твой звонкий смех, Подобный Звучанью колокольчиков, Увижу ли Твой взгляд, слезами увлажненный. Я жив пока… Ты верь и жди меня назад. Немало долгих миль В солдатских днях лежат. Прощай, родная! Липкая дремота мои глаза Смыкает чернотой. Перед палаткой замер часовой, И скрип шагов капрала, Как бурчанье В забывшем тяжесть пищи животе. Здоровы будьте! Будьте все здоровы — Ты, дети, ящерицы возле дома! Ответь мне, мама! И прощай… Ух, холод! Комочек сердца холодом расколот. Лишь память согревает тело мне.Червяки
Укрывшись мечтами от жизни, Червяк в полусне на кровати лежит, А голос жены все жужжит и жужжит: – Для лампы масла нет, Нет сахара, Нет угля, И молока на завтрак нет. Так каждый день, так много лет. Рыдания, тоска… День будничный, обыкновенный, Где человек лишь атом во Вселенной, Которая, как вечность, глубока. И неподвижно тело червяка, Приросшее к кровати. Лежит червяк, И в полусне Он вновь и вновь живет мечтами, Он вновь и вновь жует мечты, запрятанные в сундуке с замком секретным. В них страсти, секс и красота; В них преступления И счастье билетов лотерейных… Он чувствует себя в них джентльменом И улыбается, перебирая их. Он видит на остановке автобуса красотку, дарящую ему манящий взгляд, А вот в парламент выбрали его, назначили министром… Но нет. Как молотом по голове, слова жены долбят. Ну что сказать ей? «Жизнь не переделать…» Отвернуться?! И съежился червяк… Трясется ли земля, Или война несется по чужой беде, Как по воде круги, Червяк, чтоб были деньги на обед жене, Плетется каждый день в свой офис и обратно. Идя домой, он замечает, Как сытый джентльмен теряет Набитый кошелек. Он поднимает кошелек И прячет в складках дхоти. Стоит и ждет. Но мысль быстра, как нож, А правда Бывает тяжелей, чем ложь. И он, расправив дхоти, Идет и отдает свою находку джентльмену. В ответ «спасибо» получает, От равенства весь расцветает И снова тащится домой, Он – Вирешвара Рао. Он кланяется в офисе начальнику И правою рукой приветствует его… И правой же рукой он пишет, пишет, пишет, А голод пищу ищет, И достает он правою рукой окурок Дешевой сигареты… А левая рука? Выходит, она осталась без работы?! Тогда он левою рукой За провод голый электрический берется И умирает, Но не остается В дни безработицы он безработным — Червяк Вирешвара Рао. Подобно йогу, он проходит мимо Торгующих на рынке спекулянтов, Премьер в кино, Кафе роскошных, Отрезов модных И бриллиантов, Новейших марок дорогих автомобилей, Идет он мимо, мимо, мимо… Минует сборища предвыборные, где оратор вещает, Что ему лишь ведом Единственный, Но верный путь, С которого нельзя свернуть, И пусть идут все следом. А он бредет, не видя и не слыша, Проходит мимо он — Червяк Джогишвара Рао. Диплом на стенке, Групповое фото выпускников, — Как слепок износившейся мечты И облысевших идеалов. Устав от вечной маяты, Не выдержав пощечин рока, Утратив жизни вкус, Не познанный до срока, И поклоняясь тем божествам, Которых чтят другие, Они ползут, Как мысли их нагие. На кладбищах Они мечты свои зарыли И катятся по рельсам Правил, привычек и обычаев. И с детства Стариками стали забитыми, Обычными. Под тенью страхов и рыданий Ползут по жизни червяки: Учителя и клерки, и служащие мелкие. Они ползут: И Котишвары Рао ползут, И Вирешвары Рао — Их сотни, Тысячи, Их сотни тысяч. Но жизнь такая все же опостылеет. Червяк затянется остатком жизни, Как затянулся бы окурком Дешевой сигареты. Решит покончить с жизнью счеты… Но голос жены его, Подобный сирены завыванью, Вернет его назад, В действительность. И задрожит червяк. Как будто на земле Добра убудет, Коль его не будет, И святость Жизнь напишет на челе. И будут снова выцветшие будни, и в полусне он будет оживать, И грезы полумертвые жевать, И пережевывать — Придуманную жизнь Баюкать.Светильники
Светильники прекрасны и легки, Они блестят, как зоркие зрачки, И, словно грех, неистово горят. А в темноте не видно темноты. Ее, как грех, светильник выявляет, И темнота божественно мерцает. Познай при свете сущность темноты, Пусть грех откроет сущность человека. Суть жадных глаз голодного ребенка, Который в лавке сладости крадет, В ростовщике спокойствия налет, Когда крадет он сотни тысяч рупий. А в волке, убивающем ягненка, Жестокость мира этого познай. И лживость, воплотившуюся в клятвах Распутницы обманутому мужу. О, сколько необузданных деяний, Страстей и стонов, странных завываний И гула барабанного судьбы. Из этой бесконечности материй Рождается энергии всеобщность, Каскадом по сосудам кровеносным Бежит и раскрывает в почках жизнь. Какой соблазн, какая страсть творенья — И сколько жизней, столько и горенья. Из жизни грех рожден, а жизнь грехом зачата, И добродетелью грех называют свято. Светильник в склепе освещает смерть, Светильник в храме высветит темницу, В которой в заключенье Бог томится, Светильник в доме может тайны скрыть. Кроваво-красный миг любви священной, И свет сердец людских – как свет Вселенной. Светильник первый был от первого греха — Адам и Ева страсть открыли на века. Уже не погасить алеющий пожар И лихорадки лет неутолимый жар. Любовь не устает сама себя сжигать, Чтобы из пепла снова восставать.Ночью
Ночью безлюдно; В призрачном свете уличных фонарей Я сижу в беседке из бугенвиллей, Любимой беседке моей. Грустный напев, который Даже для ветра тяжел, С ветром меня нашел И в сердце вошел. Безлюдно, вокруг никого; И кажется, что молчанье — Это по площади Ног необутых шуршанье, И кажется, что молчанье — В тысячу световых лет… А может быть, нет?! Росчерк молнии платиновой По черной бумаге ночи. В нем оттенок печали и отсвет радости, И сигнал тревоги людей. Словно тоскуют о жизни те, Кто сам ее сделал короче, А тайна Вселенной распалась На бесконечность ночных теней. Это полночь – словно красавица С черным узлом волос. Но во тьме Красота скрывается. И в душу мою Врывается Скупым одиночеством слез… Песню-жалобу, нежную, горькую, Ветер ко мне донес.Из турецкой поэзии (перевод с турецкого)
Бюлент Эджевит (1925–2006)
Пещера
На стенах пещеры игрою ума Я высек зверей, чтобы жить интересней. Мне грозным рычаньем ответила тьма, А я на рычанье ответил им песней. В пещере моей было слишком темно — Я высек огонь и на щепочки дунул, Но холоден был мой костер все равно. Тогда для пещеры я солнце придумал. Я высек на стенах пещеры любовь — Стук сердца, живой человеческий голос. Но боль из камней сочилась, как кровь, — От боли пещера моя раскололась. Тогда я родился.Закон
Надкушено яблоко – это зубов твоих след. По букве закона держать тебе надо ответ. Свидетели ангелы В том, что виновен навек Ты – сын человеческий — Человек: Статья первая Ты должен прийти в этот мир, в этот край. Статья вторая Ты должен любить и понять — Это рай. Статья третья Потом умереть от болезни иль в тяжком бою, Любви оставляя и сердце, и душу свою. И снова ты должен пройти через первый искус: Запретного яблока терпкий почувствовать вкус. Статья четвертая (не зачитывается) Неведомо, кто в исполненье приводит закон: Бесплотен, бессменен и вечно безжалостен он. Но чувствам своим и надеждам своим вопреки Бессилен бороться с неведомой властью руки.Человек
Конечно, он может быть лучше, чем ты, Сотворенный тобой портрет, И скульптура, которую ты изваял, Может быть лучше, чем ты, — Может большей быть высоты И красивей, чем оригинал. Если ты стихи написал, Могут больше сказать они, Чем сказал бы в беседе ты. И конечно, больше любви любой Песня, созданная тобой. Просто ты больше, чем ты, Просто ты лучше, чем ты, — И в этом смысл красоты.Личное
Не сон ли это? Я исчез однажды. В толпе, вдали от узнающих глаз Бродил по городу, в витрине каждой, Как облако, являясь каждый раз. В толпе, совсем свободен и один, Закуривал, чтобы в дыму укрыться. Невидимый, на сотни лиц и спин Мог досыта тогда я надивиться. Но вдруг в толпе – знакомое лицо. Не сон ли это? Это я? И… мимо. Так в мире замыкается кольцо, Которое замкнуть необходимо.Прометей в городе
Отныне Прометеи в городах Живут, оставив на скале оковы; Среди бетонных стен забытый страх Уже не должен их тревожить снова. В краю, куда не залететь орлам, Он – Прометей – себя терзает сам.До вопроса
Мы не были в то время одиноки — Был мир живым, и все его истоки, Живым был ветер – спутник рыбака, Живой – грозы карающей рука. Живой была земля, и дождь был чист, И от него земля рождала лист. Природа трепетно передавала Своим животным листья и траву, Животных – доблестному человеку, А человека – матери-земле. Живыми были в позднем небе звезды, И вечность не желала скрыть чела. Неведомого мира волшебство Не разрывали праздные вопросы. И солнце, уходя за горизонт, Приоткрывало грифельную доску С лучистым уравнением вселенной, Фосфоресцирующим в темном море Магическим свечением Луны. Мы поглощали тайну бытия, Пока совсем ее не понимая, И не могла ответить нам немая Природа, ничего не утая. И мы тогда не научились задавать вопросов. Тогда была понятна нам земля. Но были далеки учителя От наших древних пастбищ и покосов. Мы одиноки не были, богам И разум свой, и душу доверяя. А боги, нам и явь, и сон давая, И берегли тогда, и били нас. И снова миру открывался день, И с этим миром жили мы в согласье. Мы были счастливы. На это счастье Вопросов не обрушивалась тень.Из венгерской поэзии (перевод с венгерского)
Эндре Ади (1877–1919)
Высекатель огня
Вершилось великое только тогда, Когда дерзновенно отважные смели Не раз, а стократно отважными быть, Стократно отважными, в шрамах на теле. Пусть славится первой отваги ожог, И сам Высекатель Огня непреклонный, В огне незнакомом он смог разглядеть Потребность насущную дани законной. Как Бог бескорыстный, он мерз на снегу, Спокойно нелегкую дань принимая, И ныне, и присно во всех храбрецах Кипит его кровь, на борьбу поднимая. И мир этот отдан в наследство не тем, Кто тянется истово к дряни вчерашней, Отважный – достойнее всех человек, Достойней его – только тот, кто отважней. Тому, кто пытается мир изменить, От шквала Истории шкуру не пряча, Отважный, как Бог, Высекатель Огня — Предтечею был. И не будет иначе!Проклятие равнодушия
Недель томительный уходит строй, Как будто от больничной вони пятясь. Жизнь не была еще такой больной — Бредет и, кажется, в грязи споткнется, Не в силах выйти к чистому колодцу. И прежде не завидной жизнь была, Но были очистительные грозы, И храбрецов несправедливость жгла, Теперь так много равнодушных стало, И безнадежность восторжествовала. Что Равнодушье? Кажется, пустяк. Но мягкие оно сплетает пальцы, Чтобы не сжался яростный кулак, Идите же сюда, чтоб все мы вместе Повергли Равнодушье, как бесчестье. Да, храбрость нынче нам нужна как честь. О, разве это жизнь?! Так крикнем громко, Что слово «Будет» лучше слова «Есть»! И, если накалим мы наши души, Не одержать победы Равнодушью!Из словацкой поэзии (перевод со словацкого)
Франя Краль (1903–1955)
«Пора бы крикнуть…»
Пора бы крикнуть, что конец настал — терпенье прорвало плотину снисхожденья, и горечь слова в горле запеклась. Бой не окончен. Стих мечом разящим останется, пока из темноты на солнце снова выползают змеи. Мне слышен их фашиствующий шепот. Вновь жертвы выбирают для себя и помогают за свое спасенье предателям кормушки охранять. На братские могилы брызжут ядом перед глазами вдов, калек, сирот. Они вопят о праве на свободу, они о демократии шумят. Но мы на крылья их фальшивых мельниц воды из рек народных не дадим. Пора бы крикнуть, что конец настал, терпение теперь нетерпеливо. Стихи должны фанфарами трубить, пора сорвать наряды маскарада с мундиров черных, взятых напрокат, чтобы навек была неколебима твердыня нашей правды трудовой.«Отрадно видеть юности цветенье…»
Отрадно видеть юности цветенье глазам, видавшим кровь и грязь. Цветут цветы – живое воплощенье мечты, которая сбылась. Отрадно слышать переливы смеха умом, оглохшим от пальбы. Ведь этот новый, звонкий смех – как эхо моей свершившейся судьбы. Отрадно ощутить чужую нежность руке, сжимавшей злой металл. Ведь юность этой ласки – неизбежность, в ней все сбылось, о чем мечтал.Февраль, 1948
Немыслимо остановить, немыслимо прервать, немыслимо податься вспять — все смоет паводок кровавый, чтобы страданье искупить, мы платим жизнями и славой. Тот, кто не понял, – прочь с пути, нам не мешай вперед идти, кто против нас – тот должен пасть. В нас – жизни вечное теченье и правда самоотреченья, мы сами – будущего часть.Ян Роб Поничан (род. 1902 г.)
Свет
Ах, свет! Где был ты, пропадая? Смотрю вокруг – не угадаю… Что изменилось в мире этом? Вновь улица лучится светом. Огни вечерние, откуда Явились вы опять, как чудо? Все так знакомо мне… Но краски Как в новой самой яркой сказке. И вдруг – гармошка. Словно весь я Пронизан светом русской песни. Из тишины возникли звуки — Родился ритм в сердечном стуке.Весенняя рапсодия
А солнце вновь берет бразды весенней власти, и метлами лучей сметает мусор туч, и рубит лед в горах огонь копья на части, и снеговой покров срезает тонкий луч. Оно сорвет с земли все зимние отрепья, омоет лик ее в стремительных ручьях, как девушка, земля, в нагом великолепье укроется, стыдясь, в весенних кружевах. Зеленый шелк травы, атлас весенних листьев украсит, приколов подснежники на грудь, фиалок аромат, прозрачный и душистый, для солнца сотворит, смущенная чуть-чуть. Любовь земли щедра: в садах черешни сладки, и яблони – в цвету, и тяжела сирень, а на лугах – цветы в чудесном беспорядке, влюбленная земля прекрасней каждый день. Известны следствия, неведомы причины, но кончится любовь, и кончится весна, и на лице земли останутся морщины, и станет, охладев, безрадостной она. Все кончится: пройдет и боль плодоношенья, и листья опадут, и отцветут цветы. Приводит время смерть, а вместе с ней забвенье былого торжества, отцветшей красоты. Но отгорит лишь то в пожарище мгновений, что не способно жить и в черный день зимы. Не закален пургой росток любви весенней, он красоту свою у солнца брал взаймы. Что станется с весной, когда зашепчет осень отжившею листвой, слетающей с ветвей? Когда не заблестит в тяжелых тучах просинь и солнце зазнобит в тюрьме ненастных дней. Ах, краткая весна, ты будишь наши чувства, они обречены цвести и умереть, ты радугу зажжешь – погасит осень чудо, посеешь семена, но им не всем созреть. И все-таки весной удары сердца гулки, свет солнечный весной волнует нас опять. Фиалки аромат пьянит нас на прогулке, на перекрестке чувств моложе можно стать. Кто вспомнит засуху в весеннем половодье? Кто вспомнит о тщете в объятиях весны? Не знают о жнивье зеленые угодья. Зима? Она ушла, и мы возрождены. И радость нам не впрок, пока беда не била, не зная холода, не оценить тепло. Как видно, в нас самих живет такая сила, что мы готовы в бой, чтобы повергнуть зло. От нас уйдет весна, чтобы вернуться вскоре. Мы в памяти всегда ее храним зимой. Мы радость чувствуем острее после горя, и солнышко светлей, умытое грозой. Привет тебе, весна, опять затеем игры, а старый, мертвый мир развеет новый свет. Над сердцем зажигай неоновые искры, лишь перемены есть – на свете смерти нет.Поэтика
Песню спеть, чтоб нес ее сквозь вечность времени стремительный поток, — нам сегодняшняя человечность обещает завтрашний росток. Распознать подводные теченья, русло среди них пробить строкой, и мотыгой правды и терпенья вскрыть истоки верности людской. Время обгоняя неизбежно, смелым сердцем, разумом, пером, в наших песнях будущее нежно мы сегодня на руки берем.Глубины – высоты
Тяжело в глубину пробиваться, шаг за шагом, копать и копать, через глину, песок или камень постепенно проникнуть насквозь. Хоть машина справляется ловко с трудным грунтом, а все же сверло тоже может устать и сломаться, и опять – остановка. Как легко улетать высоко: чуть штурвал на себя — и взлетаешь, и паришь над ковром облаков. Но вверху, в небесах, не добудешь соль земли — золотое руно.Из болгарской поэзии (перевод с болгарского)
Светлана Лилова-Тихомирова (р. 1932 г.)
Повседневье
Повседневье, как маленький сад, Что неслышно растет перед домом. Нам привычен его аромат И багрянец и зелень знакомы. Повседневно мы мимо идем И не думаем вовсе о нем. Виновато ли время, что нас Третьи встречи уже не тревожат, Словно первые?.. Будущий час Быть похожим на прошлый не может. Виновато. Ростки красоты Тают в нас, как горящие спички, И стираются счастья черты Непреложною силой привычки. Мы тогда недовольно встаем, Вскинув узел бессонниц на плечи, И, привычку покинув, как дом, В неизвестное гордо идем… И тогда нам становится легче.Зеркала
О, добродетельные зеркала! В них все предельно точно отразится… За тонким слоем гладкого стекла Их преданность холодная таится. Улыбка ваша – вам возвращена, В окне – луна, и в зеркале – луна. Все могут отразить – сады и зданья, И ум, и глупость, и добро, и зло… И только с жарким солнечным сверканьем Не говорит зеркальное стекло. Не верите? Проверка так проста: Возьмитесь солнце зеркалом поймать И убедитесь: холодна, пуста Останется старательная гладь… А дерева шершавая кора — Познав жестокой бури хриплый гул, К светилу обращается с утра Улыбкою потрескавшихся губ. Да, чей-то образ, может быть, хорош, Но, если слепо следовать ему, Легко принять за правду чью-то ложь И разучиться мыслить самому. Пусть ветер правды солон – одолей, Колумбом в море мыслей уплыви, Чтоб для себя и для других людей Открыть миры Дерзанья и Любви. В них солнца свет и бури злобный лай Познай!.. Ты никогда мне не желай, Чтоб та, которая давно ушла, Сейчас во мне отражена была!Признание
На пустынный песчаный берег Меж Акутино и Приморском Темноспинные хлынули волны Из-за пепельного горизонта… И обломанный древний череп У босых моих ног Безмолвен. А в мерцающем свете молний — Волны, вихрь. И перышко чайки Серебрится, как крылья в полете. Так же, в буре раздумий, Гёте То перо, которым творил он, Молодому Пушкину отдал. Может, это перо мерилом Взять и мне по плечу будет вскоре? Может, это признанье? Признанье моря?! Волн стихийных признанье – зыбко. Грянет гром, погремит и стихнет, Как над площадью опустевшей… Ранним утром мятежное море Солнце встретит смущенной улыбкой, Встанет солнце – не постаревшим!Далекие паруса
Закрыта книга. А по сморщенному небу, Минуя серый горизонт рисунка, Несутся крылья Алых парусов. Они мне почему-то возвращают Игру Давно исчезнувшего дня. Вот комнаты, И детский уголок, И спаленки картонные для кукол. Салоны пестро застланы коврами. У нас сегодня праздник — День рожденья. Я щедро всех зову на торжество. Все глиняные женщины на кухне Нарядные передники надели… Несемся мы, И весело надуты Воображеньем нашим паруса. Для тортов сказочных взбиваем кремы, Из помидоров спелых строим башни, Живую рыбу жарим мы. А в печке запекается барашек. Мими мне гордо подает фазанов (Их «муж» ее недавно подстрелил). Фазаны?! Щеголяя друг пред другом, Наперебой мне предлагают куклы: Филе акулы! Мясо черепахи! И в заключенье – птичье молоко! В пустых тарелках сказочные яства Семью цветами радуги горят. Когда же гости, наконец, расселись, Вошла неслышно тетушка Стояна, На торжество с улыбкой посмотрела, На кушанья, поставленные в ряд. Потом нагнулась к нам и осторожно По ложке молока она в тарелки Из круглого кувшина разлила. Она ушла. А радуга погасла. В тарелках наших холодно и серо Морщинится коровье молоко.Вдохновение
В Михайловское – под надзор, в изгнанье… Теперь попробуй, проживи — Без друга, без очарованья, Без утешенья, без любви. Но в летних сумерках для бала Надела кринолин луна, И в старом парке Ганнибала В карету тройка впряжена. Крыльца парадное свеченье, И лиц случайных суета… Но вдруг возникла, как виденье, Нечаянная красота. Рисунок губ все так же нежен… Она, как ласточка, горда… Неужто снова неизбежен Покой дворянского гнезда?! Покой… Она ему покорна. Атласных туфель каблучки Столетних елей топчут корни Не от прозренья и тоски. Дань уважения к поэту И в светской жизни перерыв… А для него опять все это — Страданья сладостный порыв. Она споткнулась возле ели. И сквозь муслин, как снег, бела, Она услышала, что пели В его груди колокола. Она исчезла, как виденье, Едва шепнув: «Благодарю…» Поэт всю ночь искал в смятенье Неповторимую зарю. А ель корнями, как руками, Вцепилась в землю. Но луна Вдруг осветила серый камень, Что туфлей тронула она. Лишенные души предметы Бог вдохновенья оживлял. Горячею рукой поэта Мужчина серый камень взял, И камень сразу стал теплее От этих рук, от их тепла. И, скрипнув, скрыла дверь аллею От долгожданного стола. И подступало вдохновенье, Как счастье, горе или страх… «Я помню чудное мгновенье», — Горело на сухих губах.Недялко Йорданов (р. 1940 г.)
Песенка про мопед
Возвращайся снова в детство… Слушай, как оно зовет! Мини-транспортное средство Мигом в детство отвезет. Слушай! Свищет ветер встречный Из далеких детских лет… Бесприютный и беспечный под тобой летит мопед. Мопед, Мопед! Как узок твой след! Большой оптимист без мелких забот — Ты весело мчишься вперед. Среди шумного движенья, Суете наперекор, В скромном самоутвержденье Прозвучит и твой мотор. Возвращайся снова в детство… Слушай, как оно зовет! Мини-транспортное средство Мигом в детство отвезет. Мопед, Мопед! Остановок нет. Застойный покой ты вызвал на бой, Улыбка и дружба – с тобой!Песни о любви
Песня первая
Когда-то, когда-то, Настолько когда-то, Что нет уже точного дня, В каком-то местечке, Каким-то словечком Любовь задержала меня. Была она правдой, Настолько же правдой, Насколько правдивы всегда И солнца сиянье, И грусть увяданья, И радость земли, и беда. Под сенью осенней каштанов веселье, Последнего света роса… И звезды квадратные, невероятные Рождали для нас небеса. И странно торжественна, жертвенна, женственна Земля расстилалась вокруг. И были мы исстари искренни, истинны, И оба мы думали вслух. Может быть, время нам, Может быть, временно, Может быть, возраст такой — Нет ни местечка, нет ни словечка, Нет и любви никакой. Может быть, где-то, когда-то, в кого-то Мы еще влюбимся вновь?! Болью забытой или заботой Снова нагрянет любовь… Как же естественно, словно наследственно, Трезвость трезвонит нам в дверь! Где ты, торжественность, жертвенность, женственность, Вместе с любовью теперь?! Когда-то, когда-то, Настолько когда-то, Что нет уже точного дня, В каком-то местечке, Каким-то словечком Любовь задержала меня.Песня вторая
В ненастоящий и постылый, Почти невероятный час, Пройдя сквозь жаркий риск пустыни, Любовь нашла случайно нас. Букетик радости неяркой Дала нам из последних сил… Наверное, по контрамарке Ее к нам дьявол пропустил. Мы недоверчивые, злые Идем с непрошенной втроем… Зачем понадобились мы ей? Где сможем приютить ее? Постой! Но щелкнули во мраке Два независимых замка, И гостья переходит в страхе На вой бездомного щенка. И постепенно затихает Печальный голос, канув в ночь… Никто ее не понимает, Никто не хочет ей помочь. Любовь… Куда нести теперь ей Один букетик на двоих?! Мы – каждый за своею дверью — Вдвоем задумались на миг.Песня третья
Рискованна и неразумна, Мгновенна и обречена — Ты можешь ли брести бесшумно, В таинственность облачена? Свободно, смело и открыто Лишь птицы любят в вышине, — Ты – скрытно, жалко и забито Во тьме живешь и тишине. На мушку взята взглядом праздным, Окружена со всех сторон… Тебе, сраженной словом грязным, Готов охотничий загон. А ты, прекрасна и печальна, А ты, смела и весела, Идешь своей дорогой дальней, Как раньше беззаботно шла. Ты лишь самой себе приснишься, Обнимешь лишь себя саму, И бесконечно ты стремишься Неведомо куда, во тьму. Все длится, длится день бездомный В безвестности, чтоб стать затем Воспоминанием бездонным И песенкой, известной всем. Я вижу, как на полустанке Толпа склонилась над тобой И невесомые останки Хоронит в бездне голубой.Из украинской поэзии (перевод с украинского)
Леонид Первомайский (1908–1973)
Из книги «Уроки поэзии»
«Не завидую юности вашей…»
Не завидую юности вашей, Не хочу возвращаться назад. Можно, век свой отвековавши, Не состариться и в шестьдесят. Можно вдруг зачерстветь, не поживши, Чудо вычеркнуть, встретив едва, И ромашки топтать сапожищем — Новый цвет, а все та же трава. Можно сердцем до возраста зрелого Не утратить доверия смелого, Можно ждать необычной весны До обыденной седины. Не завидую счастью чужому — Я свое на земле испытал, Слушал грохот такого я грома И на крыльях таких я летал, Что, как мне и любому другому, Путь мой не был ни узок, ни мал. То мне путь освещали молнии, То сжигали все до строки… До минут эти годы помню я. Как над зыбкой, стою в безмолвии Над истоком новой реки. Бьют ключи. Закипает и пенится Под ледком голубая вода. Что должно измениться – изменится, С новым утром душа моя встретится, Словно смолоду, молода. Словно смолоду, жизнь моя спорится, Не утрачено наше родство. Не побеги мы общей поросли — Ветви дерева одного.«Возвращайтесь ко мне из глубин синевы…»
Возвращайтесь ко мне из глубин синевы, Почтари сизокрылые! Жду вас давно я. Если б мог задержать вас на миг, если б вы Вот на этой бумаге остались со мною. Не трудили б напрасно вы крыл в высоте, На рассвете бы камнем не падали вниз вы… Отчеканилось солнце, как знак на щите, Черный сумрак теряет последние искры. Посылаю я сам вас в опасный полет, И тоска в этот миг мое сердце не гложет. Колебания – в сторону, сон подождет, — Пульс полета нигде миновать нас не может. Белый лист, словно небо, проплыл и исчез. Где найти вам приют? Как вернуться домой вам? На бумаге гроза, словно в бездне небес, И ломаются строки, как векторы молний.«Стихи начинаются не со звучанья…»
Стихи начинаются не со звучанья, Хотя и не могут они не звучать, Стихи начинаются только с молчанья, Когда ты не можешь больше молчать. Не с буквы заглавной, а с главной боли Стихи начинаются. Эту боль не измерить. Тогда ты поверишь им поневоле, И только тогда им можно поверить.«У поэзии сердца законы жестоки…»
У поэзии сердца законы жестоки: Целый век для нее не жалеешь горба, Жизнь свою для нее разлагаешь на строки. Госпожа – не батрачка она, не раба. Для нее ты ныряешь в глубины. И снова На поверхность тебя поднимает струя, Только если добудешь единое слово, Чтоб сияла в нем правда ее и твоя. Осторожными будьте, коснувшись сердечных Слов, которым не нужно блестящих прикрас, Неожиданных в нежности, в горечи вечных, Исцеляющих, испепеляющих нас.В Бабьем яру 1941 год
Стань около меня, стань, сын мой, Ладонью я глаза твои прикрою, Чтобы своей ты не увидел смерти, А только в пальцах кровь мою на солнце, Ту кровь, что и твоею стала кровью, И что на грудь земли сейчас прольется…Из латышской поэзии (перевод с латышского)
Цецилия Динере (р. 1919 г.)
Улыбки
Столько, сколько живу на свете, Я собираю улыбки. Коллекция моя велика. Как безмятежно улыбаются дети, Улыбка старика И мудра и горька. Улыбки друзей И улыбки, в толпе оброненные где-то, В коллекции хранятся моей, Как у нумизмата монеты. Я храню их, я над ними дрожу, Но неискренних – не держу, Не держу ни лживых, ни льстивых Улыбок — Монет фальшивых. А бывают улыбки от слез солоны. Я храню их отдельно. Им нету цены. Я богата. Я очень богата. Так ценен мой клад, Что могу я Десять бессонниц подряд Перебирать их, Складывать, Словно к монете монету, Радоваться Их золотому теплу и свету. Но мне все еще мало. И вечно Все мало мне будет. Улыбайтесь мне, люди! Улыбайтесь друг другу, люди!Дерзкие мальчишки
Слишком мы любим Дерзких мальчишек, Идущих без шапки В трескучий мороз, Морозу назло или нам… Я не знаю. Слишком мы любим Дерзких мальчишек, Слишком мы любим их, Драчунов… Как воспитать в них степенность, Когда В каждой груди — Изверженье вулкана? Слишком мы любим Дерзких мальчишек, Даже когда они громко бранят То, что достигнуто нами. А позже Тихо грустят, Что всего мы достигли, Их не дождавшись… Слишком мы любим Дерзких мальчишек, В вечных заботах о них Мы седеем, Ибо не можем Им дать на дорогу Счастье, Как завтрак давали им в школу, Как мы тоскуем, Когда уходят, Уходят, Ни разу не оглянувшись. Так уходили когда-то и мы. Слишком мы любим Дерзких мальчишек. Все им прощаем, Прощаем, прощаем. И забываем о том, Что должны нам Многое Наши мальчишки простить. Слишком мы любим Дерзких мальчишек. Слишком… А может, Мы мало их любим?!Дважды два
Она поднимает на меня глаза, Она распахивает надо мной два неба. Она – это мое Второе я. А по тетрадке, распластанной на низком столике, Разбегаются первые цифры И выстраиваются в первые загадки — Загадки арифметики. Она поднимает на меня глаза И спрашивает: – Дважды два – это всегда четыре? — Я не знаю ответа. Я не знаю отгадки. Дважды два – это всегда четыре Только в первых загадках арифметики. А у жизни – много загадок. А у жизни – много разных ответов: Иногда дважды два равно бесконечности, Иногда дважды два Кончается безнадежно круглым нулем. Она смотрит на меня и ждет. Она смотрит на меня напряженно. И ее смешные тоненькие косички, Словно острые ветки осеннего куста, Подняты вверх напряжением. Я не должна говорить правду. Я не должна, И я вру. Я говорю не мигая: – Да, всегда! В двух небесах растворились два облачка — Она мне верит. Она – это мое Второе я. Она усердно выводит цифры, Первые, неуклюжие цифры. И пишет первую ложь И первую правду: «Дважды два – четыре».«Я была мертвой…»
Я была мертвой, Но с землей не срослась. Я двигалась, двигалась И скользила незримо. Я была мертвой, Но по улице шла, И мчались по мне Автобусы и трамваи. Но не было слышно Пронзительного крика «Скорой помощи», Но не было Стоглазой толпы зевак. Я вошла в дом, И со мной говорила соседка, И глаза ее Не округлялись от ужаса — Она не знала, что я мертва. А я улыбалась, Я притворялась живой. И никто не знал, что я мертва. Это знал только ты, Мой единственный, Самый лучший на свете, Ты, Которого я искала всю жизнь. Но, может быть, Ты просто забыл меня? Мертвых забывают быстро.«Не ищите могил забытых…»
Не ищите могил забытых — Мертвым не нужно забот, Нежных слов на мраморных плитах, Подпирающих небосвод. Ищите забытых людей, Они спрятаны на виду — В магазинах, среди площадей, В толпе, в городском саду. Каждый из них горд, Им не нужно памятных плит, Но обыщите город, Найдите тех, кто забыт. Ищите, ищите, ищите До конца своих дней, Улыбкой их воскресите, Чтоб не стало забытых людей! Понапрасну не тратьте сил — Не ищите забытых могил.«Я иду по фойе, как по вечности…»
Я иду по фойе, как по вечности. Огни погашены. Спектакль окончен. Актеры освистаны. Все овации достались статистам. Я иду по фойе театра, Где погашены все огни. Но должна быть где-то дверь С пятью красными огоньками — «Выход». Я иду долгие годы, Я ищу в темноте дверь С надписью «Выход». А за ней — Ворвется мне в легкие Зеленая свежесть парков, Я пройду под дождем света, Света уличных фонарей, Света звезд. Будут и звезды. Я могла бы отсюда выбраться На метле, сквозь дымоход, Потому что я ведьма, Потому что мне ведомо То, что неведомо многим, Потому что я вижу То, что не видят другие, Потому что мне больно То, что не больно другим. Но звезды для ведьмы — Это только черные дыры В еще более черном небе. Я иду по фойе, как по вечности. Я нашла эту дверь. Я прочла эти красные буквы: «Выход». И вышла. Ледяная тьма обступила меня. Больше нет и не будет двери С превосходной надписью — «Выход».Монта Крома (р. 1919 г.)
«Есть такие автобусы…»
Есть такие автобусы, У которых широкие, синие окна, Будто солнечный день Постоянно стоит на дворе. А с подножки сойдешь — Под ногами осенняя слякоть. Я – автобус. Войди в него. Окна мои темно-сини, В них бушует гроза, В них бушует такая гроза, Что в простуженном воздухе Явственно пахнет озоном. Но выходишь, И я в твоих круглых глазах Вижу недоумение, Горечь: Обычное серое небо. Ты вернулся в автобус Затем, Чтоб меня упрекнуть. Но во все мои окна Я желтый восход застеклила. Желтый, словно пустыня. Горячий, пустой, как пустыня. Это Кожей почувствуй, Ему подымаясь навстречу. Но выходишь. И гнев тебе комкает губы: Всюду серое небо. Обычное серое небо. Нет, меня ты не бьешь. Но пощечину я ощущаю, На плечах, на спине Кулаков расходившихся тяжесть… Я сгибаюсь, Пытаясь себя защитить. Так меня бы твой предок, Твой честный, обиженный предок Избивал бы Пятнадцать столетий назад. Нет, меня ты не бьешь. Ты ни в чем меня Не упрекаешь. Но спешишь отвернуться, Как будто плохой человек Слишком близко стоит. …Но в широких, изменчивых окнах Всех цветов сумасшествие, Счастье нежданных контрастов, Будто мир на дворе Необычно тревожен и сложен. Мир, Который понравиться может не всем. Смотришь. Медленно так расправляются плечи. Плечи не понимают Пока: Это – сила Иль это – бессилье, Многоцветные окна мои? Расправляются плечи, Чтобы тяжесть нести, Или с чем-то бороться, Или окна разбить, Или Это обычное серое небо?! Это все не игра. Это жизнь. В этой жизни мы двое. Неделимы.Осенний город
Я сегодня рисую город. Я рисую осенний город… А получается только контур Контур моего человека… Я хочу зачеркнуть рисунок — Он все тот же: Осенний город. Он исчеркан Ветвями черными. А весною мне было легче, А весною я рисовала Одно плечо, На которое я могла опереться. Летом город полон движеньем. Трудно нарисовать движенье. Рисовала я отпечаток, Рисовала я след ладони На скамейке, где сидел заочник. Осень. Больше я не рисую — Я иду сквозь осенний город, Я иду сквозь любимый контур, Сквозь него троллейбусами еду. Целый день Я все иду и еду: Я ищу в исчерченном ветвями Контуре Живого человека, Лишь одно весеннее плечо, На которое смогу я опереться…Дикарка
Научи меня, дикарка, Научи меня, дикарка, Самая дикая на земле! Научи меня, дикарка, Научи меня, дикарка, — Я люблю. Я надела ожерелья, Я пятнадцать ожерелий надеваю — Я люблю. Я продела в уши серьги, Я продела в уши серьги, Сто серег в левое, Сто серег в правое, — Я люблю. Сделала татуировку, Синюю татуировку Во весь лоб. Я хочу быть самой яркой, Я хочу быть самой странной — Я люблю. Научи меня, дикарка, Научи меня, дикарка, Самая дикая на земле! Научи меня, дикарка, Научи меня, дикарка, — Я люблю.Из казахской поэзии (перевод с казахского)
Сакен Сейфуллин (1894–1939)
Разлученные лебеди Поэма
Есть сказочные уголки, В лесной одетые убор. Там, в глубине моей Арки, Есть озеро средь синих гор. И так светла его вода, Что камешки видны на дне, А берега его всегда В туманной легкой пелене. И нежных водорослей сеть — Узором в глубине волны… Стоять бы здесь и все смотреть На озеро со стороны. Безмолвьем дышат берега, Здесь нет огней и нет людей, Сквозь заросли лишь тростника Белеют шеи лебедей. Свободы баловни, они Белее, чем вершины гор; Всегда вдвоем, всегда одни, — Не отвести от них мне взор. С утра до самой темноты Здесь не смолкает птичий гам… Они величье красоты Дают безмолвным берегам. И, если я в степи бывал Без провожатых, без друзей, Я шел всегда к безмолвью скал, К призывным песням лебедей. На мягком лежа берегу, Я утопал в траве по грудь; Здесь не бывать я не могу — Прохлады светлой не вдохнуть, Вдали от городов пожить Немудрой жизнью степняка, — Меня всегда могла манить И зачаровывать Арка. Раз я у озера бродил И вслушивался в каждый звук… И будто заново открыл Его звучанья тайну вдруг. Увидев в озере себя, Ныряли птицы в глубь волны, Рачишку в клюве теребя, Являлись вдруг из глубины. Вот пигалица там, вдали, Привычно хнычет в камышах, Касаясь крыльями земли И кувыркаясь в облаках. Клекочет чайка, червяка Хватая цепко, как палач. И слышится издалека То хохот, то как будто плач. Гогочет гулко гусь-урод, В какой-то кается вине, И юрких уток хоровод Скользит по мраморной волне. Но этот гомон, плач и крик Не дорог памяти моей, И сердце хочет хоть на миг Услышать песни лебедей. Я ждал. Я слушал. Я смотрел. Но глазу жадному видны Лишь зелень камышовых стрел Да рябь нетронутой волны. Но вдруг совсем вблизи возник Несмелый лепет, песни зов. И вот плывет один из них — Мой белый лебедь. Он готов Лететь и петь, любить и ждать, Принять и счастье и позор. Он ждет любимую опять, Над гладью крылья распростер. Но слышится издалека Та песня, что всего сильней, И лебедь, вздрогнувши слегка, Уже летит, стремится к ней, Я знал, что каждый этот звук, На землю чуткую упав, Цветком на ней родится вдруг, Не только слышным – зримым став. Пускай разлука коротка, Всегда желанна радость встреч… Крыло, как будто бы рука, Касается любимых плеч. Вот рядом лебеди плывут Сквозь птичий гам, и стон, и визг И вдруг волну крылом порвут На сотни бирюзовых брызг. Лишь в зеркало воды взглянут — Вода становится светла; Одним движением смахнут Все брызги с белого крыла, И тонких водорослей сеть Они своим движеньем рвут, Не уставая плыть и петь; Они вдвоем поют, плывут, Вдыхают нежный аромат, Порвав невиданный узор, Вдоль мягких берегов скользят В прозрачный утренний простор. Камыш касается лица, Но я не двигаюсь, стою. Они ведь ищут без конца, Как выразить любовь свою. …Но почему же, почему В тиши такой, в любви такой Она глядит в глаза ему С необъяснимою тоской? Что так негаданно могло Ее глаза подернуть мглой, Что звонкий звук заволокло Глухого горя пеленой? Вот лебедь крылья распростер И, набирая высоту, Покинул нежных волн простор, Летит и плачет на лету. Печальны взмахи крыльев-рук, А крик подруги – словно стон… Еще один прощальный круг — И вот вдали растаял он. Всегда разлука тяжела И долгой кажется всегда; Хозяйкой в сердце к ним вошла Неотвратимая беда. Вдруг вспыхнул шорох и погас, Прошелестел и замер он, И берег для ушей и глаз Безмолвьем вновь заворожен. Но лебедю неведом страх, Он головы не повернул На этот шорох в камышах, Который мелких птиц вспугнул. Но миг – и в камышах сверкнул Ружья жестокий холодок, Огонь цветы перечеркнул, Расцвел в сиреневый дымок. И выстрел, словно гром в грозу, Над водной гладью прозвучал И первобытную красу Развеял, подавил и смял. И, дрогнув, ахнула волна, И ахнул, пораженный в грудь, Несчастный лебедь. Тишина. Не в силах он крылом взмахнуть. Был браконьер невозмутим, Укрытый в камышовой мгле, И лебедь всем теплом своим В последний раз прильнул к земле. Он вытянулся, будто спит… Убийца, встав из камыша, Прикончить лебедя спешит Холодным лезвием ножа. Насквозь прошила пуля грудь, Оставив теплый, вязкий след, А лебедь тянется взглянуть В последний раз на яркий свет. А белогривые валы Все бились у прибрежных скал, И вал, разбившись у скалы, Грозя, убийцу проклинал. И вот, прошлепав по воде, Вновь браконьер ножом сверкнул, И вот, глухой к чужой беде, Он крылья лебедю свернул. Убийца ловок, точен, скор, Он зубы скалит, как шакал. К любви подкравшийся, как вор, Убив – он гордо зашагал. Но вдруг, покинув вышину, Поспешно крыльями шурша, Друг грудью врезался в волну Вблизи густого камыша. Почуял, что беда стряслась, — И жизнь ему недорога, Когда любовь столкнула в грязь Рука коварного врага. И лебедь не лететь не мог: Он облака крылом обвил И рухнул вдруг у самых ног Убийцы счастья и любви. «Убей меня, я смерть приму, Мне больше не сужден полет…» И, близко подойдя к нему, Проклятье громко лебедь шлет, Рыдая, бьет крылом волну, Убийце преграждает путь, — Не рвется больше в вышину, А дулу подставляет грудь. Но браконьер, убив одну, Другого не посмел убить, Хотел смягчить свою вину, Любовь оставив в мире жить. Вот крылья снова воздух мнут, Но, места не найдя и там, Вдруг опускаются, плывут За браконьером по пятам, Трепещут по траве густой И вдруг застонут, прозвеня: «О, я молю тебя, постой, Убей меня, убей меня!» Вокруг убийцы все кружась, Летел, бежал, не отставал, То вдруг смотрел, остановясь, Просить врага не уставал. А браконьер от пота взмок, Шел без оглядки все вперед, Но снять ружье, взвести курок Убийца силы не найдет. И лебедь снова ввысь взлетал, Как стон – могучих крыльев взмах, И вновь к земле он припадал С тоской предсмертною в глазах. К земле прижав крутую грудь, Он крыльями траву хлестал, И, чтобы воздуха глотнуть, Он снова высоко взлетал. Обходит смерть таких, как ты, Глядит на них со стороны, Когда и солнце, и цветы, И боль, и счастье не нужны. Жестоким горем потрясен, Живой, трепещущий слегка, Вновь напрягает крылья он И вновь летит под облака. «Не расставаться никогда, — Клекочет клятвенный обет, — Пусть не почувствует вода Разлуки одинокий след». Все выше, выше крыльев свист, Все дальше, дальше зелень трав… И, крылья сжав, он прянул вниз, Со свистом воздух разорвав. Неудержимый, смят в комок, Стук сердца крыльями обвив, Разбился он у самых ног Убийцы счастья и любви. И вот все замерло кругом, Кровь розовеет на груди, В последний раз взмахнув крылом, Любимой он шепнул: «Прости…» Упал он наземь, весь в крови, Он оживет в легендах вновь. Нежнее в мире нет любви, Чем лебединая любовь.Из азербайджанской поэзии (перевод с азербайджанского)
Зейнал Халил (1914–1973)
Сердце
1
Если где-то погас очаг, Как огарок свечи, зачах, Значит, сердце мое сгорело. Если кто-то попал в беду, Я в нее, как в огонь, войду, Чтобы сердце мое сгорело. Для врага – острие клинка, Щит надежный для земляка, Если бой идет, – мое сердце. Сотни битв вспоминая вновь, Разжигает живую кровь Против кровопролитья сердце. Сколько было жертв у свинца! Сироте заменило отца Или брата сестре – мое сердце. Тяжесть века несло на плечах, Пламя века алело в очах… Изменялось от времени сердце. Ни на отдыхе, ни на войне, Хоть мгновение, наедине Не осталось со мной мое сердце. В мире не было строже судьи, И от стрел справедливой судьбы Не прикрыло меня мое сердце.2
В эту ночь, накануне битвы, Тишиной окопы объяты. Если сердце еще не убито, О победе гремит набатом. Я достал махорки щепотку, Закурил свою самокрутку И, приклад положив под щеку, Задремал всего на минутку. Показаться бы мог соседу Огонек угольком дубовым, А про отсвет сердечного света Я не смог объяснить бы словом. Не махорка в бумаге тлела И дымком надо мной клубилась, — Это сердце мое горело, В клетке ребер птицею билось. Пламя сразу же разгорелось. А как только рассвет забрезжил, Мне оно сообщило смелость И взошло пожаром надежды. Сколько братьев – живых и павших — Было армией, взводом – нами… И на головы ворогов наших Мы обрушили это пламя. Может быть, врагу показалось, Что, пройдя этим смертным пеклом, Я дотла сгорел, и распалось Мое сердце холодным пеплом. Нет, рожденный в пламени боя, Я живу легендой нетленной И доволен своей судьбою, Осветившею тьму Вселенной!Не нужно мне…
Рассветный соловей в нарядной клетке Не нужен мне. Цветок в хрустальной вазе, не на ветке, Не нужен мне. Прикованный к асфальту голубь кроткий Не нужен мне. И царь зверей за цирковой решеткой Не нужен мне. Десятки рыб в аквариуме тесном И дождь, идущий в фильме интересном, Мне не нужны. Изменчивые люди, что сумели Друзьями слыть, врагами быть на деле, — Мне не нужны. И почести, которые добыты Из ненависти, лицемерно скрытой, Мне не нужны. Богатства мира, ставшие твоими, Но по грошу добытые другими, Мне не нужны. Слова льстецами сотворенной славы, Даримые налево и направо, Мне не нужны. Все чуждое родной земле и небу, Все, что неправедно досталось мне бы, Не нужно мне! Все то, что у врагов моих в цене, — Не нужно мне.«Если истина остра, как кинжал…»
Если истина остра, как кинжал, Ты, как заяц, перед ней не дрожи. Я поблажек в трудный век избежал, Не унизился до лести и лжи. Кто-то другом в твое сердце стучит, Хлеб радушья ты ему поднесешь, А потом между лопаток торчит В спину всаженный предательский нож. Сколько мир наш натерпелся от лжи, От предательства врагов и друзей! Только истине бессмертной служи, Только истина – для счастья людей. Больше жизни ты ее береги! Оставайся человеком – не лги.«Явившись в этот мир…»
Явившись в этот мир, Тебя узнал я сразу, О царственная серая чинара. Поэтом став, тебе Не изменил ни разу, О царственная серая чинара. И в солнечные дни, И в ночи новолунья Ты даришь красоту, И нет ценнее дара. Ты свет моих очей, Ты добрая колдунья, О царственная серая чинара. Я память ворошу… Приходят мне на помощь Горячность юности И мудрость горцев старых, Вазех и Низами… Ты их, наверно, помнишь, О царственная серая чинара. Ты верный друг Гянджи, Ты гордость дедов наших, О царственная серая чинара. Пока я жив, расти И становись все краше, О царственная серая чинара. Когда умру, Ты над моей могилой Лист красный оброни… Ты путь мой начинала! Так осени меня В конце своею силой, О царственная серая чинара.«Мы – гости в этом мире…»
Мы – гости в этом мире… Эй, скажи-ка: Ты думал ли, зачем нам разум дан? Секунды нет во времени великом Задуматься, Когда ты обуян То завистью, то ненавистью дикой, То попеченьем, как набить карман, Внести раздор исподтишка, без крика, Обменивая злобу на обман. Мы – гости в этом мире… Неужели Не сможем, уходя в холодный мрак, Спросить себя: Что сделать не сумели? Какой оставили мы след иль знак, К могиле шествуя от колыбели? Но не хватает времени никак Задуматься об этом важном деле. Ты смерти не захочешь, но умрешь… И слышу я уже слова у гроба (Коль будет гроб), В словах не будет злобы, А явится на похороны ложь… Могилу (если выроют) чащоба Так скроет от людей, Что не найдешь. И не оставит в памяти вовек Твою судьбу хороший человек.Костер
– Поэт! Поседела твоя голова. Наверно, зима замела ее снегом. Друзей ты не радуешь искренним смехом, И слишком печальными стали слова… Скажи, почему ты печален, поэт? – Я тяжесть несу на плечах неустанно, А тяжесть огромная – для каравана, В пустыню цепочкой несущего след. Качается наша Земля на оси, Над ней набухает смертельная бомба… И если тебе от сочувствия больно, Ты груз этот вместе со мною неси. Ведь если однажды духовный урод Погасит надежды во вспышке мгновенной, С Землею исчезнут все звезды Вселенной, Свой путь оборвет человеческий род. – Да, ноша твоя чересчур тяжела… Поникла спина, и лицо пожелтело, Как будто внезапно зима налетела И злобной метелью твой путь замела. – Давно уже очи не ведают сна, Давно передышки рассудок не знает. Земля от сыновней любви расцветает, Лишь ради людей существует она. В груди у меня негасимый костер, За целую жизнь его сила окрепла. Моя седина – только горсточка пепла, Но пламя пылает в груди до сих пор. И если для смерти настанет черед, Не сможет и смерть погасить это пламя… От искры одной разгорится кострами И каждую душу живую зажжет. Со смертью посмертный продолжу я спор. И будут сражаться то бурно, то немо Рожденные в сердце стихи и поэмы — Простой, человечный и вечный костер!«Я когда-то был чинаром…»
Я когда-то был чинаром — Украшеньем этих мест. Был я выше всех окрест. Как палаткой, был ветвями С четырех сторон прикрыт, Тенью и полутенями Повсеместно знаменит. Прожил жизнь свою недаром. Я когда-то был чинаром… Зелень моего листа, Высота и чистота, Мужество и красота — Похвалой из уст в уста Славу мне несли недаром. Был всегда богат друзьями, А врагам сулил беду. Я не зря всегда, как знамя, Возвышался на виду. Я когда-то был чинаром. Людям, молодым и старым, Горным ланям и отарам, А порой влюбленным парам Отдавал я в жаркий день, Словно хлеб последний, тень. В черный день лучи иссякли, Тучей опустилась мгла, Туча молнией, как саблей, Ствол могучий рассекла. Одолеть меня стремилась, Чтоб не думал о добре, И живая кровь струилась По израненной коре. Даже птицам прикасаться Страшно к веткам – все болит. Вместо прежнего красавца Встал безрукий инвалид. Я когда-то был чинаром. Покачнулся, но не пал, Силу из земли черпал, Не надломленный ударом. Неразрывна связь корней С мощью почвы материнской, Не сломить врагу моей Гордой силы исполинской, Не сломать моих ветвей! Исчезай, туман кровавый, Возрождайся, жизнь, со славой. Было трудно, было плохо, Но из праха я восстал, И гордится мной эпоха, Мне Земля как пьедестал. Я когда-то был чинаром, Быть вовек чинаром мне, Прожил жизнь свою недаром, Значит, прожил жизнь вдвойне.Из поэзии народов России
Эмине (19-й век) (перевод с чувашского)
«Мост подпирают дубовые сваи…»
Мост подпирают дубовые сваи — Не задрожит, не застонет постыдно, Конь его спину не сломит, как видно. Тоненький стан мой, душа молодая — Не задрожит, не застонет постыдно, Как ни печалюсь я – людям не видно. Мост наш родной не сгниет, не погнется, Девичье сердце судьбе не сдается. * * * В просторах степей всех цветов мне не счесть. Но мак среди них – словно знак доброты. Так добрых людей мне в деревне не счесть, Но только в родных – торжество доброты. Пока у нас пение иволги есть, Вовек к соловью не пойдем на поклон, Покуда родные в селении есть, К чужому жилью не пойдем на поклон. Покуда родник нашей иволги есть, Пусть нет соловьиной реки – не беда. Пока у родных наших головы есть, Пусть мы искони бедняки – не беда.«Девушки, готовясь к сенокосу…»
Девушки, готовясь к сенокосу, Белые сапуны надевают. Сладкие в любви нашла я слезы, А в подругах зависть назревает. Рос в моем саду цветочек алый, Цвет его дождем внезапно смыло, Я цвела любовью небывалой, Разлучил нас враг внезапно с милым. На руке из серебра колечко, Иволга добра – хранит колечко. Но враги с любимым разлучили — Разломили надвое колечко.«С юга плывет облаков синева…»
С юга плывет облаков синева… Если уж дождь, пусть он будет дневным. Разум незрел, молода голова… Если уж горе, пусть нам – молодым. Тот, кто решился леса поджигать, Разве не знал, что краса сожжена? Разве не знали отец наш и мать, Что нас родили не в те времена? С юга плывет облаков синева, Словно платочка квадрат в вышине, Юные годы заметишь едва, Словно они промелькнули во сне.«Ветер меняется, кружится, кружится…»
Ветер меняется, кружится, кружится, Клонит орешник в осенние лужицы. Если не думаешь – сердце не мается, Мысли закружатся – сердцу недужится. Вожжи из кожи двенадцатихвостые, Мастеру вызмеить было непросто их. Тоненький стан мой былинкой качается, Ворог твердит, что напрасно упорствую. Тучи несутся, несутся так суетно… Что за беду в своем чреве несут они? Думы мои, молодые, короткие, Отданы будущим бедам на суд они. Шесть аргамаков, а конь мой – единственный. Как же дотащит он груз мой таинственный? Ворогов семеро, я в одиночестве. Как же дожить до добра и до истины?«Месяц поднялся высоко-высоко…»
Месяц поднялся высоко-высоко… Где же начнет он в пути уставать? Милый прислал мне салам издалека… Сможет ли снова салам он прислать? Вновь над рекою Кэтне голубою Мне б собирать многоцветье лугов, Видеть того, кто подарен судьбою, Слышать дыханье прошептанных слов. Мне над рекою Кэтне голубою Не собирать многоцветье лугов, Милый подарен, но отнят судьбою, Стынет дыханье прошептанных слов. Канул он в бездну сибирских снегов По мановенью заклятых врагов.«В небе летает луна, говорят…»
В небе летает луна, говорят, Видно, как светит она, говорят, Сердцу разлука страшна, говорят, Так же, как ворог, сильна, говорят. Красный цветочек в саду моем рос, Долго его не видала уже. Милого вражеский ветер унес, Высохло сердце и пусто в душе. Красный цветочек в саду моем рос, Злая судьба мой цветок сорвала. Милого вражеский ветер унес, Девичье сердце сгорело дотла. Пусть не засохнет мой красный цветок, Милый пусть будет здоров и высок, Головы вражьи пусть срубит клинок, Рухнет над царством гнилым потолок.«Ветер вновь подул…»
Ветер вновь подул, Покачнул сосну, В буйном сердце гул Ищет тишину. Вновь в родном краю, В общий круг маня, Песню петь мою Будут без меня. Мне лежать в земле На червивом дне… Девушки в селе Вспомнят обо мне. Милый! Голос мой Песню не найдет. Эмине покой От невзгод найдет. Но не сможет враг Надругаться вдруг. Верность я во мрак Унесу, мой друг. А когда из льда Выбьются ручьи, Вспомните тогда Помыслы мои.«У отца в саду смородина, смородина…»
У отца в саду смородина, смородина, Сквозь смородину – тропиночка росная, Напрямик – тропиночка росная. И, когда была тропиночка пройдена, Нас ударила смородина, как розгами, И зажили, горемычные, розно мы. Сад у матери из щавеля, из щавеля, В низком щавеле тропиночка росная, Напрямик – тропиночка росная, На тропиночке следы мы оставили. Нас ударил этот щавель, как розгами, Мы остались с той поры низкорослыми. Брат взрастил в саду черемуху, черемуху, Сквозь черемуху – тропиночка росная, Напрямик – тропиночка росная. Нас ударила черемуха без промаха, Нас ударила черемуха, как розгами, Стали дни наши туманными и грозными. У снохи в саду рябинушка, рябинушка, Сквозь рябинушку – тропиночка росная, Напрямик – тропиночка росная. До конца мы одолели тропиночку, Нас ударила рябина, как розгами, И неведомы ни счастье, ни слезы нам.Расул Гамзатов (р. 1923 г.) (перевод с аварского)
«Река мала…»
Река мала… Ах, как она подходит Для маленького чешского села! И на Койсу далекую походит, Как будто с гор она разбег брала. Я замер. Стоит только оглядеться — И сотни совпадений я найду. Уйду по этой самой тропке в детство, За плугом, словно сеятель, пройду. Трепещут надо мной густые кроны, Над ними проплывают облака, Лениво дремлют бурые коровы На солнечной опушке дубняка. И зерна в землю опускает пахарь, И все тучнеют облаков стада… Здесь пилят лес, как и у нас, в Хунзахе, Арба скрипит, как и у нас, в Цада. На Татрах снег лежит. Снега такие Я видел издавна в родных горах. Здесь люди и обычаи другие, Но думаю меж них – о земляках.«Сегодня снова снежный день…»
Сегодня снова снежный день, Сегодня солнце снова. Ты потеплей платок надень — Бродить мы будем целый день Вдвоем в лесу сосновом. Мы будем слушать тишину, Не тронутую ветром. С тропинки узкой я сверну, Чтоб не нарушить тишину, Не потревожить ветки. Покрыла косы белизна, Ложится снег на плечи, Растаять все-таки должна В тепле домашнем белизна У добродушной печки. Я растоплю ладонью снег — Пускай чернеют косы, Пускай улыбку сменит смех, И только этот талый снег Напоминает слезы. Сегодня всюду белизна И лес в сугробах тонет… Она, я знаю, не прочна. Но пусть другая белизна Твоих волос не тронет.«В тебя я не влюблен…»
В тебя я не влюблен. Я опоздал Лишь на одну весну… И не суметь мне Пройти к тебе всего один квартал. Я просто рад, что ты живешь на свете. Я просто рад. Но и печален я Из-за того, что светлый сон не сбылся, Что ты живешь на свете без меня, Что, увидав тебя, я не влюбился. Я не прошу ни слов твоих, ни ласк. К чему мне равнодушье иль участье — Ты не в горах родимых родилась, И это – наше общее несчастье. Ты родилась от гор моих вдали… А может, это к счастью? Я бы не был Спокоен так среди своей земли И под своим, под дагестанским, небом. Ты родилась в Москве. Быть может, там Я был бы взгляду твоему покорен, Но жизнь дала иную встречу нам, Столкнув, как волны в синем Черном море. О, это море! Я порой хвалю, Порой браню его… И я не скрою: Мне кажется порой, что я люблю, Что не люблю, мне кажется порою. Я знаю, простота твоя горда, А гордость так проста, что невозможно Тебя обидеть ложью никогда, Как невозможно и возвысить ложью. И все-таки в тебя я не влюблен. Соединив, нас разделяет море, Уже неделю длится этот сон. Уже неделю я с любимой в ссоре.Песня
Уста мои о солнце петь устали, Но о тебе без устали поют. Часы мои в день нашей встречи встали, Храня любовь от старящих минут. Мне надоест рассматривать планету, Но на тебя смотреть не надоест. В твоих глазах всегда так много света, — Закроешь их – и темнота окрест. Июльской ночью в маленьком ауле Кумуз мой плакал под твоим окном… Я в путь ушел – меня с пути вернули Две горестных слезы в мой отчий дом. Тебя я прятал бережно и нежно В певучую, зовущую строку — Чернила на бумаге, – как подснежник На солнечном, проснувшемся снегу. Где б ни был я – вблизи или в разлуке, — Моя слеза, как песня, нелегка: Так плачут горы, превращая в звуки Ручьями закипевшие снега. Пусть снег пойдет, пусть долгий дождь прольется, Пусть снова тучи небо заметут, Уста устанут звать на землю солнце, Одну тебя без устали зовут.«Над нежностью разлука не вольна…»
Над нежностью разлука не вольна. И вижу я наперекор разлуке, Как светлая каспийская волна Плывет в твои распахнутые руки. И слышу я потоков горных гул В Италии. Мне сердце проторяет Тропинку в Дагестан, в родной аул, И песни гор, как эхо, повторяет. Я наше море вижу. Вижу – ты Полощешь ноги в медленном прибое. Я вижу одинокие следы, Что на песке оставлены тобою. И брызги волн как слезы на щеках, И солнце как браслеты на запястьях. Вдали от наших гор, в чужих краях Тебя я рядом чувствую как счастье. Вот ты на лодке по волнам плывешь… Как шорох крыльев весел взмах короткий… Вернись! Ты видишь тучи? Грянет дождь, И ты простынешь в беззащитной лодке. Ты думаешь, я на краю земли И путь обратный с каждым днем длиннее. Но вижу все в моей чужой дали: Я быть с тобой в разлуке не умею.«Глазами маленьких озер…»
Глазами маленьких озер Пусть край чужой в меня вглядится, Пусть голубой струится взор Сквозь камышовые ресницы. Вон окна поздние зажглись Под потускневшей черепицей, За окнами – чужая жизнь, Чужой язык, чужие лица. И людям от своих забот Здесь так по-своему не спится, И так по-своему поет Ночная, заспанная птица. Густеет надо мною тьма — Сильней уже нельзя сгуститься. А я не сплю, я жду письма, Тобой исписанной страницы.«Мне не кажутся Карловы Вары с вершины…»
Мне не кажутся Карловы Вары с вершины Сочетаньем домов, и деревьев, и лиц… Предо мною белеет вдали не долина, А тарелка с десятком куриных яиц. Горы, горы… Верхушки деревьев под ними, По зеленому склону прошита тропа. Только рыжую голову солнце поднимет — И уже поднимается к солнцу трава. Я запомнить хочу необычную землю, Где, как равная, с осенью дружит весна. Глянешь вверх – по-весеннему свежая зелень, Глянешь вниз – желтизна, желтизна, желтизна. Пробегает по склону спокойный и скромный, Не изведавший силы своей ветерок, И ладонь окропляет зеленою кровью, С материнскою веткой расставшись, листок. Здесь весна… Но минувшую осень я вижу И покрытые желтой листвой деревца. И ко мне придвигаются ближе и ближе Дорогие черты дорогого лица. И в руках – не зеленая хрупкость листочка, А для песни готовое поле листа… Только где бы я ни был, без маленькой дочки Мне казалась неполной всегда красота. Все дороги земли приведут к Дагестану, Все дороги любви мне напомнят о нем… Я с вершины чужой, как тоскующий странник, Все хочу разглядеть мой покинутый дом…Целую женские руки Поэма
1
Целую, низко голову склоня, Я миллионы женских рук любимых. Их десять добрых пальцев для меня, Как десять перьев крыльев лебединых. Я знаю эти руки с детских лет. Я уставал – они не уставали. И, маленькие, свой великий след Они всегда и всюду оставляли. Продернув нитку в тонкую иглу, Все порванное в нашем мире сшили. Потом столы накрыли. И к столу Они всю Землю в гости пригласили. Они для миллионов хлеб пекли. Я полюбил их хлебный запах с детства. Во мне, как в очаге, огонь зажгли Те руки, перепачканные тестом. Чтобы Земля всегда была чиста, Они слезой с нее смывают пятна. Так живописец с чистого холста Фальшивый штрих стирает аккуратно. Им нужно травы сметывать в стога, Им нужно собирать цветы в букеты, Так строится бессмертная строка Из слов привычных под пером поэта. Как пчелы в соты собирают мед, Так эти руки счастье собирают. Земля! Не потому ли каждый год В тебе так много новизны бывает? Когда приходит трезвостью беда, Когда приходит радость, опьяняя, Я эти руки женские всегда Целую, низко голову склоняя.2
Я знаю эти руки. Сколько гроз Осилили, не сильные, родные. Их сковывал петрищевский мороз, Отогревали их Костры лесные. У смерти отвоевывая нас, Дрожа от напряженья и бессилья, Они, как новорожденных, не раз, Запеленав, из боя выносили. А позже, запеленаты в бинты, Тяжелых слез ни от кого не пряча, Вернувшись из смертельной темноты, Мы узнавали их на лбу горячем. В них тает снег и теплится огонь, Дожди звенят и припекает солнце, И стонет скрипка, и поет гармонь, И бубен заразительно смеется. Они бегут по клавишам. И вдруг Я замираю, восхищеньем скован: По властному веленью этих рук Во мне самом рождается Бетховен. Мир обступил меня со всех сторон, Лишь на мгновенье задержав вращенье, И, как воспоминанье, древен он, И юн, как наступившее свершенье. Они бегут по клавишам. И вот Воскресло все, что память накопила… Мне мама колыбельную поет, Отец сидит в раздумье у камина. И дождь в горах, и вечный шум речной, И каждое прощанье и прощенье, И я, от свадьб и похорон хмельной, Жду журавлей залетных возвращенья. Вот вышли наши женщины плясать. О крылья гордой лебединой стаи! Боясь свою степенность расплескать, Не пляшут – плавают, не пляшут, а летают. Пожалуй, с незапамятных времен Принц ищет в лебеди приметы милой, И мавры убивают Дездемон Уже давно во всех театрах мира. И Золушки находят башмачки, Повсюду алчность побеждая злую. Целую жесткость нежной их руки И нежность мужественных рук целую. Целую, словно землю. Ведь они Мир в маленьких своих ладонях держат. И чем трудней и пасмурнее дни, Тем эти руки и сильней, и тверже. Мир – с горечью и радостью его, С лохмотьями и праздничной обновой, С морозами и таяньем снегов, Со страхами перед войною новой. Вложил я сердце с юношеских лет В любимые и бережные руки. Не будет этих рук – и сердца нет, Меня не будет, если нет подруги. И если ослабеют пальцы вдруг И сердце упадет подбитой птицей, Тогда сомкнется темнота вокруг, Тогда сомкнутся навсегда ресницы. Но силы не покинули меня. Пока пишу, пока дышу – живу я, Повсюду, низко голову склоня, Я эти руки женские целую.3
В Москве далекой был рожден поэт И назван именем обычным – Саша. Ах, няня! С первых дней и с первых лет Его для нас растили руки ваши. В моих горах певец любви Махмуд Пел песни вдохновения и муки. Марьям! Как много радостных минут Ему твои всегда давали руки. Теперь любое имя назови — Оно уже не будет одиноко: О руки на плечах у Низами, О руки, обнимающие Блока! Когда угас сердечный стук в груди, Смерть подошла и встала в изголовье, Тебя, мой незабвенный Эффенди, Они пытались оживить любовью. Когда на ветках творчества апрель Рождал большого вдохновенья листья, Из этих рук брал краски Рафаэль, И эти руки отмывали кисти. Не сетуя, не плача, не крича И все по-матерински понимая, Они сжимали плечи Ильича, Его перед разлукой обнимая. Они всплеснули скорбно. А потом Затихли; словно ветви перед бурей. И ленинское штопали пальто, Пробитое эсеровскою пулей. Они не могут отдохнуть ни дня, Неся Земле свою любовь живую. И снова, низко голову склоня, Я эти руки женские целую.4
Я помню, как, теряя интерес К затеям и заботам старших братьев, По зову рук далекой Долорес Хотел в ее Испанию бежать я. Большие, как у матери моей, Правдивые, не знающие позы, И молча хоронили сыновей, И так же молча вытирали слезы. Сплетались баритоны и басы: «Но пасаран!» – как новой жизни символ. Когда от пули падали бойцы, Ей каждый сильный становился сыном. Я помню, в сакле на меня смотрел С газетного портрета Белоянис, Как будто много досказать хотел, Но вдруг умолк, чему-то удивляясь. С рассветом он шагнет на эшафот, Ведь приговор уже подписан дикий. Но женщина цветы ему несет — Прекрасные, как Греция, гвоздики. Он улыбнулся, Тысячи гвоздик В последний раз увидев на рассвете. И до сих пор, свободен и велик, Он по Земле идет, смеясь над смертью. Я помню Густу. Помню, как она В одном рукопожатии коротком Поведала, как ночь была черна И холодна тюремная решетка. Там, за решеткой, самый верный друг, С любовью в сердце и петлей на шее, Хранил в ладонях нежность этих рук, Чтоб, если можно, стать еще сильнее. Глаза не устают. Но во сто крат Яснее вижу наболевшим сердцем, Как руки женщин Лидице кричат И как в печах сжигает их Освенцим. Я руки возвожу на пьедестал. …У черных женщин – белые ладони. По ним я горе Африки читал, Заржавленных цепей узнал я стоны. И, повинуясь сердцу своему, Задумавшись об их тяжелой доле, Спросил у негритянки: – Почему У черных женщин белые ладони? Мне протянув две маленьких руки, Пробила словом грудь мою навылет: – Нам ненависть сжимает кулаки, Ладони солнца никогда не видят! Святые руки матерей моих, Засеявшие жизненное поле… Я различаю трепетно на них Мужские, грубоватые мозоли. Ладони их, как небо надо мной, Их пальцы могут Землю сдвинуть с места, Они обнять могли бы шар земной, Когда бы встали в общий круг все вместе. И если вдруг надвинется гроза, Забьется птицей в снасти корабельной, Раскинув сердце, словно паруса, Я к вам плыву, земные королевы! Земля – наш дом. И всем я вам сосед — Француженке, кубинке, кореянке. Я столько ваших узнаю примет В прекрасной и застенчивой горянке. Как знамя, ваши руки для меня! И словно на рассвете в бой иду я, Опять, седую голову склоня, Я эти руки женские целую.5
Смеясь, встречает человек рассвет, И кажется, что день грядущий вечен, Но все-таки по множеству примет Мы узнаем, что наступает вечер. А вечером задумчив человек, Приходит зрелость мудрая и злая… Но я поэт. День для меня – как век. И возраста я своего не знаю. Я очень поздно осознал свой долг, Мучительный, счастливый, неоплатный; Я осознал, Но я вернуть не смог Ни дни, ни годы детские обратно. Себе я много приписал заслуг, Как будто время вдруг остановилось, Как будто я лучом явился вдруг Или дичком в саду плодовом вырос. Могу признаться, мама, не тая: Дороги все мои – твои дороги, И все, что прожил, – это жизнь твоя И лишь твои всю жизнь писал я строки. Я – новорожденный в руках твоих, И я – слезинка на твоих ресницах. За частоколом лет мой голос тих, Но первый крик тебе доныне снится. Не спишь над колыбелью по ночам И напеваешь песню мне, как прежде. Я помню, как начало всех начал, Напевы ожиданья и надежды. Вхожу я в школу старую. И взгляд Скользит по лицам – смуглым, конопатым. А вот и сам я, тридцать лет назад, Неловко поднимаюсь из-за парты. Учительницы руки узнаю — Они впервые карандаш мне дали. Теперь я книгу новую свою, Поставив точку, отпускаю в дали. О руки матери моей, сестер! Вы бережно судьбу мою держали, И вас я ощущаю до сих пор, Как руки женщин всей моей державы! Вы пестовали ласково меня И за уши меня трепали часто. В начале каждого большого дня Вы мне приветливо желали счастья. И вы скорбели, если вдалеке, В безвестности Я пропадал годами, И вы о жизни по моей руке Наивно и уверенно гадали. Вы снаряжали нас для всех дорог, Вы провожали нас во все скитанья, Мы возвращались на родной порог И снова говорили: «До свиданья», Когда коня седлает во дворе В неблизкий путь собравшийся мужчина, Его всегда встречает на заре Горянка с полным до краев кувшином. Чужая, незнакомая почти, Стоит в сторонке. Только это значит, Примета есть такая, Что в пути Должна ему сопутствовать удача. Страна родная! Думается мне, Твой путь имел счастливое начало: Октябрь, скакавший к счастью на коне, С кувшином полным женщина встречала. Она стояла молча у ворот, Прижав к груди спеленатого сына, И время шло уверенно вперед И становилось радостным и сильным. Октябрь перед последним боем пил, Клинок сжимая, из кувшина воду… Быть может, потому так много сил И чистоты у нашего народа. Шел человек за нашу правду в бой, И мертвыми лишь падали с коня мы. Но, Родина, ни перед кем с тобой Мы голову вовеки не склоняли. Не будет никогда такого дня, Всегда беду мы одолеем злую. И снова, низко голову склони, Я эти руки женские целую.6
Я у открытого окна стою, Я солнце в гости жду ежеминутно. Целую руку близкую твою За свежесть нерастраченного утра. Несу к столу, к нетронутым листам, И щебет птиц, и ликованье радуг… Бывало, мать, пока отец не встал, Все приводила на столе в порядок, Боясь вспугнуть его черновики, Чернила осторожно пополняла. Отец входил и надевал очки. Писал стихи. И тишина стояла. На оклик: «Мать!» – поспешно шла она, Чтобы принять родившиеся строки. И снова наступала тишина, В ней лишь перо пришептывало строго. Все тот же стол, и тишина вокруг — Здесь время ничего не изменило. И добрая забота близких рук Вновь не дает пересыхать чернилам. Мне руки говорят: «Пиши, поэт! Пусть песня никогда не оборвется, Пусть наступает каждый день рассвет, И мысль всегда рождается, как солнце!» И я пишу, пока писать могу, И рано смерти многоточье ставить. Но, словно след на тающем снегу, Должна и жизнь когда-нибудь растаять, Но песня не прервется и тогда, Когда успею сотни раз истлеть я. Она придет в грядущие года Тревожным днем двадцатого столетья. Потомки, позабывшие меня! Отцов перерастающие дети! Целуйте, низко голову склоня, Как жизнь саму, родные руки эти!Раиса Ахматова (р. 1928 г.) (перевод с чеченского)
Доброта
Пусть славится вовеки доброта… Не доброта бездумного терпенья, Не доброта слепого всепрощенья, А доброта зеленого листа, Дороги дальней, позднего костра, Глотка воды, куска ржаного хлеба… Но пусть темнеет доброта, как небо, Когда греметь грозе придет пора. Чтоб защитить добро себя могло От засухи бесплодного покоя, Пусть доброта готова будет к бою, И лишь тогда она повергнет зло!«Откуда ты, хороший человек?..»
Откуда ты, хороший человек? Откуда ты, прохожий человек? Скажи мне имя все же, человек! А может, это вовсе ни к чему: Что имя даст поступку твоему? Я безымянной доброту приму, Я безымянной чистоту приму. Ушел прохожий. Знаю, носит он Мильоны человеческих имен.«Год висит на лапах ели…»
Год висит на лапах ели. В каждой лапе – по неделе, В каждой лапе – по метели, В каждой лапе – по капели. Иглы падают, как будто Осыпаются минуты. Незаметно, еле-еле, Постарев, лысеют ели. И однажды, после стужи, У корней заблещут лужи, И тогда недели, годы, Словно иглы, канут в воду. Опадет последний день. Вместо ели – только пень. Возле пня зазеленели Три секунды новой ели.«Когда заря раскинулась вполнеба…»
Когда заря раскинулась вполнеба, Смывая зыбкий иней со стерни, Представила я Землю как планету, Увидела ее со стороны. Я в небо шла неторопливым шагом, Шла в тучах – грозовою бороздой. Земля родная становилась шаром И становилась синею звездой. Я измеряла каждый шаг годами, И вот шаги по вечности скользят. Как на ромашке, на звезде гадала: Вернусь, а может, не вернусь назад? А рядом раздавался голос тонкий: – Устала ты? Давай-ка подсоблю! Наверно, это дальние потомки, Которых я заранее люблю.«Осенние листья подхвачены ветром…»
Осенние листья подхвачены ветром, Бескрылые, в небе, как птицы, летят За ветром попутным, в порыве заветном, Не зная, что нету дороги назад. Познав упоенье и дерзость полета, Они не хотят вспоминать о конце, И капли дождя, словно капельки пота, Блестят запоздало на желтом лице. Но ветер слабеет, и свист его глуше, Совсем обессилев, он жмется к земле, И листья садятся в просторные лужи, Еще трепеща на умершем крыле. Но чудится листьям внезапная небыль — Что это не лужа, а все еще небо!«Если очень хотеть и верить…»
Если очень хотеть и верить, То возможно, совсем как в детстве, Выйти в горы навстречу солнцу, Полной горстью лучи зачерпнуть. Если очень хотеть и верить, То, как в юности, стоит только Протянуть свое сердце счастью, И наполнит его любовь. Если очень хотеть и верить, То, как в зрелости, по бездорожью Можно путь проложить нехоженый, Можно людям его отдать. Если жить, ни во что не веря, Сомневаясь, что жизнь – это счастье, Сомневаясь, что жизнь – это подвиг, Жить тогда не стоит на свете.«Ты говоришь…»
Ты говоришь: – Вас слушает земля, Когда вы ночью бродите в горах… Как знать тебе, что пала наземь я, Чтоб лечь тропинкой у тебя в ногах?! Ты говоришь, что дрогнули цветы, Когда она тебе шепнула: «Да!» Ведь это я дрожу. Но только ты Об этом не узнаешь никогда. Ты рвал ей эти мокрые цветы, Она с улыбкой встряхивала их, Но, весь в росе, так и не понял ты, Что это были капли слез моих. Я, может быть, когда пройдут года, Морщинкой лягу у тебя на лбу, С тобой не разлучаясь никогда, Своей твою избравшая судьбу.«А я не знаю, где она…»
А я не знаю, где она, Та золотая середина, Которая для всех едина И потому всегда верна. Мне только крайности нужны! Не закричу, не буду плакать, Когда я буду в пропасть падать Из поднебесной вышины. Я эти крайности свяжу Своим, как ливень, зыбким телом, Хотя о том, как я летела, Камням уже не расскажу. И боль осмыслить не успев, Я в камень кану, чтобы снова Тянулся к облакам лиловым Паденья моего посев.«Ну, нет! Мне хватит суток черных!..»
Ну, нет! Мне хватит суток черных! Коли не хочешь – не цени. Так долго я, как кот ученый, Жила на золотой цепи. Цепь эту порвала я смело, Покорность прогнала с лица, А позолота облетела, Как с одуванчиков пыльца.«Да, я неважно выгляжу…»
Да, я неважно выгляжу, Я похудела очень, Но все же блузку выглажу, Линялую, как осень. Мне в туфельках поношенных Идти твоей тропою, Чтоб молча, как прохожая, Увидеться с тобою. Где слово то – заветное, Где песня та – заветная?.. Я, в общем, незаметная, Но ты заметь, Заметь меня!«Ветер пел песни…»
Ветер пел песни, Наполненные тобою, Он пробегал, как по струнам, По смерзшимся проводам. Но песня, коснувшись сердца, Вдруг обрывалась болью… Хочешь – тебе эту песню Сегодня в подарок отдам. Я видела сны о счастье, Когда земля улыбалась, Когда не бывали ложью Поступки твои и слова, Я видела сны о счастье, Которое не сбывалось… От этих снов безнадежных Болит по утрам голова. Город уснул и ветер. Я песен больше не слушаю, Не сплю, чтобы снов не видеть, Не сплю, чтоб не верить им. Я до утра шагаю Замерзшими, скользкими лужами… Но город меня обступает Немым отраженьем твоим. Куда от тебя укрыться? Куда от тревоги деться? Какую выбрать дорогу? Которую ты не топтал? И как, возвращаясь к жизни, Вычеркнуть мне из сердца Все небылицы, которые Сердцу ты нашептал? Я знаю, что сны не сбываются. Но я до сих пор не верю, Что сказки порою кончаются Победой зла над добром. Иней на ветках курчавится. Я открываю двери — Земля предо мной расстилается Чистым своим серебром!«Я сохраняю письма прежних лет…»
Я сохраняю письма прежних лет… Уже давно конверты пожелтели, И бесконечно опоздал ответ, И даже память замели метели. Их редко я рискую перечесть, Совсем иное чувствую волненье. Ты – прошлое. Но ты на свете есть, Хотя ушел в другое измеренье. Теперь не знаю я, как ты живешь, Твой образ потускнел, как день вчерашний, И старых писем искренняя ложь Мне кажется теперь совсем неважной. Обиды в сердце не таю, поверь, Сейчас иные у меня заботы, И если бы ты постучался в дверь, Наверно, я не поняла бы, кто ты. Чужой, не оставляющий следа Ни в сердце исцелившемся, ни в доме… Я лишь читаю письма иногда, Как смотрят фотографии в альбоме.«Слова, какие-то слова…»
Слова, какие-то слова Меня всю ночь одолевали И в буквенные кружева Меня уныло одевали. Как вымученный отряд Перед решающим сраженьем Или бессмысленный обряд С кровавым жертвоприношеньем. Они всосали часть меня Движением едва заметным, Чтобы рассыпаться, звеня, Немелодичным звоном медным. И были слаще всех сластей, И были горше всей полыни… Но ни ошибок, ни страстей Не ведают они поныне. Они – лишь следствие причин, Они правдивы лишь отчасти, Недаром в горе мы молчим И часто говорливы в счастье.«Можно сжечь за собой мосты…»
Можно сжечь за собой мосты. Путь один бывает – вперед! Счастлив тот, кто без суеты, Без сомнений мосты свои жжет, Говорит: это пройденный путь, Можно разом его зачеркнуть. Надо мною солнце парит, Подо мной дорога пылит… Ну а если сердце болит — Ничего забывать не велит?! Словно кардиограмма лет, Беспристрастна память моя, Как хранилище кинолент, Беспристрастна память моя. Как без памяти жить? Как мне с памятью жить? Все сожгла. Посреди пустоты Мельтешит половина меня, Уцелевшая от огня… Очень трудно сжигать мосты.«Приходи!..»
Приходи! Больше я без тебя не могу. Приходи! Хоть минутной любовью порадуй. Ненавижу я ложь. А захочешь – солгу, И поверю сама я, Что ложь – это правда. Все толкуют о гордости. Что мне она?! Все советами мне помогают благими… Пусть же гром прогремит! Ведь нужна тишина Лишь музейным, Закованным в мрамор богиням. Скрипнет дверь, Скрипнет снег, И луна промелькнет… Стану очень болтливой, Потом онемею. Ах, как краток, Ах, как ненадежен полет Из вчерашних газет Смастеренного змея. Ты меня обругай, Ты меня расхвали… Я не знаю, о чем, Но прошу и прошу я… Пять секунд остается До мерзлой земли, А в бумажный полет Не дают парашюта. Я сама себе суд. Ты меня не суди. Я сама себе зло, И не надо добра мне. Зная все наперед, говорю: – Приходи! Приходи. Хоть минутной любовью порадуй.«За окном шелестит намерзшийся ветер…»
За окном шелестит намерзшийся ветер, Будто просит: «Пустите погреться!» Шепчет вьюга обрывками бабьих сплетен, От которых некуда деться. Ну пущу я тебя, Ну открою окно, Все равно Давно В целом доме Темно. Холод прячется по углам И скользит по моим губам. Ты шершавой рукою щеки коснешься, Снимешь с плеч пуховую шаль… И мятежный, Тоскующий, В сердце ворвешься. Мне тепла для тебя не жаль! Но уйдешь, Унесешь Ты мое тепло, А потом Постучишь В другое стекло. И тепло отдам Я чужим губам, Не заплакать, Беды нежданной не скрыть. Нет! Окошко тебе Не могу открыть…«Словно к двери забытого терема…»
Словно к двери забытого терема, К вам трава заросла без следа… В расплодившихся травах затеряны Муравьиные города. Не корпели всю ночь над проектами В красноватой бессоннице глаз — Муравьиные архитекторы По наитию строили вас. И хозяева ваши до старости Каждый прутик в свой город несли, Тлели в вас муравьиные страсти В тесноте муравьиной земли. Засыпали вы в день непогожий. Долог сон муравьиный без снов… Ах, как люди порою похожи На обычных лесных муравьев!«Не уходи, любовь, повремени!..»
Не уходи, любовь, повремени! Еще тебе не все я песни спела, Еще не перешла того предела, Где чувства зябкой осени сродни. Да, стала я спокойней и мудрей, Но никогда расчетливой не буду, Любви твоей обрадуюсь, как чуду — Цветку среди заснеженных полей. Теперь я на признания скупа, Но говорят глаза мои немало. От сердца к сердцу через перевалы Стремится понимания тропа. Страданье одолеть, но вновь страдать, Знать все ответы, но творить ошибки, Во имя той единственной улыбки, Которая любви моей под стать. И повторять тебе стыдливо: «Да», И понимать неразличимый шепот, Чтоб, несмотря на горький женский опыт, Девчонкой оставаться навсегда.Семен Данилов (1917–1978) (перевод с якутского)
Золотая осень
1
Пожухлые листья опять сметены, За ветром холодным несутся… Но даже весною снега седины На наших висках остаются. Как конь, что промчался уже и забыт, Веселая молодость наша, Но слышится, слышится топот копыт, Живой, молодой, неуставший. И, зубы сжимая, рванулся герой В кровавую гущу сраженья. Победа порой, пораженье порой И вечное людям служенье. Бубенчика звон под дугой рысака, Копыта, стучащие градом, Мне слышатся, слышатся издалека, Из-за пригорка, из-за леска, Как будто бы все еще рядом.2
Сегодня, оседлав рычащий МАЗ, Промчалась молодежь в колхоз соседний. Промчалась быстро… На шоссе сейчас Остался только желтый лист осенний. У них, у юных, – счастье без конца. Заколебалась в сердце зависть зыбко. Ни одного унылого лица — Лишь радостные песни и улыбки. Осенним ветром листья сметены, За дальний мыс в смятении несутся, Но вот сегодня молодость весны Заставила и осень улыбнуться!Стихи друга
М. Львову
За кожаными стенами яранги Мороз январский, долгая пурга, А я сижу, стихами друга ранен, У остывающего очага. Тепло мне не от печки – от накала Высоких строк. Мне даже горячо. Как будто по тайге бреду усталый И опираюсь на твое плечо. А мы и вправду, друг ты мой, не мерзнем В моем промерзшем за зиму краю. Да, мы не мерзнем, потому что врозь нам Не быть – я руку чувствую твою. Друг задушевный! Пусть же амулетом Послужит и тебе моя строка, В остуженной яранге до рассвета Чеканил я ее. Она крепка. Вот и залог бессмертья песен наших, И наших душ, и правды наших слов. Какой мороз осилит нас, узнавших Высокую энергию стихов?!Родному краю
Лес глух Вокруг. Я в середине Стою. Вросли вершины в небо. Трепещут звуки на вершине В настороженной тишине. Внемлю напеву леса Немо. И облегченный вздох рождает Лесная музыка во мне. Я различаю отголоски Давно растаявшего детства. Что это — Притча? Или было Все точно так на самом деле? Неважно – притча или память, — Она досталась мне в наследство, А эти хмурые деревья Ее овеществить сумели. Укатанная колея дороги Покрылась вьющимся горошком, Бутоны Робкой наперстянки, Как неба светлые осколки, На них роса, как капли ливня. Брести зеленым тонким ножкам По всем дорогам вдаль… О, сколько Здесь и моих следов! И каждый Бывал по-своему счастливым. В чащобе Различаю петли, С прицепом, с рычажком — Мои. Здесь загородей глухариных Я много ставил. И сегодня Не знаю, плакать или петь мне, Увидев этот след старинный, Который здесь я сам оставил. Вон из-за пня, Вон из-за ерника Глядит, меня не признавая, То, что давно, как снег, растаяло… Глядит, робея, Отчужденно и удивленно — Это детство… Оно вернулось. Издалека. И признаю его права я. Недаром для меня капканы Оно по всей тайге расставило. За много лет промокли в росах Камзол из жеребячьей кожи И брюки из телячьей кожи, — И кожу время источило. Но туесок его – все тот же, Берестяной, И полон ягод, А ягоды – еще сочнее, Чем в тот далекий день погожий, Когда мы были с ним похожи. В ту пору Этот лес дремучий Шептал: «Твой дед – большой охотник, Бесчисленны его победы, Он зоркий, ловкий и фартовый». И думал я тогда про деда, И дед вставал большой, могучий. Я это помню. Слово в слово. Ну, а теперь? О чем шумит он? Не обо мне ли? Нет, другие Слова ловлю я… Как же это? Неужто реки обмелели, Иль патронташи опустели?! Иль просто внук Слабее деда? О, соплеменники! Неверным Когда-то было предсказанье, Пошел не в деда я… Не скрою, Как тяжко это испытанье: Прийти, как гость, В село родное. Мой край, село мое! Простите Вы сорванца, Бродягу сына… Не зажил в вашем я аласе, Свое жилье там не построив. Широк мой шаг землей широкой, Я тоже стал большим и сильным, И вдаль вела меня дорога, Запасы сил моих утроив. Но по тебе скучал везде я, Мой край родной… То снился мне ты, То о тебе я пел, И в сердце Тебя носил я талисманом… В морозный день Бывал согрет я, И видел солнце В день туманный. И хлопоты твои, заботы И радости — Моими были. И в памяти моей Без счета Родного неба Звезды плыли. Траву-горошек раздвигая, Ищу следы мои. Их много. Мне скоро уходить, я знаю, В далекий край Ведет дорога. Вновь тосковать мне В снах и песнях… И я стою. Лес глух Вокруг. Ему внимаю немо. А в глубине Мое родное небо, И каждый дорогой Таежный звук Во мне рождает облегченный вздох: «Ух!»Цветы
Цветы – это стихи земли.
В. Тушнова Цветы, цветы… Для глаз услада, Для сердца каждого – отрада, То алые, как цвет зари, То белые, как цвет невесты, То сизые, как глухари, То синие, как свод небесный. В цветах – и моря глубина, В цветах – и солнца желтизна. Вы в зелени травы видны — И разноцветны и нежны. Коль не росли б цветы в аласах, Не стало б красоты в аласах. И вот мне чудится… Звенит, Гремит Во мне земное пенье Сонатой Лунной и Весенней, На тонком стебельке стоит. Во мне Лабановы звучат И трели Лыткиной звенят, И звуки, выстроившись в ряд, Рождают песенный каскад — И эпос Нохсорова тут, И Ивановой кылысах, — Певцы земли моей поют Во мне на разных голосах. Нежнее в мире нет цветка, Чем колокольчик полевой, В нем песня о любви звонка — О первой, чистой и святой. Тсс! Слушай! Поют кукушкины уши, Затягивают «Катюшу». Листвы прошлогодней прелость, А над ней – их чистая прелесть. Смеются звонко утром рано Солнечноликие сараны, Да и ромашки-несмеяны Смеются на краю поляны. Невдалеке веселым клином Цветет горошек журавлиный. С ним очень весело и шумно — Горохом сыплет песни-шутки. Вот незабудки Одиноко Взойдут и скроются мгновенно, О чем-то чистом и далеком Грустят светло и сокровенно. Глядят без опаски Анютины глазки. Цветы, цветы… Для глаз услада, Для сердца каждого – отрада… На склоне северном аласа Цветут и в вёдро, и в ненастье, И ежедневно, ежечасно Поют о жизни и о счастье. Цветы, цветы… Когда вглядеться, Замрет от восхищенья сердце, А если слушать краски их, Услышишь столько вечных песен, Увидишь столько светлых весен — Великих, солнечных, земных.«Берез не задевая, не смяв воды озерной…»
Берез не задевая, не смяв воды озерной, Промчался свежий ветер, был очень плавен взлет, А самолет за тучами гудит своим мотором, И стая диких уток ушла за горизонт. Вот пароход, как лебедь, выходит на фарватер, Уходит он на Север, а Север так далек. А солнце – по-осеннему светло, холодновато Все смотрит, смотрит, смотрит на золотой денек. Уходят в школу дети, едва простясь с забавами, И голоса их ломкие задиристо звучат… В притихшем доме дедушки и ласковые бабушки Ворчат, что не хватает им взрослеющих внучат. А я смотрю и думаю: пусть едут в страны дальние, Пускай летают, плавают – ведь нужно всем мечтать. А у меня, осеннего, всего одно желание — Твою ладонь натруженную в своей руке держать.Юсуп Хаппалаев (р. 1916 г.) (перевод с лакского)
«О дороги-пути!..»
О дороги-пути! Их не счесть, Не учесть. Можно легкий найти Иль крутой предпочесть. То метель, то цветы, Ветром полнится грудь… А какой же мне ты, Сердце, выбрало путь? – Если б вместе с тобой Шли мы легкой тропой, Не болело б я так, Позабыв про покой.Народная песня
Орлиный клекот, медь колоколов, И горький плач, и радостные вести — Все – в трепете неповторимых слов, Все – в звуках сквозь века прошедшей песни. Она летит, как птица, на простор, Она в сердцах, как на горах, гнездится, В ней и судьба моих родимых гор, И земляков, давно ушедших, лица, В ней буря отгремевшая гремит, В ней стонут волны, до небес взлетая, В ней, будто бы одетая в гранит, Живет к родной земле любовь святая. В ней травы просыпаются весной, Грохочут в ней обвалы и потоки, В ней вечно свищет соловей шальной И с предками встречаются потомки. Она – сынов народных светлый дух, Она – победный клич на поле брани. И вот я замер, обратившись в слух, И вот вхожу в живую жизнь преданий. Гремите же вовсю, колокола, Летите же, орлы, по Дагестану! Я песню про великие дела До самой смерти слушать не устану. Ее моя прабабка пела мне Вполголоса над колыбелью белой, Чтоб оживали подвиги во сне, Чтоб рос джигит настойчивый и смелый. Потом я в птичьих песнях услыхал, Какое сердце в этой песне бьется, Какой у стали праведной закал, Как Родину отстаивали горцы. Ашуги – дум народных соловьи — Ее из уст в уста передавали, И мы, настроив голоса свои, Ашугам, как умели, подпевали. Не спутаешь ни с чем ее напев, Он справедлив и вечен, как природа, Неукротим он, как народный гнев, И светел он, как чаянья народа. Орлиный клекот, медь колоколов, И горький плач, и радостные вести — Все – в трепете неповторимых слов, Все – в звуках сквозь века прошедшей песни. Она летит, как птица, на простор, Она в сердцах, как на горах, гнездится… И полководец, и солдат простой — Хранит она страны моей границы!Тропинка жизни
Если бы тропинка жизни Шла все время на подъем, Если б не было обвалов И обрывов, Что за честь — Безопасно мог бы каждый Обжитой покинуть дом И на горную вершину, Как на крышу сакли, влезть. Если б знал ты, где споткнешься, То соломки подстелил, Был бы путь простым и ровным, Словно выметенный двор… Но тогда орел не смог бы Распахнуть орлиных крыл И парить вольнолюбиво Выше самых гордых гор!«Слепой не видел дня ни разу…»
Слепой не видел дня ни разу, Но если сердце зорче глаза, То видит в темноте оно. А если сердце слепо, значит, Не обладает зреньем зрячий — Ему и в ясный день темно.«Море стонало…»
Море стонало, Море стонало… Так страшно, так долго Море стонало… Солнце со дна восходило из моря, Скорбно луна восходила из моря, А море стонало, А море стонало. Рассветом еще не окрасились горы, Закончилось злобное время не скоро, И ухали совы, словно затворы. И в черных песках семена золотые Погибли, застыли. Долго дождило — Семена не всходили. Солнце светило — Семена не всходили. Сердце моря кипело, Стонало. Сердце моря Волной выкипало. Словно коса до рассвета косила, Словно слеза берега оросила, И вырастали песчаные сопки, Пряча безмолвно сраженную силу. Гибли в песках семена безвозвратно… Снова луна над волнами вставала, Круг завершив, возвращалась обратно, Пели пески. И посвистывал ветер.Осень-художница
Срок осени очень краток. Художницей у полотна Палитру осенних красок Растрачивает она. Красный, лиловый, желтый. Полутона тихи… А вот и камень тяжелый Укрыли пышные мхи. Высится стог. И мглою Подернута синева, И закрутились юлою Мельничные жернова. Дождь на картине нужен, Лист на дубовом стволе И голубые лужи На серой, сырой земле, Осень трудилась споро И до прихода весны Буркой укрыла горы — Пусть видят зимние сны. Под журавлиным небом Вьется оленья нить… Как хорошо зиме бы Картину ее завершить!Песня о снеге
О снега, снега, снега, Снежные просторы, В шубах белые луга, И поля, и горы. Вся земля белым-бела, Стало столько света, Снег кружится, как юла Или как планета. И каракулевый снег — Прямо у порога… Собирайся, человек, В млечную дорогу. Вся земля белым-бела, Стало столько света, Снег кружится, как юла Или как планета.«Себя я почитал среди людей…»
Себя я почитал среди людей Ничем не выдающейся особой, Живущим без особенных страстей, Без горя и без радости особой. Но час настал: я встретился с тобой, И мир живет и светится иначе, То хохочу я над своей судьбой, То горько над своей судьбою плачу.«Тур – у хребтов наших грозных…»
Тур — У хребтов наших грозных в плену, Пчела — У цветов наших горных в плену, Я — У очей твоих гордых, в плену. Скажи — А ты у кого в плену?Слезы цветка
Когда цветок среди травы зеленой Покроет увяданья желтизна, Роса в цветке становится соленой, И, словно вздох, печальна тишина. Качается цветок, под ветром плачет, Он знает – жизнь его обречена… Но добрая земля до срока прячет Упавшие слезами семена, И если бы умелица-природа Все слезы возродила из земли, Какие удивительные всходы Тогда бы на лугах ее взошли!«Я брожу одиноко…»
Я брожу одиноко, Словно загнанный волк… Я поверил до срока В твой загаданный срок. Словно дикие очи, Редких звезд огоньки, Завывает по волчьи Полночь горной реки. Смутный берег обшарил Я, слепой, как беда… Может, огненный шарик Мне уронит звезда? А незримые ветви Сеют шепот, как стон. – Не вздыхай, словно ветер, Это сон, только сон. Вижу звезды на дне я Поредевшей тоски, А надежда длиннее Этой длинной реки.Море
Море, море – будто нет земли, Будто нет заветного причала… Море, море… А в его дали Неба лучезарного начало. Где-то, в этой бездне голубой, Чуть заметно точка забелела, Может быть, прошел корабль большой, Может, просто чайка пролетела.Пожелание деда
Всегда говорили отцам молодым, Желая добра настоящего им: «Пусть сын ваш в родительский дом принесет Заботу и счастье, любовь и почет!» Теперь пожелания близких просты, Они от душевной идут доброты: «Ребенок растет, и заботы растут, Пусть горе и слезы твой дом обойдут». И я тебе, внук мой, желаю добра, Мне слово сказать наступила пора. Тебе и далеким потомкам твоим Хочу быть полезен советом своим. Когда ты заплакал, родившись на свет, Был счастлив отец, да земляк, да сосед, А больше не ведал никто из людей О первой отчаянной песне твоей. Когда ты умрешь, уж не будет меня, И траур наденут друзья и родня. Но счастлив, поверь мне, был истинно тот, Кого, как родного, оплакал народ.Адам Шогенцуков (р. 1916 г.) (перевод с кабардинского)
«Родниковой песне тесно…»
Родниковой песне тесно, И спешит к реке мотив, Чтоб могучей стала песня, Голос с голосом скрестив. Голос радости и горя, Сердца трепетный язык, Песню донесет до моря, И настойчив и велик. Изморось туманит землю, Воздух от тумана мглист, Желтизною стала зелень, И землей зеленый лист. Голос песни неизменной, Тот, что всем необходим, Прозвенит во тьме Вселенной, И не властно зло над ним.«Знойный дух земли и неба…»
Знойный дух земли и неба, Чувств жестокая жара, Даже кажется, что мне бы Высохнуть до дна пора. О, как жажда душу сушит, О, как губы просят пить! Только льдинку равнодушья Зной не в силах растопить. Кто ты – солнце или льдина? Холодна иль горяча? Входят в сердце, как в теснину, Очи – два живых луча.«Наступили дни ненастные…»
Наступили дни ненастные, Холодно ветвям нагим, Вся земля листвою застлана, В небе – туч осенних дым. Раннее ненастье тягостно, Но вспороло солнце мглу, И деревья грелись радостно, Недоверчивы к теплу. Лишь каштан свое везение Легковерно встретить смог, Он из почек брызнул зеленью, Свечи яркие зажег. В постоянстве и терпении Всем деревьям разум дан… Но теперь лишен цветения Стужей раненный каштан.«Зима ушла к вершинам снежным…»
Зима ушла к вершинам снежным, И за равнинами следит, И ветер шлет. Но, солнцем вешним Обласканный, тот ветер спит. Весна взбирается все выше. Зима воздвигла ледники, Зима туманом зябким дышит. Звенят потоки, как клинки. Поток с пути сметает скалы, Но затихает все равно, В деревья влившись, как в бокалы Легко вливается вино. И влагу пьют сады и всходы, Пока бесчинствует зима, И зелени весенней воду Она бессильно шлет сама. Пусть уходящее уходит, И свет пусть вытесняет мрак, Так мудро повелось в природе, И в жизни все должно быть так.Зрелость года
Осень – это не прощанье, Листопад – не время слез, Если счастье созиданья Ты испытывал всерьез. Осень – это зрелость года, Если ты бывал везде Не нахлебником природы, А напарником в труде. Тяжела земля плодами, До весны в плодах жива, Над лесами и садами Красный отсвет торжества. Листопадов фейерверки — Наглядеться не могу. Все ликует. Но померкли Пустоцветы на лугу.«Широки и ароматны…»
Широки и ароматны От весны цветов поля. Как легко и благодатно Дышит вешняя земля. В каждом вздохе, в каждом шаге, В небесах над головой И весенний дух отваги, И огонь души живой. О цветное наважденье, Первой зелени напасть! Крови жаркое движенье, Подгоняющее страсть. Полнолунием бездонным Полночь посеребрена, Солнцем кажется влюбленным Беззаботная луна. И в безбрежном море света Так прозрачен день и бел, Словно на пороге лета Старый мир помолодел. Хочет этот мир прекрасный Молодой любви помочь, И несет букет алмазный Ослепительная ночь.Пальцы прозрения
Доктору-окулисту Фузе Блаевой
Как звезды в полночь, бережные пальцы Отодвигают темень слепоты… Свет начинает трудно разгораться, Как белой розы хрупкие цветы. Бессильна бесконечность вечной ночи, Когда рассвет забрезжил в первый раз, Когда лучи уже коснулись почек, Чтоб цвел цветок для удивленных глаз. И человек, тобою одаренный, Стоцветной жизни узнает секрет И жадно ждет, природой отраженный, Зеленый, синий, белый, красный цвет. Прозрение даруя человеку, Ты вместе с ним как будто создаешь Дорогу, поле, дерево и реку, Погожий день и благодатный дождь. От гордости космических полетов До первозданной нежности любви, Все это – вдохновенье и работа, Все, чем живешь ты. Так во всем — живи!Фазу Алиева (р. 1932 г.) (перевод с аварского)
Салам вам, девушки из Анди!
* * *
Салам вам, девушки из Анди! Вы, словно шерсть, нежны, Вы, словно шерсть, белы, Вы, словно шерсть, легки. Салам вам, девушки из Анди! Вы, словно бурка, прочны, Вы, словно бурка, теплы, Вы, словно бурка, крепки. О джигит, гарцующий на коне, Ответь ты сегодня мне: Когда дорога длинна впереди, Когда перевалы круты, Бурку накинув, вспомнил ли ты Девушек из Анди? Чесаной шерсти упругий круг, Движения быстрых рук… И локон под шалью заметен едва, И локон дрожит на виске. По локоть засучены рукава, По локоть загар на руке. Когда неожиданный дождь упадет, С цветов обмывая пыльцу, Я, кажется, вижу, как ласковый пот Тихо скользит по лицу. Спускается ночь. Незаметно уснул Далекий андийский аул. До срока, до срока в андийских горах Спят бурки на крепких гвоздях. О звезды, простите, я вижу не вас, А тысячу девичьих, ласковых глаз: Ты, месяц, по бурке небесной пока Скользишь, как по бурке андийской – рука, Цветы! Не освоила я ваш язык, Но слышу ваш шепот во мгле, Но помню я бурку и красный башлык, И топот коня по земле.* * *
Салам вам, девушки из Анди! О, как в океане земляк мой скучал По родине горной своей, И шквал его гордую душу качал За тридевять грозных морей. Андийскую бурку на плечи надев, Он чистил и гладил ее… Как будто услышав андийский напев, Андийское сердце свое. Как будто увидел он мать и сестру, И горы свои, и сады, Как будто на бурке нашел поутру Любимой девчонки следы. Морскому джигиту в соленую даль Сквозь бури, туманы, дожди Прислали такую родную печаль Девушки из Анди. Вы помните, девушки, как поражал Наш трепетный танец простых парижан? К ногам дагестанцев из тьмы, с высоты, С галерки, как с кручи, летели цветы. Ах, девушки, радуйтесь этим цветам: Далекий Париж аплодирует вам! На бурке андийской лежат лепестки, Как будто касаются вашей руки. И гулко, так гулко трепещет в груди: Салам вам, девушки из Анди! Андийская бурка касается плеч, В горах я встречаю ее каждый день. Зимой пастуху эта бурка – как печь, А в зной как прохладная добрая тень, Ночью – постель, а наутро – ковер, Бурка – частица родных моих гор. Салам вам, девушки из Анди! Легкий и нежный, как шерсть, Белоснежный, как шерсть. Салам вам, девушки из Анди! Верный, как бурка в пути, Прочный, как бурка в дожди, Вечный, как слава Анди!«Как вдовье траурное платье…»
Посвящается врачу Евсеевой Клавдии Андреевне
Как вдовье траурное платье, Сегодняшняя ночь темна. От горького немого плача Ослепла будто бы она. Мать наклоняется над сыном, А он все мечется в бреду. – Сынок! Я в слове самом сильном Тебе лекарства не найду… Сегодня жизнь и смерть дерутся, Как много ярости в клинке! И жилки тоненькие бьются Под каплей пота на виске. Но вдруг смягчается тревога, Как будто мрак светлее стал, Как будто кто-то хоть немного С поникших плеч тревогу снял. Ах, сколько света, сколько света В халате скромного врача! Он в ночи безысходной этой Светлей рассветного луча. И губы обретают слово, И губы пестуют его, И шепчут властно и сурово: – Спасите сына моего! Болезнь жестокую находит Чужая чуткая рука. Врач, как садовник добрый, холит Жизнь ослабевшего ростка. А мать стоит безмолвно сзади, Вся напряглась, застыла мать, Она стремится в этом взгляде Судьбу ребенка прочитать. О тяжесть жалости и долга! Чужой, измучившийся сын… А твой родной ребенок дома Опять, опять уснул один! Но с каждым часом все роднее Чужого мальчика черты… Его дыханье все ровнее, Его вернула к жизни ты. И вот уже взлетело солнце, Раскинув в небе два крыла, И вот уже лучами бьется В просвет оконного стекла. И облака над домом мчатся, И зреет виноград опять, И, молчаливая от счастья, Стоит перед тобою мать. Простившись с нею у порога, Идешь ты тропкою своей, А я все думаю: «Как много, Как много у тебя детей!»Сайфи Кудаш (р. 1894 г.) (перевод с башкирского)
Старик
Тряся своей седой бородкой И утирая пот со лба, Орудуя фуганком кротким, В труде, желанном, как судьба, Играя стружкой, как строкой, Старик колдует над доской. Давно он съел свой скромный ужин, Давно запил его водой, Он дряхл, неловок и натужен, Как будто не был молодой. Наверно, прост и деловит, Для гроба крышку мастерит. А он – гляди! – забыв про зиму, Забыв, что голова седа, Как юноша, неутомимо Рождает музыку труда. Он ждет весны, ее гонцов — Он строит домик для скворцов.Если
Когда, бывало, за проказы в детстве Тебя крапивой жгучею секли, Потом штаны, как та крапива, жгли — Ни сесть, ни встать и никуда не деться, — Зареванный, притихший, сам не свой Ты от обиды убегал домой. Когда с гармошкой, песни распевая, Ты с девушкой гулял, гневя отца, Бывало, плетка пела, высекая, Как искру, кровь из твоего лица, Но вновь мехи гармони разводил — С любимой утешенье находил. Но если парень, наглый и безусый, Томясь бездельем, что страшней беды, Вдруг вырвет волосок, когда-то русый, Из белоснежной нынче бороды, Зайдется сердце у тебя, старик, И ты сдержать не сможешь горький крик.Костер
Другу жизни Магфуре
Таинственный костер судьбы своей Мы вместе на заре зажгли осенней. Единственный из пожелтевших дней Мы каждый год встречаем с нетерпеньем. Когда-то молодой любви вино Нас до самозабвенья опьянило, И мы еще не знали, что дано Тому костру нести большую силу, Что есть у этого костра закон, Не соблюдать который невозможно… Как жизнь сама, всегда бессмертен он… Тот человеческий закон – не божий… Два сердца могут засветить костер, Но если будет хоть одно холодным, Весь долгий век нести ему позор Пустой душой, объятием бесплодным. И будет черным горький дым костра, Сварлив несносный треск сырых поленьев, Покроет копоть дни и вечера, Треск заглушит лесной кукушки пенье. На жизненном извилистом пути Безоблачны у нас не все рассветы… Костер сугробом может замести, Костер засыпать пылью может лето. Тогда ты спрячь его в душе своей, Чтобы, невзгоды все переупрямя, От горсти еле тлеющих углей Опять зажечь негаснущее пламя. А у природы слишком много дел, Костры людские – не ее забота. Глядишь, и без присмотра догорел Костер недолговечный у кого-то. Сначала крупной каплей дождевой Отяжелеют у тебя ресницы, Потом нетающею сединой Январский снег нежданно обратится. Тяжелый вздох печально возвестит Предвестие осенних дней унылых… Уже никто весну не возвратит, Никто зиме противиться не в силах. Дни летнего цветенья позади, И наша осень пасмурна, сурова. Но, несмотря на холод и дожди, Одну зарю мы ждем с тобою снова. По бездорожью скользкому бредя, С тревогой иногда друг друга спросим: А если бы под струями дождя Погас костер? Как пережили б осень? Костру гореть до смерти суждено, Светить и греть, как прежде, не тускнея. Любовь, как многолетнее вино, Мы пьем вдвоем, как в юности, пьянея.Горюю
Не горевать советуешь ты мне, Упреков не страшась, не зная слез унылых… Советов доброта, понятная вполне, Былую радость мне уже вернуть не в силах. Как будто никогда я не видал беды, Не вынесу теперь беду вторую… По прихоти своей, под знаком немоты, Готов я горевать и весело горюю. У сверстников моих немало было бед, Перед грозой болят и шрамы, и суставы. Ценою слез моих, ценой моих побед Вы счастливы… А я – грустить имею право.«Коль станут кулаки колючими, как еж…»
Коль станут кулаки колючими, как еж, Коль сердце я запру замком амбарным жадным, Пусть дружеский язык, как заостренный нож, То сердце раскроит ударом беспощадным, А если буду добр, распахнут и горяч, Открою настежь дом, открою сердце людям, Тогда ты этот нож в глухие ножны спрячь, Скупые на слова, друзьями вечно будем.Магомет Сулаев (р. 1920 г.) (перевод с чеченского)
«Ни славы, ни богатства не ищу я…»
Ни славы, ни богатства не ищу я, А просто для души стихи пишу. И в сердце, словно в дом, зайти прошу я Людей, которыми я дорожу. Но сердцу в клетке ребер вечно тесно: Оно наружу – к людям — Рвется песней! Нет, не ищу богатства я и славы, Но все же – я не скрою от людей — Стихи свои пишу не для забавы: В них много боли и души моей! Хочу, чтоб люди Строчки, что леплю я, Любили так же, как людей люблю я!Зимнее поле После боя
Затихло поле… Да, затихло поле! Как белизной пшеничной при помоле, Покрыто снегом стынущее поле… Затихло поле! Как сердце, сникшее под ношей боли, Окоченело и застыло поле, Затихло поле! Как ранние седины скорбной доли, Белеет под промерзшим небом поле, Затихло поле! Как смертный саван и как сон в неволе, Бескрайне, бело, безнадежно поле… Затихло поле! Но алым цветом белизну вспороли, Горя возмездием, тюльпаны крови — Свидетели и подвига, и боли В затихшем поле!..Скакун-невидимка
Скакун-невидимка по воле людей Несется извечно быстрее лучей, От искр, вылетающих из-под копыт, Гигантское зарево в небе стоит. И в вихре, разбуженном звоном подков, Летит он, как молния, средь облаков. Дорога его бесконечно длинна, Спешит он свой путь завершить дотемна, Он время торопит, он правит судьбой И мигом весь шар облетает земной. То в глубь океана, то в небо нырнет И тайны зазвездные людям несет. И, смерти не зная, не старясь вовек, Стремит по Вселенной безудержный бег. Стремительно, страстно по тропам веков Он мчится и мчится, не зная оков. Вселенная! Скромно пред ним расступись: То мчится людская всесильная мысль!Палач и поэт
Намята Мусы Джалиля
Поэт готов, — Не замечая плахи, Он вкладывает целый мир в слова, Палач готов — Привычно На рубахе Он засучил до локтя рукава, Готова гильотина — У поэта Она найдет Над шейным позвонком Вместилище миров, Чтоб в час рассвета Его отсечь от тела острием, И никогда Перо не стиснут пальцы, И никогда Не расцветет рассвет, И никогда В глазах не отразятся Земля и небо. Их любил поэт, Поэт исчезнет, Слившись со Вселенной. Палач, оставшись жить, Домой пойдет, С работою покончив повседневной, Спокойно съест на завтрак бутерброд. Живя всегда умеренно и чинно, Он не спеша отведает винца, Потом по голове погладит сына Рука отца… О жребий мертвеца, Не знающего о своем гниенье! А вот Поэт шагает по Вселенной, И кровь из отсеченной головы Посмертной жизнью вопиет о мщенье Набатом несмолкающей молвы. Поэт живет — Всегда бессмертен гений. Палач гниет — Все палачи мертвы!Цветок
В слоях скалы нашли окаменелый Цветок, лежавший миллион веков! Пласты тысячелетий сбросив смело, Каким он был, таким предстал он вновь. Наклон головки грациозно гибок, Отчетлив хрупких лепестков узор, Жива и сеть ажурно-тонких жилок, И кажется, он пахнет до сих пор! Как уцелели красота и нежность! Как сохранил себя в веках цветок! А сколько эр сменилось, канув в вечность, За этот баснословно долгий срок! Какие горы, реки, океаны Возникли и погибли без следа, Какие царства, племена и страны С лица земли исчезли навсегда. А ты, цветок, ты, слабое творенье, Донес свой облик, вечность одолев, И над тобою в грустном изумленье Склонился человек, оцепенев. Царю земли, венцу живой природы, Ему ты, не тая, скажи, цветок, Куда девались мощные народы, Какие тайны ты из недр извлек? Где сад, в котором ты расцвел, счастливый, И начал долгих дней круговорот?.. Но, венчик набок наклонив стыдливо, Молчит цветок и тайны бережет.К смерти
Не черной, а призрачно-синей, Как странный неоновый свет, Ты кажешься, смерть, мне отныне, И ужаса прежнего нет. Но все же, строга и мгновенна, Ты жизнь замыкаешь собой, Однако сиянье Вселенной Не скроет тень смерти любой. Жизнь рядом со смертью шагает, Но смерти ее не догнать, И мозг понимать начинает, — Хоть все невозможно понять, — Что смерть – не хозяйка Вселенной, А только служанка ее, И призвана силой нетленной Она обновлять бытие. Я к смерти готов ежечасно, Но ей не хочу уступить Без боя безумного счастья, Пьянящей возможности – жить. За каждый свой день, за мгновенье Со смертью я в смертном бою, И вечное это сраженье Всю жизнь составляет мою.«Я в детстве здесь на улице упал…»
Я в детстве здесь на улице упал, Впервые здесь лицо расшиб я больно. Боль эту я давно забыл невольно, А улицу я с радостью узнал! Я здесь впервые воробья поймал. Он, бедненький, в сетях напрасно бился. Когда же сам в силках я очутился, Жалел, что волю я ему не дал. По этой улице ушел отец. Последний раз махнув рукой, растаял. Теперь вот старше, чем отец мой, стал я, Но жду, что он вернется наконец. Слоны, слыхал я, на закате лет К родным лесам протягивают хобот. Заката жизни я достиг, должно быть: Хожу сюда искать свой детский след.«Ты в гору шел, вершины достигал…»
– Ты в гору шел, вершины достигал, Но все-таки до неба не добрался. Ты в бесконечность по степи шагал, И все же горизонт не приближался. Так, сколько бы ни прожил долгих лет, Ты жажду жить не утолишь вовеки. Предела этой страстной жажде нет — Но не дано бессмертье человеку. Для вечности столетие и год, Наверно, одинаково ничтожны. В свой срок к любому смертный час придет — Не нужно вечно жить и невозможно… – Но все же тот, кто к горизонту шел, Открыл народы, страны, континенты, И тот, кто первым небо распорол, Увидел первым, что кругла планета… Пусть нам бессмертие не суждено, Но все же я хотел бы долголетья, Чтоб под конец хотя бы смог успеть я Понять, зачем нам бытие дано?Юван Шесталов (р. 1937 г.) (перевод с манси)
Древняя картина
Я – лебедь, Ты – озеро, Я парю По небу, крылья свои распластав, Я пою О синих влажных глазах В темно-зеленых ресницах трав. Ты мне рассветной улыбкой сверкни, Волны песцовые успокой, И люди прозреют, И скажут они: «Ах, жизнь! Мы ее не видали такой…» А может, дело вовсе не в них, А в этой бессмертной, живой красоте, Я крылья сложу, Соскользну я вниз — Белый лебедь На синей воде!Дирижер
Вышкомонтажникам Шаима
Ухо мое звенит, звенит, звенит… Сердце мое восседает Посреди электрических костров В поднебесном доме – театре. Там пляшет в руке не хорей, По знаку которого бегут олени, А беспомощно-тоненькая палочка, И хотя не вертятся Саснел — Берестяные носы, Зато вздрагивает над пляшущей палочкой Обыкновенный нос человека, Белый нос человека. Палочка пляшет — И ревет, лает, поет оркестр Голосами лебедей, Голосами ворон, медведей и лаек. Дрожит над пляшущей палочкой Белый нос человека, Как черные птицы, Летают волосы Над каплями пота. Звуки шаманят. Широко открыты глаза, уши, рты… Всех подчинил себе Узкоплечий шаман-дирижер. Но стены истаяли, словно весенний лед: Нет никакого театра, Я иду по моей земле! Красными глазами брусники Глядит она удивленно, Как шагает железное чудище По шерстистой спине ее. Кедры мои могучие Вздрагивают, словно карлики, — Их покрыл великан Сумерками великанской тени. Душа моя заливается лайкой, Нашедшей множество белок. Душа моя заливается лайкой, Потому что глаза мои Заполнены чудом: Маленький человечек в спецовке Властно взмахнет рукою, И зафыркают железные олени, Закачается железный великан, Загрохочет ребрами, Зашагает, повинуясь властным рукам. Взмах – и сосны трещат, И медведи ревут, и чайки смеются, И токуют глухари, И танцует тайга. Кто же он — Человек в спецовке? Не шаман ли? Нет, это вышкомонтажник Литовченко! Его руки Поднимают буровую вышку. Видишь, как она качается? Ошибется вышкомонтажник, Сфальшивит его рука — Свалится буровая. Качается железный великан. Но спокоен маленький человечек, – А кто из них великан? — Душа моя заливается, думаю я, Восторженной лайкой: Впервые вижу я Таежного дирижера!Песня последнего лебедя
Весной на лесное озеро прилетел один лебедь. В небе веселились другие птицы – самолеты. И уток стало мало! Раньше охотники любовались лебедями. А этот лебедь плакал. Его плач и записал я…
Я в объятьях неба… Подо мною земля И озер камышовые гнезда… Я выше деревьев. Лучи моих глаз Могут пощупать то, Что скрыто за чертой горизонта. Вы придумали, люди, что я пою, Лепечу, как ребенок, от счастья… Я давно уже плачу. Высоко надо мной Распласталась стальная Незнакомая птица. Громкий голос ее Оглушает меня в полете, А крылья Вызывают солнечное затменье. Люди стоят на земле, головы запрокинув, И смотрят За пределы неба, Куда я заглянуть не могу, И хмелеют от песни железной… А когда-то Манси трогали пальцами Струны моей души И называли свою деревянную птицу Нежноголосым лебедем… Что глазеете вы, как в музее, На мое одиночество?! Из-за чьей-то одинокой жестокости Я от стаи отстал… Сто кругов Прочерчу я над озером, Где прадеды мои вили гнезда, Окунусь в белизну белой ночи. А утром, Когда в небе нас будет двое — Я и солнце, И не грянет железная песня, Я рассыплю смех, Вылеплю лепет И, как след, оставлю Старинный, последний Свой клич: – Летите, люди, в космос, Сверлите, люди, Землю. Смотрите туда, Куда я заглянуть не могу, Но берегите Белые мои озера, Ибо Почернеет небо без белых лебедей, Почернеют ночи без белых лебедей, Под зеленой травой Простучит черная пустошь, Не топчите травы — Я совью из них гнездо И белой ночью Высижу для вас белых лебедят… А утром, Впервые увидев солнце, Они рассыплют смех, Вылепят лепет И, как след, оставят Старинный, последний, лебединый клич…Омар-Гаджи Шахтаманов (р. 1932 г.) (перевод с аварского)
Сонеты о Мицкевиче
Там пел Мицкевич вдохновенный И, посреди прибрежных скал, Свою Литву воспоминал. А. С. Пушкин«Сидит с утесом Чатырдага слитый…»
Сидит с утесом Чатырдага слитый Старик. Осанка у него горда… – Скажи, почтенный, дружбу не водил ты С певцом, из Польши сосланным сюда? – Да, – отвечал он, – род мой знаменитый Его, как брата, почитал всегда. Над скудной степью, над ее обидой, Близка нам стала польская беда. Как мы, любил он высоту до боли И с болью пел о подневольной воле, Суровые делил он с нами дни… Старик орел расправил крылья-плечи… Не удивляйся, друг: орлиной речи Язык аварский исстари сродни.«В разгаре пир…»
В разгаре пир… «Куда влечет тоска? О Родина, зияющая рана!» Он вышел на крыльцо. И ночь горька! На Чатырдаге алый бинт тумана. И вздох сгустился, словно облака. Дождь зашагал на запад неустанно: Послал поэт тоску издалека На Родину через моря и страны. Вот и сейчас пришел закатный час, Возникла тучка, как слеза у глаз, А ночью зашагает дождь на запад. Молчит в раздумье море. И рассвет Над морем, горестным, как мой сонет, Лучи надежды выплеснет внезапно.На могиле Потоцкой
Ведь неподвижны мертвые. Зачем же Могилы их решеткой ограждать? Гирей, гарем и прочее – все те же. Экскурсовод, не нужно продолжать! В пустынном небе облака все реже, А на камнях – безмолвия печать… Как будто именем Марыльи брежу, Стихи твои готовый прокричать. Мне ни к чему Потоцкой красота, Тоска судьбы, могилы теснота! Но здесь горит слеза твоей печали. Склонилась у надгробья голова, И польской песни страстные слова На языке аварском прозвучали.«Мир – это море, ты – его пловец…»
Мир – это море, ты – его пловец, А песни – волны. Нет нигде причала… Увидишь ли ты берег, наконец, Где песни грудью кинутся на скалы? К спокойной бухте поверни, гребец, Погаснет парус в тишине устало… Но буря грянула. Погиб певец, Шепнув: «А мне бы – бурь недоставало!..» Погиб певец. Но летом и зимой Грохочет море штормовой волной И мачту, как былиночку, шатает… Лишь неподвижный берег обновлен, И Пушкин через черный шторм времен По-русски мне Мицкевича читает.Ахмет Хамхоев (р. 1910 г.) (перевод с ингушского)
Звезда
В дали бесконечной мерцает звезда, От нас до нее – световые года. Но пишет поэт о звезде безымянной, Что робко блестит, точно в камне слюда. Не может звезда поделиться ни с кем, Далек ее разум и дух ее нем. И все же звезда привлекает поэта — Ведь светит она одинаково всем. Ее отражала бесчисленность глаз, О ней астрономы судили не раз. Но только бессмертное слово поэта Навеки звезду сохраняет для нас. Мы маленьким звездам имен не даем И слишком легко забываем потом, Что входит звезда, словно слово поэта, Как друг безымянный в сегодняшний дом.Сон ребенка
Тихий вечер, добрый вечер, В окнах лунная капель, И заглядывает вечность Звездным светом в колыбель. А ребенку погремушки Надоели… И опять Хочет звезды, как игрушки, Мальчик теплой ручкой взять, И в сынке души не чая, Не уставши от забот, Колыбель его качая, Мама песенку поет. Опускаются ресницы, Обретается покой, Если страшный сон приснится, Мать смахнет его рукой. Лепестки минут роняя, День прошел, и ночь пройдет. Сон ребенка охраняя, Мама песенку поет. Время тикает спокойно, В небе слышен звездный звон… Не играйте, люди, в войны, Не тревожьте этот сон.Рассказ охотника
Однажды решил я сходить на охоту. Рассвет акварелью окрасил дворы, И солнце, готовясь к дневному полету, Жар-птицей глядело с вершины горы. Рассвет разгорался, все ярче пылая, А в небе паслись облака, как стада… И вдруг, словно щедро удачи желая, Синица взлетела ко мне из гнезда. То выше, то ниже, то дальше, то ближе Летала и знала, что я не обижу. Летала и пела, наивно и мудро, Несильные крылья свои распластав, Про синее небо, про ясное утро, В дороге нежданно мне спутником став. Казалось, она излучала веселье, Она жизнелюбом пернатым была, И с каждой нехитрой синичкиной трелью Земля все щедрей и пестрее цвела. То выше, то ниже, то звонче, то глуше Летела и пела, и грела мне душу. Я долго за ней наблюдал с удивленьем, Боясь, что она улетит от меня. Характер синицы движеньем и пеньем Вливался в гармонию нового дня. И мне показалось, что крылышки птицы Сияют на солнце шитьем золотым, И словно впервые я видел синицу, И сложное стало впервые простым. То выше, то ниже, то рядом со мною Летало само совершенство земное. Вдруг черные крылья над нами нависли, И коршун, зовущийся князем небес, Безжалостно зоркий, из солнечной выси Синице спикировал наперерез. Дыша пробудившейся жаждой добычи, Кружил над синицей, уверен в себе, Он тучей пронесся над песней синичьей, Грозой прогремел в безмятежной судьбе, То выше, то ниже, то шире, то уже, Петля за петлею, а петли – все туже. За ним я все время следил напряженно, Мне ведомо было коварство его, Когтями грозя, как клинком обнаженным, Заранее праздновал он торжество. Сдержаться не в силах, я в прорезь прицела И жадность и ненависть метко поймал, И громом мое ружьецо прогремело, И коршун бессильно на землю упал. То выше, то ниже летела синица, — Жестокою пулей спасенная птица.Осенние дни
Край родной провожает лето, Опустился низко туман, Птицы ищут тепла и света В чуждом небе заморских стран. Листья съежились, пожелтели, Облетели, припав к земле, Солнце в тучах теплится еле, Позабывшее о тепле. На корню засыхают травы, Ночь длиннее, короче день, Только черным тучам по нраву Светлый мир закрывшая тень. Но труды не пропали даром, И, улыбкой озарено, Полыхает солнечным жаром В закромах осенних зерно.Красным летом
Я вышел к лугу, где отцы косили, Где травы, не познавшие косы, К безоблачному небу возносили Безоблачные капельки росы. Там одиноко дерево стояло От молодых деревьев в стороне. Мне показалось, что оно стонало, Обрубки веток протянув ко мне. Не радовалось летнему раздолью, Как инвалид, вернувшийся с войны, И, побуждаемый сердечной болью, Я прошептал ему средь тишины: «Скажи мне, кто жестоким был с тобою, Кто эти раны страшные нанес?» — И я погладил дерево с любовью И не смахнул мужских горячих слез. Но молча терпит дерево страданья, И память в немоту заключена… Мои тревожные воспоминанья Былые воскресили времена. И незнакомых вспомнил я, и близких — Всех тех, кто пал за Родину в бою, Всех тех, кто сохраняет в обелисках Оборванную молодость свою. Глаза их матерей навек суровы, Их дети стали старше, чем они, Поныне гордый траур носят вдовы, — Не забывай войну и мир храни!Свет
Нет радостнее радости, чем свет. Все краски мира подаривший людям, Он нам сияет миллионы лет, И прославлять его всегда мы будем. Всем равно – и орлу и муравью, Ночному хищнику и робкой лани — Он силу животворную свою Раздаривает солнечным сияньем, И лишь меня обходит стороной. Я заключен в темницу вечной ночи. Молю я: брызни всей красой земной В мои неизбалованные очи! Увидеть дай цветение весны, Тончайшие оттенки разнотравья, Чтоб стали вдруг мои цветные сны Живой, неускользающею явью. Я словно связан участью своей, Меня гнетут всевидящие руки, Когда поет рассветный соловей, С цветами я отождествляю звуки, Лучей не видя, я храню тепло, Которое лучи приносят эти. И вечной ночи слепоты назло Я свет люблю сильнее всех на свете.Алирза Саидов (1932–1978) (перевод с лезгинского)
Нет войны! Не быть войне!
Стихла гроза. Неожиданно стихла гроза. Каплет роса с лепестков распрямившихся роз. Словно глаза, матерей наших скорбных глаза, Смотрят цветы сквозь прозрачные капельки слез: Марши походные с пылью смешались седой, С измятых конвертов стирают года адреса… Люди родные, придавленные землей! Вам – материнская, горькая эта слеза. Люди Самура! Спросить матерей вы должны; Кто из сынов возвратился с жестокой войны?! Наши аулы у самых вершин, на весу, Ночи темней здесь, светлее и солнечней дни, Самыми первыми злую встречают грозу, Самыми первыми солнце встречают они. Солнце! Впусти его, мама, открой Солнцу, как гостю желанному, окна и дверь! Видишь, как голубь, летит оно там, за горой! Видишь, кивают цветы головами тебе! Сын на побывке. С улыбкой стоит у крыльца. Что же грустишь ты? Ведь счастье явилось само! Может быть, просто похож он сейчас на отца? А от отца сохранилось одно лишь письмо… Мать, улыбнись, я принес тебе добрую весть: Скоро ты будешь на свадьбе моей танцевать! Сын – это кровь твоя, сын – и бессмертье, и честь. Выпрямись, мать, подними мою голову, мать! Сын твой вернулся – так, значит, родиться цветам! Сын твой вернулся – хорошие всходы взойдут! Сын твой вернулся – хорошим расти сыновьям, Жизнь удлинится на много счастливых минут. Мать! Твое сердце всю землю вместило опять! Сердце твое говорить научилось без слов. Если Земля – это тоже любимая мать, Нет на ней места для пушечных злобных стволов. Нету войны! Ей не быть с этих пор! Красным пожаром горит семафор. Ласково плачет старинная тара… Пусть вместо кладбищ белеют сады, Пусть не касаются матери старой Неизгладимого горя следы!Альберт Ванеев (р. 1933 г.) (перевод с коми)
Снег идет
Снег идет… А хлопья снежные Кружатся, взлететь хотят, Невесомые и нежные, Укрывают лес и сад. Друг мне пишет письма грустные. Он в Крыму. Там круглый год Все цветет. А он мне: «Густо ли В эту зиму снег идет?!»Ручей
Ему хвалебных слов не адресуют… Но все течет без устали ручей И меж корней и валунов рисует Узоры жизни маленькой своей. Дает он и умыться, и напиться, Всем равно – не откажет никому. Но продолжает безымянно литься: Не выдумали имени ему. И не гордясь заслугами своими, Несет он людям радость сотни лет, Прославлено или безвестно имя — Лесному ручейку и дела нет.Рябина
Не сладким наше детство было, И память взрослая горька, Воспоминанья в сердце вбила Войны тяжелая рука. Но честность тех суровых дней Друзьями впитана моими… Рябина слаще и сочней, Когда ее прихватит иней.Шайхи Арсанукаев (р. 1930 г.) (перевод с чеченского)
«Однажды криком на рассвете…»
Однажды Криком на рассвете Я миру возвестил о том, Что я вошел в него, Как в дом, И поселился на планете. Открыв глаза, Узнал я мать: Она была добра, красива. Из колыбельного мотива Мне лира начала звучать. С тех пор В сиянье красоты Я узнавал ее черты, Видение родного края. С тех пор Всегда лишь вверх иду, Невиданную высоту С ее достоинством сверяя. Нетвердой новизной шагов Я двор измерил, Но манили Меня голубизной снегов Вершин возвышенные шпили. С тех пор, Где б ни скитался я, Они всегда перед глазами, И проливаются слезами Мне в душу гордые края. С тех пор Всегда лежит мой путь К высотам круч От пастбищ низких. Достигну ль я когда-нибудь Вершин недостижимо близких?..Землетрясение
В испуге вздрогнула кора земная, Ах, что произошло с тобой, родная? Земля, скажи, Обидел кто-нибудь тебя невольно, Или земному сердцу стало больно От чьей-то лжи? Или приснился взрыв грибообразный, Который опухолью безобразной Все видится тебе? Иль детский страх В навязанной судьбе — Сиротские глаза И грубый окрик Злой мачехи — В тебе находит отклик? Скажи, Земля: Быть может, это друг Сегодня тайно предан был друзьями, Иль матери мучительный недуг Был безразлично принят сыновьями? Любовь повеса светский оболгал? Поэт стихи фальшивые слагал? От равнодушия тупели лица? Или над жертвой нож занес убийца? Ах, что произошло, Земля, скажи! Я заступлюсь – ты больше не дрожи…«В сыром саду осенний стон осин…»
В сыром саду осенний стон осин, Деревья – словно черные скелеты. Нас двое, Я один. И ты – один. И мы невольно думаем про это. Мы думаем, Но каждый – о себе. Сердца стучат Задумчиво и редко. И каждый плачет О своей судьбе. Я – на скамье. А воробей – на ветке!«Я пью надоенное на заре…»
Я пью Надоенное на заре Парное молоко. Я пью Настоянное на заре Парное молоко. Пью жадно, Вкус хочу понять И теплый запах обонять. Все не хватает мне глотка Парного молока, В котором детства краткий миг Лишь в ощущениях моих Продлится на века, И сенокос, И запах трав, Где дремлет солнце, поиграв. Как будто время – вспять, И руки мне издалека Сквозь белый отсвет молока Протягивает мать…«Как изменился облик Земли!..»
Как изменился облик Земли! Стремителен века двадцатого бег. Техника… Мы тебя изобрели, В скорость Ты заковала нас всех. Лайнер, Ракета — Быстрей и быстрей Техника мчится, А люди – за ней. Был ли покой?! На работу – спешим, В спешке – работаем, В спешке – едим, И от бесед бесконечных устав, Предпочитаем письму – телеграф, В счастье спешим, И в любви, и в беде, Но от себя Нам не скрыться нигде. Время – пастух наш, А люди – стада? Так для чего мы спешим И куда?Тучи
Летний день жарой измучен, Солнце, как костер. Облака сгустились в тучи На отрогах гор. Небо смотрит в удивленье, Хмуря синий лоб, На безмолвное боренье Этих черных злоб. Рухнул в грозовом раскате Потолок небес. И сошлись две черных рати В полыме чудес. В мертвой схватке бьются слепо, И одна другой Гривы рвут, и режут небо Огненной дугой. Кто их знает – эти грозы?! Разберись пойди — Пот их льется или слезы По земной груди…III Зарисовки к портрету Из архива
Рецензии на опубликованные книги Ирины Озеровой
Вл. Масик. У истоков поэтической весны Ирина Озерова «Это, правда, весна!..» Стихи и поэма. Воронежское книжное издательство, 1960 г.
«Это, правда, весна!..» – так назвала свою первую книгу стихов молодая воронежская поэтесса Ирина Озерова. Этому жизнеутверждающему названию соответствуют и по-весеннему светлая обложка с веткой распустившейся ивы, и оптимистическое содержание сборника, и молодость самого автора. Правда, из общей тематической тональности книги несколько выпадает суровая и мужественная поэма «В дни грозовые», но и она заканчивается строками, воспевающими необыкновенное цветение земли, по которой шествует весна обновления.
Книга Ирины Озеровой – это лирическая исповедь современника, рассказывающего о тревожной юности, о первой робкой любви, о самостоятельных шагах в трудовой жизни, о становлении характера. На окружающий мир поэтесса смотрит широко открытыми глазами, любовно подмечающими не только улыбку милого, но и «маленький подснежник», принявший, «как признанье», от солнца «вешние лучи», и «тяжелый пласт целины», и потеплевшие глаза женщины-проводницы, которая под стук колес уносящегося на восток поезда принимает на свои «огрубевшие руки» новорожденного мальчика.
Лучшими произведениями сборника являются стихи о пережитом и осмысленном, о событиях и картинах, связанных с поездками в Хакассию и Казахстан, где «залегла целина…». Здесь живые и меткие наблюдения, неожиданные находки, смелые повороты мысли, сердечная интонация. Острая наблюдательность внутренне соединяется с лирическим самораскрытием автора. Перечитывая эти стихи, чувствуешь откровенную взволнованность и уверенно формирующуюся индивидуальность свежего поэтического голоса.
Как живая правда жизни воспринимается стихотворение «Парнишка» – о пареньке, стоящем в задумчивости у забрызганного водой причала, где в суровую годину Отечественной войны смертью храбрых погиб его отец-матрос:
Стоял парнишка у причала, У черной, стонущей воды… Быть может, в эту ночь искал он Отца погибшего следы. Искал, чтобы пройти по следу И чтобы принести потом Свою, матросскую победу Во вдовий материнский дом.Это небольшое, полное драматизма стихотворение тематически перекликается с автобиографической поэмой «В годы грозовые», в которой повествуется о судьбе маленькой большеглазой девочки, потерявшей на войне отца и пережившей неласковое и суровое детство. Образ паренька, свято хранящего память о местах, где прошла «дивизия его отца», чем-то напоминает лирический образ героини поэмы, бережно сохраняющей в заплечном узелке единственную фотографию отца. Но черты характера героини намечены шире, глубже, полнее раскрыта ее психология.
Обаятелен образ простой, отзывчивой деревенской женщины, которая приютила у себя хрупкую сиротку и подарила ей тепло материнской ласки. Выразительными мазками выписан ее портрет:
Матрену сгорбила война. И не ее вина, Что в темных косах седина Косым лучом видна, Что сжался, будто высох, рот, Что складка меж бровей — Зачем краса, раз не идет С войны ее Андрей?В поэме много удачных, по-настоящему поэтичных мест. Несмотря на некоторую эпизодическую фрагментарность отдельных глав, она трогает взволнованностью лирического рассказа и оставляет в целом сильное впечатление.
Свежестью нерастраченных чувств проникнуты стихи о первой любви. В лучших из них и, в частности, в открывающем сборник стихотворении «Это, правда, весна!», чувствуется стремление высказаться по-своему, внести в так называемую «вечную тему» свое философское осмысление волнующих интимных отношений.
Удачно стихотворение «Штору трогал любопытный ветер». В нем заложена верная мысль о необходимости трезвого отношения к пробуждающейся любви. Девушка не ответила взаимностью на признания любимого только потому, что почувствовала в его словах неискренность, потому, что он «человека не заметил» в ней.
Самоотверженному труду целинников, раскрытию их богатого духовного мира посвящены стихотворения «Танцы», «Тишина», «Хакас», «В краю непуганых кузнечиков», «Жар-птица» и «Кошара». По своему художественному выполнению они неравноценны. Но через каждое уверенно проходит жизнеутверждающий лейтмотив – любовь к богатой и щедрой земле сурового целинного края. Здесь-то в борьбе и труде, в радостях и невзгодах и приходит настоящая любовь, рождаются подлинно человеческие отношения, когда и радость и печаль делишь пополам.
Это настроение эмоционально выражено в следующих стихах:
Заря успела выбелить полнеба, Лучами пробежала по полям. И мы с тобой Кусок ржаного хлеба На счастье разделили пополам.Подобные поэтические находки свидетельствуют о том, что у Ирины Озеровой имеется свое художественное видение мира, свой, пусть пока еще не до конца оформившийся, но вполне наметившийся поэтический голос. Он будет звучать тем уверенней и сильнее, чем внимательней и зорче поэтесса будет всматриваться в окружающий ее мир, чем глубже и ближе будет изучать нашу многообразную и содержательную жизнь.
«Коммуна» (г. Воронеж), 2 октября 1960 г.А. Шагалов. Наука постижения души Ирина Озерова «Берег понимания» Серия «Мастера художественного перевода». М., «Советская Россия», 1980 г.
В своем предисловии к книге Ирины Озеровой «Берег понимания», выпущенной издательством «Советская Россия» в прекрасной новой серии «Мастера художественного перевода», поэт Николай Старшинов полностью приводит цитату, которая дала название всей книге: «Переводчик – это перевозчик, перевозящий с берега непонимания на берег понимания». Он пишет, что «не случайно четвертый раздел книги представляет собственные стихи Ирины Озеровой, ибо ее перо не только позволило многим поэтам других народов заговорить по-русски, но и впитало в себя всю нелегкую науку постижения человеческой души, которую дарил ей каждый из переводимых поэтов». И не случайно, заканчивая книгу, сама Ирина Озерова признается:
Великому не надо доброты, К нему приникнув, вырастаешь ты: Творя себя, другого переводишь.Вот почему мне, прежде всего, хочется осмыслить собственные стихи поэтессы. Стихов не так уж много, и вряд ли они могут полностью рассказать о возможностях автора, использованных и неиспользованных. Но и по ним можно составить себе представление о том разуме и сердце, которые дали им жизнь. Прежде всего, это стихи очень честные. Боль и насмешка, философское раздумье и доверчивая исповедальность, осмысление времени и тревожная надежда – все это не поучение читателям, а разговор с друзьями «о времени и о себе». Недаром так часто Ирина Озерова облекает философские раздумья в обращение к детям, как к символу надежды. Если бы читатель не был знаком с первыми тремя разделами книги, то он был бы вправе удивиться: откуда при такой абсолютной простоте и ясности мысли, слова, образа, ее стихи отличают изысканная чеканность, богатство аллитераций, незаменимость слова в ряду других, неожиданная афористичность концовок. Все это вместе создает некую незащищенность, обнаженность нерва, отлитую в строго классическую и в то же время остро современную форму. Трагический темперамент поэтессы нигде не становится на катурны. Там, где другой закричал бы, Озерова говорит как бы шепотом, но этот шепот резонирует со Вселенной.
Детство Ирины Озеровой – военное детство. Оно как скрипичный ключ определило ее отношение к проблемам сегодняшнего дня. Вот начало ее стихотворений «Новое летосчисление»:
На деревьях повис рассвет, Неподвижный и серый… …Это было за много лет До новой эры. В те времена Еще были госпитали, Где сестры Бинтами солдат пеленали, В те времена Над погостами Солдатские звезды вставали. А в госпитале Сестра объясняла подруге: «Ну, как он мог?! Ну, как он мог?! Говорит, Не беда, что нету ног, — Были бы руки!»Простота, разговорная интонация этих строк нужны поэтессе, чтобы оттенить зловещий трагический эксперимент, поставленный американскими военными в японских городах Хиросиме и Нагасаки, чтобы подчеркнуть современное философское осмысление этого события:
Тем, кто умер в тот день, Не досталось места в земле. Земля к тому времени Заполнена была Другими. И они растворялись в воздухе, Оседали пылью в золе, И мы теперь дышим ими. Они в нас, Те, кому места в земле не нашлось. Невидимые и грозные, Как излучение… …С этого самого дня Началось Новое летосчисление.И стихи Озеровой – это стихи нового летосчисления, стихи-предупреждение:
Зачем потоп? Зачем война? Зачем летающие блюдца? От летаргического сна Сумеет ли земля очнуться?!Но трагичность нашего атомного века пронизана в стихах Ирины Озеровой неистребимой верой в торжество добра над злом:
Горит костер двадцатого столетья, И правит инквизитор торжество. Мой друг твердит, смеясь, что нет бессмертья. А я упрямо верую в него!У многих писателей, чье детство опалено войной, мы находим произведения, пронизанные нерастраченной силой детского восприятия мира. У этого поколения нерастраченное детство осталось навсегда в сердце, чтобы неистребимо бороться против неверия и нигилизма, воспевая победу света над тьмой. И когда «нам бремя непосильных скоростей смещает время, путает оценки», Ирина Озерова пишет:
И все миры давно открыты, И не тоскуешь ни о ком, И радиус земной орбиты Натянут жестким поводком. А я все домики рисую, Трубу и над трубою дым, И дождь в линеечку косую, И солнце круглое над ним!И не случайно одна из любимых тем Ирины Озеровой – тема охраны природы, тема экологии. Даже если не выходить за рамки этой книги, то можно найти яркие тому подтверждения. Вот, например, стихотворение «Прощание»:
Однажды на излучине речной К природе приобщались горожане. И вдруг заречье выплеснуло ржанье — Сраженье звуков с тишиной ночной. О, странное видение коней Над разудалостью консервных банок, Бутылок, колбасы, ржаных буханок, Расстеленных газетных новостей. Зачем нас призрак прошлого настиг, Медлительный, как дротик на излете?! Ведь кони не из бронзы, а из плоти, — Как мамонт или саблезубый тигр.Вот она своеобразная красная книга, когда сердце болит при взгляде на умную и чуткую природу, часто доводимую человеком до отчаяния. Но Ирина Озерова не ради констатации факта обращается к болевым точкам современного мира. Она борется, ясно и твердо провозглашая свои позиции:
Враг – это враг. Он нужен мне, как тень, Не только для сраженья – для сравненья. Но, чтобы не лишиться этой тени, Необходима ясность, нужен день.Первые три раздела книги – это своеобразные «университеты» Ирины Озеровой. Отбор авторов так же, как и самих произведений представлял немалую сложность: переводческое творчество Озеровой распахнуто разным народам и разным векам нашей планеты. Ведь переведено ею, как пишет в предисловии Н. Старшинов, «более семидесяти книг». Хочется отдать должное издательству «Советская Россия» и в особенности редактору книги Е. Имбовец с каким тактом и чувством меры проведен этот нелегкий отбор.
Книгу открывает раздел, состоящий из стихов народов, входящих в Российскую Федерацию. Здесь и впервые открытая Ириной Озеровой русскому читателю «иволга Чувашии» Эмине (IXX в.), и известный всему миру аварец Расул Гамзатов (на его стихи в переводе Ирины Озеровой написано несколько песен и оратория), и чеченка Раиса Ахматова, которая связана с Ириной Озеровой десятилетиями настоящей дружбы… И многие, многие другие – чтобы рассказать обо всех, нужно прочитать книгу. Это и исполненные наивности, искренности, ироничной простоты стихи поэта из Коми Альберта Ванеева, и колдовские, шаманские стихи мансийского поэта Ювана Шесталова, которые посвящены сегодняшним проблемам – труда, творчества, мира, защиты природы… И каждый поэт – это целая Вселенная, и каждый делится своим жизненным опытом с переводчиком, словно дает уроки.
Кстати, во втором разделе книги, посвященном творчеству поэтов Союзных республик, есть цикл украинского поэта Леонида Первомайского, который так и называется «Уроки поэзии». Вот как говорит о поэзии Леонид Первомайский:
У поэзии сердца законы жестоки: Целый век для нее не жалеешь горба, Жизнь свою для нее разлагаешь на строки. Госпожа – не батрачка она, не раба.Думается, что под этими строками могли бы подписаться и казах Сакен Сейфуллин, и латышские поэтессы Цецилия Динере и Монта Крома, и земляк Первомайского Андрей Малышко.
В третьем разделе книга уводит нас за пределы границ нашей Родины, воссоздавая карту мира во времени и пространстве. Думается, нет необходимости рассказывать читателям о таких поэтах, как Джордж Гордон Байрон или Виктор Гюго, Райнер Мария Рильке или Шарль Бодлер, Сидней или Эдгар По. Важно, что у голландцев, и у южно-африканского поэта Уильяма Плумера присутствует тема России, восхищение нашим великим народом, его прошлым и будущим. Так замыкается круг. Рильке пытался писать по-русски, но нужны были горячее сердце и бережная рука русского поэта, чтобы при всей адекватности стихи стали достоянием многонационального читателя нашей страны.
Мы часто можем услышать дискуссии: переводить точно или переводить эмоционально верно. Переводы И. Озеровой демонстрируют, что успех достигается только тогда, когда оба эти начала слиты воедино. Тогда мастерство ненавязчиво, чужая мысль облекается плотью, и стихи получают второе рождение, становясь достоянием русской поэзии».
В трех сонетах о переводах Ирина Озерова спрашивает:
Легко ль чужой язык перелагать? Не речь – настрой души неодинаков.А чуть дальше она утверждает, что в процессе перевода «обретают общий ритм сердца», и тогда в гармонии понимания находишь и свой голос, и собственное лицо:
Какой обман – забвение и тлен! Гребет трудолюбивый перевозчик, Взрезают воды Стикса весла строчек, И мысль доносит память общих ген.Прекрасный советский поэт-переводчик Лев Гинзбург писал в одной из своих статей: «Вот они стоят под одной обложкой: поэты-борцы и поэты-затворники, поэты-страдальцы и поэты-баловни судьбы, поэты, колесившие по всему свету, и поэты, не покидавшие ни разу родной страны, родного города, даже родной деревни. Они стоят плечом к плечу, и в этом видятся надежда, залог того, что, как мечтал Пушкин, в «великую семью соединятся» все народы; но соединиться – не значит раствориться друг в друге, подчиниться кому-либо одному, жить под кем-то или над кем-то. Нет, народы в одной семье, как и поэты в этой книге, останутся разными, независимыми друг от друга, но связанными одной судьбой. А это налагает обязанность понимать и уважать друг друга». (Лев Гинзбург «В великую семью соединятся», «Литературная газета», № 41 от 12 окт. 1977 г.) Все эти слова можно с полным правом отнести к книге Ирины Озеровой «Берег понимания».
Татьяна Маршинина. Миг единый Ирина Озерова «Арена» Стихи. М., «Современник», 1985 г.
Первая книга стихов Ирины Озеровой «Это, правда, весна!..» вышла в Воронежском книжном издательстве в 1960 г. И вот, спустя двадцать пять (!) лет увидела свет вторая.
Да, мы знаем, что все эти годы Озерова много и плодотворно работала над поэтическими переводами. Да, она нередко печатала стихи в периодике. Много выступала перед читательской аудиторией. И тем не менее по-настоящему познакомиться с Озеровой-поэтом читателю представилась возможность лишь теперь.
Книга «Арена» – попытка подведения итогов. Творческой деятельности. Жизни. Жаль, что автору так и не довелось ее увидеть.
Жизни собственной легка ль маета? Тесно в сердце, как в дорожной котомке. А быть может, не поймут ни черта После смерти эти люди – потомки. Ведь в мешке не покупают кота. А в столе, не то, что в книге, – потемки. И к плечам твоим приладит мечта Вместо крылышек бумажных – постромки. Только кто-нибудь потребует вдруг Твой восторг, твою любовь и недуг, Краткость слов твоих и строчек протяжность. И покажется обычной тогда Сладость горького от века труда, Невесомой биографии тяжесть.Это – один из «Трех сонетов о переводах». (Этот маленький цикл завершает книгу.) Ирина Озерова много лет отдала работе над переводами. И ей трудно отделить в себе поэта от переводчика. Эти две ипостаси ее художнического существования постоянно дополняли и обогащали друг друга. Творческая взыскательность и скрупулезность в работе над словом, стремление пристальнее вглядеться в лицо жизни, многозначность художественных образов – все это пришло к Озеровой-поэту от Озеровой-переводчика.
Она обращалась к творчеству самых разных поэтов. Переводами Бодлера и Рильке, Гюго и Байрона, Эдгара По, Хьюза и других мастеров представлена в сборнике зарубежная поэзия. Можно назвать немало поэтических имен в братских республиках, ставших известными русскому читателю благодаря переводам Озеровой. Так, долгие годы дружеские узы связывали ее с народным поэтом Чечено-Ингушетии Раисой Ахматовой. Немало переводила она Расула Гамзатова. Например, его знаменитую поэму «Целую женские руки»:
Целую, низко голову склоня, Я миллионы женских рук любимых, Их десять добрых пальцев для меня, Как десять перьев крыльев лебединых…Всех, к чьему творчеству обращалась Ирина Озерова, так сразу, пожалуй, и не назовешь.
Что это – всеядность? Нет! Широта творческого диапазона и поэтического кругозора, вера в необходимость того, что делаешь в жизни, – да!
И есть ли в жизни большая награда, Чем верность одержимости своей?Эти строки из стихотворения «Поэт», вошедшего в книгу «Берег понимания» из серии «Мастера художественного перевода» (Москва, «Советская Россия», 1980), можно было бы поставить эпиграфом ко всему написанному поэтом и переводчиком Ириной Озеровой.
Конечно, индивидуальные особенности, язык, приемы авторов, чьи стихи переводила Озерова, – все это, несомненно, влияло, да, наверное, и не могло не влиять на ее поэтическое видение. Так, вряд ли случайно для Озеровой столь частое (и плодотворное!) обращение к сонету. Удалось ли ей при этом сохранить собственный голос, найти свой путь? На мой взгляд, несомненно. Человек по-настоящему одаренный, сколь сильным ни оказалось бы чье-либо влияние, все-таки остается самим собой. Именно свое лицо, своя дорога, право на собственный поиск и собственные ошибки, открытия и заблуждения – вот что было так важно для этого поэта.
Неправда это все, неправда, Что нужен поводырь в пути. Когда хочу идти направо, Налево тянет он идти. Хочу бежать на плач кукушки, А он ведет меня, как всех, На канарейкины частушки И соловья счастливый смех. Неутомимей светофора Он зажигает красный свет — И нету на пути забора, А все равно дороги нет. Меняет он свои обличья Десятки раз в теченье дня… Он неприметен. Он обычен. Он добр. Он мучает меня!Раздумья о месте поэта в обществе, в круговороте социальной жизни, соотношение быстротекущей современности и вечности – тема, всегда волновавшая нашу поэзию. Что остается жить в истории, устояв против разрушительной силы времени: «бесконечный труд» монаха, над которым он «корпел в уединенной келье», пытаясь поведать грядущим поколениям обо всех сложностях своей эпохи, или «коварные рифмы» ветреного поэта, сплетавшего слова, «как венки плетут»? Что? Живое слово поэта, которое, «как старое вино, волнует снова». Он и по сей день среди нас, «он современник, он поныне жив». Очень хорошо сказано об этом в стихотворении, посвященном Анне Ахматовой, – «Королеве Анне», – не вошедшем, к сожалению, в этот сборник: «Не лежит моя королева под крестом своим в Комарово, а в пространстве четырехмерном снова строчки она находит».
Не имеет поэт права на успокоенность, душевный комфорт, равновесие. Не может себе позволить «извести на безделушки» «созданные для битвы бивни», разменять душу на мелочи. Не выдержит он жизни птицы в клетке, где «песнями без слов» будет оплачивать «все хлопоты о ненадежной плоти». Ирина Озерова не искала легких путей ни в поэзии, ни в жизни. Наверное, не каждый бы решился на такое: оставить университет, будучи уже на четвертом курсе, чтобы поступать на первый курс Литинститута. А уж отказаться от издания в «Молодой гвардии» книги, рекомендованной к печати Всесоюзным совещанием молодых писателей, сочтя эту книгу недостаточно зрелой, – это, как хотите, поступок! И на целину она дважды ездила в составе бригады молодых литераторов не моды ради. Хотела узнать жизнь настоящую, черпать в ней материал, испытать себя на прочность. «Однажды наш творческий руководитель в институте… сказал мне: «Поезжай-ка на целину, мозоли заработай, в земле покопайся, а иначе – не быть тебе поэтом». И я поехала», – вспоминала Озерова.
Она и потом много ездила по стране. И с полной самоотдачей, не жалея сил и времени, помогала молодым найти себя в литературе, когда работала в «Литературной России». И как депутат Дзержинского райсовета добивалась предоставления квартир, а сама при этом жила в коммуналке.
Вот почему она имела право на иронию, говоря о тех, кто прячется от жизни за «двойными стеклами», когда «В своей квартире, как в тюрьме, скучаем, и телевизор запиваем чаем, двухмерности программ подчинены».
Не нужно вставать на ходули, чтоб выделиться из толпы «людей похожих», словно вылепленных «из однозначной пустоты». Истинно «непохожих» выделяет сама жизнь, и это они делают ее неповторимой и осмысленной, отрекаясь во имя этого от благополучия и сытости, от устроенности и проторенных дорог.
Мой храбрый мальчик! В недрах всех эпох Случались люди с обостренным слухом. Не нравились они царям и слугам, И никогда не помогал им Бог. Им приходилось рано умирать И трудно жить Всего за миг единый — За счастье видеть, и писать картины, И строчки торопливые марать. Человек и время. Время – один из ключевых образов поэзии Ирины Озеровой. Время – вредное излучение, От него излечения нет. От гипотез, от изучения Не меняет свой ритм и цвет.Время – высший и единственный судья всему содеянному человеком. Песчинки в песочных часах – «вечные весы», на которых взвешивается добро и зло. Так было всегда, так будет и впредь. И никакие ухищрения прогресса, никакое «электронное нутро» современных хитроумных часовых механизмов не остановит минут, как не остановить падения песчинок в песочных часах. «И времени меняет серебро на медяки мне автомат в метро, проматывая скудное наследство». «Колеса – бухгалтерские счеты времени – складывали секунды, вычитали их из моей жизни».
Да, все подвластно времени… Оно отнимает у человека молодость и надежды. Против него не всегда может устоять даже любовь. И все-таки, «может быть, покорится вечность совпадению двух улыбок?!» Лирической героине И. Озеровой так нужно, несмотря ни на что, любить и быть любимой. В «старомодной простоте души» находит она опору, у нее своя шкала ценностей, своя точка отсчета. Наверное, в этом залог отсутствия легковесности. Истинны и искренни стихи И. Озеровой о любви:
Сломаюсь я в земном поклоне, А хочешь – буду бить челом. Но ты доверь моим ладоням Свой меч, свой щит и свой шелом.Несмотря ни на что, она верит, что можно построить «деревянный дом из щепок на снегу». Хотя разумом понимает, что неизбежны потери, «и краткость противостояний, и отрезвления разлук». Но не напрасно прожита жизнь, если после ухода любимого остается «на долгий век – тепло в руке».
Книга названа «Арена». Если мы будем просматривать содержание, то непременно обратим внимание на атрибуты театра, цирка уже в названиях целого ряда стихотворений: «По законам сцены», «Трагедия с хорошим концом», «На арену выбегает клоун», «Оркестр», «Монолог сосны». Ирина Озерова постоянно обращается к сценическому действу, перевоплощению, являясь нам то в клоунской маске, то в одежде скомороха, то в образе актера, играющего самые разные роли. («Не пророки – скоморохи остаются на земле», «Ты сыграл свою роль в этом старом спектакле – клоунаде с трагическим странным концом», «Послушно повторяет в цирке мое смятенье акробат».) Прием, как известно, сам по себе не новый. Но не в том суть. Мне думается, что Ирина Озерова не просто использует хорошо известный прием. Здесь сказывается заложенное с детства мироощущение, – она, можно сказать, в буквальном смысле слова, выросла в театре. Родители ее были актерами. (Отец погиб под развалинами театра во время бомбежки.) Воздух кулис, впитанный с детства, атмосфера театральных подмостков, преломление мира реального через призму огней рампы – все это, несомненно, наложило отпечаток на образную систему поэзии Озеровой.
Вообще писать она начала очень рано. И поскольку детские годы поэтессы совпали с войной, ей в полной мере пришлось испытать тяготы эвакуации, бомбежки, когда земля стерегла «воронками за воротами» и «сирен завывание ночами болело в висках». Вспоминаются строки из поэмы «В дни грозовые», вошедшей в первую книгу: «Дорога по снегу так далека, безлунная ночь нема, и баночку мерзлого молока к рукам припаяла зима». Цепкая память ребенка навсегда сохранила воспоминания о том, как в госпиталях «Бинтами солдат пеленали» (Озерова очень часто читала стихи раненым бойцам); о крапивных щах и хлебном запахе на ладони:
Ни ран у меня, ни ордена, Но памятна мне зато Бумажная радость ордера На байковое пальто.Напоминанием о страшных днях войны, стремлением во что бы то ни стало уберечь человечество от атомного пожара, предостережением: «Так окончиться может прогресс, Не сберегший себя от угрозы», звучат стихотворения «Пожар», «Новое летосчисление», «Тень».
Я – тень. Неподвижная и короткая… У безногого есть костыли, У слепого сердце, Которое помнит Черноту земли и белизну снега. А я лежу, обезглавленная, в пыли: У меня нет человека!!!Так созвучен сегодняшнему дню страстный призыв – не допустить ядерной катастрофы, не позволить уничтожить все живое на Земле. Остановить безумие ядерного взрыва, после которого от человека останется лишь тень его. Никто и никогда не должен забывать о трагедии Хиросимы: «Тем, кто умер в тот день, не досталось места в земле… И они растворялись в воздухе, оседали пылью в золе, и мы теперь дышим ими…» Никто и никогда не смеет лишить детей права играть «в разноцветный, как мир, мячик». Долг поэта – непрестанно напоминать людям об этом, будоражить их память и совесть, будить все лучшее и светлое в их душах. «И если в будущем зла не найдешь, значит, и я помогла».
И мы находим в стихах Ирины Озеровой активную позицию и гражданственность, веру в разум и искренность простых человеческих чувств.
В заключение хотелось бы привести строки из ее стихотворения, строки, которые можно отнести и к автору «Арены»:
Он мучился и созидал добро, И воевал со злом. Он был поэтом. «Литературное обозрение», 1986 г., № 12Рецензии на рукописи книг Ирины Озеровой, которые были «зарублены» редзаключениями и так и не вышли в свет
Павел Антокольский. Во власти внутренней тревоги
«Он оглушен был шумом внутренней тревоги», – сказал Пушкин о герое своего «Медного Всадника». Я думаю, что такая внутренняя тревога в большой степени свойственна всему нашему молодому поколению, да и всегда не чужда молодежи. Что же касается поэтов и музыкантов, то она – решающее условие их роста, возмужания, свежей оглядки на мир, их чуткости. Для тех и других – это черный хлеб познания и творческой работы.
Для поэта, выступающего здесь, Ирины Озеровой, она характерна в высокой степени. Внутренняя тревога определяет содержание ее стихов. Озеровой свойственен напряженный и всегда нелегкий поиск. Поиск самостоятельной дороги. Поиск средств выражения, совсем не сногсшибательно новаторских, – скорее уж наоборот: ясной и точной мысли, соответственной чувству. Мысль молодого поэта, по праву возраста, клубится метафорами, представляет собой некую туманность с едва брезжащими краями. Однако Озерова не дорожит такой мыслью. Она ищет формулы – ясной и в то же время многозначной, как формула алгебраическая.
Содержание ее стихов многообразно и объемно. Тут и любовь, и свой дом, и свое место в рабочем строю общества, и космическое пространство, устрашающее молодой ум, но требующее разгадки, и еще более привлекательные загадки и разгадки точных наук, и еще многое теснится в этих строфах, сделанных интересно и уверенно.
Ирине Озеровой предстоит хорошая, хотя и нелегкая дорога. Ей еще неоднажды предстоит меняться – вплоть до того момента, когда утихомирится ее внутренняя тревога. Хочется пожелать, чтобы она не покидала поэта никогда.
Юлия Друнина. Рецензия на рукопись Ирины Озеровой «Стремления» 27 февраля 1963 г.
Хочу начать с цитаты:
Не в ученической тетради, Мне было негде взять тетрадь, А на листах военной «Правды» Тогда училась я писать. Доев в обед промерзший пончик, Бралась я снова за перо. И смешивался детский почерк Со сводкой Совинформбюро.Это раннее стихотворение могло быть более четким по форме, точным по слову. Но дело не в этом. В нем – биография поэтессы, то, что определило тематику всего сборника: детство, совпавшее с войной, публицистические стихи, посвященные самой острой проблеме сегодняшнего дня – угрозе ядерной войны, целина, любовная лирика, пейзаж.
Сразу же хочется отметить одно обстоятельство: Ирина Озерова стремится писать лаконично и так, чтобы в основе каждого стихотворения лежала точная мысль. Восемь, двенадцать строчек – таков размер большинства стихотворений, это хорошо.
Положительной особенностью сборника Ирины Озеровой является и то, что в лучших своих стихотворениях поэтесса идет от непосредственных жизненных впечатлений:
Над Воронежем моим летят утки, Летят утки над землей и два гуся, И румяная, как летнее утро, Там частушки распевает Маруся. Каруселью раскрылась пластинка, Современное ее чародейство… Поздней памяти дрожит паутинка, В ней пестрит, словно бабочка, детство. Паутинку эту бережно тронешь, И откликнется далекое эхо… За Воронеж, за Воронеж, За Воронеж Мил уехал, мил уехал, уехал… И живем с тобою розно мы, словно Перепутать перепутье могли мы От дряхлеющей петровской часовни До безвременной отцовской могилы. Но когда-нибудь на Севере дальнем Или в будничной московской квартире Стану бредить я целебным свиданьем С этим городом, единственным в мире. По какой-то небывалой побудке Вновь для долгого полета проснусь я. Захватите с собой меня, утки, Покажите мне дорогу, два гуся!..Мне кажется, что Ирина Озерова – человек, несомненно, поэтически одаренный и что представленный ею в издательство сборник «Стремления» заключает в себе хорошую основу будущей книги.
Аделина Адалис. Рецензия на рукопись Ирины Озеровой «Обряды» 25.09.68 г.
С первых страниц у Озеровой примечаешь качество столь необходимое любому поэту и столь не часто, к сожалению, встречающееся. Особенно редко это качество, или свойство, наблюдаешь в рукописях, книгах поэтов-женщин. К счастью, определение «поэтесса» мало применимо к Ирине Озеровой.
Со стихами Озеровой мы встречались в периодике. И часто это имя звучало в различных сборниках переводов. Она пишет давно, много. И вот, наконец, – ее рукопись в издательстве.
Читаешь стихотворение за стихотворением и все больший интерес проявляешь к ее творчеству. Нередко стихи свежи, неожиданны. В них есть привкус горечи. Вместе с тем, это стихи «мыслящие». Об этом – о роли мысли в поэзии – прямо говорится в стихотворении «Поэт», в котором автор четко определяет свое понимание поэтического труда и призвания поэта, – пишет о трудности избранного поприща:
И авторучкой заменив перо, И заменив свечу электросветом, Он мучился и созидал добро, И воевал со злом. Он был поэтом. ……………………….. Он высекал слова, как письмена Рабы египетские высекали. В постели умирал, бывал убит — То на дуэли, то ударом в спину. Бывал прославлен и бывал забыт, Но до сих пор перо его скрипит, Но до сих пор свеча его горит, Оплывшая всего наполовину.Озерова задумывается о судьбах мира – о мироустройстве, ее тревожат прошлое, настоящее и будущее человечества. Из века в век умножаются знаки «клинописи» на скрижалях искусства – клинопись жизни, радостей человеческих и горестей, уходящего и нового. На смену эпохе приходит новая эпоха. Это естественно, как то, что на смену ночи приходит рассвет, зима сменяется весной… Озерова чутка к переменам – в природе, в быту, в истории… Они происходят заметно и незаметно. Но как бы тихи или бурны они ни были, если глядеть на историю из тьмы веков, – она течет как большая река, по своему огромному руслу, исходя из своих не открытых еще до конца человечеством законов. Общечеловеческих и в то же время очень современных проблем – проблем истории, философии, науки о космосе – касается Озерова, хотя бы, к примеру, в таких стихах, как «Язычников крестили христиане», «Стена», «Все травы зелены», «Мы все давно узнали», «Преемственность» и др.
Однако Озерова не исследовательски-холодно проникает в суть философских проблем и в природу явлений. В ее стихах живет тревога. В мире «коррид» и счетчиков Гейгера не так уж спокойно! Гладь реки Истории обманчива даже тогда, когда она, действительно, кажется «гладью». События в Хиросиме открывают «НОВОЕ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ» – утверждает автор, посвящая им целый цикл стихов.
Внутренний жар, как бы повышенная температура характерны для стихов Ирины Озеровой, – в них одновременны озноб и жар. Она чувствует трагическую повседневность жизни и – повседневную трагичность ее. Грозы происходят и в природе, и в человеческом обществе. Предгрозья охватывают даже мир сказки. Костяной слоник «трубит надсадно», ружье вздрагивает, как раненая утка. Емеля не может дождаться своей щуки, Снегурка погибает на костре и предпочитает эту гибель своему ледяному равнодушию. Дома умирают как люди. Вместе с тем все в мире живуче – и доброе, и злое. Где-то танцуют, а в то же время где-то почти рядом сгорают люди в печах Майданека… Воздух современности «разрежен», им трудно дышать, Земля может впасть в «летаргический сон»… К активному отношению к жизни призывает Озерова, ее поэзии чужды равнодушие и созерцательность. Она чувствует шаткость времени, понимает, что мы живем в мире опасном, чреватом «радиоактивностью», в мире, где за все надо отвечать, за каждое сказанное слово.
У Озеровой стихи молоды по существу, но то, что по шаблону, по внешнему поэтическому «заданию» называется молодостью, не чувствуется в них, – если она сама молода, то они «древни». Это соединение молодости и житейского горького опыта придает ее стихам особую терпкость, дыхание современности, – признак того, что они – стихи сегодняшнего дня.
…Наиболее удачные из стихов Озеровой отличает тонкость, в них присутствует интеллект, особая потаенность чувств. Вместе с тем, за исключением некоторых стихов о любви, это стихи философские, гражданские, не узколичные – «женские»…
На мой взгляд, их необходимо издать.
Николай Рыленков. Рецензия на рукопись Ирины Озеровой «Клинопись» июль 1968 г.
Говорят, что с годами притупляется острота ощущений. Ей на смену приходят зрелость и мудрость, опыт и знания. Но временами тревожит память об утраченном умении ежесекундно открывать мир – видеть, слышать и осязать его, словно в первый раз. И тогда ищешь поэта, ищешь стихи у разных поэтов. Иногда они возвращают утраченное.
В стихах Ирины Озеровой уместилась целая жизнь. В ней, как в большом и светлом доме, дружно живет множество людей – людей разных времен, но единых по духу. Стихам тесно на страницах рукописи, но в стихах просторно, и чувства в них крупные. С одними стихами встречаешься, как со старыми друзьями, с другими знакомишься заново. Но и в новых знакомых узнаешь черты уже полюбившиеся:
Я, как художник, с натуры пишу — Пейзаж, портрет, — И, глядишь — Уже на мокрое масло дышу Староарбатских крыш. Уже говорю, где боль, а где ложь, Где холод, где искра тепла… И если в будущем зла не найдешь, Значит, и я помогла.Очень неприятно говорить оценочными словами, которые кажутся выспренними от своей неконкретности, о поэзии доброй и некрикливой, которая достигает гораздо большего точно употребленным в ряду других словом, чем может достигнуть слово невероятное, втиснутое в строку с явной целью – удивить. Но чем более цельный и естественный поэт перед тобою, тем труднее исследовать секреты его поэтичности.
Поэт сторицей возвращает людям то, что берет у них, – красоту. Утверждать все самое прекрасное в мире – может ли цель быть более благородной?! Суметь передать всю полноту и многокрасочность жизни, пользуясь самыми простыми изобразительными средствами, – не это ли признак настоящего мастера?! Я снова – в который раз – удивляюсь возвышенной простоте поэзии Ирины Озеровой:
Монах корпел в уединенной келье Над перечнем минующих минут. Ночами, словно мать над колыбелью, Он пестовал свой бесконечный труд. А светский франт раскованность безделья Коварным рифмам отдавал на суд, Не связанный тщеславием и целью, Слова сплетал он, как венки плетут. Перебирая, словно четки, даты, Мы узнаем, что жил монах когда-то, Что келью заменил ему архив. А вертопраха ветреное слово, Как старое вино, волнует снова: Он современник, он поныне жив!Я давно мечтаю иметь эту книгу на своей книжной полке и не понимаю, почему до сих пор должен ее рецензировать.
Николай Леонтьев. Рецензия на рукопись Ирины Озеровой «Клинопись» 29 июля 1968 г.
Первое, что радует в стихах Ирины Озеровой – несомненная поэтическая культура. У большинства молодых поэтов она заменена лишь версификационными навыками. Здесь же господствуют точность слова, своеобычность взгляда на мир, гражданская забота о будущем человечества, тонкий художественный анализ различных состояний человеческой души, – все, что составляет в совокупности своей мир поэтического.
Большое впечатление оставляют стихи, что вошли в раздел «Новое летосчисление». Тут всего пять стихотворений, но как обнаженно предстает в них трагичность нашего века, когда всемогущество человеческого разума рискует оказаться перед одним из его порождений – «водородной звездой» – бессильным и почти жалким:
Говорю я, претворяю, сотворяю… И, разума справляя торжество, Я двери тайн вселенских отворяю, Как будто двери дома своего…И вдруг… возможная вспышка «водородной звезды»:
И превратятся в братские могилы Наполненные жизнью города. И оборвется удивленный возглас У края беспредельной пустоты… Земля вступает в свой опасный возраст: Земля родит тяжелые цветы!Весь раздел пробуждает в людях неспящую гражданскую тревогу, которой подчас, в суете повседневья, нам так недостает.
На мой взгляд, этим разделом и следует открывать сборник. Перед подобной проблематикой воистину глобального масштаба уходят на второй план многие другие темы – ну, хотя бы скорбные радости детства («крапивные щи» и мороженое, «купленное взаймы»), которым посвящено несколько стихотворений в разделе «Начало», открывающем сборник.
Раздел «Шуты» (18 стихотворений) – прекрасный материал для отдельного поэтического сборника совсем иного профиля.
А вот раздел «Домики» органично вписывается в общую тональность.
Все без исключения хороши «Сказки», включенные в одноименный раздел: «Рыба», «Емеля», «Снегурочка», «Монолог Бабы-Яги», «Голуби». Сквозь сказочные мотивы проступают очертания реальной жизни, а такие ценности, как право на мечту, приобретенные издревле, утверждаются как непреходящие.
В разделе «Дождевые капли» объединены пейзажные стихи, своим глубоким подтекстом помогающие философскому осмыслению бытия. Типично в этом отношении стихотворение «О, дней моих стремительная скорость!» Тяготы человеческих путей и странствий рождают мысль:
А может, отсидеться в подворотне, И не бродить под ливнем на земле?!Кажется, так непрочны следы на дороге, так часты ливни!
Но я иду. В любую непогоду. Вступаю на размытые пути. О нет! Не может разрешить природа Невымокшим под радугой пройти!Вошедший в плоть и кровь человека закон природы продолжает жить в полном согласии с велениями человеческого духа, с его имманентными потребностями.
Тема «дождей» в этом разделе варьируется многократно и каждый раз плодотворно. В стихотворении «Опять дожди» ненастье совпадает с отсутствием любимого (вернее, с разлукой с ним). Но и эту, казалось бы, вдвойне скорбную тему венчает оптимизм, распространяющийся на все проявления жизни:
Замерзнет дождь и превратится в снег. Засохнут слезы, превратятся в смех.Это уже всеобъемлющая философская формула жизнеутверждения, облеченная в тонкие и изящные поэтические одежды. И то обстоятельство, что оптимизм этот подан не в лоб, а, так сказать, подспудно, лишь говорит о высокой мере художественного такта, внутренне присущего Ирине Озеровой.
Немало находок и поэтических первооткрытий находим мы и в последнем, самом обширном разделе сборника – «Нелетная погода». Само название его говорит, что поэтесса ситуациям безоблачным и безбурным предпочла не менее редко встречающиеся в жизни тягостные, смутные и бурные коллизии любви.
За редчайшими исключениями, она победоносно справилась со своей нелегкой задачей. Читателю со страниц этого раздела предстает душа чуткая и потому легко ранимая, характер требовательный, подчас – непримиримый. Все стихотворения в этом разделе – весомый вклад в любовную лирику.
Эти и еще 50 стихотворений, которых я не коснулся здесь подробно, составят хорошую поэтическую книгу, обогащающую духовный мир молодого читателя-современника.
Николай Леонтьев. Рецензия на рукопись Ирины Озеровой «Вечный миг» 30 июня 1973 г.
Мне приходилось знакомиться не с одним поэтическим сборником Ирины Озеровой, как и с рукописями ее стихов. Они неизменно оставляли у меня искреннее уважение к их автору. Дар проникновения в тонкие переживания человеческой души, широта творческих устремлений, большая поэтическая культура – такое сочетание достоинств встречается далеко не у каждого поэта.
Мне знакомы ее стихи биографического плана (цикл стихов о детстве, о впечатлениях военной поры), ее любовная лирика, ее «Сказки», ее пейзажные стихи. В любом их этих направлений и жанров Ирина Озерова предстает перед читателем как пытливый и искусный художник, раскрывающий многообразный духовный мир человека-современника. В этом смысле не составляет исключения и новая рукопись сборника ее стихов – «Вечный миг», представленная в издательство.
Пять десятков стихотворений, составивших сборник, – вроде бы, очень немного. Но в них находится (пользуюсь выражением автора) целый «мир, сданный на хранение стихам»).
Перед читателем проходят поэты – воители против зла, мыслители, самому «времени предъявляющие счет» и хранящие «верность одержимости своей», «люди с обостренным слухом», способные «услышать, как в небе шевелятся облака». Как правило, большинство таких (почти всегда – одностраничных) стихов несет в себе широкое художественное обобщение и полноценный эмоциональный заряд.
Большое впечатление оставляют такие стихи Ирины Озеровой, как «Новое летосчисление», «День», «Парадокс» и «Тень». Они проникнуты заботой о будущем Земли, человечества, оказавшегося в опасном соседстве с роковыми достижениями цивилизации. Они будят гражданскую тревогу, которой подчас, в суете будней, людям так недостает. Автор, а вслед за ней и читатель, всей душой протестуют против превращения трагедии Хиросимы и ужасов Майданека в рядовое явление обыденности.
В сборнике немало исторических экскурсов, эпохальных параллелей, бросков в мифологию. В результате, Ирина Озерова нередко находит неожиданные повороты, новые ракурсы в трактовке темы современности. Современный поэт своей авторучкой «высекает слова, как письмена рабы египетские высекали». Из сопоставления Данте и Галилея неожиданно всплывает идея общности науки и поэзии в наш век. «Счастье видеть, и писать картины, и строчки торопливые марать» оказывается во все века дорогостоящим. «Гениальные бедствия Ван-Гога» вполне доступны и современному «художнику из подвальной мастерской». Лирическая героиня, наша современница, свободно «входит плакальщицей странной в былины первые» гениального поэта прошлого, и поэт на своем пьедестале «размыкает бронзовые губы». В изящно выполненном «Триптихе» на свидании лирической героини с Мариной Цветаевой присутствует само будущее. В противоположность «отмененному раю», продолжает существовать «крупноблочный ад»: его мы «в спешке забыли разрушить», а – кроме того – «на ремонт наша вечность закрыта». Друг лирической героини – современный бездействующий Тиль Уленшпигель – отрицает бессмертие.
«А я упрямо верую в него!» – настаивает поэтесса.
И читатель внутренне соглашается с утверждаемой этой строкой не формальной – высшей правдой, не утратившей своей реальности и в эпоху крушения мистики.
Трудно перечислить все находки Ирины Озеровой, какие ей дало новое освещение привычных нам явлений и истин. Сама лексика этих стихов – находка, она приподнимает облюбованные темы, заставляет их звучать в душе читателя, я бы сказал, в новом ключе.
Оригинальна поэтесса и в любовной лирике. Как я уже писал в одной из рецензий, она «ситуациям безоблачным и безбурным предпочла не менее редко встречающиеся в жизни тягостные, смутные и бурные коллизии любви… Читателю… предстает душа чуткая и потому легко ранимая, характер требовательный, подчас – непримиримый»:
Я слишком долго была слаба, Была я доверчивой, доброй и нежной. Теперь я груба. Я твоя судьба — Я слепа И я неизбежна…Строки подобной силы не так уж часто приходится встречать у современных поэтесс. И вся ее любовная лирика напоминает доброе, терпкое вино.
Своеобычность взгляда на мир, гражданская забота о будущем человечества, тонкий художественный анализ человеческих чувств, точность слова и мастерское пользование им позволяют от всей души рекомендовать сборник стихов Ирины Озеровой «Вечный миг» к изданию: такие книги обогащают духовный мир читателя-современника.
Памяти друга
Леван Хаиндрава. Памяти друга
ТЯЖЕЛО терять друга, тяжело вдвойне, когда друг этот – Поэт, не достигший еще и пятидесяти лет, не написавший и половины того, что мог бы написать…
Мы познакомились с Ириной Озеровой лет пятнадцать тому назад в Гагра.
Есть места на земле – их не так уж много, – самой судьбой словно предназначенные благотворно влиять на душу человека, способствовать внутренней гармонии, пробуждать чувства возвышенные и важные. Таким местом для меня является Гагра. Мне достаточно ступить из вагона на перрон вокзала, и я уже ощущаю себя отрешившимся от всего ненужного и случайного, что облепляет нашу повседневную жизнь, как ракушки дно корабля.
В тот первый вечер нашего знакомства Ирина призналась мне, что и она здесь испытывает то же. Мы долго гуляли втроем (Ирину сопровождал ее муж – Олег Васильевич Пучков) и, может быть, под влиянием этой не сравнимой ни с чем благодати – тихого, нежного моря, шелкового, благоуханного воздуха, четкого абриса окрестных гор, словно прислушивавшихся к разговору, – открывали друг другу наши души.
Какая это радость, «свой путь земной пройдя до половины», найти в незнакомом еще вчера человеке сердце близкое, чувства родственные, узнать, что живет этот человек теми же надеждами, которыми жив ты сам, болеет теми же болями. Так Гагра в тот далекий, увы, уже неповторимый вечер одарила меня счастьем обретения друга в самом высоком и чистом значении этого слова.
Потом мы собрались у Ирины на балконе. Опять был нежный, благостный вечер, в темноте о чем-то своем бормотало море, а Озерова читала свои стихи. Она прочла их немного, но и того было достаточно, чтобы понять, что имеешь дело с настоящим поэтом, поэтом «божьей милостью», у которого ни одно слово не может быть изъято, заменено или переставлено. «Лучшие слова в лучшем порядке»…
Ее нравственная позиция была единственно возможной для человека, который о своем призвании сказал так:
И есть ли в жизни большая награда, Чем верность одержимости своей?А сама эта позиция выражена с предельной лаконичностью и силой:
Он мучился и созидал добро, И воевал со злом. Он был поэтом.Тут уместно сказать об одном, становящемся все более редким, качестве стихов Ирины Озеровой: они кратки, они немногословны.
Как часто изводятся нынче многие десятки, даже сотни строк, чтобы выразить мысль, для которой и одной-то строфы много. У Озеровой же редко какое стихотворение длиннее двадцати–двадцати четырех строк, и при этом сколько мыслей! Эта краткость, строгая ясность, лапидарность стиля роднят ее с «королевой Анной», как сказала Ирина Озерова об Анне Андреевне Ахматовой в одном из своих стихотворений. Недаром великая Анна любила и ценила поэзию Озеровой, дарила ее своей дружбой.
И еще одну черту Ирины Озеровой необходимо выделить – творческую бескомпромиссность. Как поэт она всю недолгую жизнь шла своим путем, не искала легких, проторенных дорог. Муза Озеровой лирична и философична в одно и то же время, а философия ведь подразумевает наличие собственных мыслей, своего угла зрения на острейшие проблемы человеческого бытия. У Ирины Озеровой это было, и она умела облечь свои мысли в строгую, порою блестящую поэтическую форму. Как для всякого серьезного писателя – поэта или прозаика безразлично, – для нее главное было написать, создать, а не поскорее увидеть свое создание напечатанным. Она была очень строга к себе. Строга и бескомпромиссна. Поэтому так мало сборников собственных стихов успела она издать при жизни.
Одержимость не давала Ирине Николаевне провести ни одного дня без поэзии. Она много и хорошо переводила. Круг ее интересов как переводчика весьма широк: от Байрона, Гюго, Бодлера и Эдгара По до Рильке, Расула Гамзатова и поэтов Чечено-Ингушетии.
«Я давно мечтаю попробовать свои силы в переводах из грузинской поэзии, – сказала она как-то, – но всякий раз неуверенность охватывает меня. Ведь грузинская поэтическая культура – это такая вершина! К ней надо подойти во всеоружии. Я непременно приеду к вам, когда почувствую себя готовой».
И она осуществила свою давнюю мечту: побывала в Тбилиси, завязала творческие контакты, с жадной любознательностью знакомилась с памятниками старины, посещала древние храмы, музеи, старалась вникнуть в наш быт, традиции, постичь национальный дух грузинского народа. Увы, жить ей оставалось уже немного… Это слово горького прощания хочется закончить ее собственными строками из стихотворения «Поэт»:
В постели умирал, бывал убит, То на дуэли, то ударом в спину, Бывал прославлен и бывал забыт… Но до сих пор перо его скрипит, Но до сих пор свеча его горит, Оплывшая всего наполовину. «Кавкасиони», выпуск второй, 1984 г.Павел Антокольский
«Женщина! Слушай мою бестолковую исповедь…»
Ирине Озеровой
Женщина! Слушай мою бестолковую исповедь. Если не нравится – можешь из памяти выставить. Если не хочется – можешь со мной не водиться. В водопроводе свежа и прохладна водица. Кран отверни, и лицо освежи и нечаянно Смой мое прошлое, а заодно и отчаянье. Милая женщина! Ты родилась слишком поздно, Вот отчего мы погибнем не вместе, а розно. 13.10.1964«Случилось чудо! Женщина одна…»
И. О.
Случилось чудо! Женщина одна В одно мгновенье стала так близка мне, Как будто рядом наши имена Зарублены на дереве и камне. Та женщина… Что я скажу о ней? Я сам не знаю, что об этом знаю. Она – как Время, а сказать верней, Сама сквозь Время движется сквозная. А может быть, я не привык еще К присутствию ее души и плоти. Пускай она, уткнувшись мне в плечо, Задремлет в реактивном самолете. И поплывет в серебряном дыму Навстречу нам земное притяженье. А я ребенка на руки возьму, Рожденного в ее воображенье… 8.11.1064Юнна Мориц. На грани выдоха и вдоха
Ирине Озеровой
На грани выдоха и вдоха есть волна, где жизнь от видимости освобождена, упразднены тела и внешние черты, и наши сути там свободно разлиты. Там нет сосудов для скопления пустот, и знак присутствия иной, чем здесь, и счет не лицевой, не именной, и только ритм там раскаляется и звездами горит. На грани выдоха и вдоха есть волна, где жизнь, как музыка, слышна, но не видна. И там поэзия берет свои стихи. И там посмертно искупаются грехи. 1984 г.Николай Глазков. «Поэт пути не выбирает…»
Ирине Озеровой
Поэт пути не выбирает, Диктуют путь ему года. Стихи живут, и умирают, И оживают иногда. Забыться может знаменитый Из уважаемых коллег, И может стать поэт забытый Незабываемым вовек.Елена Пучкова Памяти Ирины Озеровой
Маме
Жизнь проходит. Остались в прошлом, Пошлом, словно блатной юнец, Отец, любимый, родня, собака… Однако это еще не конец. Свинец ударов судьбы, клоака Жизни тошной остались в прошлом. А мама рядом. И, словно живая, Переживает мои невзгоды Все эти годы. Значит, нас двое. Вдвое сильнее я в непогоду, В угоду ненастьям как пес мой не вою, В стихах ее силу и веру черпая. И дочь подрастает. Надеюсь, что, все же, Сможет дочка меня понять, Принять мою веру, прощать сумеет Тех, что не смеют ее прощать. И станет дорога ее яснее, Я с ней буду рядом в пути этом сложном.1990 г.
Алексей Панизовский
Памяти русского поэта Ирины Озеровой
Пока существует насильственная смерть, Поэты должны умирать первыми. ЭлюарПепел Клааса стучит в мое сердце.
Шарль де Костер, «Легенда об Уленшпигеле» Костер потух. Под ним остыли камни. Оставили престиж жестоких гнезд Зеваки, затворили в мире ставни. В звериной темноте лишь холод звезд. Итог суров – еще один подвижник Дал миру искаженному пример Прямого отраженья. Взят барьер. Но отозвался гордый дух не книжно- Газетным славословьем – стуком пепла В сердцах всех тех, в ком у костра окрепла Решимость вслед идти путем одним. Не слепо счастье – вот его секреты: За счастье жить сгорают все поэты, Счастливые сожжением своим. 15.02.84Ирине Николаевне Озеровой
Не поводырь, а старший друг и брат, Не скатерть-самобранка – крепкий ранец. Гвоздика, а не экзо-померанец. И вечный бой, анне шутов парад. На жизнью унавоженном пути Добавить грязи – слишком мало чести. И редко счастье освящает вместе Соратников. Но должен ты дойти, Порою преступив чрез вдохновенье. Жизнь – не базар, но свыше откровенье, Где выбрать смерть – единственное право. Лишь этим ты возвышен над скотом — Достойно пасть, а не с открытым ртом Как Брейгеля слепцы лететь в канаву. Янв.–фев. 1984 г.Исаак Нюренберг
Светлой памяти Ирины Озеровой[5] (1) / из цикла «Соприкосновение» Из далекой юности
– 1 — Как Сапфо[6] мне любовь не воспеть: ни таланта, ни страсти гречанки. Я в любви буду только сопеть, чтоб не стать проигравшим в «молчанке». А хотелось бы, честно скажу, разделить славу Анакреонта. Но не знаю в любви куражу, ни взаправду, ни даже для понта. Похоть только свою ублажу: в нашем веке другие законы. Про обычаи и не скажу — мы не молимся ведь на иконы. И поэтому буду писать не о птичках, сидящих на ветке[7]. Мне сюжетов стихов не искать — несть числа им в делах пятилетки да и в той, неостывшей войне, от которой свербящие раны. О любви? Нет, не пишется мне. Для меня это, может быть, рано. Лето 1951 г., после 9-го классаСветлой памяти Ирины Озеровой* (2) / из цикла «Соприкосновение»
Безвременно ушедшей дорогой Ире
Расскажи, какие взяты рубежи? Не расскажешь! И стихом итожа жизнь, в книжку не завяжешь. В переводах утопать больше ты не будешь. И не будешь проклинать серость буден. Со стихом обручена в жизнь вступала. Но нерадостно она повстречала. И, изрядно потрепав, на рога поддела. Сколько, Боже, славных пав ты уже уделал! Как коварный женишок, много обещаешь. А потом на посошок жизни отымаешь. 1984 г.Вместо послесловия
С большой скорбью узнал о том, что Ирина ушла…
Не в силах употребить другое, обывательски более точное слово. Да, в сущности, оно было бы и неверным, потому что поэт не умирает. Остается его главная суть, его, как говорят евреи «мицве» – та плата, которой он рассчитался с Господом за дарованную ему жизнь. А Ирина внесла плату полновесную – свои стихи, которые есть настоящая поэзия.
Да, Ирина Озерова была настоящим поэтом, поэтом с большой буквы и такой останется в русской литературе. Более того, поэзии ее уготована судьба, которой при жизни, увы, она не удостоилась, по причинам к литературе никакого отношения не имеющим.
Творческая бескомпромиссность – одно из главных свойств настоящего писателя будь он поэт или прозаик. Она приобретает особенное значение в исторические эпохи. Этим свойством Ирина Озерова обладала в полной мере. И оно ставит ее в одну, пусть не очень многочисленную, когорту блистательных русских литераторов, которые спокойно и смело будут смотреть в глаза потомкам.
Леван Хаиндрава,16 февраля 1984 г.Примечания
1
Джим, син – буквы арабского алфавита, – «икс», «игрек».
(обратно)2
Хедив – египетский вассал Османской Империи.
(обратно)3
Патикабеллам – куски сахара, сваренные с фруктовым соком, ритуальное блюдо.
(обратно)4
Пайта – верхний край сари, перекидываемый через плечо.
(обратно)5
Ирина Озерова – поэт и переводчица (см. «Строфы века-1» под редакцией Евг. Евтушенко, стр. 786; «Строы века-2» под ред. Евг. Витковского); школьниками-старшеклассниками вместе посещали литературный кружок при Воронежском Доме пионеров.
(обратно)6
Ира принесла в кружок томик В. Вересаева с переводами др. греческих поэтов и предложила написать что-то о любви; «молчанка» – была такая забавная игра.
(обратно)7
В томике юбилейного издания А. С. Пушкина прочли «Царь Никита и его сорок дочерей».
(обратно)



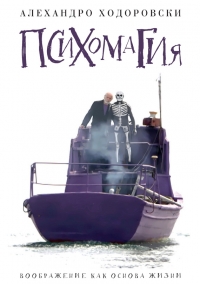
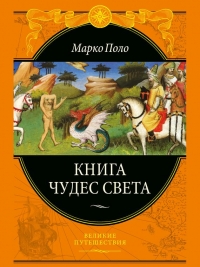
Комментарии к книге «Память о мечте», Елена Олеговна Пучкова
Всего 0 комментариев