Ольга Кучкина ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ КАК СЕСТРЫ
Несколько слов вначале
…Любовь и смерть как сестры, сказал классик. И был прав.
Любовь и жизнь как сестры, говорю я. И я права.
Мои замечательные разговоры с самыми замечательными людьми подтверждают известное: любовь воспроизводит жизнь, жизнь воспроизводит любовь.
Мир стоит на любви, как заметил выдающийся Алексей Герман, и никуда от этого не деться.
ТРЕТЬЯ ЖЕНА Сталин и Валентина Истомина
Празднование очередной, пятнадцатой, годовщины Великой Октябрьской социалистической революции закончилось в 1932 году для 53-летнего Сталина трагически. Печальной ночью с 8 на 9 ноября, раньше других покинув высокое застолье, оскорбленная мужем 31-летняя Надежда Аллилуева покончила с собой выстрелом из пистолета «вальтер».
Через три года, в 1935 году, в качестве обслуги кремлевского вдовца появилась Валентина Истомина, Валечка, Валюша, как звал ее 56-летний Сталин.
Первой его женой была 16-летняя Катя Сванидзе, умершая через год после брака то ли от тифа, то ли от скоротечной чахотки.
18-летняя Надя стала его второй женой.
17-летнюю Валюшу исследователь именует «то ли внебрачной женой, то ли официальной наложницей». Она сделается фактически третьей женой вождя.
Существовала еще 14-летняя любовница Лида Перепрыгина в селе Курейка Туруханского края, где 34-летний подпольщик отбывал ссылку.
Можно сделать вывод, что юные девушки привлекали Сталина более всего. А он, будучи старше их, и даже значительно старше, по всей вероятности, привлекал их. «Сталин красивый был, – уверял в конце своей жизни его дряхлый уже сподвижник Вячеслав Молотов. – Женщины должны были увлекаться им. Он имел успех».
К мужскому обаянию прибавлялось обаяние власти.
Дневник Марии Сванидзе
«И. шутил с Женей, что она опять пополнела, и был очень с нею нежен. Теперь, когда я все знаю, я их наблюдала».
Что именно знала и наблюдала, записав это в своем дневнике, Мария Сванидзе, жена Алеши Сванидзе, брата первой жены Джугашвили? Нади уже нет, но Мария, дружившая с Надей при ее жизни, по-прежнему входит в ближний круг Сталина. В круг этот входят также сестры и братья Нади вместе со своими супругами.
Первая жена Сталина – грузинка.
Вторая – похожа на грузинку. Ровесница Иосифа, мать Нади, Ольга Евгеньевна, в чьих жилах текла горячая цыганская кровь, крутила, по слухам, роман при муже одновременно с двумя революционерами: Джугашвили и Курнатовским. Злые языки болтали, что Надя – дочь кого-то из двоих. Скорее всего, Джугашвили. Отсюда грузинская внешность и возможный скрытый мотив самоубийства: кровосмешение, о котором Надя узнала.
Женя, жена Надиного брата Павла, – русская красавица.
Тот же исконно русский тип – Валечка Истомина, новая фигура в жизни Сталина.
Светлана Аллилуева помнила: «Брат мой Василий как-то сказал мне в те дни: “А знаешь, наш отец раньше был грузином?” Мне было лет 6, и я не знала, что это такое быть грузином, а он пояснил: “Они ходили в черкесках и резали всех кинжалами”». В биографиях вождя отчество его родителя Виссариона Джугашвили неизменно писалось в русской транскрипции: Иванович. Отец народов изживал свое грузинство, желая утвердить принадлежность к титульной нации. Не отсюда ли и перемена типа женщины?
Нежные отношения Сталина со свояченицей Женей не помешали ему посадить Женю так же, как остальных родственников. Почему он разорвал свой ближний круг? Почему последовательно избавлялся от свидетелей прежних лет? «Знали слишком много и болтали слишком много» – его формула. Считается, что главенствовали политические мотивы. А как быть с мотивами психологическими? Полагать, что их вовсе не было, вряд ли верно.
Сталин был и остался одним из самых закрытых руководителей Советского государства. Он тщательно следил за тем, чтобы его биография носила канонический, выверенный характер, а подлинные факты навсегда были скрыты от публики.
Мы вглядываемся в «белые пятна» на этой карте потому, что личное, проецируясь на общее, позволяет лучше узнать суть властителя, суть власти. Как пишет о Сталине профессор Борис Илизаров, «это история жизни человека, вылепившего по своему образу и подобию огромнейшую Советскую мировую державу». Понять его – понять многое в нашей общей судьбе.
Недалекая Мария Сванидзе оставит в дневнике восторженную запись о «своих» и гневную – о «врагах»: «После разгрома ЦИКа и кары, достойной кары, которую понес Авель, я твердо верю, что мы идем к великому лучезарному будущему, – это гнездо измен, беззаконий и узаконенной грязи меня страшило. Теперь стало светлее, все дурное будет сметено, и люди подтянутся, и все пойдет в гору».
О какой грязи речь? Авель Енукидзе. Один из верных друзей Сталина, крестный отец Надежды Аллилуевой.
«Будучи сам развратен и сластолюбив, – характеризует его Мария Сванидзе, – он смрадил все вокруг себя – ему доставляло наслаждение сводничество, разлад семьи, обольщение девочек… он с каждый годом переходил на все более и более юных и, наконец, докатился до девочек 9—11 лет, развращая их воображение, растлевая их, если не физически, то морально… Женщины, имеющие подходящих дочерей, владели всем, девочки за ненадобностью подсовывались другим мужчинам, более неустойчивым морально. В учреждение набирался штат только по половым признакам, нравившимся Авелю. Чтоб оправдать свой разврат, он готов был поощрять его во всем – шел широко навстречу мужу, бросавшему семью, детей, или просто сводил мужа с ненужной ему балериной, машинисткой и пр… Под видом “доброго” благодетельствовал только тех, которые ему импонировали чувственно прямо или косвенно. Контрреволюция, которая развилась в его ведомстве, явилась прямым следствием всех его поступков…»
Чем кончил старый друг Сталина? Точнее, как кончил с ним Сталин? Расстрелял в 1937 году. За увлечение юными девушками или за то, что «знал слишком много и болтал слишком много»? Авелю Енукидзе было предъявлено обвинение в подготовке пяти террористических групп для покушения на главу государства. Преданная главе Мария Сванидзе будет расстреляна в 1942 году. Ее муж Алеша Сванидзе – в 1941-м.
Ни один из верных и преданных не мог считать себя в безопасности рядом с этим безграничным деспотом.
Кремлевская кухня
Иосиф Виссарионович лучше многих знал нравы кремлевской верхушки. Донесения, которые он получал, были красноречивее дневников Марии Сванидзе. Он знал, что жена наркома внутренних дел Ежова Евгения спала с летчиком Валерием Чкаловым, журналистом Михаилом Кольцовым, писателем Исааком Бабелем. Когда писатель Михаил Шолохов вошел в номер 205 гостиницы «Националь», где его ждала Евгения, событие, по обыкновению, было бесстрастно зафиксировано в очередном донесении о распутстве жены наркома. Сталин знал, что сам кровавый нарком спит с мальчиками и девочками. При аресте предыдущего наркома, Ягоды, в его кабинете нашли четыре тысячи фривольных снимков и одиннадцать непристойных фильмов. Абакумов, Берия, Власик – все не ведали удержу в постельных делах, и это не было секретом для Сталина. Не вмешивался до поры до времени, копя компромат? Или все же как мужчина снисходил к чужим мужским слабостям?
Рано или поздно все были репрессированы. Сталин любил и умел терпеть и выжидать.
Последний из названных, Власик, был тем человеком, что взял Валечку Истомину на работу под свое начало, определенно рассчитывая на дальнейшие услаждения.
Полуграмотный рядовой красноармеец-охранник, Николай Власик вырастет в важную персону. После смерти Надежды Аллилуевой ему будет поручено не только ведение всего хозяйства семьи, но и воспитание маленького Васи. Доносы о поведении Васи-подростка будут аккуратно ложиться сперва на стол Власику, а затем – на стол Сталину. Так же, как позже доносы о поведении Василия-летчика, взрослого. Один из пунктов коснется ухаживаний за популярной артисткой Людмилой Целиковской, к которой Василий «беспардонно» приставал, «пытаясь утащить ее в уединенное место» на даче.
Кстати, утверждают, что Валечка Истомина походила на артистку Целиковскую.
Власик дослужится до чина генерал-лейтенанта, начальника главного управления охраны МГБ СССР, осуществлявшего руководство всей охраной вождя. Подобные сатрапы, приближаясь к первым лицам во власти, нередко начинают путать, где эти лица, а где они, принимая отсвет власти за собственный блеск. Генерал Власик, неудержимый в своих притязаниях, дойдет до того, что будет диктовать «вкусы товарища Сталина» некоторым деятелям искусства, давая установки, какие работы осуществлять и кого из артистов в них занимать.
О том, что происходило в семье после смерти матери, поведала в своей книге «Двадцать писем к другу» Светлана Аллилуева, дочь Сталина:
«Из нашего Зубалова были изгнаны славные девушки (подавальщицы) – рослая, здоровенная Клавдия и тоненькая Зина. Появились новые лица, в том числе и молоденькая курносая Валечка, рот которой целый день не закрывался от веселого, звонкого смеха. Проработав в Зубалово года три, она была переведена на дачу отца в Кунцево и оставалась там до его смерти, став позже экономкой (или, как было принято говорить, “сестрой-хозяйкой”)».
Светлана Аллилуева неточна. Новая подавальщица-официантка была переведена на ближнюю дачу в Кунцево не через три года, а уже в ноябре 1935 года, то есть через несколько месяцев, и не оставалась там до самой смерти. В ее пребывании около Сталина был короткий, но драматический перерыв. Светлана либо не в курсе, либо не хочет говорить лишнего.
Вопреки распространенному мнению, что она так никогда и не вышла замуж, Валечка Истомина уже была замужем, очутившись на кремлевской кухне.
Из воспоминаний Геннадия Коломенцева, начальника кухни Сталина: «Ее девичья фамилия была Жмычкина. Два брата ее работали у нас в 6-м отделе на 501-й базе, которую скоро возглавил я».
501-я база снабжала питанием высшее руководство Советского Союза.
В документах зафиксировано занятное происшествие, связанное с питанием верхов.
При подведении финансовых итогов за год Сталину сообщили, что на одну только селедку было потрачено десять тысяч рублей. Выходило, что за двенадцать месяцев вождь съел тысячу банок селедки. Вождь рассвирепел. «Это Власик съел селедку!» – кричал он и был недалек от истины. Обольщая своих дам, Власик без зазрения совести залезал в хозяйские закрома – редко какая барышня могла устоять против продуктового дефицита.
Вместо Власика расстреляли коменданта Федосеева.
Власику в тот раз удалось выкрутиться.
Донесения на тов. Сталина
Скоро выяснилось, однако, что курносая хохотушка, родом из Сибири, из Алтайского края, голубоглазая, белокурая, с ярким румянцем на гладких щеках, выпускница медицинского училища Валечка Истомина приглянулась не одному начальнику охраны.
Молва приписывала многочисленные похождения не только окружению Сталина, но и Сталину тоже. Его контингент составляли жены командармов, актрисы, балерины. С появлением Валечки Истоминой, по словам исследователя Бориса Илизарова, «для всех становится очевидным, что он приличным образом навсегда обустроил свою интимную жизнь».
«12 декабря 35 г . в 4 часа утра Истомина вышла из спальни тов. Сталина и отправилась к себе».
«13 декабря Истомина вышла из спальни тов. Сталина в 5.15 и отправилась на кухню».
Донесения такого рода поступали непосредственно главному охраннику страны.
Выходило, что следили не только за наркомами, за сыном вождя Васей и за подавальщицей Валей Жмычкиной-Истоминой. Фактически следили за самим Сталиным.
Об этом времени вспоминал престарелый Молотов, переживший Сталина на десятки лет: «Потом Валентина Истомина… Это уже на даче. Приносила посуду. А если была женой, кому какое дело?..»
Люди из окружения отмечали, что Сталин преобразился. Повеселел, чаще бывал в благоприятном расположении духа, шутил, смеялся. И даже переменил заношенное грубое солдатское исподнее, которому прежде не придавал значения, на французское шелковое. Валя каждый вечер постилала ему свежие простыни, убирала его комнату, гладила брюки и китель, стирала белье и сорочки, подавала еду.
По мнению дочери Сталина, он не любил самостоятельных, «агрессивных», как она выражается, женщин.
Юная Катя Сванидзе была покорной женой своего мужа. Даже если б и захотела, за год, отведенный им судьбой, просто не успела стать другой. Когда к Иосифу приходили товарищи, она от смущения залезала под стол и ни за что не хотела вылезать.
Тонкая, нервная Надя Аллилуева не покорилась мужу, споря с ним, пытаясь изменить его, – и четырнадцать лет их брака закончились катастрофой.
Восемнадцать лет тайной связи с Валей Истоминой оказались возможны, потому что третья, неофициальная жена Сталина обладала живым, открытым, добрым и покладистым характером, знала свое место, ни на что не претендовала и ничего не требовала сверх того, что ее тайный муж и властитель давал ей по своей воле.
Говорят, она появилась в Зубалово с узелком, в котором лежал нехитрый скарб: тетрадки с конспектами, пуховая шаль и открытка с портретом Иосифа Виссарионовича. Когда молодая женщина носит с собой чье-то изображение, можно предположить, что это ее кумир. Выходить поутру из спальни тов. Кумира – может ли быть большее счастье для простой, пусть и очень хорошенькой подавальщицы!
Пуховая шаль
Пуховой шали суждено занять особое место в нашей истории. В нашей Истории.
Иосиф Виссарионович был болен. Мучила жестокая простуда. Таблетки, которые прописывали врачи, не помогали. Да и не могли помочь. Поскольку он их выбрасывал. Он не доверял врачам.
Молоденькую официантку послали к нему с горячим чаем. Видя, как человек мучается, она, глянув на него с состраданием, пообещала вылечить. Недаром сибирячка и недаром заканчивала медицинское училище. Заварила мяту, или ромашку, или шалфей, напоила и плотно обернула торс больного принесенной пуховой шалью, подоткнув со всех сторон.
Лечение или любовь сделали свое дело. Наутро лихорадка оставила Иосифа Виссарионовича.
Сталин не отличался крепким здоровьем. Как явствует из вновь открытых медицинских источников, он страдал частыми инфекционными заболеваниями, сильными расстройствами желудка – иногда с ним случалось до двадцати поносов в день. При этом пил, курил, ел жирную и острую пищу, любил устраивать ночные пиры с соратниками. И не слушал врачей, относясь к ним с подозрением. Как-то раз он, как бы шутя, спросил своего терапевта Шнейдеровича, лечившего его до войны: «Доктор, скажите, только говорите правду, будьте откровенны: у вас временами появляется желание меня отравить?» Последовало оглушительное молчание. После чего Сталин сказал: «Я знаю, вы, доктор, человек робкий, слабый, никогда этого не сделаете, но у меня есть враги, которые способны это сделать».
С появлением в его жизни Валюши он если и принимал таблетки, то исключительно из ее рук.
Вскоре ее перевели на ближнюю дачу в Кунцево, где Сталин проводил большую часть времени.
Рассказывали, что они частенько ездили на машине из Кунцево в Москву. Вдвоем. Без охраны. И это несмотря на всю его дьявольскую осторожность и осмотрительность. Однажды их видели в аптеке: старик и, по всей вероятности, его дочь. Старик был закутан в длинную то ли шубу, то ли шинель. Миловидная дочь купила отцу лекарства, и они ушли. И лишь позже аптекарше сообщили, кто это был.
«Пригожуня»
Вот какой описывал Валечку, называя ее «пригожуней», Сергей Красиков, бывший офицер охраны, в своих мемуарах «Среди вождей»:
«Не знаю, точно ли сохранила память облик этой милой, обаятельной, невероятно стройной и опрятной женщины, которая умела сохранить такт и аккуратность во всем, но при том еще и этические нормы поведения. Из-за секретности положения мало кто из военнослужащих знал, какую на самом деле должность занимала пригожуня. Дежурные постов нередко пытались заигрывать с красавицей, задерживая ее на постах разговорами, с желанием выудить номерок телефона для знакомства более обстоятельного. Люди эти были разными, корректными и развязными. Отбиваться от перезрелых ухажеров приходилось нелегко. Однако Валентина Васильевна с честью выходила из положения, охлаждая потоки изъявлений влюбленных точно найденным тихим и твердым словом. Никто из предполагаемых ухажеров взысканий не получал, как не получал и ожидаемых свиданий».
Тут, насчет «ожидаемых свиданий», наблюдатель неточен.
Незнание правды либо нежелание говорить всю правду до конца сковывает уста наших мемуаристов.
Григорий Пушкарев, также офицер личной охраны Сталина, выразится прямее:
«По наблюдениям охранников, у нее со Сталиным в последние годы его жизни были очень близкие отношения. Не раз видели, как она выходила из его спальни в четыре, а то и в пять часов утра и шла к себе, в дом для прислуги. Хозяин, а так называло Сталина все окружение, ее обожал. Он любил, чтобы вечером только она подавала ему чай, а иногда просил: “Позови Валентину, пусть расстелет постель”. Ему нравилось, когда это делала именно она. Обычно Сталин работал до полуночи, но часто засиживался и до трех часов. Не спала и Валентина. Только ей дозволялось беспрепятственно заходить в “главную спальню” страны. Надо сказать, что в Валентину была поголовно влюблена вся охрана. В свои 40 лет она была очень хороша собой – красивое лицо, большие глаза, огромные ресницы, плотная фигура с хорошими формами. Каждый из нас считал своим долгом в какой-то мелочи помочь ей или просто лишний раз попасться на глаза».
Пушкарев ошибается в возрасте Валентины – 40 лет ей исполнится в 1958 году, когда Сталина уже не будет на свете.
Поездка на юг
О том, что Сталин не расставался с Валечкой, есть любопытное свидетельство той же Светланы Аллилуевой:
«Летом 1946 года он уехал на юг – впервые после 1937 года. Поехал он на машине. Огромная процессия потянулась по плохим тогда еще дорогам, – после этого и начали строить автомагистраль на Симферополь. Останавливались в городах, ночевали у секретарей обкомов, райкомов. Отцу хотелось посмотреть своими глазами, как живут люди, – а кругом была послевоенная разруха. Валентина Васильевна, всегда сопровождавшая отца во всех поездках, рассказывала мне позже, как он нервничал, видя, что люди живут еще в землянках, что кругом одним развалины… Рассказывала она и о том, как приехали к нему на юг тогда некоторые, высокопоставленные теперь, товарищи с докладом, как обстоит с сельским хозяйством на Украине. Навезли эти товарищи арбузов и дынь не в обхват, овощей и фруктов, и золотых снопов пшеницы – вот какая богатая у нас Украина! А шофер одного из этих товарищей (в сноске сказано, что это был Хрущев – О. К.) рассказывал “обслуге”, что на Украине голод, в деревнях нет ничего, и крестьянки пашут на коровах… “Как им не стыдно, – кричит Валечка и плачет, – как им не стыдно было его обманывать! А теперь все, все на него же и валят!”»
Простодушная защитница его перед другими, перед всем белым светом, а может, и перед собой, она и была нужна ему такой, похоже, единственной, на кого он мог целиком положиться.
Целиком?
Он еще не предчувствует того, чему суждено случиться.
Тем больнее будет удар.
Между прочим, результатом того, как нервничал тов. Сталин, переживая плохие условия жизни вверенного ему народонаселения, явится факт, которым – также простодушно– закончит Светлана Аллилуева:
«После этой поездки на юг там начали строить еще несколько дач, – теперь они назывались “госдачи”».
Не землянки менять на нормальное жилье, а возводить дачи для номенклатуры – какая характерная деталь режима, который робким, малодушным и, по сути, невежественным из ближнего и дальнего круга хотелось бы оправдать, а то и превознести.
Вновь возведенные крымские дачи мало кто посмеет обжить. Посмеют Жданов и Молотов.
Арест
Секретность положения, о каком упоминал охранник Красиков, сегодня расшифрована полностью: пригожуня – мало того что любимая женщина Хозяина, она еще и сержант госбезопасности.
Весной 1952 года, через семнадцать лет вожделений Николая Власика, на ближней даче в Кунцево всесильный генерал госбезопасности обретает реальную возможность покуситься на честь сержанта госбезопасности.
Воспользовавшись тем, что Сталин болен и Валентина Васильевна ночует не у него, а у себя, Власик приступает к делу.
Сталину докладывают о случившемся немедля.
События нарастают как снежный ком.
Валечку вызывают на допрос.
Она не отвечает, молчит и плачет.
Сталин расценивает ее молчание по-своему и избивает ее. Раздавленная женщина в отчаянии.
По некоторым сведениям, не только Власик, но и Берия попробовал или попытался попробовать сержантского тела. Почему-то наказан один Власик. Власика арестуют. Возможно, что Берия как-то вышел сухим из воды.
Следователей интересует записная книжка любвеобильного охранника. В ней больше ста женских имен. Обнаруживается наличие у генерала специального адъютанта по амурным делам.
Свидетель заявляет: «Власик спаивал меня, а когда я засыпал, сожительствовал с моей женой». Признание Власика: «Я действительно сожительствовал со многими женщинами, распивал спиртное с ними, но все это происходило за счет моего личного здоровья и в свободное от службы время».
То есть здоров как бык, раз все успевал.
Он получает срок: десять лет. Потом срок скостят наполовину.
Придут чекисты и за Валентиной Васильевной. Ей дадут пять минут на сборы, засунут в воронок и отвезут из Кунцева в Москву тем самым путем, каким она столько раз ездила вдвоем с любимым человеком. Поездка закончится внутренней тюрьмой на Лубянке.
Неоднократно Валечка слышала о том, как забирали людей из самого тесного окружения Сталина и как потом они пропадали бесследно. Она об этом помалкивала. Не ее ума это было дело. Ее не касалось. И вот коснулось. Она отчетливо понимала, какая участь ожидает ее.
Несколько недель она не видела ни единого человеческого лица. Ей ставили в окошко одиночки ежедневную баланду, и все. Ее даже не вызывали на допросы. Ее бедный ум, которого прежде почти ничего не касалось, отказывался служить ей.
Стояло лето, когда однажды раздался окрик: «Истомина! С вещами на выход!»
Она прощалась с жизнью так же, как прощались военачальники и ученые, инженеры и техники, врачи и учителя, крестьяне и рабочие, партийцы и беспартийные – все, кого косила эта страшная газонокосилка, изобретенная отцом народов, которого она любила.
Стоит привести высказывание еще одной женщины, любившей его, – дочери Светланы:
«При всей своей всевластности, – уверяет она, – он был бессилен, беспомощен против ужасающей системы, выросшей вокруг него как гигантские соты, – он не мог ни сломать ее, ни хотя бы проконтролировать… Генерал Власик распоряжался миллионами от его имени…»
Здесь все правда и неправда. Даже если таков финал, от кого зависело начало?
Знавшая своего папу лучше многих, дочь трезво оценивает папин режим: «Он дал свое имя кровавой единоличной диктатуре. Он знал что делал, он не был ни душевнобольным, ни заблуждавшимся. С холодной расчетливостью утверждал он свою власть и больше всего на свете боялся ее потерять. Поэтому первым делом всей его жизни стало устранение противников и соперников».
И все равно, противореча себе, умная Светлана готова прежде всего предъявить счет Власику или Берии как злым гениям Сталина. Что уж спрашивать с несчастной Валечки, у которой голова и так шла кругом…
Ее не казнили.
Без суда и следствия ее отправили в самый зловещий лагерь – на Колыму, в Магадан.
Возвращение
Тем временем на ближней даче – несчастье. У Сталина случился настоящий удар. По словам дочери Светланы, он был вызван «сильным склерозом и повышенным кровяным давлением». Вождю 73 года – возраст немалый. Однако кто может знать об истинных причинах повышенного давления!
Врачи предписывают Сталину лекарственное лечение и покой. Ни того ни другого обеспечить ему они не в состоянии. Охваченный беспокойством и тревогой, в тяжелом, подавленном настроении, он, как всегда, выбрасывает таблетки, не веря медицинским работникам.
Он не хочет признаваться себе, каким одиноким и потерянным чувствует себя без Валюши, как тоскует по ней, в какую бессмыслицу превратилась его жизнь.
Он больше не в силах скрывать от себя, что не может без нее. Он дает указание вернуть ее из лагеря. Приказ об освобождении Валентины Истоминой поступает едва ли не сразу, как она успевает добраться до Магадана.
На военном самолете ее доставляют назад, в Москву.
Дальнейший адрес тот же – дача в Кунцево.
Иосиф Виссарионович велит женщине зайти.
Не помня себя от волнения, Валюша переступает порог его комнаты и – бросается в его объятья. Обоих душат слезы.
«Был капризный, иногда плакал». Его собственное признание о детстве.
Еще раз плакал он на похоронах жены Надежды Аллилуевой. Кадры, снятые кинооператорами, по его распоряжению были уничтожены. Так же, как и кинооператоры.
Обнимая Валюшу, он, верно, в последний раз не скрывает слез.
Валюша снова врачует его тело и его душу. Он поправляется.
Их совместной жизни остается меньше года.
В книге Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу» приводится еще один занимательный сюжет той поры, начертанный как бы двумя субъективными перьями:
«“Дело врачей” происходило в последнюю зиму его жизни. Валентина Васильевна рассказывала мне позже, что отец был очень огорчен оборотом событий. Она слышала, как это обсуждалось за столом, во время обеда. Она подавала на стол, как всегда. Отец говорил, что не верит в их “нечестность”, что этого не может быть, – ведь “доказательством” служили доносы доктора Тимашук, – все присутствующие, как обычно в таких случаях, лишь молчали…
Валентина Васильевна очень пристрастна. Она не хочет, чтобы на отца падала хоть какая-нибудь тень. И все-таки, надо слушать, что она рассказывает и извлекать из этого рассказа какие-то здравые крупицы, – так как она была в доме отца последние восемнадцать лет, а я у него бывала редко».
Светлана отдает себе отчет в том, что Валюша пристрастна. Но так хочется зловещую серию очередных арестов свалить на кого-то – не на кровно близкого человека! Трудно вообразить, как это при крайней подозрительности Сталина по отношению к врачам, он мог не верить тому, что реально инициировал. С конца 30-х годов были посажены и расстреляны профессора Казаков и Левин, лечившие Надежду Аллилуеву и дававшие заключение о ее смерти, к десяти годам приговорен профессор Плетнев, отсидел свое терапевт Шнейдерович… Не умри Сталин, преследование медиков было бы раскручено на полную катушку.
Положение во гроб
Дочь признается, что бывала у отца редко. Они не могли восстановить отношений, испортившихся из-за того, что выходила замуж не за тех, кто мог бы понравиться Сталину, была своенравна, упряма и настойчива. За ней следили, как и за другими, и уже первый ее любовный контакт в шестнадцать лет с военным корреспондентом, а позже известным киносценаристом Алексеем Каплером закончился арестом возлюбленного и пятилетним тюремным сроком.
Светлане позвонят в первых числах марта 1953 года и скажут, что с отцом плохо. Она примчится на кунцевскую дачу, но он уже никогда не узнает об этом, потому что больше никогда не придет в сознание. Врач, присутствовавший при последних минутах властителя, констатирует: «Сталин лежал грузный, он оказался коротким и толстоватым, лицо было перекошено, правые конечности лежали как плети. Он тяжело дышал, то тише, то сильнее». Зловещее дыхание Чейн-Стокса, о котором объявят на всю страну по радио, предвестник смерти, окончится смертью. 5 марта в 21 час 50 минут сердце Сталина остановится. Вскрытие покажет обширнейший инсульт головного мозга.
Из книги «Двадцать писем к другу»:
«Пришла проститься Валентина Васильевна Истомина, – Валечка, как ее все звали… Она грохнулась на колени возле дивана, упала головой на грудь покойнику и заплакала в голос, как в деревне. Долго она не могла остановиться, и никто не мешал ей».
Двоедушные, лицемерные, трусливые сподвижники, соратники, помощники, окружавшие Хозяина, были сражены искренним проявлением чувства, на какое никто из них не был способен.
Начальник кухни Сталина Геннадий Коломенцев вспоминал:
«Когда Сталин умер, Берия всю сталинскую обслугу разогнал. Всю! Кого – куда! Единственная, кто ушел на пенсию, – сестра-хозяйка Валя Истомина. Кстати, именно она омывала тело Сталина перед положением его в гроб».
Говорили, что страстное свидание 35-летней Валентины Васильевны с 73-летним Иосифом Виссарионовичем после того, как ее вернули с Колымы, имело последствием ее беременность. Якобы она родила девочку уже после смерти Сталина. Что было дальше с последней дочерью Сталина – сведений нет.
Пережив своего гражданского мужа на сорок два года, Валентина Васильевна Истомина умерла в 1995 году, никому ничего не открыв, унеся с собой тайну любви к великому гению и великому злодею – две вещи иногда совместные, вопреки утверждению великого поэта.
Валечка Истомина была Жбычкина, а не Жмычкина
Рассказывает племянник Борис Жбычкин.
Сокольники. Солнечный день. Мы встречаемся как конспираторы. «Я буду в клетчатой рубашке с короткими рукавами и безрукавке». «Я в кожаном пиджаке».
Родной племянник Валентины Васильевны Истоминой Борис Павлович Жбычкин ответил согласием на предложение познакомиться.
И вот мы сидим в его припаркованном «жигуленке».
* * *
– А тут можно стоять?
– Нельзя. Но мы сокольнические, местные, нам можно.
– Помимо того, что сокольнические, кто вы, два слова о себе.
– Всю жизнь в телеателье, телевизоры ремонтировал, сейчас на пенсии.
– Все ли правильно в нашем рассказе о вашей тетке?
– Нет, не все. Во-первых, фамилия тети Вали не Жмычкина, а Жбычкина. Мы все Жбычкины. А пошло это от начальника кухни Геннадия Викторовича Коломенцева, он неверно ее фамилию привел в своих воспоминаниях. Во-вторых, родина тети Вали – не Алтайский край, а Орловская область, Корсаковский район, деревня Донок. В-третьих, она не была похожа на артистку Целиковскую. Вот смотрите.
Борис Павлович достает драгоценный конверт с фотографиями.
– Здесь ей 50 лет, меня в армию провожают, это я, это мой отец Павел Васильевич, ей родной брат, а это ее муж, дядя Ваня Истомин, родом из Архангельской области. А здесь ей, наверное, лет 30.
– Год ее рождения правильный указан?
– 1917-й. Хотя и раньше писали, что 1918-й, но на самом деле она родилась в 1917-м.
– А какого числа?
– 7 ноября.
– Прямо в праздник?
– 7-го или 6-го, точно не помню… Вот видите, ну какая же она Целиковская?
– Вы правы, непохожа. Да ведь это люди говорили… Но она милая.
– О, культурная, воспитанная! Она приехала сюда, в Москву, никакого медицинского училища не кончала, а работала на фабрике. Неподалеку, на Матросской Тишине, была с подружками, и в общей компании познакомилась с девушками, которые позвали ее работать туда, где они работали, на кухню к Сталину.
– То есть это не братья ее привели?
– Нет, это она их потом привела.
– Вряд ли так легко можно было попасть на кухню к Сталину. Скорее, все же, ее увидел охранник Сталина Власик, после чего она там оказалась.
– Она сначала, а отец туда попал, когда с войны вернулся. Сейчас его уже нет. Старший брат, Федор, тоже работал в охране, как и мой отец. А средний, Василий, погиб на фронте. У Василия было два сына. Без кормильца трудно ребят поднимать, и тетя Валя взяла одного из них в свою семью, усыновила. Она сперва хотела меня усыновить, нас двое братьев-близнецов, но потом взяла другого племянника, Толика. Он недавно умер.
– А свои дети у нее с мужем были?
– В том и дело, что нет. Дядя Ваня Истомин всю войну прошел, вернулся полковником, очень много наград привез. Тетя Валя смеялась, что у нее наград ничуть не меньше.
– Светлана Аллилуева пишет, что она веселая была, хохотушка…
– И до самой старости такая. Приедешь к ней на дачу и то и дело слышишь: ха-ха-ха да ха-ха-ха.
– А что она делала после того, как ушла на пенсию?
– Ничего. Ни одного дня не работала.
– Вязала, шила?
– Ничего. Дачу купили, она все там вылизала. Кулинарка была! Какую-нибудь простую навагу так готовила, что можно было со сковородкой съесть.
– А муж работал?
– Дядя Ваня работал. На радио в каком-то спецотделе, потом в похоронном бюро, но через месяц ушел оттуда… Когда был съезд КПСС, ХХ-й, кажется, они написали на этот съезд, и тете Вале дали огромную сумму, пенсию персональную и какую-то компенсацию, и они сразу купили «запорожца» на эти деньги.
– А когда она работала у Сталина, что тогда делал Истомин?
– Дядя Ваня? Я не знаю, не хочу врать. Работал где-то. Только не шофером, как в «Сталин-live».
– Он тоже гэбэшник был?
– Нет, армейский.
– А она была сержант госбезопасности?
– Она сержант госбезопасности.
– Муж знал, что у нее роман со Сталиным?
– Иван Арсеньевич? Нет. Когда он был жив, вообще ничего этого не говорили и не писали. Это уж после его смерти…
– В каком году он умер?
– Лет семь назад. Упал с балкона.
– Самоубийство? Или несчастный случай?
– Несчастный случай. Что-то хотел сделать там на балконе… Ему уже много лет было…
– Думаю, не он не знал, а вы не знали. А она что-нибудь из своей кремлевской жизни вам рассказывала?
– Ничего.
– А отец ваш?
– И отец ничего. Никогда. Только про милицию, когда стал дежурным по городу в милиции работать. А раньше я знал, что он в Завидово ездит, что в командировки уезжает, а что, куда, – нет. Там была такая история, когда Коломенцев с моим отцом рыбу однажды ловили, и вдруг их окружили, и подъезжают две машины, и выходит Сталин. Коломенцев глаза в землю, испугался, он раньше не видел Сталина, а Сталин начинает: как дела, ребята, как рыбалка. Ничего, отвечает мой отец, только холодно. Р-раз – открывают чемодан и наливают им по рюмке. Отец говорит: ну что рюмка, мало. И тогда им наливают по фужеру… Но эти воспоминания Коломенцева я читал недавно. А тогда они все помалкивали.
– Видимо, из-за подписки, которую давали.
– Видимо. К тете Вале многие обращались, и из-за границы приезжали, чтобы хоть какое-то интервью. Ни-че-го. Ни слова. Дала только нам посмотреть часы от Сталина с надписью… нет, часы от Мао Цзедуна, потому что Мао Цзедун очень любил ее, а от Сталина книга с надписью, мол, Валентине Васильевне, вам надо учиться, что-то в таком духе.
– Где же эти часы и эта книжка?
– Наверное, у жены Толика. Но мы как-то не общаемся.
– А эта история с дочкой Валентины Васильевны?
– Не было дочки. Это вранье. Я же вам рассказал, был только усыновленный Толик, и все.
– Спасибо, большое спасибо, Борис Павлович.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович.
Родился в 1879 году в городе Гори (Грузия) в семье сапожника. Революционер, член ВКП (б) с 1898 года, строитель Советского государства. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Герой Социалистического труда, Герой Советского Союза, Генералиссимус Советского Союза, Верховный главнокомандующий. Умер 5 марта 1953 года.
ИСТОМИНА Валентина Васильевна.
Родилась в 1917 году в Орловской области. Девичья фамилия – Жбычкина.
Переехала в Москву, работала на фабрике. Была взята на работу по обслуживанию семьи Сталина. Служила в чине сержанта госбезопасности.
В 1953 году, в связи со смертью Сталина, была отправлена на пенсию.
Умерла в 1995 году.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД Людмила Карпинская
Глубокий мыслитель, философ, публицист, яркий «шестидесятник» Лен Карпинский, сын сподвижника Ленина Вячеслава Алексеевича Карпинского, человек со сложной судьбой, переломанной властью, которой он искренне служил вначале и которую в упор разглядел позднее, он был изгнан сперва из ЦК комсомола, потом из «Правды» (за публикацию в «Комсомолке» знаменитой статьи «На пути к премьере» вместе с Федором Бурлацким), после – из «Известий» и, наконец, из партии как политический диссидент.
Он был очень болен, перенес три операции, за год до смерти ему отняли ногу. В связи с одной из операций Михаил Горбачев писал немецким медикам в Дюссельдорф: «Я давно знаю Л. Карпинского и высоко оцениваю его вклад в демократическое развитие нашей страны. Ваше мастерство и добрые сердца сделали большое дело».
Лен практически не оставил книжного наследия – только «мешки записных книжек», как говорит жена Люся, которая продолжает их разбирать, находя россыпи интеллектуальных драгоценностей.
Одна – о любви: «Между тем любовь к человеку есть стремление посвятить себя его жизни, ему именно, перейти в него без остатка, испытав счастье. Тонкая грань: присвоитель человека вселяется в другого, не растворяясь в нем, а растворяя его в себе, присоединяя его к себе. Жить жизнью другого, беря ее себе или отдавая свою другому…»
* * *
– Люся, это была любовь с первого взгляда?
– Должно было пройти семь лет, чтобы мы поняли, что любим друг друга. Я училась в инязе в Горьком, он приехал после философского факультета МГУ преподавать истмат, я даже была в его семинаре, но не ходила, меня это не интересовало, но я помню, что весь институт, и наши, и политехники, прибегали слушать его лекции.
– Слушать или смотреть на него? Ведь он был очень красив.
– Это само собой. Он еще завоевал популярность, поскольку руководил лыжной секцией, девочки, которые с ним ездили на хутора, поголовно были в него влюблены.
– Он уже был женат?
– Да. Регина окончила тот же факультет и приехала вместе с ним. Она преподавала в университете. И уже был Максим. Лен часто заходил с ним в общежитие, я жила недалеко, у меня там были друзья, я хорошо помню Максима маленького.
– Регина жива?
– Она умерла, как раз когда мы были в Дюссельдорфе. Я сказала мальчикам, его сыновьям, что не буду Лену говорить. Он узнал, только вернувшись.
– В те годы ты была уже замужем?
– Я должна была идти расписываться через два дня после выпускного вечера. И что произошло – я собиралась уходить, ко мне подошел Саша Серебренников, комсорг: я хочу познакомить тебя с Леном Карпинским. Подошла декан нашего факультета Марья Ивановна. И мы все пошли в буфет. И все напились. Включая деканшу. А мой будущий муж, военный, преподавал в Суворовском училище, он должен был меня встречать. Мы шли, и всю дорогу я плакала. Бессознательно. Потом удивлялась: почему я так плакала? А затем уехала в Москву и стала жить здесь, потому что мужа перевели сюда. Ко мне приезжала подружка Ася, которая была влюблена в Лена, и я через нее больше знала о нем, чем нужно. Она сказала, что он секретарь ЦК комсомола, и что Люся Хитяева, актриса, переехала сюда, у них роман.
– А ты знала, что ему сказали в ЦК партии: либо оставишь ее, либо положишь партбилет. И он ее оставил. Так говорили. Попрекали его этим. Хотя, кто знает правду…
– Я этого не знаю. Мы никогда не обсуждали дела друг друга. Никогда не задавали друг другу никаких вопросов.
– У вас были такие деликатные отношения?
– В этом смысле да. Контроля друг за другом не было.
– А ревность была?
– Естественно. И он ревновал, и я. Но больше это проходило на юморе. Мы так тяжело пришли к тому, чтобы жить вместе, что очень дорожили этим. Все-таки разрушить две семьи… Однажды случилась история. Он ежегодно ездил на Север с Сашей Галкиным и Борей Орловым, у них образовалась своя компания, они вернулись и позвали меня. Кто-то начал за мной ухаживать. И Лен вдруг при всех меня обругал. У меня был шок. Когда пришли домой, я ему сказала: я так жила с первым мужем, когда шагу нельзя было сделать, я так не могу, я даже пережить это не могу… Больше такого не было.
– Как же началась любовь?
– Летом 63-го года позвонил Саша Серебренников в одиннадцать вечера: ты что делаешь? Говорю: ничего, вышла из душа, сушу волосы. Он говорит: надень платочек, иди на трамвай и приезжай к «Изотопам», мы тут с Карпинским стоим. Муж редко куда-то уезжал, а в тот раз уехал, девочки были у бабушки, я свободна. Я жила на Академической, надела платочек, села на трамвай и поехала. Мы встретились, как будто не расставались. Поехали к нему на Кутузовский. Там тоже никого, все на даче. Мы выпили немножко шампанского, смотрели фотографии, поставили музыку. Лен пригласил меня танцевать. Сашка все сидел и ахал, мол, в жизни не видел, чтобы Лен танцевал. Потом меня отвезли домой. И все. На следующий день звонок: ты не смотрела «81/2» Феллини? А я как раз очень хотела посмотреть. Мы встретились. С нами пошел Дима Полонский, режиссер, он купил мне цветы, не Лен, и пока провожали меня, мы с Димой говорили о фильме, Лену он сказал: тебя я не спрашиваю, ты весь фильм смотрел на Люсю… Лен был какой-то уставший. Красивый, толстый, хотелось потыкать его пальцем. На следующий день – опять звонок: приглашает в бассейн. Мы поплавали, зашли куда-то поесть, потом я отправилась домой. Когда плавали, только и говорили, что об «Апельсинах из Марокко» Васи Аксенова, которые оба прочли. Вася даже не подозревает, почему я его так люблю…
– Лен тебя звал, а ты – что?
– А я завороженно шла. А потом мы сидели в Александровском садике, и он сказал, что хотел бы со мной жить вечно. Что меня купило? Я работала в Библиотеке Ленина, в отделе международного книгообмена, мы начинали рано, причем такая система: проходишь, отстукиваешь время, номерочек вешаешь, все стрелой. А до этого надо девочек в садик отвезти, на метро, машины нет. И каждое утро Лен стоял у метро, и мы бегом мчались до подъезда Ленинки. Уж потом я узнала, как ему трудно было рано вставать…
– Ты сказала «да»?
– Я ничего не сказала. Решение было мучительным для обоих. Хотя он сказал, что Регина будет согласна, все обойдется, но не обошлось. Я считала и считаю, что без любви жить невозможно. И когда мне говорят, что вот ради детей надо, я думаю по-другому. И мужу сказала, что не люблю его. А Лен ему позвонил. Что они говорили, я не знаю, но муж взбеленился еще больше. А потом приехали наши свидетели на свадьбе, и муж при них устроил страшный скандал. Я решила, что уйду. Не будь этого случая, я бы еще долго терпела, уговаривала себя…
– Вы сразу развелись?
– Мы еще два года не разводились. А тогда Лен пришел поздравлять с 8 Марта и говорит: ну когда же, когда? А я говорю: да сегодня! Взяла девочек из садика, в мешок положила какие-то колготки, белье, книжки, игрушки, и мы уехали на дачу в Баковку. И тут же все начали восстанавливать статус-кво. Муж пришел в «Правду» и написал письмо Суслову. Там была фраза: «и увез их на государственную дачу». Это было подчеркнуто красным. Мы потом вспоминали и смеялись. Мы, наверное, были счастливы, и нас все смешило. Мама приехала, начала уговаривать вернуться. В это время в кинотеатре «Россия» шел «Гранатовый браслет». Я говорю: ты, мамочка, сходи в кино, посмотри «Гранатовый браслет», а потом поговорим. Мама пришла вся зареванная, говорит: где дети, давай я их хоть помою. Я говорю: да я их мою!.. А потом мой муж встретился с Региной и успокоился: видно, она ему сказала, что все кончится быстро, может, даже привела примеры… Поскольку я все делала сама, работала, двое детей, помочь некому, то не было даже времени обдумать что-то, как механизм запущенный, может, это и спасало… Мы еще успели съездить на дачу к Вячеславу Алексеевичу, отцу Лена. Вскоре он умер. Наше счастье совпало с несчастьем.
– Когда вы расписались?
– 8 декабря 67-го года. Когда Лена уже выгнали из «Правды». Федя Бурлацкий ходил понурый. Мы жили на «правдинской» даче в Серебряном Бору и все искали случая побыть вдвоем, а Федор говорил: вы ни о чем не думаете, вам лишь бы целоваться. Для него это был крах. Лен легче переносил. Его перевели в «Известия». Однажды он позвонил: все, старуха, можешь отобедать со свободным человеком. Тогда и я развелась.
– В вашей жизни было много катаклизмов – как Лен их переживал?
– Внешне почти спокойно. Сначала молодость и наша любовь окрашивали все в другие тона. Но именно тогда он начал серьезно задумываться над тем, что происходит. Время «оттепели», разоблачение культа личности Сталина – он стал по-другому осматривать свою прошлую жизнь, я уверена. Но я уверена также, что и тогда он не делал ничего плохого. У него не было корыстных побуждений – искренние убеждения. Он чистый человек. Потом чешские события – 68-й год. А у него друзья в «Известиях» – Нина Александрова, Боря Орлов, которого вернули из Праги, потому что он отказался поддерживать официальную точку зрения. Лен был очень жизнестойкий. Он любил жизнь во всех ее проявлениях. Сейчас, разбирая его записи, я вижу, что он очень переживал, что ничего не может делать, никому не нужен: сначала ему не давали работать, потом не мог себя найти уже в новой ситуации. Он не был добытчиком. Он не мог пойти куда-то что-то грузить, как другие, когда денег нет. Ему говорили: напиши что-нибудь, поставь псевдоним. Не получалось. Был случай, когда он написал диссертацию за одного узбека. Я приезжаю из Ялты: узбек делает плов в котелке. Лен объясняет: он работает в инязе, диссертация даст ему возможность выращивать виноград и помидоры… Наступил торжественный момент, когда Лен начал читать ему его диссертацию. Тот изменился в лице. Он ничего не понял. Но диссертацию взял и ушел. Так с Леном часто бывало: уходили, не расплачиваясь. Я позвонила людям, которые рекомендовали того узбека, и какие-то деньги мы получили. На этом карьера Лена-диссертанта кончилась. Но он не прекращал думать. Завтракаем – хватает салфетку, что-то записывает… Тут Леня Почивалов написал, что когда произошли чешские события, Лен предложил пойти в ГУМ и разбрасывать листовки. Я говорю: как ты мог такое написать? Он говорит: 30 лет прошло, я мог забыть.
– А что тебя шокировало?
– Лену в голову не могло прийти подобное. Он не был организатор. Он был теоретик. Он хотел всех заставить понять, что происходит, чтобы каждый подумал и добровольно выбрал свой путь. Он хотел, чтобы люди участвовали в дискуссиях, чтобы издавались сборники, где были бы разные точки зрения, призывал всех к полемике. Он знал и в ЦК партии людей, мнения которых уважал. И сам не скрывал своих взглядов. Вот почему он задумал альманах, а это восприняли как бунт.
– Никакой организации не было?
– Они все время искали организацию, а ее не было. Когда собирались на кухне и кто-то призывал: тихо-тихо, то Лен подходил к вытяжке и говорил: внимание, я думаю так-то и так-то…
– Его вызвали в Комиссию партконтроля и исключили из партии…
– Да. Я купила ему впервые в жизни белый костюм и заставила надеть. Сказала: «Лен, когда случаются такие события, нужно быть комильфо, ты должен быть лучше всех». Они говорили ему: не наш. Когда вернулся, сказал: это все твой белый костюм!
– И рвался обратно в партию!..
– Когда началась перестройка, он был без работы, долго все слушал, а потом поверил, что начались перемены, и хотел снова работать в партии. Он человек команды. Но его не приняли. Сказали: «не разоружился». А потом Юра Афанасьев, Леня Баткин и другие подписали письмо к 19-й партконференции, чтобы его восстановили. Восстановили. Тут начались литовские события, и он вышел из партии.
– Недолго музыка играла…
– Я прихожу на Новодевичье: там его папа, мама, мамина сестра, мамин брат, расстрелянный, и везде написано: член ВКП(б) с такого-то года. Все же воспитание…
– Как он переносил болезнь?
– Я его называла «железным дровосеком». Он был очень мужественный. И очень терпеливый к своей боли. Совершенно не мог терпеть чужую. У меня были камни в почках, приехала «неотложка» – Лен сидел и плакал. У Сонечки, первой внучки, заболело ушко. Соня кричит, а Лен плачет.
– Что превалировало в ваших отношениях: отношения мужчины и женщины или отношения друзей?
– Наверное, я подходила ему как женщина, так я надеюсь. И в то же время была легкость общения друг с другом. Жизнь не была идиллической. Но мы одинаково смотрели на какие-то вещи. И отношение к жизни материальной у нас совпало. Денег у нас не было никогда, сама знаешь. Хотя я не скажу тебе, что было очень легко. Но когда у него появилась первая возможность что-то для меня сделать… Он вернулся из Франции, я вхожу в дом, и все взоры устремлены на меня. Я не поняла, а это они хотели видеть мою реакцию: он мне привез шубу!.. И в конце дал Наташе сто долларов и попросил купить мне колечко с изумрудом. Он уже не ходил… Он умер 12 июня 1995 года. На даче, совершенно неожиданно. Все эти мешки с блокнотами были перевезены туда, он сказал: ну вот, настало время их расшифровывать. Мы их называли «наша нобелевка». И там, на нашей обветшалой даче в Заречье, кое-как соорудили ему кабинет, все приготовили. Стояла жуткая жара, все изнемогали, и он чувствовал себя неважно. Но все равно это был период, когда он вдруг поправился. Отпустил бороду, был безумно красив. Мы радовались. Было воскресенье. Вечером дети упросили разрешить посмотреть детектив. Детектив кончился, я пошла умыться, захожу в спальню. Лампа под зеленым абажуром, «кремлевская», горит, он лежит и странно на меня смотрит. Я говорю: Господи, что ты на меня так смотришь? Подошла, рукой провела, и глаза у него закрылись. То есть это я их закрыла… Потом приехала «неотложка», велели вызвать милицию, может, мы сами его убили…
– Что в нем было особенного, Люся?
– Я тебе скажу. Ленчик был своего рода бомж. По жизни. И среди друзей. Не юродивый, но странный человек. Он был естественный, без комплексов и показухи. У него жизнь протекала так, как будто ему ничего не надо в этой жизни. Он ее не усложнял. Несмотря на то, что был все время не в порядке. Он всем нам открыл, что ценность жизни в чем-то другом. Доброты был необыкновенной, мог отдать все, что имел, без остатка. С ним было непросто. Нужно было закрывать глаза и спрашивать себя: ты хотела бы, чтоб этот замечательный человек остался с тобой рядом… да… тогда смирись и прими его таким, какой он есть…
– У него не осталось собраний сочинений, означает ли это, что он не состоялся?
– Он состоялся. Я думаю, все люди, знавшие его, должны были его запомнить. Стоило с ним элементарно поговорить – уже запомнишь. И полюбишь. Всякий, кто с ним общался, чувствовал свою важность и нужность в этом мире.
* * *
Когда Лен умер, Люся прочла фразу Джона Уиттьера, которую записала когда-то на разных клочках, а клочки рассовала по карманам и потом везде находила: «Сохраните только память о нас, и мы ничего не потеряем, уйдя из жизни».
* * *
Надпись на снимке, обнаруженная Люсей после смерти Лена:
«Дорогой, бесконечно обожаемой Люсеньке от ее верного, любящего мужа в знак вечной привязанности друг к другу и нерасторжимости божественных уз, которые провидчески связали нас с помощью всевеликого Бога. Л. К.».
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАРПИНСКИЙ Лен, философ, журналист, общественный деятель.
Родился в 1929 году в Москве.
Окончил философский факультет МГУ.
Занимался комсомольской работой, был секретарем ЦК ВЛКСМ по пропаганде.
Работал членом редколлегии «Правды», был изгнан за публикацию статьи (совместно с Федором Бурлацким) «На пути к премьере». Был исключен из партии. Работал в «Известиях», однако был уволен и оттуда. Работал в Институте социологии у академика Румянцева. После прихода к власти М. С. Горбачева возглавил газету «Московские новости», много сделал для свободы мысли в России.
Умер в 1995 году.
СМЕРТЬ ДИРИЖЕРА Нина Светланова
Великий маэстро пришел на съемку моей программы «Время „Ч“ в обычном затрапезном наряде: синей водолазке и синей безрукавке. У него было красное лицо и дрожали руки: он еще не оправился от затяжного гриппа, и было видно, что температурил. Я спросила, какая температура. Он ответил: „Я никогда не меряю, это оказывает на меня дополнительное тяжелое психологическое воздействие, а на носу 60-летие оркестра и Восьмая симфония Малера“. „Что же вы будете делать, отменять концерт?“ – воскликнула я. „Это невозможно, – отвечал Евгений Федорович, – придут слушатели, мы не можем обмануть их ожиданий. Заболеть может любой музыкант, кроме дирижера. Дирижер может только умереть“.
Спустя несколько лет были отменены его концерты в Лондоне.
Он не смог вылететь.
Причина – смерть.
…Опухоль на бедре почти не беспокоила: растет и растет, не болит же. Росла слишком заметно. Врачи настояли на операции. Он перенес их десять и был готов к одиннадцатой. До операции – двадцать пять сеансов облучения. Семь месяцев учился ходить на костылях. Жестокая депрессия. Он был подвержен депрессиям, ибо тратил себя на музыку без остатка. Выходил из депрессий с помощью той же музыки. Теперь оказался лишен ее: лишен Госоркестра, свыше сорока лет выступавшего перед публикой с прославленным брендом «под управлением Светланова».
Сложный процесс вхождения культуры в рынок обернулся жестоким конфликтом. Говорили, что с оркестром. На деле – с кучкой людей, науськанных новым директором. Конфликт затягивался, как петля. В дело вмешались высокие чиновники. Они умело обыграли знаменитого музыканта. Светланов получил уведомление об увольнении от министра культуры: «За грубое нарушение должностных обязанностей и трудовой дисциплины, выразившееся в самоустранении от руководства коллективом…». Словно речь шла о каком-нибудь руководителе фабрики.
Отныне он мог сколько угодно выступать с зарубежными оркестрами, но не со своим, – он, чьи свершения для русской музыки уникальны! Чиновники сделали его изгнанником. Ранимый художник не сумел перенести оскорбления. Медики считали душевное состояние Светланова спусковым крючком роковой болезни.
Он встанет за пульт, отыграв свои последние концерты в Голландии и в Петербурге. Он думал, что придется выйти с костылем или палкой, делая перерывы в исполнении. Он простоит оба отделения и уйдет на своих ногах под гром аплодисментов.
Через несколько месяцев, 3 мая 2002 года, его не станет.
Так завершится трагедия гениального дирижера.
Пройдет 40 дней, когда я приду в дом Светланова без Светланова.
Нина Александровна, его добрый гений, жена, посвятившая жизнь мужу, осталась одна.
Разговор, который случился естественно, сам собой, продолжался четыре часа. Кое-что я записала по памяти и потом попросила у Нины Александровны разрешения на публикацию.
* * *
– Садитесь, есть хотите?
– Спасибо, Нина, нет…
– Что-нибудь приготовлю, у нас такой дом русский, не покормив, никого не отпускаем.
– Как же вы с этими русскими привычками живете… жили на Западе?..
– А мы и не жили на Западе. Мы там работали. Это совсем другое. И сейчас мне не нужен никакой Париж. Я буду жить только здесь.
– Когда он умер, я думала одно: если б он слышал эти речи, которые говорились над его гробом! Он знал, что великий музыкант?
– Он знал. Но думал, что никто не знает. И, как ребенок, жаждал все новых признаний. А их не было, или они были скупы.
– Но как принимали его залы, здесь и там!..
– Это правда. Англичане, американцы, наши вставали в экстазе, и столько раз!.. Я-то думаю, он вовремя умер. Он трагически воспринимал жизнь. Происходящее было для него мучительно. Он знал расцвет советского искусства. Он знал, что такое были Художественный, Большой, Майя Плисецкая, Катя Максимова, Елена Образцова, и куда все это падало, было для него непереносимо. Он пришел в Большой мальчишкой, репетировал «Царскую невесту» с Шумской, действительно царицей. Рассказывал, как она писала в блокнотик все замечания. Замечания мальчишки! Это было уважение к другому человеку и уважение к профессии. А когда его – его! – выгнали из оркестра, который он создал… Он говорил, что головой все понимает, но сердцем никогда не простит.
– Он был целый мир и вмещал в себя мир, такие люди сверхчувствительны, и нередко их конец трагичен…
– Он был пифия. Он все знал. Когда у него случилась беда с ногой, он сказал: эта нога меня и убьет, это саркома. На самом деле он так и не узнал, что с ним, но это была саркома. Он лежал у себя в комнате, я сидела рядом, раздавался звонок, я уходила говорить по телефону. А он просил: посиди со мной, ну зачем ты уходишь. Я говорю: Женечка, это же по делу. Он говорит: какие дела, я завтра умру, и никто тебе не позвонит… Единственное, что он умер без мучений…
– 2 мая вы сказали мне по телефону, что приезжала «скорая», колола морфий, и ничего уже не помогало…
– Он был очень терпеливый. И пока мог терпеть боль, терпел. А в тот день было что-то ужасное: ему сделали одиннадцать уколов, а боль не отпускала, он кричал. Но потом сел на постели и сказал: кажется, отпускает. Ночь спал. А утром был уже какой-то прохладный. Смотрел как будто оттуда. Он умер в семь часов вечера 3 мая. И я еще три часа не отдавала его. Сидела с ним. Мы прожили 25 лет, не расставаясь ни на день. Только когда он лежал в реанимации, а я под дверью пласталась, хоть умоляй, чтоб рядом уложили… Я до сих пор встаю ночью и придерживаю рукой дверь, чтоб не ударила и не разбудила его… Знаете, Оля, что со мной случилось? Я разбирала кассеты и нашла одну, на которой написано: Скрябин. Захотела послушать, поставила и вдруг вижу, что на ней фильм «Дирижер» 78-го года. Он там молодой, красивый до ужаса. И со мной что-то произошло. Как будто я провалилась во времени и стала опять молодой, когда встретила его и влюбилась до безумия.
– Расскажите…
– Я работала на радио, занималась музыкальной журналистикой после окончания Института Гнесиных и университета. Был какой-то юбилей Тихона Хренникова. И Тихон попросил: пусть несколько слов скажет Светланов. Мы не были знакомы. Я позвонила, он сказал: ну приходите. Я пришла. Меня встретила Лариса Ивановна, его жена, солистка Большого театра, говорит: посидите, сейчас он придет. Проводила в кабинет. Его нет пять минут, десять, пятнадцать. Наконец, появляется. В потрясающем синем халате с черными блестящими отворотами и в тапочках на босу ногу. Очень красивый. Мы поговорили, я ушла. И поняла, что влюбилась страшно. Я была свободна, разведена с мужем, но он-то недосягаем. У меня был друг, администратор консерватории, единственный человек, с которым я делилась. Он сказал: Нина, тебе там делать нечего, у него Лариса Ивановна, приемный сын, он никогда не уйдет из семьи. Какой уход! И близко нет!.. Конечно, он ничего не знал, потому что мне не на что было рассчитывать. Но я умирала от любви. Когда приходила на его концерты… нет, не передать…
– Вы испытывали счастье?
– Муку. Тяжелейшую. Ходила с камнем на душе. Все было безысходно. Изредка я звонила, просила сказать несколько слов по какому-нибудь поводу, я работала в «Последних известиях», две-три минуты – весь формат. Он говорил. Я уходила. Никаких объяснений, естественно. Близился его день рожденья, и я пришла к своему начальнику попросить дать мне возможность сделать очерк о нем как о композиторе. Я знала, что он страдает от недооценки этой стороны его творчества. Начальник говорит: это не от меня зависит. В итоге я попала к тому, от кого зависело, и сделала передачу. Была большая почта, я ее послала Светланову со своей приписочкой. Все письма Лариса Ивановна ему отдала, а мою приписочку нет. Ну нет так нет. Было лето, я уехала в Крым, а вернувшись, узнала, что он лежит в больнице, врачи сказали, что либо умрет, либо, если выздоровеет, больше не сможет дирижировать. Дело в том, что при обследовании ему проткнули пищевод в двух местах, одну дырку зашили, а во второй образовался свищ, который никак не заживал. Он пролежал с полгода. Конечно, я не могла там появиться, но я все узнавала через того же моего друга или через кого-то – в этом случае делала вид, что интересуюсь, как интересуются слухами и сплетнями. А однажды прихожу по делу в филармонию и вижу: навстречу Светланов, в каком-то элегантном костюме, и глаза как-то особенно блестят. Я не знала, что они так блестят, когда он выпьет. Это он уже вышел из больницы, и вдруг он начинает мне жаловаться, что так стремился выкарабкаться, а оказалось, никому не нужен, оркестр уехал на гастроли, работы нет. Я стала его утешать. Кто-то появился, отвлек его, я отошла в досаде. А после все-таки спустилась вниз, куда он с кем-то пошел, и опять на него наткнулась. Мы еще постояли, поговорили, может, ему были приятны мои утешения. И вдруг он предлагает: а не хотите вместе поужинать?
– Что с вами было?
– Радость такая внутри!.. А раньше между нами вот что произошло. Во время одного интервью зашел разговор о рыбалке, он же был страстный рыбак, а я тоже рыбачка, и довольно серьезная, и он пошел, вытащил откуда-то японскую удочку дивной красы и – подарил мне. Когда я вернулась на работу с этой удочкой, мужики обступили: продай да продай. Знали бы… И я захотела, в свою очередь, сделать ему подарок. Я знала, что его любимый герой Дон Кихот. А я дружила с человеком, у которого тесть работал на «Мультфильме», и он, по моей просьбе, сделал медную фигурку Дон Кихота, только вместо Россинанта тот сидит на дирижерской палочке. Довольно двусмысленно, но мило. Светланов рассмеялся, фигурку взял, но потом я ее никогда не видела. В общем, мы договорились встретиться после моей работы. Я шла и не верила, что увижу его. Думаю: или не сможет, или забудет, не придет. Он пришел. Мы поехали в «Минск», но там ресторан оказался закрыт, я предложила поехать в маленький ресторанчик напротив дома, где жила моя мама, я слышала, там хорошо готовят. Тоже не центр. Я понимала, что Светланову нужно такое место, где его никто не увидит, но все равно кто-то увидел, закричал: Евгений Федорович, а вы что тут делаете?.. Мы, правда, вкусно поели, разговаривали умные разговоры, нашли много общего. А на следующий день он приехал ко мне домой в Давыдково, где я жила в пятиэтажке без лифта, и остался на всю ночь. Но первое, что сказал, что так устал, что не может любить. Мне было все равно, настолько я его любила, и хотела, и знала, что и мертвого подниму. Утром он встал передо мной на колени и сказал: что бы дальше ни было, я этого никогда не забуду.
– А дальше все было хорошо?
– Какой там! Плохо. Марк, мой друг, сказал: Нина, у них в семье такие скандалы!.. Он уезжал на гастроли, по возвращении звонил, приезжал, ночевал. И вот гастроль в Югославии, и он оттуда звонит и говорит со мной каким-то странным тоном. И Марк мне рассказывает, что Лариса Ивановна поехала туда и они помирились. Из Югославии он уже ко мне не приехал, и больше, как говорится, ни звонка, ни записочки.
– Как же вы?
– Я жить не могла. Пошла на репетицию, где он дирижировал, взять интервью у композитора, а за секунду до того, как он закончил, встала и оказалась рядом с ним по дороге в комнату, где они отдыхают. Спросила: что случилось? Он нервно перебирает какие-то бумажки на столе и говорит, что они действительно помирились с Ларисой Ивановной и что пока мы не можем встречаться. Я поняла, что все кончено. Вышла, села где-то на приступочке, плакать не могу, чтобы никто не увидел, и идти не могу. Дома выпила целую бутылку коньяка. Было ужасно. Я еще ходила на какие-то его репетиции, брала интервью у композиторов, сидела с ними в зале, смеялась, меня обнимали за плечи. Он иногда поглядывал удивленно, но, в общем, ему было все равно. Однажды только столкнулись лоб в лоб, и он вдруг сказал: а вы сильная или живете без проблем. Я ответила: у всех есть проблемы, вопрос в том, показывать это или нет. Так продолжалось год и три месяца. А через год и три месяца приехали друзья из Литвы, привезли водку «Паланга», копчености, мы вместе проводили время, я таскалась со своим магнитофоном на интервью, а ящики эти тяжелые были, вы же помните, и вот, усталая, думаю: куда ехать – домой в Давыдково или завезти ящик на работу. Решила завезти. Была пятница, часов девять вечера, никого. Собралась уходить – звонок. Он. Говорит: ты не удивлена, что я позвонил? Говорю: нет. Он говорит: а что если я к тебе приеду? Я говорю: приезжай. Он говорит: сейчас поздно, я завтра приеду. Я говорю: приезжай завтра. А уже на выходе – новый звонок. Он говорит: нечего ждать завтра, я сейчас приеду. Я схватила такси, еле успела что-то прибрать, он приехал – и больше уже никогда не уехал.
– Почему же он оставил вас на год и три месяца и почему пришел, вы как-то объяснялись на эту тему?
– Как раз, я думаю, причина в том, что мы никогда не объяснялись, я не требовала никаких объяснений, мужчины этого не любят. Я принимала все как есть, любя его больше себя.
– И Лариса Ивановна так запросто его отпустила?
– Все говорили, что Евгений Федорович ушел из семьи, но никто же не знал, куда и к кому. А когда узнали – на моей работе скандал, Лариса Ивановна приходила, подруг присылала, Евгений Федорович запретил мне открывать дверь, ой, такое было…
– Развода не давала?
– В конце концов дала довольно легко. Он же ушел, ничего не взяв. Как-то заехал, когда ее не было, забрал костюмы и ноты. Мы попросили только рояль, все остальное Евгений Федорович оставил ей. Я не хотела за него замуж. Я хотела только, чтобы мы были вместе, чтобы я любила его, а он меня. Но были гастроли, а это же советское время, нас селили в гостинице отдельно, еще всякие проблемы. Он хотел, чтобы я ушла с работы. Я сказала: как же я буду жить без работы и в каком качестве, если ты настаиваешь, давай так – сегодня мы женимся, завтра я ухожу с работы. Ровно это я и сделала. А мой друг Отар Тактакишвили так устроил, что не надо было ждать три месяца, как полагалось, но для этого мы должны были лететь в Тбилиси. И мы полетели и в Тбилиси расписались. А дальше – эти 25 лет, когда я ему была всем: женой, любовницей, другом, мамкой, нянькой, администратором, медсестрой. А он был всем для меня. Вот мы живем, нас впечатляют какие-то вещи, артисты, художники, их работы. Но главное-то не эти впечатления. А люди. Они уходят, и мир становится пустым. И ничего больше не интересно в этом мире.
– У вас есть обязанность – вы привыкли при жизни заниматься им как художником и человеком, так должны и заниматься его художественным наследием.
– Будет открыт концертный зал его имени. У Павелецкого вокзала строится здание. Мы будем устраивать концерты его памяти, самое интересное, что есть в музыкальном мире, будет там. Я соберу все-все-все, что он сделал, выпущу антологию и раздарю бесплатно всем музыкальным школам России, скольким смогу. Маленькие – это те, на кого можно надеяться…
* * *
Нина Светланова сделала все и даже больше. Есть зал имени Светланова в Доме музыки, есть конкурс имени Светланова, продолжаются концерты памяти великого дирижера…
* * *
В течение всего срока жизни они почти никогда не расставались. Потому не было нужды в переписке. Но все-таки два письма Евгения Федоровича сохранились. Он написал их, когда она попала в больницу.
«Драгоценная моя лапонька! Нет слов, чтоб передать мое состояние. Живу от мгновения до мгновения. Головой понимаю, что это не нужно, а сердце не слушается. Тем более что видеть тебя не могу, не разрешают пока. Но, кажется, вот-вот пустят к тебе. Это тебе не Институт хирургии – порядки другие (хотя, в принципе, одни и те же). Я постоянно с тобой и день и ночь мысленно. И все мы: мама, я, а еще очень много других, звонящих, спрашивающих, волнуемся за тебя. Я очень хорошо представляю, как тебе там. Именно я могу это представить, как никто другой. Крепись, моя любимая, единственная девочка. За нас не волнуйся, у нас все идет своим чередом. Сейчас очень многое зависит и от тебя. Желаем тебе крепкой силы духа… Целую тебя крепко. Жду. Твой старый и больной мальчик».
«16.6.82. Моя единственная, родненькая девочка! Каждую минуту, секунду я и все мы с тобой. Людей, которых волнует твоя судьба, оказалось гораздо больше, чем это можно предполагать. Все желают тебе самого наилучшего. Скорейшего восстановления сил и полного выздоровления. Таких примеров – уйма. Естественно, интересуются люди хорошие, доброжелательные. О других я и не хочу говорить. Солнышко мое! Не волнуйся за меня. Я в трудные моменты собираюсь в кулак, организовываюсь и стараюсь четко вести все дела. Словно в меня вселяется другой человек. Врачи очень внимательны ко мне, и я им благодарен… Передавать привет тебе от всех и перечислять не буду – их много. Выполняй все назначения как приказ в армии! Ты у меня умница, мужественная девочка. Врачи тебя хвалили. Я с тобой и жду тебя. Иначе быть не может, потому что большинство людей не знают счастья в любви, а я наконец узнал, что это такое. Обнимаю и нежно целую. Твой мальчик».
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СВЕТЛАНОВ Евгений, дирижер, композитор.
Родился в 1928 году в Москве.
Около тридцати лет возглавлял Большой симфонический оркестр. Гастролировал с ним в стране и за рубежом. Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий. Оставил огромное количество записей исполнения русской и мировой классики.
Был женат дважды. Вторая жена – Нина – посвятила ему всю свою жизнь.
Умер в 2002 году.
ГОЛУБЫЕ ЛОШАДИ Нина Шацкая
Мы познакомились, уже когда Леонид Филатов был серьезно болен. Много раз я приезжала в их дом, смотрящий на реку, мы разговаривали, пили чай или кофе, Лёня беспрестанно прикуривал от одной тонкой сигареты другую и читал свои новые вещи. Сыграв множество замечательных ролей в кино, поставив замечательный фильм об актерах, «Сукины дети», он больше не мог ни снимать, ни сниматься. И все равно из последних сил участвовал в передаче «Чтобы помнили…». Но главное, чем он теперь занимался, – писал пьесы в стихах, обнаружив незаурядный поэтический и комедийный талант. Он читал только что законченный фрагмент, я хохотала, и мы оба забывали о его смертельном недуге.
Я сказала: мы оба. Но я была третьей. Второй всегда – Нина, его ангел-хранитель, любимая женщина и жена, самоотверженный друг, врач, няня, сиделка.
Иногда я записывала наши с Лёней разговоры на пленку, и всегда он говорил, что хочет написать книгу «Нина».
Не написал. Не хватило времени.
Нина написала книгу «Лёня».
* * *
– Нина, я навсегда запомнила его и твой рассказ, когда, скрывая от всех свои чувства, вы стояли где-то в пустом театральном пространстве, положив друг другу головы на плечи, – как лошади…
– А ты знаешь, Оля, что еще задолго до этого я приходила куда-нибудь, скажем, в ресторан и писала на стене: главное в жизни – голубые лошади. Честное слово. Сама не знаю, почему. Какое-то юношеское мечтание, то ли стремление к совершенству, то ли ожидание принца…
– И принц пришел.
– Я уже играла в театре на Таганке, когда его взяли после Вахтанговского училища. Шли репетиции, был какой-то перерыв, мы стоим у зеркала, Маша Полицеймако, Таня Жукова и я, болтаем о чем-то, и вдруг он подходит и говорит мне: давай пойдем в кафе. Кафушечка была в подвале, в начале Больших Каменщиков, сейчас там все сломано. А никаких взаимоотношений, и почему он подошел, и почему я согласилась – непонятно. Вижу и сейчас этот столик, и окно высоко, потому что подвал. И такое странное чувство, волнение и ощущение недозволенности: он в гражданском браке, я замужем. Он говорит: хочешь, почитаю тебе свои стихи. Я говорю: да, конечно. Он читает. Стихи любовные. И я вдруг чувствую, что-то происходит со мной, и с ним тоже, потому что он так на меня смотрит. И я понимаю, что переступаю через что-то. Мы идем обратно, где-то за домом он притягивает меня к себе – и мы поцеловались, по-моему, очень по-школьному. Я испугалась. И когда пришли в театр, говорю: я хорошо к тебе отношусь, но не больше. Смешно, как будто он чего-то требовал. А он ничего не требовал. Но я понимала, что вот нельзя, нельзя. Так была воспитана. И потом год, даже больше года, мы друг к другу не подходили. Пока не случилось гаданье на Крещенье, когда я увидела соблазнителя с рогами, который потом превратился в собаку, и мне сказали: Нина, он будет тебе другом. Лёня ведь как раз Козерог и Собака. А у меня уже все было плохо с Золотухиным, он мне изменял, я не любила его. И мне снится сон, содержания которого не запомнила, а прибежала в театр с чувством: только бы успеть. И Лёню как будто что-то толкнуло, и он примчался, хотя ни он, ни я не должны были быть в тот день в театре. И вот я стою – и вдруг кто-то сзади целует меня в шею, и такое сильное чувство! Мы что-то начали говорить друг другу, бурно, пылко, потом вспоминали, не могли вспомнить. Больше года длился платонический роман, только в пустых закоулках театральных встречались и – как лошади: он мне голову на плечо, я ему. Голубые лошади. Было такое счастье! «Я люблю тебя, Нинча». Он звал меня Нинча. Потом перешло в Нюську, в Нюсеньку. Мне не нравилось, потом привыкла.
– Он говорил мне, что хочет написать книгу «Нина». Не успел. А ты написала книгу «Лёня». В этой книге в его письмах к тебе проскальзывает боязнь, что ты, как бабочка, можешь улететь от него. Когда он заболел – тогда увидел степень твоей верности?
– Вернейшей и преданнейшей в замужестве я ему была всегда. И он хорошо это знал. Он, наверное, не знал, что я могу все оставить ради него, бросить сцену и жить только им, только ради него, не отходя ни на шаг. Я человек верный. Когда меня любят. С Золотухиным было по-другому, потому что я понимала, что у него и в театре, и еще где-то есть связи. И я просто освободила себя. Он не уходил, хотя я три раза просила, даже требовала. Мы жили очень бедно, у нас никогда не было денег, но едва расстались, он тут же построил трехкомнатную квартиру, дачу, купил машину, оказывается, все время копил. А всюду рассказывал, как благородно ушел от нас с Дениской. Но это все неважно. Важно, что наша встреча с Лёней была заповедана. Если б не он, я бы не знала, что такое любовь. Кстати, я забыла в книгу написать: мне же еще один сон приснился. Весь день я проходила в какой-то тревоге, а вечером прибежала в театр, у нас шел спектакль «Десять дней, которые потрясли мир», там весь состав занят, я тоже. В растрепанных чувствах захожу в гримерную: девочки, что случилось в театре? Мне говорят: вчера была «Мать», и Лёню увезли прямо со сцены, его ударило током. Ты помнишь, как они поют там «Дубинушку»? Все встают на металлические брусы, одной рукой держатся за металлический трос, а другой держат подсветку на лицо, тоже металлическую, и что-то там закоротило во время спектакля, Лёня закричал и свалился, а Лена Габец вырвала у него этот шнур с подсветкой. Когда я это услышала… Мне через полчаса на сцену, а я выбегаю из театра, хватаю такси, умоляю обернуться в пять минут и мчусь к нему. Я знала, где он живет, мы были с Золотухиным у них в гостях, лифт, кажется, не работал, я взлетаю наверх… А там что угодно могло быть, единственное, что я знала, что жена на спектакле, поскольку вся труппа занята. Я ни о чем не думаю, звоню, он открывает дверь, с перевязанной рукой, я бросаюсь к нему, плачу, мы обнимаемся… живой!..
– Вы уже были вместе?
– Уже вместе, но еще отдельно. И еще много лет отдельно, прежде чем стали окончательно вместе. Странные сны снились не только мне – ему тоже. Однажды ему приснилось, что он летит с какого-то этажа, кто-то хочет его убить, он понимает, что его убьют, и прыгает вниз, зная, что все равно погибнет, и чувствует, что его подхватывают чьи-то руки. Я смотрю, говорит, а это твои руки.
– Но это точно то, что с ним случилось: страшная болезнь, близость смерти и ты его спасла и выходила, и он еще жил. Предзнание?
– Мистика.
– Если бы тебе пришлось говорить о Лёне, что бы ты сказала, что отличало его от других?
– Самое главное, я думаю, боль за людей. Чего я не вижу почти ни в ком. И я понимаю, передача «Чтобы помнили…» не может идти без него. Как бы хорош и талантлив ни был другой, все равно это благополучие, эта сытость, они просвечивают, а в Лёне я все время чувствовала сострадание. Я видела, как он проникает в чужое страдание. Я видела, как он думает. Это было в его статьях, которые он начал писать в 90-е годы.
– Он сам говорил, что писал злые статьи.
– А почему злые? Потому что совестливый, и все у него болело, как ни у кого. Такое впечатление, что он прожил много жизней, настолько острый и глубокий у него был ум. И он был абсолютно искренний человек.
– Но ведь актерам свойственно и кокетство, и лукавство, – Лёне нет?
– Он был простодушный человек. Как и всякому артисту, ему, конечно, хотелось нравиться. Он был общительный, веселый, любил смешить, показывать, очень милый, чудесный в общении. Но он всегда говорил то, что думал. И с Любимовым, и с Эфросом, со всеми. У него было чистое сердце. И он не врал в отношениях.
– А как к нему относились в театре?
– Он выделялся, так же, как Володя Высоцкий. Так же, как Володя, был личностью и был мужчиной. Он отличался от всех тем, что в нем сочеталось несочетаемое: вот эта легкость, живость – и серьезность, глубина. Его не зря называли интеллектуальным артистом. И он же превращался иногда в абсолютного ребенка. Ему говорили: ты звезда, ты должен вести себя соответственно. А он вел себя просто и естественно. И во всем – высокая планка. «Сукины дети» – ведь это его дебют как режиссера, а на кинофестивале фильм половину конкурса продержался на первом месте. Театр, кино, режиссура, стихи, пьесы в стихах, «Сказка про Федота», которая навсегда останется уникальной, вершинной, я уверена, ее еще будут в школах изучать!
– И окажется, что ты жила с великим человеком.
– А я всегда знала и говорила ему, что он гений.
– Он был хороший товарищ своим товарищам.
– Да, он умел дружить. И Лёня Ярмольник, и Володя Качан были с ним до последних дней. Ярмольнику я навсегда останусь благодарна за то, что он для Лёни сделал. Это он определил нас в санаторий «Сосны» на Николиной горе и оплачивал путевки, неважно, сам или банк какой-то, но он это организовал. Там была вкусная еда, черная и красная икра, креветки, Лёня получал удовольствие – если бы не болезнь. Там я уже переворачивала его, он сам больше не мог повернуться в постели, и я не понимала, в чем дело. Я уговорила его сдать анализы, чему он всячески сопротивлялся. И вот тогда главный врач вызвал Ярмольника и сказал: забирайте его, ему осталось жить несколько дней. У него была обнаружена злокачественная почечная гипертония. Ярмольник схватил его и повез в шумаковский центр – НИИ трансплантологии и искусственных органов, и там его посадили на диализ, то есть на постоянную очистку крови. Сначала помогло, а затем стало хуже и хуже, ждали донорскую почку, почки не было, он слабел, врачи отказывались от операции, считая, что Лёня слишком слаб и не выдержит. Но я понимала, что без донорской почки он просто умрет. И Ярмольник достал эту почку, а я сказала: делайте операцию. Они говорят: он умрет на операционном столе. Я говорю: я беру всю ответственность на себя. И подписала бумагу. Почему-то я знала, что наших сил, моих и его, хватит. В день операции объехала семь церквей, везде молилась и ставила свечки. Ему пересадили почку, и он выдержал. И прожил еще шесть лет.
– Он тебе снится?
– Ты знаешь, нет. Мне Путин приснился два дня назад, не знаю, к чему. Так со мной хорошо разговаривал… Лёня снился вначале. Я не хотела жить. Меня спасали девочки, мои подруги, которые были здесь и днем, и ночью.
– Ни сын, ни внуки не держали?
– Нет. Начала о них думать через три года. А тогда закрыла себя черным платком и стала целовать его в губы, потому что сказали, что у него инфекция, хотела заразиться и уйти вслед за ним… Нет, не могу, тяжело.
– Я сидела рядом с тобой, ты меня за руку держала.
– Я ничего не помню… Вот ты говоришь, я могла улететь от него, как бабочка. А в день похорон, это было 29 октября, у меня на входной двери в жуткий холод сидела бабочка с надорванными крыльями. И другая бабочка летала в этот же день на сцене театра «Современник», ее Гармаш увидел, и Галя Волчек ему сказала: обязательно Ниночке позвони и скажи… Лёня ведь работал в «Современнике» и очень любил этот театр.
– Ты сказала, что без Лёни не узнала бы, что такое любовь. А что ты узнала?
– Я узнала его нежнейшее сердце. Узнала, что у двоих может быть одна кровеносная система, один электропровод – и ток внутри. Что можно ничего не говорить друг другу, молчать, а общение все равно продолжается. Мы были душевно очень-очень близки. Мы были одно целое.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ФИЛАТОВ Леонид, актер, режиссер, поэт, драматург.
Родился в Ташкенте в 1946 году.
Приехал в Москву поступать в театральное училище.
Окончил Высшее театральное училище имени Щукина.
Работал в театре на Таганке.
Сыграл главные роли в фильмах «Экипаж», «Успех», «Город Зеро», «Забытая мелодия для флейты» и других. Написал сценарий и осуществил постановку фильма «Сукины дети».
Автор популярной «Сказки про Федота-стрельца…» и целого ряда комедий в стихах.
Умер в 2003 году.
ШАЦКАЯ Нина, актриса.
Работала в театре на Таганке. Теперь актриса театра «Школа современной пьесы».
Первым браком была замужем за Валерием Золотухиным. Вторым – за Леонидом Филатовым.
От первого брака есть сын и пятеро внуков.
ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ Юрий Левитанский
Поэт, выпускник прославленного ИФЛИ, он заканчивал Отечественную войну в Праге молодым лейтенантом.
Я не хотела говорить с ним о войне. Я пришла спросить его о любви.
За окном начиналась весна.
Он сказал, что Чехов его любимый писатель, и я сразу догадалась, что, подобно закрытому Чехову, он промолчит. Так и вышло: он сказал, что есть правила, которых не в силах нарушить.
* * *
– Моя тема – эволюция личности. Мое занятие в последние годы – думанье, если можно так сказать. Записываю я немало, но год с лишним не курю, и это мешает писать. Любовь – тема тем, но в какой мере я могу вникать в подробности…
– Я не смею спрашивать подробности. Я просто хотела поговорить о том, какую роль сыграла любовь в вашей жизни.
– Да, но круг идей, которые занимали меня в последнее время, он скорее связан с политикой…
– Давайте с другой стороны зайдем. Вот вы были молодым лейтенантом той поры. И у вас есть стихотворение «Автоматы». У молодых лейтенантов или сержантов нынешней поры при слове «автомат» совершенно другие ассоциации: никакого «автомата с газированной водой», как у Беллы Ахмадулиной или как у вас, «калашников» и только. Вы были молодым человеком с внешностью Лермонтова, как о том в ваших стихах. Возможно, и сейчас найдется кто-то с такою же внешностью. И та же самая любовь. Или не та же самая? А может, это и есть политика? Что бы вы сказали этим лейтенантам сегодня – с вашим опытом и войны, и любви, и жизни?
– Стыдно себя цитировать… но все же строчка из стихов: «Поздний опыт зрелого ума возрасту другому не годится»… Я могу что угодно сказать, но я точно знаю, что им на это начхать. И даже те, кому не начхать, они не могут воспользоваться чужим опытом. Тема возраста – из того, над чем я думаю. Говорят: поэзия молодых. А я хотел и хочу написать о том, чем никто не занимался: о поэзии старых, потому что лучшая поэзия последней трети ХХ века у нас – это поздний Пастернак, поздняя Ахматова, поздний Твардовский, поздний Самойлов. Это феномен нашего времени. В ХIХ веке один Тютчев – как исключение, в ХХ – почти правило. Как вы понимаете, я сам впервые оказался в этом возрасте и стал обдумывать, что и зачем. Я заметил, что все устроено на свете интересным образом, что, кое-что отнимая, этот возраст кое-что дает в виде компенсации.
– Могу сказать, что ваше лицо с возрастом, как ни странно, стало красивее. Может оттого, что одухотвореннее.
– Ну вот (почти сердится)... Я имел в виду, прежде всего, возможность многое понять. Взять двух людей с примерно равной генетической программой – равной, потому что может быть молодой гений и старый идиот – промежуток между ними в двадцать лет не сгладится никогда. Когда пишут сравнительное исследование о прозе Лермонтова и прозе Толстого, притом, что та и другая гениальны, сравнить их нельзя – именно в силу разного жизненного опыта. Я живу на одиннадцатом этаже и отсюда многое вижу. Вы пока на четвертом, как бы ни старались, того же не увидите…
– Я, между прочим, тоже живу на одиннадцатом.
– Это касается и отдельного человека, и народа, и всего человечества. Вот Егор Гайдар прислал свою книжку «Государство и эволюция», которая мне очень понравилась. В ней сочетание трех достоинств: несомненный ум, знание материала и честность. Я полностью принял его концепцию, кроме одного пункта, где я с ним категорически не согласен: когда он выводит происхождение большевизма из войны.
– А вы откуда производите?
– Я считаю, большевизм – одна из черт российского характера, сквозь все века проходящего, и это свойство не преодолено до сей поры.
– А разве оно может быть преодолено?
– Я думаю, что оно будет преодолено. Наша ошибка, каждого из нас, что мы пытаемся измерить историю, ее масштабы меркой своих жизней. От этого непонимание. Я не знаю, что будет через три дня, возможен кошмар полный в нашем отечестве, но через тридцать три года – я примерно представляю, что может быть.
– Людей интересует, что будет через три дня.
– А тогда нет разговора. Тогда все непродуктивно и бессмысленно. Что будет осенью, спрашивают. Осенью будут листья падать. Кто этим заведует – Бог, природа, я не знаю, – но куда-то мы движемся, и если оглянуться назад, на то, что было, то можно уловить общую тенденцию. Идея русского пути – я в это не верю абсолютно. Нет русского пути, нет бельгийского пути, итальянского. Путь общий – у всех деревьев, у всех зверей, у всех людей. Я спокоен, потому что в ХХI веке все придет в норму.
– А вам не кажется, что конец тысячелетия связан с переломами не только у нас – терроризм, мессии, секты по всему миру, которые провозглашают конец света…
– В это я совсем не верю.
– Я понимаю, что вы не верите, но я говорю о настроениях, которые сопровождают конец тысячелетия.
– А у других народов другое исчисление! Это чепуха. Это как сны, которые сбываются. Мы видим миллион снов в течение жизни и забываем их, а те двадцать два сна, что совпали с чем-то, их мы помним.
Новую книгу, которую вот уже третьи издатели обещают издать, поэт назвал «Сон об уходящем поезде». Он скажет, что почти не честолюбив и никому не завидует. Единственное, что переживает: то, что получает гроши, жена приносит в дом больше. Он сравнил свою военную пенсию (победителя) и пенсию немца (побежденного) – вышло примерно так: сорок долларов и тысяча долларов. Притом, что у немца любая медицина, включая операции, бесплатна. А ему помог сделать сложную операцию в Брюсселе Владимир Максимов, собрав деньги на Западе по подписке.
Я сделала новую попытку вернуться к теме любви. В ответ он прочел стихи:
Вот мною ненаписанный рассказ. Его эскиз. Невидимый каркас. Расплывчатые контуры сюжета. А самого рассказа еще нету, хотя его навязчивый сюжет давно меня томит, повелевая: пиши меня, я вечный твой рассказ, пиши меня, – и это как приказ, пиши меня, во что бы то ни стало. Итак, рассказ о женщине. Рассказ о женщине, которая летала…– Что конкретно за этим стихотворением?
– В давние годы в Гагре на танцплощадке, куда я забрел как-то вечером, я обратил внимание на девушку, которая стояла одна и никто не приглашал ее, я, как водится, посочувствовал ей, такая неприметная собой. Объявили белое танго, когда дамы приглашают кавалеров, она с трудом решилась и кого-то пригласила. А я почему-то представил себе, как она от обиды взяла и улетела. Так родилось: женщина, которая летала…
– Это сочувствие, которое входит в понятие любви…
– Но это рассказ не о моей любви. Это о том, что тема женщины, о чем бы я ни писал, на самом деле присутствует всегда. Наверное, с детских лет. Потому что влюбляться я начал очень рано. Первый раз я был влюблен роковым, безумным образом во втором классе и очень хорошо помню, как звали учительницу: Евгения Петровна. Я был мальчик симпатичный маленький, она даже целовала меня, и это было для меня ужасом и блаженством. Что, как вы понимаете, в течение моей жизни происходило неоднократно. По моим представлениям, это даже не одно из самых, а просто самое высокое, удивительное и великое чувство, которое дано человеку, и я, в полемике с Достоевским, могу повторить сказанное мною однажды: если что и может спасти мир, так это не красота, а любовь, которая и породила в некотором смысле этот мир, и держит его.
– А несчастная любовь у вас была? Как вы к несчастной любви относитесь?
– Сегодня мне очень непросто на этот вопрос ответить. В каком-то смысле это всегда счастье и всегда несчастье – одна и та же любовь. Я давно уже боюсь что-либо обобщать, ибо каждый конкретный случай – он отдельный, и человек отдельный, и все отдельное. Любовь тоже имеет свой путь, свою эволюцию, свое начало, пик и финал, такой или другой…
– Но вы страдали от любви?
– Я очень страдал. Я всегда очень страдал. Это так. Я был по натуре то, что называется влюбчивый человек. Я не хочу сказать ничего плохого о женщинах вообще и о тех женщинах, которых я любил, но мне было свойственно превознести женщину, поднять ее на невероятную высоту, тем больнее, конечно, были разочарования.
– Очарование уже таит в себе разочарование.
– Более того, чем выше очарование, тем страшнее падение с высоты.
– А сейчас вам жалко, что вы так были очарованы и разочарованы? Очень больно было? Или сегодня вы на это смотрите как на благо?
– Это даже не благо, это счастье. Все равно прекраснее этого в жизни человека ничего не бывает. Опять-таки неудобно приводить свои стихи, но в последней книге есть «Послание юным друзьям». Я когда-то прочел «Этюды оптимизма» Мечникова, где он объясняет на физиологическом даже уровне, что пессимизм, трагизм есть свойство юного возраста, а оптимизм – зрелого, и это очень реальное понимание вещей…
Я, побывавший там, где вы не бывали, я, повидавший то, чего вы не видали, я, уже т а м стоявший одной ногою, я говорю вам – жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна, даже когда трудна и когда опасна, даже когда несносна, почти ужасна — жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад – далека дорога. Вот погляжу вперед – впереди немного. Что же там позади? Города и страны. Женщины были – Жанны, Марии, Анны…– Вы прошли войну, вы убивали, и сейчас молодые убивают, так что трагизм объективно существует. Но что такое война с точки зрения дальнейшей судьбы? Можно ли потом наладиться и как потом наладиться?
– Война, я думаю, это момент незрелости человечества в целом. Как об одной личности можно так сказать, когда это связано с хулиганством, драчливостью, так о человечестве в целом. Я верю, что когда человечество созреет, войны не будут иметь места. Это сумасшествие, безумие, ненормальность. Что сказать молодым людям?.. Я, к сожалению, не вижу исхода. Опять же, люди разные, но в массе они несчастные, мне от души их жалко. Большинство из них никогда не поймет, что участвовали в безобразном, жестоком деле. Кто-то поймет в глубине своих лет. Я вижу в том, что происходит, потенциальную угрозу для общества. Уже были первые сообщения, что какие-то ребята вернулись в Волгоград и что там они творят – это жуть. Я не могу сказать, что я их осуждаю, – это бессмысленно…
– Когда вы возвращались с войны, состояние было другое?
– Ну конечно, другое. Меня одна молоденькая корреспондентка спросила: ведь правда, тогда было единство? Я говорю: конечно, но самое высокое единство среди рабов. От этого единства мы, к счастью, ушли. Мы пришли к разброду, но все равно это человечнее.
– Я спрашиваю про внутреннее состояние. Похоже это было на то, что, скажем, испытывали герои Ремарка?
– Очень отдаленно. Повторяю: мы тогда были юные рабы, ремарковские герои были из другого общества.
– А благородство? А молодой лейтенант – тип Семена Гудзенко, ваш, Бориса Слуцкого?..
– Понимаете, Гудзенко и Слуцкий – таких в двадцатимиллионной армии было пять человек. И даже зная, что все не так, а Гудзенко знал, и Слуцкий знал в последние годы войны, потому что мы прошли через Европу, творя немыслимо что… Ну немыслимо что! Грабя подряд, насилуя подряд. Лев Копелев описал это в своем романе совершенно верно. Кстати, Светлана Алексиевич вместе со своей германской коллегой сняла фильм, где немки рассказывают, как их насиловали наши солдаты. И в то же время мы были чистые люди, как ни странно, веря во всю эту чепуху. В партии я никогда не был, но был октябренком и пионером, потом комсомольцем, и все эти идеи были восприняты как правильные, хотя те, кто в нас их вкладывал, они, как я потом понял и увидел, вели себя совершенно по-другому. Я добровольцем пошел на фронт. А Шурик Шелепин, который был моим секретарем комсомольской организации в ИФЛИ, а потом стал секретарем ЦК комсомола и партии, на войну не ушел. И Зоя Туманова, секретарь ЦК, на войну не ушла. Они обеспечили себя бронью и стали делать карьеру. Когда к Шелепину попросился один наш товарищ по ИФЛИ, Коля Непомнящий, успевший на финскую и на Отечественную войну, вернувшийся обмороженный, после плена и лагеря, без права проживания в Москве, без работы, Шелепин, перейдя на вы, спросил: а почему вы не застрелились? Надо было пройти серьезные испытания и многое прожить, прежде чем все осознать. Мы верили – нынешние уже не верят ни в Бога, ни в черта.
– Очарование и разочарование – не только в любви, они в вере. Но теперь эти ребята обвиняют вас, нас, что мы были такие идиоты и все это, так сказать, хавали, а они расплачиваются полным цинизмом.
– Я смотрю на вещи как врач. Со своего одиннадцатого этажа. Это так. И это поступательное движение истории, в котором два-три поколения – просто не разговор. Нет вариантов. Они обречены на это. После периода нашей рабской веры неизбежен период неверия. Но этот продуктивнее того. Из того ничего не могло родиться, тут – почва для последующих посевов. Грех на наших властях – не только за убитых в Чечне, но и за оставшихся в живых, которых они тоже угробили и от которых беды еще будет много нашему несчастному обществу.
– Поскольку мы с вами не можем помочь всем, помочь поколению, это не в нашей власти, может, все же следует что-то сказать каждому отдельному человеку?
– Это наивная мысль – ну что можно сказать! Вот мое поколение: 98 процентов ветеранов меня не понимает, они уходят из жизни с прежним пониманием. Потому я давно уже не могу ходить на все эти встречи. Что я могу объяснить – бесполезно, они будут ругать меня последними словами. Они несчастные люди, они до сих пор обсуждают, Сталин был гений или не совсем.
– В чем дело? В генетике? Почему они такие, а вы такой?
– Я нетипичная фигура. Мы даже с Давидом Самойловым расходились в этом вопросе. Я давно это все зачеркнул. Войну и эту тему для себя лично. Я люблю Европу, Вену, Прагу, у меня масса друзей там, и когда я стал догадываться, что я им принес, это было так стыдно! Когда вошли наши танки в Прагу в 1968 году, это был уже конец. Мы оказались тогда в ресторане «София», я просто плакал. Ну конечно, человеку почти немыслимо думать, что его жизнь пошла коту под хвост…
– У вас она не пошла коту под хвост.
– У меня другая профессия.
– Времена не выбирают, в них живут и умирают. Мы не можем выбрать время, но можем посмотреть на себя и подумать: а я что такое?
– Для того, чтобы на себя посмотреть, надо уже не совсем рядовым человеком быть.
– У меня такое дурацкое мировосприятие, что мне кажется, что каждый человек может это сделать.
– Теоретически да, практически нет.
– Меня это оскорбляет, извините.
– Фрейд отвечал, когда его в чем-то там упрекали: эмоции – не аргумент. Признать это неприятно, трудно, но это так. Тютчев говорил: какой парадокс – великая страна и народ-младенец. Этот незрелый возраст, который в силу разных исторических обстоятельств очень ненормально протекал, – в нем нет ничьей вины. Но вот даже Солженицын, при всем моем великом почтении к нему, печатает в «Новом мире» очерк с абсурдной исторической концепцией: есть некий великий народ и во все века ему не везет, то с тем правителем, то с этим. Давно уже пора решать кардинальный вопрос: а кто мы? Кто мы? Не Сталин, а мы? Кто-то не хочет этого понять, кто-то не может, кто-то стесняется. Залыгин умеет понять, и я считаю его одним из замечательных мыслителей, блистательна его работа в последнем номере «Нового мира». К Ельцину претензии? Но наши власти такие, какие мы. У нас не может быть президентом Сахаров. Вопрос вопросов: мы народ Ковалевых или Грачевых? Грачев ходит в именинниках, а в Ковалева тычут пальцем. Гайдар не будет президентом, потому что у него лицо умника, а не жулика. Когда я понял это, сначала тоска охватила: значит, мне ничего не светит. А потом стало спокойнее. Я сам голосовал за Ельцина, потому что другой еще хуже. Какие мы – такие и власти. Будем мы другие – будут и власти другие. Хрущев виноват, Брежнев виноват, Черненко виноват, Горбачев виноват, Ельцин виноват…
– …только мы такие невинные и все в белом…
– Это не обвинение. Это я как врач говорю. А когда опасаются разных партий – ну что они могут? Ну, они могут вас или меня убить. Остановить процесс развития общества они не могут.
– Вы говорите: убить. Но что значит вашу жизнь оборвать – ничего уже не будет для вас. Что важнее вашей жизни?
– Наверное, жизнь моих детей. Хотя не скрою, что смерти я страшился всегда.
– У вас было смертельное ранение, вы умирали и выжили…
– Я был молодой тогда.
– Для нынешних молодых сфера любовной, интимной жизни, к которой вы боитесь даже прикоснуться, а они ничего не боятся, она существует так же, как для вас?
– Не так же, а тоже. Она иначе для них существует, и это тоже естественно. Правы всегда последующие, а не предыдущие. Ибо жить им. Мы будем оценивать это как лица заинтересованные. Любящие живут так, как это им нужно сегодня – ему и ей. Степень свободы и тут выше. Я давно для себя определил исторический процесс как цепь освобождений от табу. Граница где-то должна быть. А кто ее устанавливает? Они устанавливают, не мы с вами.
– Вы учили себя пониманию и терпимости?
– Я учил себя объективности.
– Жаль, что вы так ничего и не рассказали о любви.
– Были, были волшебные истории…
– Ну хоть одну волшебную историю!..
– Почти все было в стихах. Вот стихотворение «В Ленинграде, когда была метель». На другой день после моего дня рожденья пришли опохмеляться мои друзья Булат Окуджава и Гриша Поженян, и Гриша сказал: я не принес никакого подарка, поехали в Ленинград, это будет мой подарок. А я до той поры не был в Ленинграде. Мы сели и поехали. Остановились в гостинице. Первое утро, выходим – очередь на такси и молодое очаровательное лицо, длинные волосы, мгновенный взгляд в мою сторону, и вот она уже садится в машину, и я – а я человек застенчивый, а тут вдруг за ней следом – открываю дверцу, и вот мы уже едем вместе. Она такая пижонка, говорит: а я вас знаю. Откуда, я первый раз в городе. А я вас в Москве видела, в театре. Я что-то такое вспомнил. Она приехала на съемки. Я спрашиваю: где вы остановились? В той же гостинице. Когда будете? В пять часов. Я даю ей телефон. Ровно в пять часов звонок: я приехала. Я говорю: я сейчас зайду. И начинается головокружительный роман, который длился все дни, которые мы были в Ленинграде, и потом ехали вчетвером в Москву, и в Москве… потом была жуткая драма, когда расставались, она рыдала, я рыдал…
– Спасибо, Юра. Не сердитесь на меня, но это действительно прекрасная история! Как хорошо, что вы позволили себе нарушить правило!.. Я от всей души желаю вам здоровья, денег и счастья.
* * *
Через несколько месяцев, выступая на приеме в Московской мэрии, он начал говорить о Чечне, разволновался, потом вышел в фойе и – умер.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий, поэт.
Родился в 1922 году на Украине. Поступил в ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории). С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт. Солдат, офицер, фронтовой журналист. Первый сборник стихов «Солдатская дорога» вышел в Иркутске. За ним последовали сборники «Встреча с Москвой», «Самое дорогое». Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте. В Москве вышли сборники: «Земное небо», «Кинематограф», «Сюжет с вариантами», «Письма Катерине», «Белые стихи».
Умер в 1996 году.
СВАДЬБА В КОНЦЕ ЛЕТА Петр Тодоровский
Один из самых пронзительных лириков отечественного кино снял новую картину «Риорита». Был такой легкомысленный фокстрот времен той войны. Можно было ожидать, что и картина будет под стать. Однако на этот раз лиризм глубоко спрятан. Сюжет разворачивается страшно и жестоко…
Живому, смешливому, энергичному Петру Тодоровскому восемьдесят два года – поверить в это невозможно.
* * *
– Какая-то экспансия Тодоровских! Включаю телевизор – фильм «Над темной водой» по сценарию сына Валерия. «Жена Сталина» делала жена Мира. Только что посмотрела ваш фильм «Риорита». Не трудно жить в команде? Или как художники вы самостоятельны?
– Самостоятельны. Мира продюсирует мои фильмы. А с сыном я мало общаюсь. Хотя мы в одном дворе живем. Он занят своим, я своим.
– А было так, что екнуло сердце, когда что-то у Валерия очень понравилось?
– Да. Вторая его картина «Любовь» очень понравилась. Я до сих пор считаю, это лучшее, что он сделал. В смысле человеческих чувств она истинно правдива. И серьезная проблема для нашей страны: русский мальчик и еврейская девочка любили друг друга, а потом она уезжает, и вот эта драма отъезда, прощание навсегда… Я смотрел и узнавал немножко себя. Никаких выкрутасов, все просто…
– Вы любите, когда просто?
– Я люблю, когда забываю, что я смотрю кино, включаюсь и начинаю играть в эту игру, сопереживаю, кого-то начинаю любить, кого-то не любить.
– Он показал вам уже готовую ленту?
– Да. Он боялся, не дай бог, скажут, папа помогает. Поэтому все скрывалось. Теперь он уже зрелый мастер. Заканчивает мюзикл из времен стиляг…
– У Левитанского есть стихи о войне: «Ну что с того, что я там был… Я все избыл. Я все забыл». А потом: «Я не участвую в войне – война участвует во мне». Это похоже на то, что у вас?
– Я хорошо его знал… Да, похоже. Когда человеку двадцать лет, он, видимо, как ребенок, который впитывает очень многое, и это становится материалом для будущих работ. Война – это моя молодость, это самые яркие впечатления, которые остались. Я попал на фронт в 1944-м. А в 1943-м пошел в Саратовское военно-пехотное училище. Оно было шестимесячным. И можете представить, что один взвод из всего училища посылают пилить дрова для Приволжского военного округа. А в училище три тысячи курсантов. И мы целый месяц на острове пилим деревья, а когда возвращаемся – ни одного человека. Все училище по тревоге подняли и – на Курскую дугу. Там была мясорубка. Больше никого я не встретил потом. А мы спаслись…
– Что должно было случиться, чтобы вы встали за камеру кинооператора?
– Дело было в Германии. Мы шли после тяжелых боев, грязные, уставшие, легко раненные тоже среди нас. И я увидел кинооператора, он снимал проходящих ребят. И подумал, что эти лица сохранятся. И еще подумал, что если останусь живым, попытаюсь стать кинооператором. Хотя совершенно не был подготовлен. До войны только-только начал заниматься фотографией. Девять классов школы, училище, армия. Десятый класс заканчивал после войны.
– Что видит в глазок кинокамеры оператор? И что режиссер? А что сценарист? Вы ведь давно триедины в одном лице. Вот кадры леса в новой картине «Риорита», когда фигуры бойцов появляются в предрассветном тумане, и так страшно!.. Кто это придумал?
– У Григория Поженяна была история. Он снимал картину «Прощай» и поссорился с артистом Олегом Стриженовым. И снял его с картины. Тот возмутился: как же так, я по сценарию еще и половины не сделал! Ответ: ничего, режиссер Поженян как-нибудь договорится со сценаристом Поженяном. Вот и режиссер Тодоровский как-нибудь договорится со сценаристом Тодоровским. Я пишу сцену, видя и зная, как ее снять. Режиссер – единственный человек, который держит всю картину в голове, в душе, в руке. Такие ниточки тоненькие, которые все связывают. Это почерк режиссера. Он знает, каким должен быть пейзаж, как должен стоять актер, в том душевном состоянии, в каком сейчас пребывает, в фас, в три четверти или боком, как его осветить. Конечно, Тарковский и Вадим Юсов сидели, разрабатывали «Иваново детство» и «Рублева» по кадрам. А у меня оператор на «Риориту» пришел за неделю. Я говорю о тех операторах, которые нарасхват, очень дорогих – шесть тысяч долларов в неделю. Это Юра Шайгарданов, он снимал с Валерой «Страну глухих» и с Абдрашитовым «Магнитные бури»…
– Если бы вам пришлось на Страшном суде рассказывать судьям о ваших картинах, которых они не видели, что бы вы им сказали?
– Сказал бы, что у нас очень сильный дефицит доброты, и я хотел внести немного доброты и любви в этот мир.
– Это правда, и «Военно-полевой роман», и «Анкор, еще анкор!», и «Какая чудная игра», и ранние «Фокусник» и «Любимая женщина механика Гаврилова», по чужим сценариям, исполнены любви. Откуда такая жесткость в «Риорите»? Я прочла фильм как притчу о русском народе. Отец и три брата-богатыря – простодушные, наивные, чистые, терпеливые. Терпенье кажется безграничным, но когда уж достанет!.. Мы видим то, что происходит, и своими глазами, и глазами молодой немки, а в них ужас… А потом – хлебное поле, младший косит, рядом с ним встает один его сын, за ним второй, третий. Такая грандиозная метафора русской жизни, русского характера, где все смешано: доверчивость, хитрость, агрессия и мирный труд на бескрайних просторах…
– Не знаю… Я снимал локальную маленькую историю, каких на войне много было, ведь люди там были, а не роботы. Там не только стреляли, там и любовь была, и страдания, и предательства. В этих экстремальных условиях человек раскрывается полностью. Скрыть свой характер невозможно. Среди бури смертей, страстей – героизм русских людей. По своей простоте они доверились нехорошему человеку – вертухаю. Они не привыкли хитрить – и трое из четверых гибнут. В каком-то смысле это если не шекспировская, то библейская история…
– А, все-таки библейская! Но почему столь жесткий фильм?
– Да, фильм Не-Тодоровского. Он как бы выпадает из моего мироощущения, из той доброты, на которой я настаиваю много лет. Но история, что случилась с младшим сыном, когда он снимает шинель с убитого, случилась со мной. И страшно было мне. Первое название фильма – «На память о пережитых страхах». После войны, расставаясь со своим другом, капитаном Пичуговым – я и фамилию его дал этой семье, – я получил от него фотографию, где на обороте: «Пете на память о пережитых страхах». Знаете, не надо это писать, но на войне было кое-что и похуже того, что в фильме. И женщин насиловали взводами, и офицер мог подойти и застрелить солдата, а потом списать убийство на боевые потери…
– Видите, вы до сих пор говорите: не надо это писать. Насколько глубоко в нас сидит запрет на правду…
– Я читал книгу Гавриила Попова «1941—1945», там страшные цифры. Сто тысяч немок обратились в комендатуры, что были изнасилованы советскими бойцами. А сколько награбило начальство! Эшелон мебели вывез Жуков! А больше всех грабили энкаведешники…
– Вы пошли на рискованный шаг – сняли фильм без «звезд». Не боитесь за его судьбу?
– Ну представьте себе деревенских парней – Миронова, Машкова. Это же невозможно. Я думаю, что судьба у фильма будет печальная. Раньше картины клали на полку. Но тогда у картины была слава «полочной», о ней говорили, и ты ощущал свою значимость. Сегодня, если не возьмут первый или второй каналы телевидения, картину тихо спускают в унитаз, и никто о ней не услышит. Я не знаю, как отнесутся к ней военные. После «Анкор, еще анкор!» пришло письмо: у тебя внуки есть? Оболгал, дескать, нашу доблестную армию. А мы снимали жизнь военного городка, где было все, и потом еще пили с комендантом…
– Но и «Анкор» сделался любим народом, и почему бы не ожидать народной любви для «Риориты»!.. Вы отдали Пашке эпизод из своей жизни. А то, что отец похож на вас, – так задумано?
– Знаете, каждый режиссер, да и художник, когда рисует чужой портрет – рисует себя. Иван Семенович Криворучко, который сыграл эту роль, артист доронинского МХАТа – замечательный человек. Пришел, с длинными волосами, с бородкой – такой чеховский персонаж. Я говорю: но мне нужен деревенский человек. Он говорит: если вы меня возьмете, я все сделаю – и волосы остригу, и бородку уберу. И все сделал. Актеры любили людей, которых играли. Это самое главное.
– За время большой жизни с большими актерами бывало что-то, что вас самого изумляло?
– Я имел счастье работать, действительно, с большими актерами. Гердт, Олег Борисов, Леонов, Евстигнеев, Чурикова, Гурченко, Елена Яковлева, Розанова, Андрейченко, Лидия Шукшина… У них, после и в результате всех наших разговоров, репетиций, того, что написано в сценарии, – когда включается мотор, возникает нечто третье… Это называется – талант. Какие-то подробности поведения, которые необычайно обогащают образ. Допустим, в «Военно-полевом романе», когда Андрейченко, которую любит Бурляев, приходит к Чуриковой, жене Бурляева, и они уже надрались, Чурикова вдруг сымпровизировала. Инночка подбежала к шкафу: я хочу подарить тебе платье… Схватила и стала совать ей платье. Это родилось прямо по ходу съемки. Великая актриса Чурикова… И таких эпизодов было множество.
– Лучшие актеры охотно работают с вами – чем вы завоевали их любовь?
– Это их надо спросить… Может быть, моей любовью к ним. Чувством юмора. Я доброжелателен. Я веселый человек. Я рассказываю им анекдоты. Не просто так, а по делу. Я люблю дурачиться на съемочной площадке. Актеры буквально прилипают. Я не хожу и размышляю, как снимать… То есть это тоже, но заранее. Я раньше всех прихожу на съемочную площадку и сам репетирую.
– За всех?
– За всех. Как бы я это сделал. Учитывая разные характеры и ситуации. И они, видя, что режиссер знает, что делать, начинают доверять. А если они мне доверяют, они начинают дружить.
– Вы со всеми дружите?
– Да, я дружу со всеми… С Женей Евстигнеевым дружили все годы. И со второй его женой, и с третьей. Москва – город, который разъединяет, а у нас было много общего. Например, музыкальность. Женя был когда-то ударником в Горьком, учился в театральном училище, а вечерами стучал на барабанах и зарабатывал этим деньги. На этой почве мы особенно сошлись. Дома – я с гитарой, а он брал две вилки и по столу!.. С Гердтом дружили тридцать лет, это было счастье. Человек, наполненный поэзией. Мог начать читать Пушкина, Тютчева с любого места. Юмор неиссякаемый. Необычайное богатство общения – вот что я потерял. То же самое – с Сашей Володиным. У нас свадьба была у него дома, хотя мы не были знакомы. Мы снимали ленинградские эпизоды в картине «Никогда» по сценарию Поженяна. Приехали с Мирой. Мы познакомились в Одессе, она была морской инженер, нам было хорошо вместе, и я предложил ей поехать со мной, она уволилась и поехала. В Ленинграде стали собирать деньги на ресторан, чтобы отпраздновать свадьбу, а зарплаты крохотные. Мира сняла часики: продадим. Все равно не хватает, чтобы хоть часть съемочной группы пригласить. Тогда Поженян говорит: у меня есть большой друг Саша Володин, поедем к нему. И вот после съемки вваливаемся в дом, где накрыт стол и стоит такой смешной человек со смешным носом. Поначалу было очень стеснительно. Но первая рюмка, вторая, третья, появилась гитара, я начал петь, Саша подсел ко мне… А у него актриса должна петь в спектакле у Товстоногова, и он говорит: ты обязательно должен показать ему, как надо петь. И на следующий день пришел Товстоногов, и я опять пел. В общем, такая бурная свадьба была. С дракой небольшой… А потом мы вернулись в гостиницу. Мира пошла ко мне в номер. Мы не имели права жить в одном номере – не расписанные же. А она, выходя из такси, уронила сумочку. Бдительный таксист принес сумочку администратору, Миру нашли по квитанции, но в ее номере вместо нее жил человек нелегально, Миру обнаружили у меня. И нас троих вытолкали из гостиницы. Был конец лета, ночи прохладные, деваться некуда… Зато запомнилось на всю жизнь.
– В вас преобладает скорее любовный или дружеский человек?
– Я очень дорожу дружбой. Но вот какая штука… Бывает, когда человек становится знаменитым, у него есть положение – он начинает себе немного позволять. У таких людей нет той нравственной черты, которую нельзя перешагивать. Я не хочу называть имен… мы продолжаем общаться… но что-то пропало. Я вижу это с большим сожалением. Поэтому любовь в последние годы занимает большее место. Конечно, большая любовь – и Мира, и Валера, и внук, и внучка. Но еще любовь к профессии. Это единственное, что меня спасает. Когда я снимаю кино, я не болею, не устаю, я чувствую, что меня любят женщины…
– Ну поделитесь вашими секретами режиссера.
– Ювелирная работа с актерами, прежде всего. Знаете, какие пробы я устроил Яше Шамшину, ленинградскому актеру, который сыграл Пашку? Изобрази мне, говорю, верблюда, потом змею, потом шимпанзе. Мне надо было увидеть его мимику и пластику. Увидел – и утвердил… Должен быть резерв наблюдений. Понадобятся по делу. Однажды мы с другом перегоняли машину «Волга» одному боссу из Одессы в Киев, ночью, и когда пришла моя очередь отдыхать, пошел дождь, «дворники» заработали, и внутри у меня возник ритм. А помните, в фильме «По главной улице с оркестром» «дворники» работают, Олег Борисов начинает подсвистывать ритм, и «дворники» начинают танцевать под его свист. Вон когда пригодилось… И очень важная вещь – наитие. В «Военно-полевом романе» одна из центральных сцен, когда Чурикова застукала Бурляева с Андрейченко, а Андрейченко говорит: он любит меня, а не тебя. И требует у Бурляева, чтобы тот тоже это сказал. А тот что-то бурчит. Она настаивает: скажи громче. И вот я думаю: а что он должен сделать? Он любит Андрейченко, но и Чурикову очень ценит. Я говорю второму режиссеру: стучите в дверь, попросите там у них пару яблок. Даю яблоко Бурляеву и говорю: она скажет тебе, а ты вгрызайся всеми зубами в яблоко, чтобы хруст пошел!.. И так это было снято. Боженька дает напрямую. При условии, конечно, что ты готов…
– Вы человек общительный, с гитарой, и лицо у вас улыбчивое. А бывает ли мрак на душе? И что вы тогда делаете?
– На Одесской студии директор пытался снять меня с картины «Жажда» – мрак. Мрак – когда отца, мать, сестру хоронил. Старшего брата забрали в армию после десятого класса, началась война, мы писали, искали его, нам неизменно отвечали: в списках погибших и пропавших без вести не значится. Три года назад раздается звонок из Коломны: Петр Ефимович, я такой-то, руководитель поисковой группы, нашел место, где погиб ваш брат. Это родовой мрак. Творческий мрак очень часто бывает у меня. В последнем фильме нужно было по-другому снять одну сцену. Когда этот вертухай Бархатов рассказывает про женщину, которая приезжала к мужу в лагерь, нужно было, чтобы послышался звук летящего снаряда, и Сережа, средний брат, подбежал бы и спас его в этот момент, и они оба сидят, засыпаны землей, войной…
– А потом он этого Сережу убивает…
– Ну да. Я до сих пор смотрю это место… ах ты, дурак старый… Нет такого дня, чтобы я не сожалел, что не так сделал.
– А как выходите из мрака?
– Только за счет того, что несерьезный человек. Начинаю дурачиться, придумывать всякие штуки…
– Не напиваетесь?
– Нет. Бывали случаи, когда я напивался, это было очень давно. А утром вставал мертвым.
– Вы человек реализованный. Что бы вы сказали молодым людям, как надо жить, чтобы реализоваться?
– Слышать себя. Доверять первым ощущениям. Много раз на себе проверял. Когда изменял первому ощущению – ошибался. Я не говорю о порядочности и честности – это обязательные вещи для человека. Не метаться. Найти себя. То есть найти то, без чего жить не можешь. Свое место в жизни, свое призвание. И бить в одну точку. Об этом, кстати, «По главной улице с оркестром», где Олег Борисов после долгих лет блужданий в потемках возвращается к себе, к музыке…
– А что самое главное вы узнали за жизнь о жизни?
– Что жизнь прекрасна. Все интересно! Мы затурканы, забиты, не видим восхода солнца, не сидим, как рыбаки, часами над речкой с ее туманами и блеском воды на заре. Нам некогда заниматься животными. У нас была кошка, ее подстрелили, жаль было до слез, она была третий член семьи… Недавно стал понимать, сколько упущено. Мало попользовался этой красотой. Мало путешествовал. Однажды сидел смотрел, как воробушки дерутся за корочку хлеба… и такое чувство!.. Что-то мы серьезно пропускаем. Работа – да. Но что не находим времени на любовь ко всему живому!.. Голова забита проблемами: что делать и как дальше жить. Мы же уходящая натура, поэтому уже сейчас легкая депрессия в связи с тем, что я ничего не делаю…
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ТОДОРОВСКИЙ Петр, кинорежиссер, киносценарист.
Родился в 1925 году на Украине.
В Великую Отечественную – курсант Саратовского военно-пехотного училища, направлен на фронт командиром взвода, дошел до Эльбы.
В 1954 году окончил операторский факультет ВГИКа. В качестве оператора снимал фильмы «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Жажда» и др. В качестве режиссера – «Фокусник», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Интердевочка» и др. По собственным сценариям им сняты картины «По главной улице с оркестром», «Военно-полевой роман», «Анкор, еще анкор!», «Какая чудная игра».
Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии России.
Награжден тремя орденами Отечественной войны и тремя орденами «За заслуги перед Отечеством».
ТОДОРОВСКАЯ Мира, киносценарист, кинопродюсер.
По первой профессии – морской инженер.
Автор многих документальных фильмов. Сценарист, режиссер и продюсер 4-серийного фильма «Жена Сталина».
Основала независимую студию «Мирабель», в которой осуществила производство семи последних фильмов Петра Тодоровского.
Сын – Валерий Тодоровский, кинорежиссер, кинопродюсер.
ДВЕ ЛОЖЕЧКИ САХАРА Виктория Токарева
Разговор с Викой Токаревой происходит теплым осенним днем у нее на даче. Присутствуют собака Фома и кот Кузьма.
* * *
– Вика, почему ты стала писательницей?
– Господь вложил мне дискету. Если этого нет, как бы ты ни сидел на заднице, ничего не выйдет. Сама подумай, с какой стати человеку три часа горбиться за столом неизвестно зачем? Как-то в доме творчества я выхожу к обеду и говорю: о, как я хорошо поработала. А один малоизвестный писатель в ответ: какая вы счастливая, а я три часа сидел, слова не мог из себя выдавить. Я убеждена, если в человеке идет такая тяга – это уже признак одаренности. Я написала первый роман в пятнадцать лет, читать без слез невозможно, про любовь, герой – ирландец, я и сейчас не знаю, где Ирландия, а тогда и вовсе не знала.
– Что стояло за тягой – необходимость выговориться, тщеславие?
– Искандер говорил: инстинкт передачи информации. Он такой же мощный, как все другие инстинкты.
– Ты записываешь, что услышала и увидела?
– Я сочиняю то, что вижу и слышу.
– У тебя такой острый взгляд?
– Специфический. Если что-то происходит, я думаю: о, пошел сюжет!..
«…Я веду хор в общеобразовательной школе. Дети меня не слушаются, в грош не ставят. Как говорит одна знакомая: “Ты не умеешь себя поставить”. И это правда.
И сейчас, будучи раскрученным писателем, которого читают даже в Китае, я по-прежнему не умею себя поставить. Меня ценят только те, кто меня не знает. Читатели домысливают мой образ…
На моих занятиях творится черт знает что. Я возвращаюсь домой удрученная. Мой синеглазый муж встречает меня на автобусной остановке. Он смотрит мне в лицо и все понимает. Он говорит:
– Не обращай внимания, я у тебя есть, и всё.
И это правда. Он у меня есть. Но этого мало. Надо, чтобы я тоже была у себя. А меня у меня нет» («Террор любовью»).
– Я вышла замуж за москвича, я ленинградка, мы жили с родителями мужа в одной большой комнате за перегородкой, на их половине стоял стол, где мать моего мужа шила, а я писала. Что – неизвестно, но писала. Кто первый занимал стол – молча, – того он и был. Интеллигентнейшая женщина. Никакой войны. Ни разу не сделала замечания, не сказала: что ты там пишешь. Заняла стол и заняла – она ждала своей очереди.
– А кто были родители мужа?
– Комсомольцы 30-х годов. Микоян сказал его отцу, что в стране плохо с продовольствием, и он, не собираясь посвящать свою жизнь продовольствию, стал заниматься кондитерской промышленностью. Кандидатская диссертация его называлась «Процент меда в медовых пряниках». Его друг защитил докторскую, придумав обсыпать леденцы сахарным песком. А еще одна его работа, засекреченная: «Галеты как военный продукт». Он был чист как ребенок. И таков же муж. И такова же дочь. Они не в состоянии сказать злого слова.
– Ты в состоянии?
– И делаю это с большой охотой.
– Ты писательница, в тебе должна быть цепкость и злость, добренькие в этой профессии не проходят.
– Но я при этом беспрестанно делаю добрые дела, хотя нехорошо об этом говорить. Одну подругу безумно удачно выдала замуж, а ей больше шестидесяти. Сорок два раза ему звонила, выстроила целый замысел – не в литературе, в жизни – и добилась успеха. Сын другой приятельницы заболел, одна инъекция – тысяча евро, я добилась, чтобы его поставили на государственную программу. Мне нравится помогать людям. Ты спрашивала о тщеславии – это составная часть тщеславия.
– Это был твой первый муж?
– А у меня всю жизнь один муж.
– Но ты столько раз влюблялась! Да и как бы иначе ты писала свои вещи о любви?..
– У нас был любимый ребенок, Наташа, ей нужны были оба родителя.
– Вы ссорились?
– Никогда. Нет, один раз. Он был за рулем и въехал в знак на дороге. Я разозлилась, ну как можно въехать в знак, но молчу. Только открыла рот – он меня опередил и давай кричать. Через пять минут я подошла к нему и сказала: давай больше никогда не ссориться. И больше мы не ссорились. Есть люди, с которыми я могу ссориться, с ним – нет. Иначе все рушится. Эта история про небеса, где ихний ЗАГС, она справедлива.
– Какой он у тебя?
– Мы как-то были в компании за городом. Народ обносили бутербродами. Каждый старался взять кусок колбасы потолще. Он взял самый маленький кусочек на корочке хлеба. Он не видел, что я за ним наблюдаю. И такой он во всем.
– А как вы познакомились?
– Полная случайность. Мне было восемнадцать лет, я училась в музыкальном училище и давала частные уроки одному недорослю. Пришла в дом, там сидит молодой человек, он приехал в Ленинград в командировку, и мать недоросля пригласила его с работы домой. Он был очень стильный: узкие брюки, туфли на манке, помнишь? Я никогда не видела таких глаз. Синие. И очень большие, от этого всегда казались удивленными. Он позвал в театр, из театра пошли в сквер, там насыпь, по ней поезда шли. Мы сели на лавочку. Он говорит: когда мой папа бывает в Ленинграде, он всегда заходит в кафе «Север», берет пирожное, чашку кофе и кладет две ложечки сахара. Помолчал и повторил: две ложечки сахара. Прогрохотал поезд, и он еще раз повторил: две ложечки сахара. Я подумала: какая тоска. Это было начало любви.
– Вставила в рассказ?
– Нет.
– А что есть для тебя любовь?
– Особое настроение, состояние души, душевный подъем. Мое требование к мужчине только одно: чтобы был гений. Все остальное не имеет никакого значения.
– Ты влюбляешься в талант? А какой талант у мужа?
– Талант порядочности и терпения. Порядок противостоит хаосу. Он скушен. Но жить можно только с порядочным человеком. Чтобы всегда был за спиной. Если бы открутить время назад, я бы снова вышла замуж только за него.
«Существует гипотеза возникновения Вселенной в результате большого взрыва. Взрыв – и сразу возникло все: и Земля, и жизнь, и Космос, и Бог.
По этой схеме выстроилась и моя жизнь. Публикация первого рассказа – и сразу все. Меня приняли в Союз писателей, кинематографистов, выпустили книгу, заказали фильм, выдали славу и деньги, а главное – меня саму. Мне предоставили меня.
Когда что-то складывается, складывается сразу. Или никогда» («Террор любовью»).
– Как ты относишься к своей популярности?
– Я не очень ее замечаю, поскольку живу, как ты видишь, за забором. Я стала знаменитой в двадцать шесть лет. За сорок лет привыкаешь.
– Расскажи, как ты проснулась знаменитой.
– Я открыла журнал с моим первым опубликованным рассказом, с портретом и предисловием Константина Симонова, это было в Прибалтике, и бежала две железнодорожных остановки, от Дубулты до Дзинтари, иначе счастье меня разорвало бы!
– Ты так эмоциональна?
– Сейчас нет. В первой молодости все кажется важным, в третьей – важно только важное. Меня могло бы смутить, если бы я открыла дверь моего дома, а там мужик с направленным на меня стволом. Слава богу, пока я встречаю других людей. Тебе понравилась ванная комната в домике?
– Очень.
– Мне построил поклонник моего таланта. Ему и его маме нравится, как я пишу. Он прислал архитектора, рабочих, чтобы они сделали эту пристройку, и запретил говорить с ними о деньгах.
– С чем ты бы могла сравнить свою жизнь?
– Не знаю. В 60-х годах во ВГИКе писали сценарии, начало которым положил сценарист Геннадий Шпаликов в фильме, снятом Гией Данелия, «Я шагаю по Москве», – такой вольный поток. И было выражение: отвлечение от сюжета внутри сюжета. Моя жизнь – это отвлечение от сюжета внутри сюжета.
– Данелия – важная страница…
– Он помогал мне дорабатывать первый сценарий «Урок литературы». Фильм по нему закрыли. Я позвонила Данелии. Трубку взяла Люба Соколова, жена. Я спрашиваю ее: что мне делать? Она говорит: плакать и наматывать слезы на кулак. Потом Данелия пригласил писать вместе «Мимино» и «Совсем пропащий», и еще мы написали сценарий «Шла собака по роялю» для Грамматикова. Для меня нет ничего оскорбительнее бездарного режиссера. Самую большую ненависть у меня вызывает бездарность, занимающаяся не своим делом. С Данелией было, как у Хемингуэя: праздник, который всегда с тобой. Когда он с Александром Бородянским писал «Афоню», он все равно звонил, требовал, чтобы мы разминали материал, поэтому я была внутри его творческого процесса… А потом началась перестройка.
«Я сидела, поникшая, поскольку я была безликая песчинка, просто листочек на дереве, один среди многих.
Потом со временем понимаешь: как хорошо быть листочком на хорошем дереве, шелестеть среди себе подобных. Жизнь шире, чем театр или литература. А публичность – не что иное, как суета сует.
А шелестеть под небом, быть среди других и при этом – сам по себе, ни от кого не зависим, – вот оно, подлинное счастье.
Но это я понимаю теперь» («Террор любовью»).
– Началась перестройка, и…?
– У меня купило мировые права на все про все издательство «Диогенес» в Цюрихе. Оказалось, они искали меня десять лет, а ВААП десять лет прятал меня от них. И я получила деньги, которых, мне казалось, как звезд на небе. На гонорары ВААП я купила бритвенный «жиллет» мужу и себе сандалии. На гонорары «Диогенеса» я купила землю и построила дом, в котором мы сидим. Есть четыре вещи, без которых я не могла бы жить. Первое – профессия. Второе – дочь Наташа и внук Петруша. Третье – внучка Катя. Четвертое – дом на земле. Этот дом для меня – все. Сюда за забор не проникает ничего плохого. По ТВ взрывают поезда, рушатся небоскребы, я вижу немощь современного кино, но в моем мире ходит собака Фома, кот Кузьма по кличке Дармоед, мне помогает моя помощница, замечательная болгарка, которая потрясающе готовит, и у нее мания чистоты, и она все делает молча, – это ли не счастье?
– «Диогенес» тебя свел с Феллини? Два слова про Феллини.
– Я тебе два слова скажу про Петрушу. Ладно, сначала про Феллини, а потом про Петрушу, моего красавца. Наш общий издатель Даниэль Кеель решил познакомить нас, чтобы мы вместе что-то сочинили, а он издаст и получит большую прибыль. Мы провели вплотную неделю, не разлучаясь. Феллини – сама гениальность. Но ему было семьдесят шесть лет, это происходило месяца за три до его смерти, и он уже слышал шаги Командора…
Теперь про молодого Петра Тодоровского. Он полный тезка своего деда. Он еще не умел говорить, а произносил слово «впрочем». Он говорил: «вплёцем». Он с детства выражал свои мысли сложно. Окончил факультет журналистики, международное отделение, с красным дипломом, и – начал писать сценарии. Значит, проснулись мои гены. Хотя внутрисемейную конкуренцию выдержать будет сложно. Что получится в результате, говорить трудно, ему двадцать два года, но он явно человек кино.
– А Катя?
– Кате двенадцать, она приезжает сюда на конец недели, и такое впечатление, что приехал сорок один человек. Я ее люблю, как никого и никогда. Так же любит ее мой муж. Семья – это кровь. Кстати, я тут видела сюжет из цыганской жизни…
– Это ты к чему?
– Ко всему. Я не хотела бы быть цыганкой, но когда посмотрела этот сюжет, я им позавидовала. Мы все время кому-то что-то должны: детям, издательству, государству. А они живут как птицы. И никогда, между прочим, не разводятся.
– Ты чувствуешь себя свободным человеком?
– Я не чувствую и не хочу быть им, а хочу быть в упряжке. Я Вол по знаку, я иду и тяну борозду. Я пишу мало. Потому что много писать – писать плохо. Но если я не напишу свои две странички в день – внутри тревога. Если напишу, пусть они никому не нужны, кроме меня, – всё в порядке. Мне говорят: литература отмирает, не зря ли ты занимаешься этим? Я когда задумываюсь над этим вопросом, я столбенею и не знаю, что сказать. Но если литература прожила 2007 лет, почему она куда-то должна деться? И я уже прожила так – куда мне деваться? Когда я предстану перед Всевышним, меня простят за то, что я любила свое дело и делала его хорошо. За это мне отпустят мои бесконечные грехи. Мои странички и есть моя исповедь, моя молитва и мое покаяние.
«Пусть зло придет в мир, но не через меня.
Чья это мысль? Да не все ли равно. Какая разница…» («Террор любовью»).
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ТОКАРЕВА Виктория, киносценаристка, писательница.
Родилась в Ленинграде. Училась в музыкальном училище. Окончила сценарный факультет ВГИКа.
Автор сценариев «Джентльмены удачи» (совместно с Г. Данелия), «Мимино» (совместно с Р. Габриадзе и Г. Данелия), «Совсем пропащий» (совместно с Г. Данелия), «Ты есть», «Вместо меня».
Автор книг «О том, чего не было», «Летающие качели», «Ничего особенного», «Птица счастья», «Террор любовью».
Живет в Москве.
РЕПЕТИЦИЯ Татьяна Лаврова
Легенда театра и кино, тоненькая, большеглазая, светящаяся, она всегда была диво как хороша. Последний раз она вышла на сцену МХАТ в 2003 году. Качало, кружилась голова, темнело в глазах, отказывали руки. Оказалось, необходима операция на позвоночнике. Лучшие врачи России взялись помочь. И помогли. Но болезнь не отступила. Практически не выходя из дома, она собирала все силы, чтобы сняться пусть даже в эпизодической роли. Была мужественна, немногословна, не жаловалась. Может быть, только такс Сильвер знал, как ей плохо, больно и одиноко.
«Танечка, что тебе нужно?» – «Вот если бы диктофон, я бы стала наговаривать что-то про жизнь, жизнь была интересная, столько людей…»
Газета «Комсомольская правда» покупает диктофон и все, что к нему полагается, и я везу подарок Тане.
* * *
– Танечка, давай попробуем… будет как бы репетиция…
– Я не знаю, с чего начать…
– А начни с любого места. Ты же не научную статью надиктовываешь… С любого эпизода. Вот что тебе хочется вспомнить…
– …Как Женя Урбанский меня в первый раз поцеловал… Это было такое потрясение, что я сказала своей бабушке: «Баба, я, наверное, беременна…» Он был моя первая любовь, мой первый мужчина, мой первый муж. Отец его сидел, и он родился далеко, в Инте. При своей потрясающей внешности был страшно застенчив и не уверен в себе. Он был создан для классических ролей, а играл социальные. Великие роли обошли его…
– Ты уже играла в «Современнике», когда там появился Олег Даль?..
– Даль – выдающийся артист. Слово затасканное, но он действительно был выдающийся. Индивидуальность, стиль, манера слишком рано появились, такого еще не было. У него была способность переживать что-то – любовь, скажем, – как мужчине переживать не дано. Такая тонкость и такая ранимость, каких мужчинам нельзя иметь, – от этого такая судьба и ранний уход. Я его знаю лучшим, когда он еще был молод. Я вышла за него замуж, когда я уже кто-то, а у него рваное пальто, рваные ботинки, и я начала его одевать. Мы снимали квартиру, жили в подвале. Но я не могла одолеть его страшного пьянства.
– Тебя не спаивал?
– А как русская женщина себя ведет? Я попивала с ним, чтобы ему меньше осталось. Мне Ефремов сказал: смотри, сопьешься. Но Бог не дал. Его мать и отец обожали меня. Когда Олег умер, я на девять дней пришла к Лизе, его вдове. И один человек отвел там меня в сторону и сказал: если бы ты не ушла, он бы не умер. Я сказала: что делать, Господь распорядился так. Понимаешь… мы были с ним в той близости, что могли не разговаривать даже. Мы звуками разговаривали. Но я не думала, что он будет так переживать, когда я ушла. А иначе надо было бросать все и заниматься его пьянством, а это было безнадежно. Он пил с 16 лет. И с Лизой пил. Он – тайна. У него неподвижное лицо. У актера это редко бывает, мы все с ужимками. А он с этим неподвижным лицом – и оторваться невозможно.
– Ты влюбляешься в человека или в артиста?
– Я влюбляюсь в талантливых. Вот и всё. Хоть тресни.
– А они в тебя?
– Я не спрашивала. Я была беспечна.
– Беспечная самоедка?
– Но и с большим гонором. Потому что сначала сразу все пошло вверх. А потом резко вниз… Я недоигранная актриса. В «Современнике» я играла чаще, чем во МХАТе, куда перешла, а мне казалось – редко. Во МХАТе я на самом деле редко играла у Олега Ефремова, а считалось, что я – его любимая артистка. У Галины Волчек я тоже была любимая актриса, а потом перестала быть…
– Но и в театре, и в кино ты была неотразима. Этот блестящий треугольник в «Девяти днях одного года» – Баталов – Смоктуновский – Лаврова – незабываем…
– Ты считаешь?..
– А сын Володя от кого?
– От третьего брака. Третий – не актер. Володя окончил Суриковский институт как скульптор, занимается дизайном.
– А ты с тех пор одна?
– Ну, у меня были любовники. Многолетние. Семь лет роман с известным поэтом, почти пять – с известным режиссером… А хочешь, еще историю расскажу? Мы ехали как-то на гастроли в Германию через Польшу. Режиссер Анджей Вайда должен был меня встречать в Варшаве на путях. Но поезд пришел не на те пути. И пока он искал нужные пути, подходит женщина, просит передать посылочку. Я стою, тереблю сверток, что она дала, бумажка в моих пальцах рвется… И в это время бежит Анджей: «Татьяна!» Итак: мороз, пурга, запасные пути, поезд вот-вот отойдет, летит великий режиссер с красными розами… И вдруг я слышу: «Та-а-ня, зачем тебе так много презервативов в Германии?» Я не понимаю: каких презервативов? А он говорит: посмотри, что у тебя в руках. Я смотрю: правда, в свертке – презервативы. А в Германии никто за ними так и не пришел…
– Смешно.
– Смешно. Что еще рассказать? Смотри, какие у меня награды. «Ника», «Золотой Овен», «Созвездие», серебряная «Нимфа»… В Доме музыки я вышла на вручение «Ники» после операции…
– Как же ты смогла взять «Нику», статуэтка такая тяжелая!
– Спроси лучше, как я по лестнице смогла подняться…
* * *
Эта короткая запись так и осталась единственной.
Сколько раз я предлагала Тане продолжать, но мы сидели, пили чай и разговаривали просто так, Сильвер лизал мои руки, а диктофон лежал без дела.
Таня прожила еще два года – исхудавший, обессиленный боец за жизнь, – а жизнь уходила…
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ЛАВРОВА Татьяна, актриса.
Родилась в Москве. Окончила школу-студию МХАТ. На четвертом курсе была приглашена во МХАТ. Влилась в коллектив театра «Современник», играла центральные роли. Затем снова вернулась в Художественный театр.
Народная артистка России. Среди самых известных киноработ – роли в фильмах «Девять дней одного года», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Время, вперед!». Трижды была замужем. Первым браком – за артистом Евгением Урбанским, вторым – за артистом Олегом Далем.
Умерла в 2007 году
ОДИНОЧЕСТВО Татьяна Самойлова
Она и сегодня красива. Тот же разрез глаз. Та же улыбка. Ни у кого не было похожих. Вероника, Анна Каренина… Народ поголовно был влюблен в нее.
На Западе актриса такого уровня навечно вписана в Пантеон славы.
У нас – почти забыта.
О ней вспомнила Рената Литвинова в фильме «Нет смерти для меня», посвященном самым крупным именам уходящего поколения.
* * *
– Сегодня самое расхожее слово – «звезда». Всех актеров называют «звездами». Когда ты была в блеске таланта и славы, «звезд» не было. Но ты самая настоящая звезда.
– Была.
– Как ты себя ощущала тогда и ощущаешь сейчас?
– Сейчас я подвожу итоги. Это очень глупо. Потому что ничего не осталось. Тогда я не нуждалась в работе, я играла одну роль за другой, и каждая была в яблочко.
– Ты понимала свое значение как актрисы?
– Нет.
– Но ты была из первых советских киноартисток, которых узнали за рубежом. Блестящий триумф в Канне. У тебя кружилась голова? Или было чувство, что ты из Советского Союза и принадлежишь этому миру, а тот тебя не касается?
– Нет. Я просто не успела об этом подумать. Потому что был такой темп и такой ритм, что я захлебывалась…
– Таня, а ты была счастлива как женщина, как человек?
– Ты имеешь в виду личную жизнь? Да, я была счастлива.
– Ты снималась с самыми интересными партнерами – Алексеем Баталовым, Василием Лановым. А потом вы познакомились с Валерием Осиповым, журналистом и писателем, на «Неотправленном письме», которое снималось по его сценарию…
– Сначала он явился в театр, где я играла в «Дальней дороге», пришел за кулисы и сказал: вы – актриса, я хочу подружиться с вами. Он стеснялся и не знал, как начать.
– За тобой ухаживало много мужчин? Или ты была строга?
– В общем, я была строгая. Вася Лановой, потом Осипов – почти всё… Близкими мы стали в Сибири, где шли съемки «Неотправленного письма». Меня везли четырнадцать суток на поезде до Иркутска, почему-то не отправили самолетом, может, из экономии.
– Ты не боялась сурового сибирского быта?
– Знаешь, нет. Вот тут я точно могу сказать, что я человек скромный.
– Не избалованная?
– Нет.
– Ты сильная?
– Да. Он прилетел и… Мы десять лет были вместе. Десять лет бурной и сложной жизни. Я могу сказать, что это единственная моя любовь. А потом родился Митя…
– Митин отец не он?
– Нет. Я хотела ребенка, а он уже очень тяжело пил.
– Митя в Америке, ты здесь, одна… Мне кажется, ты сама являешься героиней… которую могла бы сыграть…
– Может быть. Только сценария никто не напишет.
– На самом деле твой тип русской женщины, талантливой, красивой и так и не схватившейся за успех…
– Да, наверное. Хотя я пыталась. Не за успех схватиться, а за работу. Безрезультатно. Начиная с давних времен, когда я предложила Бондарчуку взять потрясающий роман Осипова «Разрушение храма». Николай Федорович умер после этого через несколько дней, и ничего не случилось… Я не сидела без дела. Я читала стихи Вознесенского в концертах, я его очень люблю. Вот Райхельгауз собирался дать мне роль в театре. Не собрался…
– Ты пытаешься, но двери не открываются… А съемки у Ренаты Литвиновой – как это было?
– Ренаточка пришла и снимала меня два дня, положив деньги на стол. Картина вышла, она показала, я, конечно, раскритиковала ее в пух и прах, потому что она соединила совсем разных актрис. У меня там есть хорошие моменты, а есть такие… компрометирующие…
– Но ты не говорила ей: уберите это, уберите то. Не ссорилась с ней?
– Нет, конечно. Она чудная девка, совсем молодая.
– Ты благородное существо, Таня. О себе не плачешь?
– Нет. У меня к себе нет жалости.
– А ты себя любишь?
– Сейчас разлюбила. Раньше любила, теперь это кончилось.
– Помнишь, мы с тобой встретились с год назад, я предложила поговорить, написать о тебе, ты сказала: не надо, не надо, не хочу…
– Помню. Было такое состояние.
– Слава богу, что сейчас захотела поговорить…
– Все прошло, Олечка. Ничего вернуть невозможно…
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
САМОЙЛОВА Татьяна, актриса.
Родилась в Москве в семье артиста Евгения Самойлова.
Снималась в фильмах «Летят журавли», «Неотправленное письмо», «Анна Каренина».
КАРЬЕР-НАЕЗДНИЦА Алексей Баталов
Шел дождь. От главного корпуса до ворот Центральной клинической больницы с километр. Мокрый золотой ковер под ногами светился. Один охранник сказал другому: Фрадкова отправили руководить внешней разведкой. Злоба дня казалась далекой. Добро дня содержалось в диктофоне – драгоценная запись разговора с Алексеем Баталовым. Он лежал под капельницей – а беседа текла просто и легко. Проблемы с сердцем. Но и в больничном халате – элегантен, хорош собой, внимателен к собеседнику, светится, как тот золотой ковер.
* * *
– Алеша, у тебя не просто имя, ты – бренд, как теперь говорят. Бренд с репутацией самого интеллигентного, самого интеллектуального актера России. А у меня такое впечатление, что у тебя до сих пор в глазах сидит какой-то дьяволенок. Как это соединяется?
– Откуда я знаю? У меня в глазах или у тебя? Я и с первой частью не согласен, и со второй. Я стараюсь тихо себя вести. А на этом фоне можно что угодно нарисовать. Интеллигентный человек, он должен быть, во-первых, образован…
– А ты нет?
– Абсолютно нет. Мне Ардов говорил: у тебя образование как белье – нижнее… Вся моя школа попала на времена войны. Мама с тремя детьми, Боря маленький совсем, Мише четыре года, эвакуация, переезды, смена учителей… Языков не знаю, все, что касается математики, тоже…
– У человека доминирует либо левое, либо правое полушарие, одно заведует математикой, другое – искусствами.
– Вот видишь, ты знаешь.
– А что важнее в человеке – образование или воспитание? Даже самовоспитание и самообразование…
– Это как раз главное. Мои представления сложились в атмосфере, в окружении, в каком я вырос. Я думаю, туда сосновую палку поставить – и она зацвела бы. Потому что это совершенно невероятный круг людей. Мама разошлась с отцом и вышла замуж за писателя Ардова, а я совсем маленький…
– Мама – тогда актриса МХАТа Нина Ольшевская, и во МХАТе еще штук девять родственников…
– Больше. Андровская, Станицын, Баталов, мой дядя… У мамы все подружки – актрисы, самая давняя – Вероника Полонская. Та, из-за которой Маяковский застрелился. А на столе остался «План разговора с женщиной, на которой я хочу жениться», можешь себе представить? План на листке бумаги – что сказать Норочке, и все по пунктам, чтобы она немедленно вышла за него замуж. Стол письменный стоял лицом к окну, а дверь – прямо напротив, диван, шкаф, больше ничего. Она уже уходила, шла на репетицию, надевала ботики, когда он выстрелил, бросилась назад и увидела, что он упал головой к двери. Она прибежала к маме в одном ботике – второй не успела надеть, и все рассказала…
– В дом к вам ходили Ильф и Петров, Олеша, Зощенко, Булгаков…
– Минуточку. Что он Булгаков, я знать не знал лет пятнадцать. Приходил какой-то дядя и приводил моего приятеля, своего пасынка. Мы вылезали в окно, а они с Ардовым оставались…
– Выпивать?
– Беседовать. Ардов совсем не пил, ему нельзя было. Радость была совсем на другом основана. Народу приходило много. Кто там? Миша, Алеша, поставьте чай. И сушки, которые стучали от твердости. До 80 раз разогревали чай… Приходил мой самый близкий друг, Петя Катаев, сын Петрова, будущий замечательный кинооператор, он снимал «Семнадцать мгновений весны», человек, который умер на работе… А на верхнем этаже жил Мандельштам, его арестовали и увезли именно отсюда. Обыск ночью, во время обыска всё оцепили…
– Как при этом аресте оказалась Анна Андреевна?
– Наверное, в гости к нему пошла, как всегда. Ночные визиты, ночные разговоры. Потом рассказывала маме. Она, приезжая из Ленинграда, всегда останавливалась у нас. Она душевно всем делилась с мамой, и так оставалось до конца ее жизни. Уже не было Анны Андреевны, мама умерла, и в ее тумбочке возле кровати нашли тоненькую книжку Ахматовой с надписью: «Ниночке, которая про меня все знает».
– А какие отношения были у тебя с Анной Андреевной?
– Анна Андреевна была абсолютно не похожа на других маминых подруг, когда я ее увидел. Волосы у нее лежали не так, как у всех – актрис, писательских жен. Строгая. Говорила другим голосом. Другая.
– Ты не стеснялся ее?
– Она же меня знала вот с таких лет, с ребячества – чего стесняться? Был такой мой первый рисуночек: Ленинград, мостик, и на мостике, как палка, нарисована тетя. Я представлял, что там все такие, как она. Анна Андреевна очень любила этот рисунок. Я его потом, к сожалению, потерял. Она удивительно ко мне относилась. Была для меня очень близким и очень дорогим человеком. Говорят всякие гадости – и как аргумент: еще бы, она же подарила ему машину! Повторяется из журнала в журнал. Абсолютная чепуха. Машину я купил в ходе грустных обстоятельств. Я отслужил в армии полные два года, и хотя это была служба в Театре Красной Армии, мы несли ее самым серьезным образом, как полагается настоящим солдатам. Там я пошел на шоферские курсы, стал ездить…
– То есть в «Деле Румянцева» ты профессионально водил машину?
– У меня первый класс. Если б я не был профессиональным шофером, то те кадры, где я везу детишек в грузовой машине, не могли быть сняты просто потому, что категорически нельзя было возить детей в кузове, если ты не первого класса шофер.
– А мы думали: вот, такой изысканный артист – и шофер…
– Мы были действующие солдаты, нам не полагалось даже кителей, должны были ходить в гимнастерках х/б, в пилотках, сапоги носили кирзовые. Ночевали дома. И вот мне идти во МХАТ, откуда я взят был в армию… Анна Андреевна подзывает меня, достает какую-то книгу, а там деньги, которые она получила за переводы, и дает их мне, с тем, чтобы я что-то себе купил, оделся. С Анной Андреевной бессмысленно спорить: сказала – всё. Но я ее, и всех, обманул. Я пошел к магазину, где продают машины, и все деньги отдал за старенького «москвича». Вернулся уже на машине. Показал ей в окно – и плечом не повела. Приняла царственно.
– Я сказала про дьяволенка в глазах, потому что твой интеллектуализм и аристократизм, если вспомнить роли Гурова в «Даме с собачкой», физика Гусева в «Девяти днях одного года», неизменно смягчаются чувством юмора. А в школе, я слышала, ты и вовсе выступал как прирожденный комик, всех смешил, пародировал Вертинского…
– Артистами у нас были все в классе. Я скрыл от родителей, они не знали даже, что наш класс целиком возят сниматься. Мы изображали другой класс, в котором училась Зоя Космодемьянская, в фильме «Зоя», там я впервые попал на съемочную площадку и от страха не знал, куда деваться. Но, конечно, в школе я был из артистов… Если удастся, я хочу сделать на телевидении программу «Судьба и ремесло». То, что ты заметила, на самом деле просто послано Богом. Надо было, чтобы я попал в армию, чтобы окончил курсы шоферов, чтобы играл шофера, чтобы играл солдата…
– …чтобы играл слесаря Гошу… А в каком соотношении находятся простота и аристократизм?
– Я думаю, это абсолютно прямая зависимость. Есть люди, которые носят на себе костюм аристократа и воспитанного человека. А если люди на самом деле воспитанные… Но это очень небольшая часть наших знакомых. Вот Зощенко был четырежды награжден, а награды в первую мировую давались человеку, которого поцеловала смерть, и представить себе, что этот скромно читающий человек и есть настоящий герой страшной войны, было совершенно невозможно…
– Сегодня, когда все говорят о демократии, может, надо думать о том, чтобы поднимать аристократов, а не демократов…
– Я тебе больше скажу. По-моему, в основу Конституции США лег закон Ликурга как самый демократический. А с тем же Ликургом случилось так, что ему предложили: или принимают его закон, но его удаляют из города, или он остается, но закон принят не будет. И Ликургу пришлось покинуть город. Так что из демократии не получилось в самом зачатии… Только ты проверь это, чтобы я не наврал. Человек точно знал, что такое демократия. А человека, который уж точно знал, что такое поведение верующего человека, – и вовсе распяли.
– Ты говоришь о Христе?
– Да, а как же. Идеал – он и есть идеал. Для того, кто просто человеком рожден, для него такой идеал уж совсем недостижим. Ростропович – гениальный музыкант, но при этом он такой, и такой, и такой. Он – человек. Это сейчас в Европе и в Америке умеют торговать брендами и всем этим дерьмом. Но каким образом могло случиться, что ни разу не дали в главном венском театре поставить ни одного спектакля Моцарта? И когда этот гениальный человек умер, то впервые написал о нем не австриец и не венский житель, а чех.
– В СССР тоже не получилось с идеальной моделью…
– Это ужас, кошмар. Но тут единственное, за что я могу похвалить средства массовой информации, что все-таки названы имена. Нету области, нету великого открытия, которое не было бы исцарапано когтями этой стаи бандитов: товарища Ленина и товарища Сталина. Товарищ Ленин первый, кто публично объявил красный террор. Американцы террористов вылавливают, а этот просто открыто в газете написал: берите покрупнее священников, заметных, чтобы навар был…
– Ты отказался подписать письмо, одобряющее ввод войск в Чехословакию, и отказался читать по радио «Малую землю» Брежнева…
– Откуда ты знаешь?
– Я много чего про тебя знаю.
– Я был окружен людьми, рядом с которыми я не мог этого сделать. Я в лицо знал, что это такое. Дед был врач во Владимире. Врач-кавалерист. Ему полагалась лошадь, чтобы он мог тут же сесть на коня и поскакать, если где что случилось. И бабка в больнице работала. Их, конечно, первыми забрали. Он не выдержал, самолюбивый, с польской кровью. Умер прямо во владимирской тюрьме. А бабка десять лет отсидела, полный срок. Умерла у нас дома, слава богу. Уже после войны.
– А правда, что они были дворяне, и тебе вернули дворянство?
– Правда. Бабка – мамина мама, ее фамилия – Норбекова. Дворянская. Я узнал об этом совершенно случайно. Есть книжка про Державина, ее написал один преподаватель факультета журналистики МГУ…
– Александр Васильевич Западов, я у него диплом защищала.
– Точно, Западов. Из этой книжки выясняется, что мы по прямой линии – Норбековы, а Державины – наши родственники, побочная ветвь.
– Ты снял как режиссер три фильма: «Шинель», «Игрок», «Три толстяка». Гоголь, Достоевский, Олеша. Такой знаковый триптих…
– Абсолютно. Делать-то надо ради чего-то, а не просто… У меня были гениальные учителя – операторы, абсолютные классики. Один снимал меня в «Даме с собачкой», другой – в «Летят журавли». Благодаря им я полез в это дело, потому что увидел, что реально может остаться на пленке.
– Опять судьба?
– Я же тебе говорю.
– Но одному она устраивает такие штуки, другому – совсем другие. Да еще человек может не увидеть…
– Я тебе рассказываю, как у меня сложилось. Я увидел, что может рассказать движущаяся камера. Вот мы с тобой сейчас сидим, эта комната, ты на стуле, и потом человек это снимает, и я вижу на экране, что из этого получается, какой-то смысл эмоциональный. Это средство. Передача чего-то. В этом все дело.
– У тебя и роли все сильные, ничего проходного. Судьба?
– Были проходные, но мало.
– Отказывался?
– Конечно. Я только со своими людьми могу. Мне на самом деле неинтересно с чужими. И тут Иосиф Хейфиц – прежде всего. Папа Карло для Буратино. Он меня сделал киноактером. «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой»…
– А началось с того, что ты бросил московскую прописку, бросил МХАТ, потерял сознание и уехал в Питер…
– Очень тяжело было. Там были хорошие люди, они ко мне очень хорошо относились. Ну как это, уезжать из МХАТа? Так хотелось всю жизнь… И уже собиралась молодая группа для «Трех сестер», и мне обещали роль Тузенбаха – абсолютная мечта и радость. И я приношу заявление. Ужас! Но Хейфиц предложил мне сделать мою «Шинель» как вгиковский диплом на «Ленфильме», а для этого надо быть сотрудником «Ленфильма», с ленинградской пропиской и со всем. Меня поддержал Ардов. Он был очень твердый. Он кричал: идиот, нельзя бояться жизни, сейчас так редко это случается, попробуй!.. Бесстрашный человек. С пороком сердца, не пил, не курил, сердце неправильно билось, он сто шагов не мог пройти. И поехал на войну, куда его близко подпускать нельзя было. И вернулся со звездой. Вот тебе про аристократизм и простоту… А Чехова я все-таки сыграл – благодаря Хейфицу.
– Как думаешь, ты прожил одну жизнь или разные?
– Вот уже на самой вершине лет… я должен сказать, это удивительно, но жизнь собралась в цепочку, в которой одно звено определяет другое, следующее – следующее.
– Выстраивается кино?
– Не просто кино… Жизнь определили люди, которую меня окружали.
– Тогда нужно спросить тебя про любовь. Как в твоей жизни появилась цыганка?
– Цыганка появилась… я увидел ее в цирке…
– Ты был женат?
– Уже нет. Сначала я был женат на Ирочке Ротовой, с которой познакомился в детском саду. Потому что она Ротова, а Ротов – художник-карикатурист из «Крокодила», все один круг. Его тоже посадили. Мы по секрету женились на деньги домработницы драматурга Погодина. У нас не было денег расписаться, а сколько-то полагалось заплатить, хоть и немного.
– Ты разлюбил ее?
– Нет. Я уехал сниматься, а ей начали рассказывать, что там в кино творится… родилась Надя… все расшаталось… в общем, я оказался неподходящий… не столько для нее, сколько для ее мамы… какой он муж, в армии, потом в Ленинграде, еще где-то… Она вышла замуж. А я еще никуда не выходил.
– И потом увидел Гитану…
– Гитану я увидел в Ленинграде. Она скакала на лошади. Она была карьер-наездницей и танцовщицей в цыганском театре. Цыгане не могут подходить режимному государству…
– Тебя привлекала вольность?
– Это тоже. Ей было восемнадцать лет, и она была очень хороша. Мы познакомились, год она ездила на гастроли, потом я снимался, потом еще что-то… Долгая история. Виделись мы, только когда совпадало. Один раз совпало, они в Таллине работали, а мы там снимали кино…
– И происходила, по Стендалю, концентрация любви?
– Вот-вот. А поженились мы через десять лет. И на всю жизнь. И дочка Маша…
– …которая пишет нежную прозу и прозрачные сценарии…
– Спасибо на добром слове.
– Скажи, а когда ты начал одеваться не в х/б, а элегантно, так, как тебе хочется, как нравится? Тебе ведь нравится одеваться элегантно?
– У меня не было денег одеваться. Когда меня впервые выпустили за границу, уже близко к тридцати, сказали, что нужен смокинг. Смокинг взять было негде, тогда сказали: ладно, черный костюм, но обязательно с бабочкой. Черного костюма у меня тоже не было. И самое интересное, что не было денег сшить этот костюм. И тогда договорились сшить его на киностудии авансом, и я написал расписку, что выплачу долг из следующего фильма, в котором буду сниматься. Потом я снимался в «Деле Румянцева», а из зарплаты вычитали стоимость моего первого черного костюма… Послушай, но мы же не поговорили о врачах! Врачи – часть моей жизни. У меня и сердце, и онкология, и туберкулез глаза… Обязательно скажи хотя бы про Надежду Сергеевну Азарову, заведующую глазным отделением в Симферополе, у которой я столько лежал, и она спасала мои глаза…
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
БАТАЛОВ Алексей, артист, режиссер.
Родился в 1928 году во Владимире в театральной семье.
Учился в школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТе. Снимался в фильмах «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой», «Девять дней одного года», «Бег» и других. Как режиссер снял ленты «Шинель», «Три толстяка», «Игрок».
Преподает во ВГИКе.
Народный артист СССР, Герой Социалистического труда. Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР.
Дочь Маша Баталова – киносценаристка.
СЕРЕБРЯНЫЙ РУБЛЬ Юрий Любимов
У него был выходной. Перерыв в репетициях «Братьев Карамазовых», мощном спектакле, которым он встречал свое 80-летие. Как водится, пили чай в его театре на Таганке, в знаменитом кабинете, расписанном знаменитостями, где на одной стене висит гитара Высоцкого, у другой стоит фотография Эрдмана, рядом – четырехтомник Эфроса, на столе – бюст Мейерхольда.
Главная знаменитость, Юрий Петрович Любимов хорошо выбрит, хорошо выглядит и, как и прежде, как и всегда, исполнен скрытого юмора и хитрости.
* * *
– Юрий Петрович, вы сознаете, что, вместе, может, еще с двумя-тремя именами, составили эпоху советского театра?
– Не смущайте меня на старости лет, а то у меня закапает мужская слеза. Золотая скупая слеза, как было написано про Шолохова.
– И тем не менее. Вы себя вели всегда как одинокий боец или были в команде?
– Одинокий. Никакой команды не было. Просто я иногда собирал команду для того, чтобы защитить Толю Эфроса. Какая-то солидарность цеха была. А теперь ее совсем нет.
– А какие отношения были с Эфросом? С Ефремовым?
– Они были хорошие. Когда нам надо было защитить кого-то, мы собирались. Но вот однажды был большой сбор у Завадского покойного. Видите, все покойные. Тут же нашелся иуда…
– В смысле настучал?
– Да, сразу. Они, боясь, что я произвожу на начальство плохое впечатление, не взяли меня на эту сходку. А я им предрек все, как будет. Одному они скажут: надо меньше пить, талант – достояние народа. Другой – что старая женщина, кого вы воспитали – про Эфроса…
– Это скажут Марии Осиповне Кнебель?
– Ну да, и так все и было. Они вошли, и господин этот высокий сказал им: с Эфросом мы уже договорились, он идет на Малую Бронную, а главный-то не пришел – умнее вас.
– Высокий господин – министр культуры Демичев? А главный – вы?
– Я. Видите, они считали, что я какой-то там двигатель заговора.
– Но вы хорошо понимали ходы интриги?
– Это я прекрасно понимал. Но мне еще помогали некоторые. Как Эрнст Неизвестный написал в «Континенте»: «зелененький». У него было эссе прекрасное «Красненькие и зелененькие». Красные – это «портреты», а зелененькие – их интеллектуалы, которые писали им доклады. Мне помогали эти «зелененькие», передавали письма…
– То есть место сидения их было там, а душа тут?
– Душа тут наполовину. Потому что двоедушие свойственно нашему обществу. Поэтому мы так измотаны, быстро переходим туда. Мы люди больные, нас надо лечить. Нас с вами в том числе.
– А что же мы – плоть от плоти…
– Вы не обиделись, а они все очень обижаются. Нельзя ничего сказать. Все на свой счет принимают, как будто они кариатиды. А они-то и есть истинные разрушители.
– Юрий Петрович, у вас здесь всегда была хорошая компания, авторов, друзей театра, круг, клуб такой был…
– В коридоре висят фотографии – кто на этом, но большинство уже на том свете.
– Я была потрясена, когда посмотрела на стенку, а там все умершие и один Юрий Карякин живой. Я говорю: а зачем вы Карякина туда поместили? А мне говорят: они все тогда были живые.
– Он стал членом президентского совета…
– По-моему, и совета уже нет… Как строились взаимоотношения с этими людьми: они вам что-то давали, вы им?..
– Ну вот Петр Капица, во-первых, он давал вертушку: позвонить «портрету». Петр Леонидович – для меня незабвенный человек по уму. Я, бестактный, как все советские, даже спросил его, уже под девяносто лет: Петр Леонидович, дорогой, скажите, а что позднее всего умирает? Он так поморгал детскими глазками и сказал: да, пожалуй, Юрий Петрович, профессиональные навыки, я вот лучше всего себя чувствую в лаборатории, я прихожу и все знаю, как все процессы идут, как опыт поставить, как его завершить, вот тут я совершенно спокоен и компетентен…
– А почему вы задали ему этот вопрос?
– Я тоже старый. Мне интересно. Мы могли беседовать на любую тему. И не обижаться друг на друга.
– Замечательная когорта здесь клубилась, самые интересные люди…
– Ну господи, ну что вы! При всем своеобразии Дмитрия Дмитриевича нервного, это же была замечательная личность! Недаром дружил с Зощенко!
– Вы имеете в виду Шостаковича?
– Да. Тут такие были люди! Люди театра, хорошие писатели: Можаев, Трифонов, Абрамов, Солженицын захаживал очень часто, Сахаров – ну что вы! Где такую компанию вы встретите?..
– Скажите, а из двух частей вашей жизни, когда одна пришлась на этот страшный советский период, но в то же время ваш взлет, а другая, иностранная, когда вы уже были мэтром и спокойно могли там ставить спектакли, – какую часть жизни вы любите больше?
– Вот это очень сложный вопрос. Потому что я совсем не принадлежу к ура-патриотам, как вы догадываетесь. Там прекрасный зритель, там прекрасные профессионалы и там, конечно, гораздо более жесткие условия работы. Но нашим правителям надо все-таки подумать, что такую нищенскую зарплату людям платить нельзя, поэтому так гарцевать и праздновать им абсолютно нечего, надо все-таки думать о своих гражданах…
– Я задаю вопрос о вашей личной жизни, а вас до сих пор больше волнует общественное…
– Нет, я хочу нормально на старости лет работать, а из-за этого я не могу работать. Да и вам трудно. Вы посмотрите на себя, как вы погрустнели.
– Жалко себя стало.
– Ну конечно, ну и правильно.
– Все же когда работалось лучше, вот в этой борьбе внутренней или…
– Я не Маркс, который больше всего любил борьбу, господь с вами, зачем мне это надо! Я хочу своим делом заниматься спокойно, отбирать таланты и передать все, что я умею. А разве я могу это сделать? Отобрали театр, всё разбили, всё разрушили…
– Как вы пережили это? Я имею в виду отношения с теми, кто были вашими учениками?
– Слава богу, что ушли. Я не хочу с такими людьми работать. Нет.
– А те актеры, с которыми вы работали тогда, вот Высоцкий, красавицы Демидова и Славина, вы любили их, было больно, когда они уходили?
– Вы знаете, сейчас модно говорить, что я не люблю актеров. Ну зачем же я столько бы вкладывал энергии, чтобы они стали хорошими актерами, если бы я их не любил? Ну и идите с богом все, если не хотите со мной работать.
– Как вы пережили потерю Владимира Высоцкого?
– Тяжело очень, потому что я с ним был в прекрасных отношениях. Но я его хоть похоронить сумел как должно. А не как они приказали.
– А как они приказали?
– Быстро, чтобы тихо. Но у них не вышло. Даже в олимпийском городе, в окружении кордонов. Ничего не получилось, всё бросили и пришли хоронить поэта. И я вновь зауважал москвичей, как зауважал их, когда хоронили Твардовского, Сахарова. Это замечательное проявление. Но, к сожалению, оно весьма редкое.
– Юрий Петрович, а история с Эфросом, когда вы… когда вас прогнали из страны, и он пришел в этот театр, а потом…
– Это ошибка его была. Я скорбел, очень. У него были сложности на Бронной, с актерами, организованные теми же персонажами, которые теперь отобрали у нас театр. Вот мы строили, а они у нас отобрали. Он же не строил ничего. Ничего. Его не было пятнадцать лет здесь!..
– Вы имеете в виду кого? Губенко?
– Да. Они все время выясняли по Ленину: кто виноват, что делать, с чего начать? Начать решили с раздела, а правительство смущенно молчало. Значит, ему было наплевать или оно не хотело ссориться с коммунистами – все же ясно, как божий день.
– Но Губенко и сам коммунист.
– Там все коммунисты, они и деньги дали, чтобы там митинги проходили. Вот что самое парадоксальное и грустное. Там Анпилов, там Зюганов, там вся компания. А вы думаете, там искусство, да? Говорить не хочу об этом. Но фирму нельзя портить. Они же работают под фирмой театра на Таганке! Это же воровство просто! Ну, чего-то там дирекция заявляет. Моей младшей сестре звонят и говорят: что, ваш брат с ума сошел – с коммуняками связался?
– Думают, это вы дали им крышу?
– Да, а там мои ученики упражняются.
– А когда вы последний раз виделись с Эфросом?..
– С Толей? Может быть, ему показалось, что я недостаточно восторженно принял его «Вишневый сад» здесь… Я же его пригласил… Потому что, если всю правду говорить, я хотел, чтобы он «Утиную охоту» поставил Анпилова…
– Вампилова.
– Вампилова, да. А он почему-то взял Чехова.
– Тоже неплохой автор.
– Тоже замечательный. Но все-таки лучше бы он тогда помог драматургу. Ему разрешили, а мне не разрешали.
– Пьеса такая оказалась загадочная, что ее никто по-настоящему и не поставил. Но «Вишневый сад» был замечательный спектакль, актеры ваши играли…
– …средне…
– Ой, Юрий Петрович, Демидова играла – что-то необыкновенное!
– Нет, это не поймешь чего. Это ваше заблуждение.
– Поймешь.
– Нет, это была сплошная невротика. А замечательный спектакль был у Штреллера, в Италии…
– У Стреллера. Вы его так по-немецки называете?
– Ну да, немцы говорят: Штреллер. Они говорят: Танхойзер. И очень обижаются, если мы скажем: Тангейзер… Нет, тут я не могу согласиться. Может, это ревность какая-то. Но хотя у меня не было ревности. Я просто был холоден к этому. Я совершенно откровенно говорю. Но я был тактичен, это неправда всё. Ведь поразительно, что это единственный спектакль, который сразу пошел: утром сдали, вечером он шел. У меня никогда этого не было. Это начальство сделало мне в отместку. А потом сказали, что я вообще хотел, чтобы его закрыли.
– А может, были какие-то силы, которые специально делали такие мелкие движения, чтобы сталкивать людей, сталкивать вас с Эфросом?..
– Ну наверное. Это они и назначили его сюда и привезли его. Его же привезло начальство сюда, так нельзя приезжать в театр. Под покровительством начальства.
– Я думаю, что ему больше всего хотелось работать. Тем более, в театре, в котором…
– Так ему никто не мешал!
– Пусть земля ему будет пухом. Он замечательный был человек и замечательный режиссер.
– Ну что вы! Иначе я бы его и не пригласил!..
– А когда вы у него играли в телевизионной постановке – Мольера…
– Он меня пригласил.
– Потрясающая была работа. Любите эту работу?
– Хорошая, да. Я играл там после перерыва лет в пятнадцать. Артисты говорили, что я гоню их к результату и потому так беспощаден, что забыл свою профессию… Вот я и вспомнил.
– А скажите, когда были эти гонения, были острые чувства? Страх посещал?
– Видите ли, я войну видел много лет. Поэтому они на меня мало действовали. Хотя храбрости разные в мирной жизни и в войне. Храбрецы вдруг перед этим глупым начальством робели, стушевывались, как говорит Федор Михайлович. Но главным образом от них какое-то шло отупение и досада, и иногда хотелось все бросить и действительно пойти в швейцары. Медалей у меня много, значит, я мог швейцаром работать. Но не пустили бы. Они.
– Интересное было время. Власть делала одно. Народ – другое. Интеллигентская прослойка – третье. А в общем, вектор был на свободу, верно?
– На свободу, верно. Сейчас никто ничего не делает, только грабят.
– Ну вы же делаете спектакль «Братья Карамазовы».
– Я и «Живаго» сделал. И «Медею» сделал. И покойный Бродский, замечательный поэт, написал хоры за Эврипида.
– Я читала эти хоры. Спектакль не видела.
– И даже бедную Селютину Любу не заметили, а она играет просто на редкость хорошо. На редкость. А от меня похвалы дождаться очень тяжело.
– Вы суровый человек?
– Просто если мне не нравится, мне трудно на старости лет врать и делать вид: как хорошо, спасибо, поздравляю…
– Юрий Петрович, но при этом говорят, что у вас был жесткий характер, а сейчас вы помягчели, не ссоритесь так с актерами… В чем дело? С годами мудрость приходит?
– Просто я ловлю себя на том, что я тоже больной, как и вы, советский. И когда я жил больше шести лет в том мире, то старался быть адекватным. Понимая свои недостатки, стал изживать советчину. То есть агрессивность, что-де только я понимаю…. И стал мягче, терпимее, стал более стремиться к библейским заповедям, а не к советским лозунгам. Но это очень трудно. Изживать из себя. Очень трудно. Поэтому я люблю фразу из «Братьев»: «Алеша, давайте за людьми как за детьми ходить».
– Видите, какие у нас гениальные соотечественники. Как они прорываются во все стороны мироздания…
– Ну не мы только. И древние греки прорывались, и Шекспир прорывался, и Гете прорывался. Великие музыканты прорывались в неизведанные сферы. Живописцы. Скульпторы.
– Юрий Петрович, вы говорите о том мире, в котором последнее время жили, не как о цивилизованном, а как о здоровом обществе. Я, когда бываю за границей, тоже думаю: почему там легко дышится? Когда с людьми разговариваешь, то по нашей советской привычке ищешь, а где второе дно, а что они имеют в виду? А они часто говорят так, как есть. У них нет двоедушия.
– Нету. А зачем? Во-первых, там легче дышится, потому что там лучше зарплата. Во-вторых, там менее заражен воздух. Там чище. Там санитарные условия намного лучше. Там нет таких, извините, сортиров. Там же нет подъездов, в которые страшно войти!
– Ну вот я ловлю вас, что вы при этом сюда возвращаетесь, вы при этом работаете с этими актерами и для этого зрителя. Все-таки любите свой город? Место, где родились?
– Я родился в Ярославле.
– О вашей личной жизни почти ничего не известно. У вас сначала была знаменитая жена Целиковская?..
– Да, царство ей небесное. И знаете, даже когда трагедия случилась, что я женился на Кате…
– Как она перенесла это?
– Несмотря на легкомыслие – достойно. Она меня не ругала. При посторонних. И потом она всегда хорошо обо мне говорила.
– Вы же прожили огромный кусок жизни вместе?
– Лет двадцать.
– При том, что новая любовь, конечно, тянет, наверное, трудно было?
– Трудно, очень.
– А вторая жена, Катя, вам родила сына?.. Я видела фотографию Плотникова, где стоит маленький голый мальчик, ангел такой, у ваших ног…
– Этот ангел, когда рассердился на маму, кулаком прошиб дверь, чтобы выплеснуть темперамент…
– Это ваш темперамент?
– Я уж не знаю, по-моему, вдвойне сошелся. У меня неукротимая Катерина. Венгерка. Я думаю, если б она стала террористкой, то не дай бог! Ее венгры прислали ко мне в Будапеште в качестве переводчицы, потому что предыдущую убрали, она доносила на меня нашему посольству…
– И началась любовь?
– Ну да. С Катей такой был случай. Она уже в положении, и какой-то прием в советском посольстве… Погодите, надо выпить лекарство. А то Катя будет сердиться, скажет: вот, вы не пили лекарство.
– Она на вы с вами?
– Мы с моим папой и папа с моим дедом тоже говорили на вы. С мамой на ты, а с папой – на вы.
– Это в крестьянстве было принято.
– Так у меня дед крепостной мужик. А папа закончил коммерческое училище, за что и был не единожды арестован. Так что у меня закалка крепкая. Ну и вот, Катя в положении, стоят все послы, и наш, конечно, обормот. И вдруг он говорит: «О, теперь вас можно принять. Уже, понимаете, вот официально». И показывает на брюхо Катино. Пауза. Всем как-то неловко. И она мне громко говорит: «Простите, у вас все послы такие хамы?» Поворачивается и уходит.
– Террористка, молодец.
– Я извиняюсь, говорю: ради бога, извините, но я перевоспитанием жен не занимаюсь. Откланялся и ушел.
– Ваша личная жизнь когда-нибудь превалировала над театром? Или никогда?
– К сожалению, нет.
Тут Юрий Петрович берет в руки старый фонарик, который у него уже лет пятьдесят, со времен войны, он им показывает актерам из зала, как они играют. Зеленый свет – хорошо, красный – плохо, прерывистый – темп потеряли.
– Давайте поставим зеленый, в надежде, что повезет же нам когда-нибудь, русским.
– И у нас будет зеленый свет туда, где есть здоровье, моральное, физическое, всякое. Человеческое.
– Хотелось бы. Но в первую очередь – чтобы они хоть немножко научились людям платить за труд. Мне дед сказал мой родной, крепостной мужик, его бросили в снег в 86 лет, он не понял, начал отбиваться, коромыслом. Думал – хулиганьё. Но это и есть хулиганьё. Я его тючки возил с Ярославского вокзала к папе с мамой на квартиру, потому что они были арестованы. А мне было лет десять. Я таскаю его тючки, и он мне рубль дает серебряный. Я говорю: что вы, дедушка? А он говорит: запомни, внучек, ничего у них не выйдет, ничего, за работу людям надо платить… И рубль я этот потерял, идиот.
– Как жалко…
– Так что у меня закалка большая. А вы говорите: боялся. Ну боялся, конечно, как все боялись. Но не настолько, чтобы они поломали хребет.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ЛЮБИМОВ Юрий, артист, режиссер.
Родился в 1917 году в Ярославле.
Учился в электромеханическом техникуме, посещал хореографическую студию, где обучался танцам по методу Айседоры Дункан. В 16 лет поступил в студию при 2-м МХАТе. После закрытия студии был принят в училище при театре имени Вахтангова.
В военные годы служит в ансамбле песни и пляски НКВД. После демобилизации становится актером Вахтанговского театра. Играет в театре и в кино.
В 1964 году спектаклем «Добрый человек из Сезуана» открывается новый театр – Театр драмы и комедии на Таганской площади. «Антимиры», «Павшие и живые», «Послушайте!», «А зори здесь тихие…», «Герой нашего времени», «Десять дней, которые потрясли мир», «Мать», «Час пик», «Что делать?», «Пристегните ремни безопасности», «Обмен», «Дом на набережной», «Братья Карамазовы», «Гамлет» – знаменитый репертуар Таганки.
Запрет спектаклей «Владимир Высоцкий», «Борис Годунов», «Театральный роман», конфликт вокруг спектакля «Живой» вынудили Любимова уехать за границу. В 1984 году его освобождают от должности художественного руководителя «Таганки» и лишают советского гражданства.
Он много и плодотворно работает за рубежом.
Приезжает в «перестроечную» Москву в 1988 году. В 1989 году ему возвращают гражданство. Выходят все запрещенные спектакли. Он ставит новые – «Пир во время чумы», «Самоубийца», «Электра», «Живаго (Доктор)», «Медея Еврипида», «Шарашка», шекспировские «Хроники» и др.
Народный артист России. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии России, премии «Триумф» и др.
Награжден орденами Трудового Красного знамени, Великой Отечественной войны, «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.
БАБОЧКА ОСЕНЬЮ Галина Волчек
«Современник». Там прошла наша молодость. Там мы думали и чувствовали, испытывали восторг и нежность, плакали и смеялись, страдали и любили.
Это был театр Олега Ефремова.
Стал театр Галины Волчек.
* * *
– В молодости вы хотели стать счастливой или знаменитой?
– Таких мыслей у меня нет и не бывало. Может, потому Бог дал во многом счастливую, хотя и трудную судьбу.
– А глядя назад, все же выбрали бы участь счастливого или знаменитого человека?
– Ой, никогда мне бы такого в голову не пришло. Я не умею фиксировать счастья. Мне задают вопрос: можете перечислить моменты счастья? Я говорю: нет. При том, что у меня благодарная память. Но я всегда бегу дальше. А чувства счастья не было с тех пор, как я стала главным режиссером.
– Неужели?
– На собственных премьерах – никогда. Только у других. От того, какой прием у публики, насколько получилось – абсолютно свободное чувство. А мой спектакль – я уже заранее знаю, что завтра выйдут рецензии, которые давно готовы, едва я объявила название… Есть такие специалисты, что все время тычут в тебя острым или тупым…
– Если знаешь им цену, не должно быть так уж неприятно…
– Привычка образуется. Но все равно неприятно. А точно зафиксированных чувства счастья было два: после рождения сына Дениса и наутро после победы – иным словом назвать нельзя – в 1979 году, когда была премьера «Эшелона» в Америке. Я проснулась счастливой, потому что это была настоящая осуществленная победа. Не моя личная. Я впервые поняла, что такое отвечать не только за себя, и даже не за свой театр. Вот у спортсменов слезы при подъеме флага – раньше я как-то отстраненно это воспринимала, а тут поняла. Какое-то особенное чувство, которое удалось испытать. Еще в разгар холодной войны.
– Вы человек товарищества – Олег Ефремов воспитал или это природное?
– Я думаю, природное. Олег всегда говорил: она более партийная, идейная, не будучи членом партии, чем кто-то… Может, это мой максимализм. Когда что-то адресуют мне лично, говорят: из отношения к вам, – я всегда поправляю: не ко мне – к «Современнику». Это абсолютно искренне.
– Вы были такой колоритной, такой замечательной актрисой – не жаль актерской карьеры?
– Ушло.
– Никакого удовольствия?
– Дело не в удовольствии. Внутри меня нет пространства.
– А думали, придя сюда актрисой, что станете сначала режиссером, а потом во главе театра?
– Никогда в жизни. Меня вполне устраивала моя скромная судьба. Я играла маленькие роли, в «Никто» выходила в роли без слов.
– Но как интересно играть крошечную роль, которая остается в памяти.
– Ничего такого не остается. Я играла привратницу в эпизоде и спрашивала Анатолия Васильевича Эфроса, который ставил спектакль: а вот что я тут… ну, с нашими…
…станиславскими заморочками…
– Да, да. А он отвечал: да ничего, стой как пятно. Меня это тогда очень обидело.
– А что было дороже: актерское или женское?
– Даже не задумывалась, не решала, не взвешивала. И то, и другое было важно. Опять обращусь к Эфросу, это его термин: есть главное обстоятельство. Главным обстоятельством моей юности был театр.
– Не любовь, не ребенок?
– Это была жизнь. Но главное обстоятельство – театр.
– А когда влюблялись – бурно, с вспышками чувств, нервами? Роман и брак с Евгением Евстигнеевым дорого дался?
– Все было в жизни. Ничто не миновало.
– Теперь полегче – я имею в виду проявления чувств?
– Проявления какие были, такие остались. Весь ужас возраста в том, по крайней мере, у меня, что темперамент остался, по любому поводу… Хочется бежать – а бежать не могу, могу только идти. Хочется вскочить – а вскочить не могу, могу только встать. Вся неистовость, мне свойственная, она есть, но приходит в несоответствие с физическими возможностями.
– Слава богу, что никуда не делись возможности творческие.
– Пока. Хотя кое-кто, желая меня унизить как профессионала, говорит: да, вот интуиция у нее есть – мол, нет всего остального.
– Интуиция – божественное начало.
– Вот и я хочу сказать, пусть разберутся сначала, что такое интуиция. Я очень долго готовлюсь. От замысла до момента, когда я начинаю, проходит много времени. Я довольно давно не ставила новых спектаклей. Выпустила «Анфису», которую делала когда-то. В случае с «Анфисой», как и с «Тремя сестрами», я сохранила сценографию, а люди, не понимающие глубин, говорят: ну, это возобновление. А я ни разу просто так ничего не возобновляла. Потому я не вернулась к «Обыкновенной истории», что у меня не было внутреннего импульса. Не повторить – а сделать то, что звучит сегодня. С «Анфисой» и «Тремя сестрами» получилось. Мы только что вернулись из Киева, тамошние критики это оценили. Даже Островского я хотела открыть новыми отмычками, лишить стереотипных представлений, как когда-то я сделала «На дне», лишив его стереотипов и, в первую очередь, назначив Сатина-Евстигнеева, с его резкой индивидуальностью антигероя, что было если не хулиганством, то сильным озорством. Это не Островский, это фантазия на тему пьесы «Гроза». Выпускает Чусова. Я думаю, будет скандал в любом случае.
– А собственная новая работа?
– Я очень травматически пережила неосуществившиеся роды. Я год готовилась поставить очень рискованную новую пьесу Олби. Я увидела спектакль на Бродвее, он мне ужасно не понравился, но, зная Олби, я предполагала, что угадала пьесу. И за два дня, что у меня оставались, я получила эксклюзивные права на постановку в России и Украине. Когда мне прочли ее с листа уже в Москве, я поняла, что не ошиблась. Там не просто история, не просто случай. Я увидела такую экстремальную ситуацию: как бы крайняя точка сегодняшнего мира. А потом артист Кваша, которого я внутренне назначила на эту роль, отказался. Он не принял пьесу и, наверное, не смог довериться мне. Эти проблемы с артистами были в тех двух-трех странах, где пьеса ставилась…
– О чем пьеса?
– В ней есть мотив, который может вызвать сомнения. Для меня же, если человек, хороший, любящий свою жену, никогда ей не изменявший, если он, не найдя в человеке, в партнере этой чистоты, этой веры, этих глаз, находит точку приложения своей нежности в животном, в козе…
– Пьеса называется «Коза», я вспомнила, скандальный сюжет.
– Но меня, которая никогда не была падка на эти вещи, обвинить в чем-то было бы трудно. Я шла на это, потому что знала, зачем мне это нужно. Все боялись. Я тоже боялась. Почему Кваша? Мне нужен был артист, за которым шлейф благородства, чтобы никакой сексуальный момент не играл тут роли вообще, и я знала, как с этим совладать. Я договорилась уже с художником Давидом Боровским, он мне поверил, что мы сможем обойти эти моменты. Но Кваша не захотел, а я… Олег был прав, говоря о моем максимализме: другого артиста я просто не видела. И я отказалась от постановки. На ранней стадии было бы проще. А поскольку процесс затянулся – было очень тяжело.
– Какой след оставил в вас Олег Ефремов?
– Оглянитесь и увидите рядом с нашими афишами афишу вечера Ефремова. Это мой Учитель с большой буквы. При всем том, что случалось между нами за жизнь. Хотя моими учителями были и остаются те, кто меня не учил, но учил. Товстоногов меня не учил, но был учителем. Тем более не учил Феллини, но он был моим учителем. Моим учителем был Михаил Ильич Ромм, который знал меня ребенком. Вайда был и остается моим другом, но он мой учитель. Я называю не тех, кто меня восхищал – таких гораздо больше, – а тех, кто на меня влиял.
– Когда Олег покинул «Современник» ради МХАТа, очень больно было?
– Очень. Боль множилась много раз, когда Олег уводил артистов, это длилось годами, и я абсолютно как сталинский персонаж, как у меня в спектакле «Крутой маршрут» Аня-маленькая, которая, уже в тюрьме сидя, все равно говорит: Он этого сам не знал. Мне было легче думать, что это кто угодно делает, только не Олег.
– Но все-таки знали, что это он?
– Нет, я знала, что около, и не хотела знать другого. Ему я прощала, простила все. Для меня есть, помимо таланта, понятие: щедрость таланта. У Олега она в том, что он оказался способен признать свою неправоту. Он долгие годы нас обвинял в том, что мы не пошли все за ним. И я никогда не забуду его выступления на моем юбилее, когда он так признал нашу тире мою правоту, что я все готова за это простить и забыть.
– Что он сказал?
– Мне неудобно повторить. Я только скажу, что я ему невероятно благодарна.
– Когда вы его последний раз видели?
– Был такой трогательный момент, когда он, зная вот такую мою идейность, пригласил меня пообедать – перед столетием МХАТа. Вдруг позвонил и сказал: я хочу тебя в ресторан пригласить, только будь голодной, вкусно поедим. Зная Олега, его равнодушие к еде, даже смешно было это слышать. Я, конечно, согласилась. Он заехал за мной на «жигуленке» с эмблемой «чайки», и мы отправились в Воротниковский переулок, в югославский ресторан – я была там первый и последний раз. Он сказал: тут очень вкусный ресторан. Мы сели. Он заказал свой любимый суп, он любил, чтобы густой, с мясом, с косточкой, хотя совсем не гурман был, несмотря на то, что его мама была потрясающей кулинаркой. А ему если нужен был ресторан – только чтоб там выпить. И у меня все время внутренний вопрос: зачем позвал? И наконец, он говорит, очень мягко: хочу с тобой посоветоваться насчет столетия МХАТа. Стал спрашивать, как бы я сделала. Я ему что-то отвечала. А он говорит: будет «круглый стол», ты придешь? Я сказала: Олег, приходить во МХАТ мне тяжело, я человек естественный, мне трудно притворяться. Он стал меня уламывать. Видно, те, кто устраивал юбилей, обязательно хотели, чтобы «Современник» засветился. Я сидела на «круглом столе» рядом с Додиным, чувствовала себя неважно, а потом подошла к Олегу, поздравила и сказала: знаешь, даже за миллион я бы не пришла – если бы не ты. Но он все сам знал прекрасно. Так мы с ним пообедали последний раз… Было б иначе, я бы не устроила его вечер в прошлом году. Не день памяти, а день рождения – он для меня живой. И весь вечер над сценой летала фантастическая бабочка, огромная, против всех законов природы, в конце сентября… Я через месяц встретила Катю Андрееву, и она мне сказала, что это произвело на нее такое впечатление, что она позвонила знакомому биологу и спросила, возможно ли это? Он ответил: ни при каких обстоятельствах. Вовсю светят софиты, бабочка должна полететь на их свет и погибнуть. А она летала и не сгорала. И только наша уборщица посреди вечера сказала: Галина Борисовна, а вы знаете, что это его душа? Мы и без нее догадались, но она словами сказала…
– А когда вы услышали о том, что он умер…
– У меня в жизни несколько раз было, когда я получала такие вести… А эту весть я получила в отпуске, в замечательном месте в Греции… Ужасно было… как – понятно, как…
– Что сейчас, бегучий человек, куда вы бежите?
– Я никогда не знаю точно, куда я бегу. Но я бегу. Сейчас – к тому, что будет Островский. А потом – к Вайде. Это такое счастье, что мне удалось его уговорить: он начинает в январе «Бесов».
– Галя, мы встречаемся на следующий день после выборов – не могу не спросить про выборы, про политику.
– Мой опыт хождения в политику неудачно закончился. Я рада, что я этот опыт имела – художник должен все пройти и не быть снобом ни в коем случае, но…
– Ну да, вы же были депутатом.
– Но тогда я не понимала одной сущностной для себя вещи: что политика несовместима с моей профессией. Потому что в моей профессии главное – человек и человеческие отношния. А в политике на это – красный светофор. Поэтому политикой как таковой я не занимаюсь. А ответ на то, что произошло или произойдет, – он в том, что я буду делать на сцене, на какую тему я захочу художественно высказаться.
– Голосовать не ходили?
– Как? Почему? Ходила и считаю неправильной позицию общественного равнодушия. Я не могу не пойти, поставив в своей жизни «Крутой маршрут». Это было бы неестественно. А я больше всего ненавижу неестественность во всех проявлениях. Неестественность и лживость.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ВОЛЧЕК Галина, театральный режиссер, актриса.
Родилась в 1933 году в семье кинооператора Бориса Волчека.
Окончила школу-студию при МХАТ. Художественный руководитель театра «Современник». Самые заметные театральные постановки – «Пигмалион», «Крутой маршрут», «Три сестры», «Вишневый сад».
Снималась в фильмах «Про Красную шапочку», «Король Лир», «Осенний марафон», «Русалочка» и др.
Была замужем за актером Евгением Евстигнеевым.
Сын Денис Евстигнеев – кинорежиссер.
ПОЖАРНЫЙ ЗНАК В СПАЛЬНЕ Марк Захаров
Премьера «Женитьбы» в Ленкоме. Яркий театральный праздник. Шквал аплодисментов. Он опять угадал место и время, этот неутомимый, неиссякаемый, непостижимый Марк. Угадал, что Россия Гоголя есть Россия наших дней, вечная Россия. Он выходит на сцену без улыбки. Человек, чувствующий юмор в жизни и в классике как никто, чаще всего серьезен, если не мрачен. А тут еще две роковые истории – с Николаем Караченцовым и Александром Абдуловым. Как будто кто-то прицельно выбивает лучших…
* * *
– Прежде всего, Марк, как себя чувствуют Абдулов и Караченцов, что с ними?
– С Караченцовым мои контакты, к сожалению, затруднены в связи с чрезмерными притязаниями супруги. Она очень вмешивается во все дела. Вот пишет в его книге главу отдельную… На сборе труппы обнимались, целовались, но, по моим наблюдениям, пока мало что улучшается, врачи мне сказали, что еще предстоят операции… У Абдулова получшел голос, посвежел, он набрал несколько килограмм. Он был в Киргизии и должен вернуться в Израиль на операцию. Дело у него крайне серьезное, но он очень мужественно держится…
– Как театр переносит это? Один первач, второй первач…
– Это, конечно, ужасно печально… Мы провожали на тот свет Леонова, Пельтцер… В какой-то степени пришлось учесть ошибку великого Эфроса, который сосредоточил все свое внимание в театре на Малой Бронной на одной актрисе, прекрасной, но одной. Репертуарный русский театр, я думаю, сегодня не должен строиться на одном человеке, он должен быть, как теперь говорят, многополярным. Должно быть несколько человек, и обязательно второе поколение, третье, четвертое. У нас, в общем, так получается. Роль, которую должен был сыграть Абдулов, прекрасно сыграл Чонишвили. Я его не сравниваю с Абдуловым, потому что Абдулов – это явление уникальное, это великий актер русский…
– Не сразу ставший, между прочим, великим…
– Да, и я этот момент прозевал, как развал Советского Союза…
– А я нет, потому что он был-был этаким красавцем, а потом смотрю на одном спектакле: да он уже большой актер!
– Ну вот, а я без конца занимался его воспитанием, психотерапией, потому что он вовремя не приходил на репетиции, с ним какие-то были связаны истории, такой раздолбай. Безнадежный талант. Но потом это прошло, и он стал надежным.
– Скажи, к каким самым важным выводам о жизни ты пришел за жизнь?
– Когда-то я прочел слова одного умного человека, который сказал: нужно попробовать понять, что ты сделал сам и что с тобой случилось. Вот это ужасно трудный вопрос. И когда я отматываю жизнь назад, то и дело наталкиваюсь на какие-то случайности, и это меня огорчает…
– Тебе бы хотелось, чтоб жизнь была более однолинейной?
– Более целеустремленной, лишенной вариантов, ненужных зигзагов, и было бы какое-то прямое восхождение к главному режиссеру, художественному руководителю, который до сих пор ставит достаточно приличные спектакли. На самом деле это не так. Я, знаешь, вспоминаю один судьбоносный момент в своей жизни в городе Перми. Я поехал туда работать, потому что ни один московский театр меня не взял на работу после окончания ГИТИСа, я получил одно-единственное предложение – в цирк.
– А заканчивал как актер?
– Вместе с Люсьеной Овчинниковой, которую принял Охлопков, а меня никто не принял. И когда я приехал в город Пермь, мне очень быстро прислали повестку в армию. Я сказал директору, директор говорит: ну, мы письмо напишем… Но как-то без энтузиазма. А у меня оставлена любимая женщина в Москве, не связанная со мной государственными узами, такой гражданский студенческий брак, да и не брак, а просто интимные отношения. Я пришел в военкомат, военком взял у меня эту бумажку, и почему-то возникла пауза. И я понял, что это развилка, что если я иду в армию, то любимая женщина, профессия – все уходит в сторону, и жизнь идет по другому сценарию. Я помню, что проходил поезд, и почему-то военком смотрел в окно и думал о чем-то постороннем или важном для него. И потом сказал: ладно, иди, будешь приходить на курсы. И я стал приобретать профессию химика-разведчика. Но без отрыва от актерского существования.
– В лице военкома судьба сделала такой жест…
– Конечно. Ангел-хранитель вмешался. Мы с Гришей Гориным ездили, когда он только что машину стал осваивать, а я не от большого ума с ним уселся. Он водил странно: мы выезжали из дома напротив ресторана ВТО, и он не мог вписаться в Тверскую, и мы сразу оказывались на той стороне, пересекая все осевые. И вот мы едем в дождь, на довольно большой скорости, навстречу мощный поток транспорта, его занесло, мы выехали на встречную полосу, крутанулись, но в это время был интервал в автомобилях. Я сказал: Гриша, вероятно, твой ангел-хранитель сказал моему, что вот сейчас мой дурак будет тормозить, ты сделай там какую-то паузу в движении. Участвовали уже, конечно, не мы, а высшие силы. Вот поэтому мы беседуем с тобой.
– И все же кто заведует, человек или обстоятельства?
– Мне отец рассказал: 1918-й год, он в Воронеже, ему 16 лет, он кончает кадетский корпус, входит добровольческая армия Шкуро и объявляет призыв, и он, конечно, туда идет. Но без сапог хороших нельзя было идти. Идут к сапожнику, заказывают хорошие сапоги, приходят через два дня, сапожник в запое и сшил сапоги на два размера меньше. Отец заплакал. Очень горько переживал. Сделали новый заказ, ожидая, когда тот выйдет из запоя. Но тут вошла конница Буденного, а туда принимали и босиком, и в каких угодно ботинках, и отец пошел сражаться за рабоче-крестьянскую армию. А так бы пошел за белую. И он никогда бы не встретился с моей матерью, и не произошло бы зачатия, и я бы не родился.
– И опять, мы бы не сидели здесь… А что ты сделал сам?
– Был важный момент, когда Валентин Николаевич Плучек пригласил меня в театр Сатиры в качестве актера и режиссера, что было очень лестно. Но внутренний голос подсказал мне отказаться от актерской профессии. И я отказался. Я понял, что если буду сидеть с артистами в одной гримерке и мазать себе рожу гримом, а потом отдавать команды, режиссер из самодеятельного театра, меня никто никогда не будет слушать. Хотя какими-то лидерскими способностями я обладал, набрав их в Студенческом театре МГУ, еще где-то. Плучек посмотрел мой спектакль «Дракон», который недолго шел, потому что Хрущев в это время разбушевался. И пришла комиссия смотреть спектакль. Мы были сопостановщики с Сергеем Юткевичем, и он дал мне первые уроки демагогические. Он сказал: ну как к сказке можно относиться, ну вот съели Красную Шапочку… но почему именно красную? И я понял, что это надо взять на вооружение и дальше, общаясь с цензурой, вот такими простыми вещами ставить их в тупик. В театре Сатиры я репетировал плохую советскую пьесу, Плучеку стало меня жалко, и он сказал: давай что-нибудь из классики, тебе подберут. Мне подобрали «Горячее сердце» и «Доходное место» Островского. «Горячее сердце» я читал с отвращением, а «Доходное место» показалось занятным. И летом 1967 года мы выпустили этот спектакль.
– И был бум!
– И был бум. Плучек сказал: Марк, беги за шампанским, ты прорвался. Спектакль сорок раз прошел и был запрещен.
– Но ты уже стал знаменитым. Что тебе помогало профессионально?
– То, что я, во-первых, не сблизился с артистами. У меня было только два друга – Джигарханян, с которым мы и сейчас дружим домами, и Андрей Миронов. С остальными у меня такая хорошая, производственная, товарищеская, улыбчивая дистанция. Это мне очень помогло. Потому что если сближаешься с человеком – начинаешь как-то от него зависеть и эмоционально берешь его сторону. Вероятно, поэтому мне удалось не взять жену в театр, хотя это был сложный момент…
– Но зато не удалось не взять дочку.
– Ты права. Это был совет Плучека: делай что хочешь, но не бери жену в театр.
– Ну его-то жена была у него в театре всем.
– Да, Зинаида Павловна принимала деятельное участие в руководстве театром. Одним говорила: хорошо. Другим: у тебя еще роль не идет. Люди просто зеленели. Еще совет Плучека: с единомышленницами, которых появится много, встречайся только в репетиционном зале и на сцене…
– Тебе приходилось трудно в этом смысле?
– Умница, подсказала мне уклончивый ответ: приходилось очень трудно. И еще его завет: не бери деньги из кассы театра. Все свои беды он мне поведал, не обозначая их как собственные.
– Стоять одиноким утесом, чтоб не попасть в зависимость, – удалось?
– Удалось. Я в выгодный момент пришел в театр. Театр был в плохом состоянии, не ходили люди сюда. И на этом фоне, когда я поставил громкий спектакль «Автоград», все равно была радость. А потом появился «Тиль» – и зритель пошел. Гриша Горин подслушал разговор двух вахтерш: раньше у нас все в валенках, в валенках ходили, а сейчас в болонье ходют, в болонье… Был у меня один детективный сюжет. Он недавно мне стал известен окончательно – уже со слов человека, который знает все в театральном мире, все мысли людей живущих и ушедших, – это Вульф. В театре Сатиры запретили мой второй спектакль, «Банкет». И Андрей Александрович Гончаров мне протянул дружескую руку: предложил поставить «Разгром» по Фадееву. Мы сделали что-то музыкально-поэтическое, Джигарханян очень укрепил это дело, Левенталь – художник. В общем, для того времени – получилось. Сейчас одна фраза «партизанские отряды занимали города» приводит меня в ужас. А тогда мне казалось это прекрасным. Посмотрели люди из горкома партии и решили, что это крупная ошибка, антисоветский спектакль, очень не понравилось, что партизанским отрядом командовал человек с фамилией Левинсон. Директор сказал, что спектакль будет снят. А что я впоследствии узнал – был разговор телефонный между подругами, актрисой Марией Бабановой и актрисой Ангелиной Степановой, это уже из архива Вульфа. Бабанова сказала: пришел к нам в театр хороший такой мальчик, молодой режиссер, и поставил очень хороший спектакль, по твоему Саше, и его хотят запретить. Степанова – актриса МХАТа и жена Фадеева. Как, «Разгром» Фадеева запретить? Степанова по вертушке позвонила Суслову и сказала: хотят запретить Сашин спектакль. И в театр явился Суслов – «серый кардинал» ЦК партии. Меня насмешило, что он пришел в галошах, я не понимал, дурак, что решается моя судьба. Мне, конечно, сломали бы хребет, как Фоменко ломали, выбросив из Москвы, у Хейфеца были свои драмы… Суслов сидел в директорской ложе, по окончании встал, зааплодировал, сдержанно. Но на следующий день в «Правде» появилась статья об огромной политической и художественной удаче. И я стал героем. Чтобы завершить рассказ о моих зрителях, скажу еще, что мы поехали за рубеж на гастроли, в том числе в Румынию, и на спектакль пришел Чаушеску, положил руку на плечо Джигарханяна и сказал: да, тяжело нам, командирам. После чего был расстрелян через несколько месяцев.
– Ты публичный человек, что означает большую прозрачность. Остается что-то существенное, интимное, человеческое, что есть ты, или такого внутреннего человека уже нет?
– Это я не знаю. Наверное, есть подробности личной жизни, которые никому не известны, и тебе я говорить о них не буду.
– Я не имею в виду подробности личной жизни, скорее переживания, размышления, счет, который ты предъявляешь себе.
– Ужас в том, что, когда я ставлю спектакль, он мне нравится. Я понимаю его истинную ценность только через некоторое время, посмотрев его из 17-го ряда. Я один раз в жизни выпустил спектакль, которым мне хотелось угодить, чтобы меня не сняли, потому что несколько раз меня собирались снимать, и это было достаточно серьезно. «Люди и птицы» назывался, по материалам нашей поездки на БАМ вместе с Шатровым. Я помню ужас этого БАМа, замечательные ребята, страшный мороз и удобства – метров сто пройти по такой волнистой ледяной дороге, не все туда доходили, я видел, как шел Шатров, мужественный мой сподвижник в то время. Спектакль представлял собой мешанину из БАМа, строительства, каких-то шаманов бурятских. Очень не понравилось отделу культуры МГК КПСС. И мне не нравилось то, что я ставлю, и результат дурной был.
– Чему-то это тебя научило?
– Научило. Ставить то, что хочется, то, что ты понимаешь как художественное. Хотя со временем все стало сложнее. Сегодня придумать театральный проект, как теперь говорят, труднее, чем лет двадцать-тридцать назад.
– Почему?
– Я объясняю тем, что мы погрузились в такое информационное пространство, у тебя такой выбор, как у зрителя телевизионных программ, интернетовских затей, кинематографа, каких-то концертирующих звезд мировой эстрады, плюс огромное количество казино, ресторанов, есть куда пойти, как в Париже и Амстердаме…
– Тебе нужно конкурировать с этой средой?
– В какой-то степени да. Надо привлечь внимание.
– Но, учитывая это, ты же хочешь, чтобы состоялось художественное событие…
– Я хочу, чтобы художественное, но у меня есть демократический принцип, и я его не меняю: я делаю для человека, который первый раз придет в театр, ему должен понравиться спектакль, но должен понравиться и тебе, Ольге Кучкиной, гурману, специалисту. Я с большим уважением отношусь к экспериментам на малой сцене, вот к фестивалю «Территория», где я дважды побывал, с интересом и с содроганием…
– А с содроганием почему?
– Ну вот коллективная мастурбация меня как-то… Нет, там бывают и достижения. Но сам себя настроить на эти формы не могу и не хочу. Я за театр демократический, за большой зал. И это прекрасно, когда, вот как на «Женитьбе», начинают сначала смеяться в амфитеатре, на балконе, потом постепенно волна спускается вниз, в партер, и потом уже весь зрительный зал превращается в один фантастический организм… Когда пятьдесят, шестьдесят или тридцать зрителей – я не люблю. Надо, чтобы все-таки человек шестьсот-семьсот. Или как у нас, около восьмисот. Мне такой зал нравится. И это, конечно, очень питает актеров, происходит взаимный обмен энергий. Слово «энергетика» у меня любимое, мне, правда, дома запретили его говорить, я очень надоел с ним жене…
– Выходит, все сложилось у тебя? А все сложилось?
– Если бы все сложилось у дочери – то да.
– Но актриса она расцветшая!..
– С годами простые вещи приобретают значение. Чтобы не столько у тебя, сколько у твоих все было хорошо. Есть большой долг перед женой Ниной, которая себя чувствует неважно, часто болеет, и я понимаю, что тут есть и моя вина. Что она не раскрылась как актриса. В свое время приехала ко мне в город Пермь, как жена декабриста…
– Это она же и была, твоя студенческая любовь?
– Она. Мы расписывались в Перми. Меня собрались выдвигать на звание заслуженного артиста, я сказал: может, подождать немножко? А она: нет, ждать не надо, надо уезжать. Она меня перетащила в Москву, потому что Гончаров сказал: приезжайте. Правда, когда увидел меня, понял, что погорячился. С ней тоже были проблемы, но она стала работать в эстрадном театре Полякова, сейчас он называется «Эрмитаж»… Она все время была рядом и поддерживала меня. Я ей очень обязан.
– Ты чувствуешь вину, но ты должен чувствовать и что-то другое, потому что кругом все разводятся, три брака, четыре, бесчисленное количество браков, а у тебя всю жизнь она одна.
– Замечательная шутка есть у дочери. Она говорит: отец, вот если разводиться, то сейчас, потом будет поздно.
– А почему так случилось? Вы так влипли друг в друга?
– Знаешь, когда я ее увидел, у меня было ощущение, я словами не могу передать… что это вот женщина… она не была красивее других…
– Была.
– В моем представлении она уступала многим, но что-то с неба ударило, каким-то разрядом, и настолько, что я успокоился. Успокоился, что это мое. И когда я увидел, случайно, как она под руку шла с каким-то иностранным студентом, их было много тогда в ГИТИСе, я понял, что надо предпринимать какие-то действия. Предпринял. С успехом… Потом, конечно, рождение дочери. Очень способствовало сближению и укреплению.
– Сколько вы женаты? Золотая свадьба уже игралась?
– Да, и это был один из сложных вопросов, потому что разный отсчет, сколько мы вместе. Когда первый поцелуй. Когда перед Богом. Когда поставили государство в известность. И прочее. В память о том событии, когда я первый раз поцеловал ее, я снял пожарный знак со стены кирпичного дома – и такой памятный знак над койкой у меня висит на Тверской.
– У тебя легкий или тяжелый характер?
– Я очень ценю комедийную ситуацию, юмор, но какое-то произвожу мрачное впечатление на людей, меня даже одно время называли Мрак Анатольевич. Наверное, характер непростой, был бы простой, я бы не сдюжил. Даже вот сейчас, общаюсь с людьми, которые играют, скажем, в «Женитьбе», – не так просто их объединить, сплотить. Они очень востребованные. И я понимаю, что живем на земле, и когда ко мне приходит артист и говорит: мне надо заработать, вот четыре дня чтобы я не приходил на репетиции, я иду навстречу. Я посягаю на семейный бюджет только последние полтора месяца или месяц перед выпуском. Что мне помогает – худсовет, теперь это называется Совет основателей Ленкома. Отцы-основатели высказывают мне иногда даже резкие суждения, хотя корректные. Но у нас договоренность: принимаю решения я, и несу за них полную ответственность. После принятия решения, как на корабле военном, они не вступают со мной в пререкания и дискуссии.
– Есть парадокс Эрроуза – о том, что диктаторское решение правильнее решения демократического.
– Да? Я не знал, но я очень развивал эту идею. Потому что если бы большинством голосов решали, Эйфелеву башню не построили бы, храм Василия Блаженного тоже… Страшные были первые собрания. Вообще, когда артисты собираются вместе, у них есть такое стадное чувство, что надо уничтожить кого-то. И вначале, когда я пришел в театр, на меня шел такой вал. Но однажды, еще на «Разгроме», я пожаловался опытному артисту, что у меня трудно идут репетиции, вот партизаны должны ползать по полу, а они не хотят. Он сказал: надо уволить кого-нибудь, кого не жалко, удалить с репетиции. И здесь я дважды совершил такие публичные акции устрашения. Первый раз – с главным администратором, который сейчас уже не работает. Драматург Розов пришел в театр, сунулся в окошечко, а тот говорит: кто такой, не знаю, сегодня ничего нет у нас, идите. Я попросил, чтобы он пришел с директором. До этого наглотался валидола, потому что все прорепетировал, и было волнение большое. Как артист, бывший, я очень спокойно изложил свои претензии. А когда речь должна была его быть, администратора, я сказал: вот дверь из кабинета, выйдите, пожалуйста. Он ушел. Директор молчал, это на него произвело впечатление. На следующий день сказал: вы, наверное, правы. И так же было в присутствии всей труппы, когда Глеб Панфилов ставил «Гамлета», и один артист, абсолютный плейбой, не хотел входить в поиски образа Фортинбраса, и я повторил с самим собой срепетированную мизансцену. И это тоже произвело впечатление на оставшихся. Такое было два раза.
– В каком соотношении в тебе художественное и гражданское? Вот эта знаменитая сцена с публичным сожжением партийного билета…
– Жена мне сразу сказала: это самый безвкусный поступок твой. Я с ней согласился. Надо было по-другому как-то. Конечно, надо знать что происходит, знать боли твоего народа, твоего зрителя, участвовать. Но я же понимаю, что несу ответственность за людей, которые со мной, поэтому не имею права на эффектные поступки. Забавный поступок был в театре Сатиры. 1968 год, год советских танков в Чехословакии. Собрания на всех предприятиях. В театре Сатиры также. Директор дрожащим голосом говорит: кто за то, чтобы ввести танки? А я сидел не очень далеко от двери и на цыпочках встал и вышел. Мало ли куда. И так я не голосовал за ввод танков.
– Как ты смотришь на то, что с нами случилось? Вон у тебя Горбачев висит…
– Это не Горбачев, это мой первый директор Экимян. Похож немного. Мудрый армянин был. Когда меня вызвали в горком партии, к Гришину, насчет репертуара комсомольского театра, я сначала был бодрым, а потом заглянул, а они все сидят за столом, и стало страшно. И директор это почувствовал. Подошел: смотри, это вор, это лесбиянка, это вот тварь самая ничтожная. Партийный человек! И снял стресс, таким жестоким и неожиданным способом… А Горбачев – это какое-то космическое явление, очень нужное и полезное для России. Так же я воспринимаю Ельцина. Все равно у меня осталось к нему чувство, может быть, даже любви, а не только уважения и благодарности. Меня Арбузов учил, он говорил: а кто будет украшать у вас зал? И вот Ельцин. Я позвонил ему в тот момент, когда он поссорился с Горбачевым и его убрали из Московского горкома. У него молчал телефон, поэтому он подошел, когда я позвонил. Я пригласил его в театр, он пришел, без охраны, без машины. Был расцвет антиалкогольной компании, а в антракте пришел еще Юз Алешковский. И я сказал директору: нужен коньяк. Директор был напуган, но коньяк появился. И вот когда мы втроем распили коньяк – Ельцин, я и Юз, – мне вдарило, что пришло новое время, окончательно и бесповоротно, если я пью с Юзом и с Ельциным… Для того, чтобы оценить Путина, мне нужно, наверное, еще какое-то время. У меня очень противоречивые ощущения. Какие-то я вещи считаю важными и нужными для России. Даже сам прецедент, связанный с избранием нового президента, пусть не до конца оформленный, – все равно для России важный шаг. Пусть он имеет еще отличия от американского, французского, это, тем не менее, историческая акция.
* * *
Абдулова не стало спустя короткий срок…
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ЗАХАРОВ Марк, режиссер.
Родился в 1933 году в Москве в семье педагогов.
Окончил ГИТИС. Работал как актер в Перми.
Вернувшись в Москву, служил в Эстрадном театре миниатюр, ставил спектакли в Студенческом театре МГУ. Перешел в театр Сатиры, где прогремел постановкой «Доходного места», впоследствии запрещенной. В театре имени Маяковского поставил спектакль «Разгром». В 1973 году возглавил театр Ленинского комсомола (Ленком). Прославленные спектакли – «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона» и «Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва», «Мистификация», «Варвар и еретик», «Брат Чичиков», «Шут Балакирев», «Пролетая над гнездом кукушки» и др.
Прославленные фильмы – «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».
Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и Государственных премий РФ. Награжден орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» второй и третьей степени. Лауреат премии «Триумф».
Жена – Нина Лапшинова, актриса.
Дочь – Александра Захарова, актриса.
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА Алексей Герман
Мой друг Алексей Герман.
Если б я стала снимать фильм под таким названием, непременно показала бы жирного, истеричного, атакующего, но достаточно безвольного человека, которому на длинной дистанции делается скучно, и если б не другой человек, жесткий и существующий именно на длинные дистанции, по имени Светлана Кармалита, еще неизвестно, что бы из всего этого получилось.
Под «всем этим» я подразумеваю целую жизнь, творческим результатом которой явилось всего несколько фильмов: «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!».
Все эпитеты принадлежат самому Алексею Герману.
Светлана Кармалита – жена, друг и соавтор.
Почему такая самоаттестация? Критичность взгляда? Высокий уровень притязаний, сопровождающийся естественными сомнениями и неудовлетворенностью?
Не знаю.
Я бы сняла «жирного, истеричного и безвольного» потому, что много лет нахожусь под обаянием его удивительной, волшебной, уникальной кинокамеры, уникальной личности, огромного человеческого и художественного дара. Этот грандиозный мастер терпеть не может ничего красивенького, сладенького, умилительного, претенциозного, ища и находя то, что ему надо, в гуще обычных некрасивых лиц и обычной некрасивой жизни. Волшебство в том, что в некрасивом материале оказывается больше той истинной красоты, о которой думал Достоевский, выводя знаменитую формулу: «красота спасет мир, а некрасивость убьет». Достоевская красота – в любви.
Любовь Алексея Германа к своим героям, к месту и времени их проживания просвечивает в каждом кадре простых и пронзительных фильмов, столь похожих на документ и окрашенных столь глубоким скрытым лиризмом. Герман обожает деталь и обожает второй план.
В картине «Мой друг Иван Лапшин» в сцене объяснения в любви, которая написана и поставлена сначала как бабская игра и бабская истерика, актеры Нина Русланова и Андрей Миронов разговаривают на общем плане, а на первом плане проходит человек с мешком, и все главные для этих двух людей внутренние события погружены в сутолоку, неразбериху и бестолковщину морского вокзала, где стоят какие-то вещи, и играет оркестр, и всякая посторонняя суета. Она посторонняя для другого режиссера, который непременно дал бы в этот момент «крупняк». Герман, вроде бы безразличный к переживаниям героев, дает почти равнодушный общий план.
Отчего же так щемит сердце, всякий раз щемит, как в первый, когда смотришь эту сцену? На самом деле Герману нужен не второй или первый план – ему нужна абсолютно достоверная атмосфера, в которой актер мог бы не позировать, а жить. На фоне массы фильмов, в которых что ни кадр, то фальшь, вранье, вопиющая приблизительность и искусственность, у него – потрясающая правдивость, при том, что все продумано и выстроено почти математически. По прошествии лет, когда увяло и отпало, как пожухлый, почерневший лист, многое в советском киноискусстве, кадры Германа остаются бесконечно живыми, исполненными правды и любви.
Когда я скажу ему, как остро чувствую его любовь и к этим людям, и к этим приметам среды обитания, ко всей истории жизни его и моей страны, он вспомнит, что про «Двадцать дней» было написано, что он гениальный второй режиссер, потому что гениально делает второй план, а больше ничего не умеет. Так воспринимался даже профессионалами новый киноязык, открытый Германом, которым теперь не пользуется разве что совсем ленивый или совсем бездарный.
Герман всегда долго готовится к своим картинам. Ищет старые места, старые снимки, старые вещи. Однажды углядел в коридоре моей квартиры чучело головы волка: отец купил когда-то, и с тех пор волк путешествовал с нами из дома в дом. Герман «схватил» это чучело наметанным глазом в свою мысленную копилку, а потом я увидела его в фильме «Хрусталев, машину!».
Про эпизод с волком Герман вспомнит в разговоре – я приведу его ниже.
Гениальный режиссер, он еще и гениальный разговорщик. Хотя то, на что удалось его спровоцировать, удалось не сразу.
* * *
– Леша, у тебя в фильме «Двадцать дней без войны» есть эпизод, думаю, он вошел в учебники кинематографии мира: Петренко минут десять произносит монолог. Говорят о зашкаливающей естественности актера, о смелости режиссера, давшего актеру такой грандиозный кусок времени. Не говорят о содержании монолога, а он – о любви. Ты со многими интервьюерами беседовал о разном, ни с кем никогда – о любви. Давай восполним этот пробел.
– Я несколько ошеломлен, потому что уж если кто не подходит к этой теме, то это я, ну хотя бы внешне: жирный человек, с огромным брюхом, старый. Можно найти красивого человека. Вот Олега Янковского. Это я могу себе представить: ты сидишь вот так, напротив тебя Олег Янковский, застыл весь Советский Союз.
– Ты бы снял это в кино?
– Ну не знаю, может, это неинтересно.
– А я воспитана на твоем кино. И потому говорю с тобой, а не с Янковским, хотя это было бы очень красиво. Ты знаешь, что такое любовь?
– Как Шварц писал: очень приятно и немножко неприлично.
– Я не прошу тебя формулировать. Я просто думаю, что эта тема тебе в жизни и в искусстве так или иначе знакома.
– Мне отец когда-то рассказывал: ему было лет пятнадцать, а у них диспуты проводились в городе Обояни или Курске, где он тогда жил с высланными родителями, были в 20-х годах такие диспуты: «Любовь с черемухой, или любовь как стакан воды». Тогда, кстати, нельзя было дарить цветы, потому что был лозунг: «Цветы – половые органы растений». И вдруг мой несчастный папа на диспуте, рассказывая о том, что любовь должна быть как стакан воды (а его оппонент вскрикивал, что нет, с черемухой), вдруг увидел деда, бывшего офицера, который с интересом слушал, что говорил его пятнадцатилетний сын!.. Мне всегда было это неинтересно. Я понимал эти африканские страсти, я понимал, что девушки рыдают, что юноши вешаются, я тоже читал «Ромео и Джульетту», которых приводят как символ какой-то невероятной любви, хотя это в принципе история резни, а не любви, но мне в голову всякий раз приходила банальнейшая мысль: ну и что дальше? Допустим, он не отравился, не зарезался, не убили в поединке, женились они, и начинаются у них свои проблемы, свои свекрови, свои поездки, свои упреки, свои стояния у плиты, своя беременность, «куда ты ушел», «а ты чего». Ведь огромное количество людей разводится. В хорошей книжке Вайля и Гениса об эмиграции написано, что 90 процентов пар, уехавших в Соединенные Штаты, развелись. Тебе не приходило в голову, откуда этот невероятный процент?
– Когда начинаются перемены, они бывают какие-то глобальные.
– Я думаю, что изменился статус, вот что случилось. Она была, допустим, жена, а он специалист по Чайковскому. Он туда приехал и устраивается пять лет специалистом по Чайковскому или, в крайнем случае, по Шопену: понять, что его удел делать книжные шкафы, очень трудно. Женщины более цепкие, она стала программистом, он не владеет английским языком, она владеет, он перестал быть для нее героем – это всегда мне казалось жутко скучным.
– Послушай, ты говоришь как специалист… по любви. Как-то отстраненно. Как будто с тобой ничего подобного не происходило. Но с тобой происходило все то же самое. Я хочу напомнить тебе классическую фразу: я клянусь, что и это любовь была! И плита, и что-то еще…
– Конечно, конечно. Я помню, как я был влюблен, а девочка мне морочила голову и просто возбуждала ревность другого мальчика. Она меня бросила. Мы с ней ходили купаться, и мои плавки у нее сушились, и она прислала мне их с запиской: все, что скажет тебе человек, который передаст плавки, правда. Меня вызвали с репетиции, передали эти плавки, у меня поплыла земля от огорчения. Два дня я бешено переживал, познакомился еще с одной девушкой, которая, проведя со мной ночь, украла у меня чемодан, я сел и заплакал. Нет, я все понимаю, что это лучшие минуты в жизни, я понимаю, и что такое цветы, и что такое ночная улица, по которой стучат твои каблуки, когда ты возвращаешься, или каблуки твоей любимой. Но мне кажется, что высшая математика этого дела приходит с годами. Там странные тяготения, игры желёз и гормонов, а тут какой-то момент понимания друг друга, внедрения друг в друга, не эротическое, а другое, жалости друг к другу, необходимости друг другу. Я на днях был в огромной богадельне ленинградской, может, это и не богадельня, я не могу сказать, что она плохая, хотя любая богадельня, как ты понимаешь, печальная вещь. И вот среди этих искаженных возрастом людей на стуле возили женщину. У нее была блузка, какой-то галстучек, соломенная шляпка, все достаточно нищенски, в общем, понятно, что туда состоятельные люди не попадают. И стул этот возил тоже старичок в каком-то таком отутюженном костюмчике и с галстуком. Эта пара среди рухнувших людей держалась. И это был какой-то поразительный эффект, я не знаю, что это такое. Может, они брат и сестра, может, недавно здесь познакомились, может, муж и жена.
– Но чем-то они светились?
– Дело не в том, что светились. Они держались среди этого хаоса. Своим костюмом, своей дурацкой шляпкой, тем, что он завязывал галстук, человеческим достоинством, понимаешь. Я представил себе, как он приносит ей перловую кашу, может быть, я нафантазировал, но мне показалось, что это была какая-то высшая ипостась любви. Я помню, как один органист женился на очень молодой женщине, и все посмеивались по этому поводу, он был уже старик, а потом он умер, а она покончила с собой, и все онемели. Существуют какие-то высшие проявления всего этого… Я хочу тебе сказать, что не знаю, что получилось, что не получилось в «Двадцати днях», но мы хотели, чтоб было безумие от любви, и Петренко пригласили и играли весь эпизод для того, чтоб получился жлоб, это была отрицательная фигура. Потому что первая его реакция, ты обрати внимание, какая советская: другой бы побежал вешаться, как только узнал об измене, а он побежал письмо писать, отзывать аттестат, паек. А вот любовь, допустим, Никулина и Гурченко, их прощание мне казалось очень интересным, потому что это последняя или предпоследняя любовь, исследовать не буйство тел, а вот это тяготение…
– …постепенное-постепенное движение к тому, что души становятся родными. Это и есть высшая ипостась любви. Ты, Леша, говоришь: отрицательный человек. В любви, конечно, если есть бурная страсть, то дальше зависит от человека, во что она переливается, что она дает в результате, то, что он будет гадом, или, наоборот, в результате он к Богу идет. И эта пара в богадельне, это и есть то, во что все выросло. Но я хотела бы к твоей жизни обратиться, если позволишь. Я знаю тебя давно, и давно знаю Светлану, знаю, какой это бесконечно сложный союз, я говорю это, не вторгаясь в закрытую от чужих глаз жизнь, какой она и должна быть. Но знаю также, что вы по временам доходите почти до разрыва и снова воссоединяетесь, и не просто в любви, а в работе, вы все время работаете вместе, и это для меня поразительная история. Я люблю вас вместе и при том, что считаю тебя очень талантливым человеком, а Свету – очень умной женщиной, думаю, что вы друг без друга не можете работать, а может, и жить. Жизнь всегда сложна, а любовная – очень сложна, это дерево, которое растет то так, то эдак, то оно уродливое, то прекрасное…
– Ну, мне, честно сказать, на эту тему и разговаривать неохота. Ну давай я, значит, про тебя и Валеру начну, ты тоже завертишься, верно?.. Вот что, наверное, случилось: тут сочетание меня как режиссера и Светланы Кармалиты как сценариста и моего соавтора. Ведь вот, допустим, известно, что в космосе, если надолго запускать людей, то необходимо их подбирать по каким-то возможным признакам сожительства. Допустим, два волевых человека, скорее всего, в космосе сожрут друг друга, или один перекусит шланг, если другой вылезет в открытый космос. Очевидно, нужно какое-то сочетание характеров для замкнутого пространства или в экстремальных ситуациях. Поскольку мы живем не в Лос-Анджелесе, грубо говоря, а в этой нашей экстремальной среде, то образовалась такая пара, где недостатки одного, очевидно, компенсировались достоинствами другого, и ничего не известно, что получится без этого. Правда, я достаточно успешно закончил институт, у меня был отрывок лучший в институте… То есть не то что меня вытащили из помойного ведра, значит, отряхнули и сказали: вот… У нас действительно какое-то сочетание: я человек истерический и атакующий, но достаточно безвольный, на длинной дистанции мне делается скучно, мне хочется бросить, а Светлана человек жесткий и, так сказать, на длинные дистанции существующий. У Светланы не только конструктивный, толковый ум, у нее очень критический ум. И очевидно, я бы не выдержал, я бы не смог ни с каким другим человеком так близко работать. Когда мы работаем, Светлана сидит за машинкой, я по спине Светланы чувствую, что ей не нравится, и начинаю беситься, она даже голову не повернет, но я по спине понимаю, что пошло не туда. Я не скрываю, что вряд ли смог бы быть режиссером известным без Светланы. Ну и могла бы без меня Светлана писать, сказать не могу. Но сказать, что это счастье, что нас вот жизнь соединила, тоже довольно трудно, может, Светлана была бы счастливее, может, я был бы счастливее, если бы нас разъединила жизнь. Я не знаю, считает ли Светлана, что ей повезло… у меня нет никаких оценок. Весь фокус состоит в том, что мы очень сильно дополняем друг друга и в жизни, и в работе.
– Я могу только повторить: я клянусь, что и это любовь была.
– Мне такая мысль пришла: были свахи на Руси. Были глупые, пошлые, но были и другие. Может быть, в профессию свах входил талант подбора людей друг для дружки. Потому что иногда люди и не видели друг друга, как у Твардовского: она жила по эту сторону реки, он по ту – перевозчик, перевозчик, перевези меня на ту сторону домой. И работала сваха, понимая, что из чего может выйти. Совершенно неизвестно, что из Ромео и Джульетты могло получиться. Могла получиться ужасная пара: он бегает там по неаполитанским шлюхам, она гадкая, с синяками. И вдруг наоборот: мужчина и женщина, никогда не видевшие друг друга, а потом родятся дети, и вдруг из этого получается союз на всю жизнь, такой, когда уезжают, и любят, и ждут. Может быть, в эту профессию свах входило крупное искусство, нынче утерянное. Вот я думаю о женах декабристов. Не то что уж какая-то такая страсть погнала их в Сибирь. А может, и страсть. А может, общественное мнение. Они проклинали себя в этих возках, а вернуться было невозможно. Потому что предательство было не в моде. Сейчас известная женщина, прелестная внешне, замечательный депутат говорит: первый муж был хорош, второй тоже, зато третий богат.
– Ты снял мало фильмов. И ты как бы собиратель документов жизни, в каждом фильме столько мелочей, которые рисуют время, это твой почерк, отсюда целая школа пошла, вот как ты видишь эту шляпку, например, или прямую спину. А я вижу твою колоссальную любовь и к этой вещности, и к этой жизни, и к этим людям.
– В «Хрусталеве» есть два топтуна гэбэшных, которые говорят: вчера на вызов ездили, мужчина и женщина лет шестидесяти, пожилые, покончили с собой, представляешь, любовь у них, какая-то странная. Это они между собой разговаривают. Вот тут какие-то вещи зарыты… Мы в свое время наняли на какой-то картине машину, и нас возил человек, которого своим приказом Андропов в двадцать четыре часа уволил из госбезопасности. Он был абсолютно безумен, он работал у нас десять часов в день и десять часов в день он рассказывал государственные тайны. А перед этим у него самая страшная работа была, он следил за дочкой Мухитдинова, которая принимала любовника-негра, а он должен был сидеть в ветвях дерева перед ее окном и все фотографировать. Он говорит: вы представляете себе, они вот этим занимаются, и сколько времени, они такие страстные, а ты сидишь 50 минут и за всем этим смотришь…
– Я и говорю, что есть такой феномен: ты снимаешь картину про время, про режим, как режим губит людей, но ты все время любишь этих людей, любовь бесконечная…
– Да, старался… Сейчас, наверное, придется резать в «Хрусталеве», там, где мы их не любили…
– А там есть любовь, любовная история?
– Как ни странно, есть, но очень короткая. Сюжет состоит в том, что вот человек живет-живет, как во сне, а в один прекрасный момент приходит к учительнице сына, совсем ему худо, загнала его жизнь, как загнанный волк из твоей прихожей, я взял эту голову волка в картину, мне показалось, очень интересно: в квартире жильцы меняются, а волк, который смотрел со стены, он свидетель разных жизней, разных формаций, разных эпох. И вот герой приходит к учительнице сына как бабник, как человек, ощущающий еще вкус жизни, там немножко черты моего отца, он чувствует, что та от него без ума, приходит и проводит абсолютно глупую ночь, потому что она действительно его обожает, много лет с ума по нему сходит и в грубой форме требует сделать ей ребенка: потому что я понимаю, что вы сгниете, и я хочу, чтоб у меня был ребенок. Он в некоторой панике, говорит: ну что я тебе, бык Васька, что ли, я бежал, я замерз, меня посадят сейчас, а я тебе буду делать ребенка. Она говорит: нет, вот сделайте, иначе я ничего для вас не сделаю. И вдруг из этого, в общем, идиотизма, достаточно длинного, снег идет в Москве, вдруг… Это еще не снято, хотелось бы, чтобы из этого произошло то, что он долго будет вспоминать. В «Лапшине» тоже есть какие-то вещи, которые мы играем, потом делаем такую паузочку, потому что для себя мы говорили: а потом он это будет долго вспоминать.
– Это послевоенное сталинское время?
– Да, 53-й год, в течение двух дней все происходит. Прелестная артистка, но поскольку у нас жуткие временные паузы, денег все время нет, и я стою по полгода… На следующий день ночью к ней является герой, но героиня моя Оля, которая взяла у него конфеты к вечернему чаю, за это время страшно растолстела, и я ей говорю: что ж получается, взяла конфету к вечернему чаю, с конфеты тебя так разнесло?
– А переснять нельзя?
– Переснять, что ты, это я повешусь, невозможно переснять.
– Кошмарная какая история. Сколько лет снимается картина?
– Да пятый год. Ну что я могу сделать, если услуги в кинематографе за это время подорожали в три с половиной тысячи раз! Я не хочу ни с чем считаться. Я хочу снять картину так, как она была придумана. Десятилетие назад люди бы понимали и уважали меня за все мучения. А теперь я вызываю раздражение: ну почему эта жирная свинья сидит вот так, мы б за это время давно сняли бы много картин, а он сидит на своем и не слезает.
– Я помню, что каждая твоя картина в процессе вызывала у людей раздражение, и даже когда она была готова, твои лучшие друзья говорили: Леша, ты замечательный человек, но ты снял полное барахло. Это судьба твоя. И если тебя это утешит, мне это нравится. Ты держишь… ты такая фигура, кариатида, ты защищаешь что-то настоящее. И думаю, что это будет всегда.
– Понимаешь, при наличии такого живота и таких слабых, в общем, рук – это не работа. Но во всяком случае я не могу по-другому, и это мое несчастье. Ладно, оставим все к чертовой матери.
– Оставим, потому что мы с самого начала поняли, что это слова, которые ничего не стоят.
– Да.
– И все будет ясно потом, за крышкой.
– Оставим все это. А вернувшись, скажем, что мир стоит на любви, и никуда ты от этого не денешься. Он стоит на любви мужчины к женщине, но скорее всего не в изначальном, а в каком-то долгом, продолжительном плане. Он стоит на любви человека к родине. Он стоит на любви женщины к ее ребенку. И мужчины к ребенку. Вот вынь из мира это, и мы превратимся в омерзительную стаю макак. Мы и так достаточно близки к этой стае.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ГЕРМАН Алексей, кинорежиссер.
Родился в 1938 году в Ленинграде.
Окончил режиссерский факультет Ленинградского театрального института. С 1961 по 1964 год – режиссер в Большом драматическом театре (БДТ). С 1964 года – режиссер студии «Ленфильм».
Автор фильмов «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!».
Отец – известный писатель Юрий Герман.
Жена – сценарист Светлана Кармалита.
Сын – Алексей Герман-младший, постановщик картины «Гарпастум».
ВКЛЮЧИТЬ СВЕТ Леонид Ярмольник
Отчего суперпопулярный Ярмольник в свое время пропал с телеэкрана? Оттого, что снимался в главной роли в фильме знаменитого Алексея Германа «Трудно быть богом» по роману знаменитых братьев Стругацких.
Он опаздывал. Ждала в маленькой комнатке Киноцентра. От нечего делать слушала шаги в коридоре: быстрые женские, важные мужские. Пытаясь угадать его походку, отчего-то решила, что она будет бесшумной. Он так и пришел, бесшумно.
* * *
– Любите ли вы точность?
– Я точен, по мне сверяют время, у меня репутация человека, к которому опаздывать нежелательно. Если человек опаздывает во второй раз, я перестаю с ним общаться.
– А как мне быть, если вы вдруг второй раз опоздаете?
– Я вам сказал: мне надо помочь одному человеку подключить электричество, там чиновники, да еще пробки на дорогах… Точность – вежливость королей.
– Вы себя ощущаете королем?
– Когда прихожу вовремя. (Смеется.)
– В вас больше взрослого или детского?
– Ребенка больше. Пацана.
– Откуда такая дикая энергетика?
– Это кажется… Шутка. Энергетики много. С годами она больше загоняется внутрь. Был моложе – просилось наружу. В каждом жесте, в каждом движении, каждом начинании. Сейчас какая-то усталость существует, и выносливость уже не та. Перед тем как замахнуться, думаешь, а надо ли тратить силы на замах, если нет силы на удар? По инерции барахтаешься так же, как раньше. Потом жалеешь.
– Скажу сразу, вы для меня существуете в двух образах. Один – актер на все про все, легкий, может, легкомысленный, и даже грубо, машина для зарабатывания денег. Когда познакомилась с Леонидом Филатовым, открылась другая сторона – товарищеская, мужская, человеческая, которая всегда очень трогает. И с этим золотым слитком на ТВ, в программе «Золотая лихорадка», вы мне понравились. Никто из ведущих на ТВ не создавал такого образа дьявола-искусителя. Было артистично и жестко. Так что когда услышала, что Алексей Герман взял вас на главную роль в фильме «Трудно быть богом», все сошлось. Что вы сами об этом думаете? Почему Герман выбрал вас?
– На самом деле вы задали вопрос и сами на него ответили. Вы поэтапно меня узнавали. Сначала как артиста, потом как машину для зарабатывания денег… что для меня очень лестно…
– О деньгах поговорим отдельно.
– Я как артист не чурался никакой работы. Соглашаясь иногда на то, что вызывало большие сомнения. Когда роль нравилась не очень, я уговаривал себя, что смогу сделать так, что заиграет по-другому. Даже в посредственных фильмах удавалось иногда создать автономный кусочек существования. Кривая моей судьбы помогала.
– Вы никогда не относились к ролям как к халтуре?
– Нет. Это моя основная работа. Ничего другого я по-настоящему делать не умею. Если меня чему-то в этой жизни научили, и если предположить, что я рожден артистом, то халтурой не бывает ничего. Ею может оказаться работа, которая уже отняла много времени, и я понял, что она бессмысленна и хочу поскорее завершить. Тогда процесс окончания неверного начинания может быть халтурой, поскольку, желая поскорее от всего избавиться, я не буду вкладывать в это много сил, мозгов, нервов. А когда я понимаю, что от меня что-то зависит, я буду делать все максимально, как могу. Мне всю жизнь не хватало ролей. Я снялся в огромном количестве картин. Из ста вспомнить могу картин пятнадцать. Все остальное – тренировочное, неудачное, ошибочное, назовите как хотите. Но это творчество. Оно не может быть таким, как на токарном станке. Другие роли, в которых я мог бы раскрыться раньше, пролетели мимо. Утвердили других артистов. Напрашиваться же не будешь. Есть профессиональная гордость, такт.
– А что с ТВ?
– ТВ – это аппендикс в моей жизни. Не самый злокачественный, если можно так выразиться. Оно возникло в начале 90-х годов, когда вообще не было работы в кино. Сейчас не верится, но и театра не было. Жуткое затишье.
– Вы были актером «Таганки»?
– Я ушел в 83-м и в театре не работаю много лет. Но я слежу за тем, как работают мои близкие друзья, хожу в театры. Тогда в этом болоте потонуло большое число прекрасных артистов. И многие бесследно.
– Кто?
– Мне не хочется называть имен, это всегда обидно. Целая плеяда. Скажем, прекрасная артистка Наташа Егорова, народная, работает во МХАТе, она никуда не пропала, она снималась у меня в «Бараке», а до того у Лунгина в «Луна-парке», звезда, но она сидела без работы, без денег. И до сих пор не вернулся тот уровень известности и достатка, который должен быть равен таланту, работе. Возьмите всю «Таганку», возьмите МХАТ. Я на днях видел Станислава Любшина. Фантастический артист. В хорошей форме. Почему его не снимают? Нам не нужны такие талантливые артисты? Время изменилось, вкус изменился, появились молодые режиссеры, которые боятся, наверное, серьезных актеров.
– Вернемся к ТВ.
– Мы плотно дружили с Владом Листьевым, и Влад два года уговаривал прийти на ТВ. Сначала я пришел к нему работать в телекомпанию «ВИД», мы с ним придумали «L-клуб». Не получилось. Влад меня отпустил. Я ушел на российский канал, программа стала популярной и жила шесть лет. Потом постарела, из нее многое украли – естественный процесс. Сначала я переживал, что мы ее закрываем, потом обрадовался, потому что нельзя же вечно это делать. Я люблю Лёню Якубовича, он умница, талант, но он раб своего «Поля чудес». Это ужасно, потому что Лёнька может намного больше и интереснее. Хотя он стал одним из самых популярных людей в стране.
– Вас нет больше на телеэкране – что вы чувствуете?
– Облегчение. Сегодня только облегчение. Любовь видеть себя на экране – есть такой порок. Слава богу, я им не заболел. Я люблю видеть себя, когда это интересно и не похоже ни на кого.
– С золотым слитком было интересно?
– Очень. Я считаю, это была лучшая программа на ТВ, единственная, не повторенная никем и нигде. Идея принадлежит Дмитрию Липскерову, я со своими ребятами придумал форму.
– А образ?
– Его придумала моя жена: такой странный ведущий. Все же понимали, что это не Лёня Ярмольник, что это с юмором. Я считаю, Константин Эрнст потерял «ноу-хау». Это всплывет в другом варианте у других людей. Программа осталась не раскрученной, просуществовав всего год. Руководство канала ОРТ очень много занималось политикой. Как и сегодня. И упустило программу. Мы хотели, чтобы эти слитки выигрывали люди, чтобы строились больницы по России, чтобы об этом сообщалось в программе «Время». Действительно, можно было дойти до таких правильных форм мотивированных выдач больших сумм.
– То есть направлено не на инстинкт стяжательства, а на филантропию?
– Инстинкт стяжательства – о нем заботиться не надо, он есть, но когда человек может отдать что-то на благотворительность, людям, городу… Игра «О, счастливчик!» по сути очень похожая, проверенная десятилетиями, но она беднее «Золотой лихорадки», которую можно было довести и иметь свой, российский проект, а не чужой.
– Об Алексее Германе.
– Я везунчик на самом деле. Потому что, с одной стороны, мне надоело все это: бороться за эфирное время, придумывать за других… потом ведь были «Отель» и «Гараж», на хорошем уровне, но не более того. И тут совпало… У Алексея Юрьевича это же все долго. Сначала знакомство, потом пробы. А он ужасно ревнивый и собственник. И он почти на бегу со мной договорился, что я все оставляю. Чтобы я был как теленок и зомбированный им человек. Но я по природе своей другой, мне не надо неделю сидеть в четырех каменных стенах для того, чтобы почувствовать себя частью этих стен и играть личность другого склада. Мне надо сказать: средние века, замок – я через пять минут могу играть любое состояние, мне только надо точно объяснить, какое. А он все равно считал, что я выпендриваюсь, что это медленное погружение в состояние анабиоза меня покорит. На сегодня мы уже выяснили отношения, жизнь сама все расставила по местам.
– Как выясняли? Были какие-то серьезные конфликты?
– Были. Наверное, потому, что мы в чем-то с ним очень похожи…
– В чем?
– В принципиальности, упрямстве, вспыльчивости, оба ужасно самолюбивы. Он выигрывает только в том, что я моложе. Все-таки у меня есть еще пиетет перед ним. Хотя в молодости это разница, пятнадцать лет, а в нашем возрасте… Но он любит со мной говорить как с пацаном. А я ему периодически напоминаю, что я пацан, но мне уже сорок семь.
– Какой-нибудь конфликт помните, где разорались-разбежались?
– Их невозможно передать словами. Они все связаны с тем, что он хочет, чтобы получилось наилучшим образом, и я тоже. А идем к этому разными дорожками.
– Но вы могли стукнуть дверью и уйти со съемочной площадки?
– Конечно. Даже на пробах так было. Я стукнул дверью и надеялся, что уже конец и все само собой разрешилось. Я радовался за Германа, что не надо будет мучаться с Ярмольником, а за Ярмольника – что не надо мучаться с Германом. Я люблю его и уважаю как художника, как режиссера, как личность. Но когда это творчество… это все равно как… ну, мы делим одну постель, и у нас кто-то должен родиться.
– А как он вернул вас?
– Света Кармалита играет свою роль буфера и тормоза. Она разъясняет ситуацию. Она сбивает пену, и остается суть… Тот год был очень трудный, этот легче.
– Вы притерлись?
– Мы не притерлись. Алексей Юрьевич все-таки очень сложный человек. И он зависит от очень многих вещей, как он говорит. От того, как он себя чувствует. От того, как работает группа. От того, насколько он знает, как строится следующая сцена. Этих причин очень много. Но это он обманывает. Когда он знает, как снять сцену, – и группа работает хорошо, и чувствует он себя хорошо. Вообще самое страшное – это режиссер, который всегда знает, что делать. Если Германа можно назвать гением, то потому, что он отличает поделку от истинного воплощения. У него невероятный вкус. В этом он идеален. И из-за этого я с ним. Потому что от того, как он работает, как чего-то требует – от этого можно сойти с ума, это невозможно выдержать. Нельзя же объяснить, в чем состоит профессия актерская и режиссерская. Но когда снимается сцена – три дня одно и то же, а он тихонечко работает, работает, и только на пятый день будет дубль, о котором он скажет: вот сегодня, кажется, получилось… Хотя мы считали, что получалось и в предыдущие четыре дня. Но он не закончит съемку кадра, пока не увидит то, ради чего он снимает этот кусочек. С ним очень интересно. И очень трудно. Было бы глупо, если б я это скрывал. Я мог бы наговорить кучу претензий: так не работают, так не планируют, так долго не снимают. Но я уже снимался быстро. Я уже работал по-другому. А с ним я не работал. Не так много людей, до такой степени самобытных и оригинальных в творчестве, как Герман. Кто-то считает, что он шаман…
– Бродский тоже был шаман.
– Один очень умный человек сказал, что лет через пятьдесят из всего, что было, останутся фамилии Бродского и Германа.
– И Тарковского, может быть.
– Он так и сказал: может, Тарковского. Как бы ни относиться к фильмам Германа, они ведь никогда не стареют. Они не принадлежат никакому времени. Они принадлежат всем временам. Эта картина еще больше, чем остальные, принадлежит всему мирозданию. Кино невероятно сложное и невероятно простое. Вообще про цивилизацию. Вообще про то, как люди придумали жить вместе. Безусловно это про жестокость, про власть, про стремление человека господствовать над другими людьми. Про природу человека. Поэтому это кино и про Россию, и про Америку, и про Мексику, и про Египет, про что угодно.
– Персонаж, которого вы играете, рыцарь без страха и упрека…
– У Германа это не так. Не то что не так, а выглядит безо всякого пафоса. Он меня уже убедил, так что я никакого героя не играю. Я играю человека, который хочет хотя бы внутри себя следовать законам человеческой правды, честности, порядочности.
– Вам как человеку это близко?
– Да, разумеется. Форма, в которой мы работаем, не самая близкая. Самое удивительное и, может быть, правильное: я не герой в картине. У Германа снимается много типажей. Он мастер выбирать лица. Начиная от пациентов психиатрических лечебниц и кончая странными лицами от природы. Эти люди не играют. И весь фильм… как бы вам объяснить? Знаете, говорят, что с кошкой играть нельзя, она всегда вас переиграет. Я – в этих условиях. Все типажи играют лучше меня. Потому что они не играют. А я как бы профессиональный артист. И если я смогу соперничать с типажами – это будет главным достижением этой картины и победой Германа и моей. Сам ход событий в картине предопределяет личность. Но при этом не надо все играть с ровным позвоночником и развернутыми плечами. Наоборот, он старается меня мало показывать: ухо, глаз, рука, детали. Это про Бога, потому что Бог в человеке. Я играю Бога, и я это понимаю. Но когда мы говорим: Бог – нас сразу коротит на том, как играть Бога…
– Первый вопрос, который я хотела задать: трудно быть Богом? Вы меня сбили, опоздав.
– Трудно играть Бога. Если ты с другой колокольни. Если с германовской – не трудно. Потому что ничего не должно быть придуманного, ничего нельзя изображать, можно только существовать очень честно. И если он за чем-то очень пристально следит, так это за правдой реакции и за тем, чтобы ничего лишнего не сыграл, чтобы не увиделся артист. Поэтому, возвращаясь к вашему первому вопросу: почему Герман взял меня? – отвечаю: не знаю. То ли он сам себе устроил экзамен по жизни…
– Возьму-ка я этого комика, и уж если с ним справлюсь…
– Вот-вот. Но он говорит, что всегда снимал комедийных артистов. Ролан Быков, Андрей Миронов, Юрий Никулин. Он прекрасно знает, что люди с такой энергетикой – настоящие трагики.
– Меняет ли что-то в человеке такое кино? Вы входите в него и выходите одним и тем же? Или происходит какая-то мутация?
– Человеческая – нет. Я живу по тем правилам и законам, которые во мне уже устоялись. И то, что мы делаем с Германом, не меняет моих установок. Все правильно. С профессиональной точки – происходит. Меня меняет это, и очень сильно. Я не то что многому научился. Мне многому нужно разучиться, для того чтобы у Германа сниматься и соответствовать его требованиям.
– Теперь про взаимоотношения с деньгами. Я понимаю, что вы заработали и зарабатываете некое количество денег – для чего? Жизнь свою устроить по-мужски? Дом построить?
– Я не смогу, наверное, ответить на этот вопрос. Мне его много раз задавали. Когда меня называют бизнесменом или человеком, умеющим зарабатывать деньги, мне это льстит как мальчишке, но ни в коей мере не отражает истинного положения вещей. Меня просто научили в свое время много работать. И я всю жизнь много работал и зарабатывал больше, чем окружающие. И в 70-е годы, будучи студентом. И работая на Таганке. Не потому, что я хитрил или делал что-то невероятное – я тратил на работу больше времени, чем другие. Я деньги обожаю. По одной простой причине. Это мой инструмент для достижения того, чего я хочу. Пока мы живем в обществе, где нужно иметь деньги, кроме имени, сил и таланта, значит надо их иметь.
– А что вы хотите делать?
– Я хочу их тратить так, как хочу. Допустим, я вкладываю их в свое кино. В «Бараке» были и мои личные деньги. Если кончались личные, я брал взаймы. Но я все окупил. Я не заработал – в России трудно заработать на кино, но я вернул деньги. Так же было в «Московских каникулах» и в «Перекрестке», где я был одним из продюсеров. Но это умение не делать деньги, а распорядиться ими, чтобы не потерять. Есть масса людей, которые делают что-то много лучше меня, но это никак не соединяется с деньгами. Картины продаются за миллионы, а их авторы умерли в нищете – мы знаем множество таких историй. Я от денег никогда не сходил с ума. Не превращал это в спорт. Молодая поросль, банкиры занимаются деньгами, потому что это интересно: делать из денег деньги, вкладывать их в экономику, политику, куда угодно, это инструмент в любом деле. Мне в таком объеме деньги не нужны. Я ими не смогу распорядиться. При этом я никакой не бессребреник. Мне много всего надо. Мне нужен «мерседес», нужен дом загородный. И даже не потому, что я не могу без них обойтись. А потому что я столько отдал сил своей работе и столько сделал всего, что дало работу другим людям и удовольствие третьим, что это как бы само собой разумеется. У нас противное отношение к этому. Меня любят зрители, я не могу пожаловаться, но они больше любят меня в троллейбусе, в метро и пешком. Видя меня на «мерседесе», они говорят: хороший парень, но… Почему американцы гордятся, когда видят Тома Круза, Роберта де Ниро на замечательных машинах – а какой у премьера должен быть автомобиль, самокат, что ли? Мне нужны деньги для того, чтобы у моих девчонок все было. Если Ксюше, жене моей, или Саше, моей дочери, что-то хочется, у них это должно быть.
– Какую часть жизни занимает жена Ксюша?
– Большую. За годы жизни во мне процентов шестьдесят-семьдесят – это Ксюха. Она у меня умница невероятная. Родной человек. Не потому, что у нас дочь двадцати лет и она нас объединяет. Ксюха тоньше меня, точнее, талантливее, у нее лучше со вкусом, потому что она художник и потому что она женщина. Мы говорим про женщин, что они легкомысленны, вздорны, капризны. Это все не про нее. Это есть в ней ровно настолько, насколько требует ситуация. А в жизни она абсолютно умный человек. Она мой стопор и мой двигатель.
– А друзья какую роль играют?
– Никакой. Никакой роли они не играют. Просто мы из них состоим, вот и все. Если я на шестьдесят процентов состою из своей жены, то, может быть, остальные тридцать семь – их. Мои – три процента. Я обожаю Андрея Макаревича, Лёню Филатова, Сашу Адабашьяна, Сашу Иншакова… Они все разные. Но они все такие, что я хочу быть таким, как они. И с годами, так или иначе, у меня это получается.
– Когда вы кому-то помогаете, в том числе деньгами, скажем, Лёне Филатову, – это простые отношения?
– Не так много я ему помогал. Я, скорее, организовал что-то. Я бы вообще про это не хотел говорить. Дело не в деньгах. А в том, что в тот момент, когда я понял, что это такое… Лёня же болел-болел, а я ничего толком не знал. Давление. Нина говорила, что уже лучше, что были у таких-то врачей, что идет на поправку. Слава богу, что в ту секунду, когда мне показалось странным, что так долго идет на поправку, я вмешался в это… как метеорит упал с неба. Мы дружили, как дружат все. Работали в одном театре, он снимал кино, я у него не снимался никогда. Сплошные приколы. А потом я понял, что человек, который всегда шутил и прикалывал, уже не шутит и не прикалывает. Я упал, как с неба, и в течение нескольких дней поменял всю историю. Счастье в том, что вовремя. Еще несколько месяцев – и Лёньки бы не было. Все боялись кардинальных мер, что понятно. Лёнька не боялся. Я брал на себя ответственность, потому что был двигателем. Врачи мне все объяснили: надо удалить обе почки, один шанс из тысячи, что все кончится хорошо. Донорскую почку взять негде. Вот когда пригодилась популярность и любовь народная. Может, это и было самое большое мое счастье в жизни. Самая большая моя награда. Люди за границей даже за очень большие деньги ждут эту почку годами. А мне ребята достали ее за пять дней. Ради этого стоит быть популярным артистом. Не по мелочам… Хотя мелочи тоже доставляют удовольствие. Сегодня вот свет включил…
– Кому?
– Художнику Давиду Боровскому. У него в мастерской свет отключили. Он пришел, да не один, а с дочкой Твардовского. А никто этих лиц не знает…
– Вы – лицо своих друзей.
– Ну да. А я сказал, что вот при вас позвоню Чубайсу, он удивится моему звонку, но, уверяю вас, предпримет что-то, и полетят головы, так что давайте быстренько такого в грязных перчатках монтера, чтоб он включил свет, а потом будем разбираться. Так и сделали.
– Много на это уходит жизненного времени?
– А я его не жалею никогда. Для меня это в кайф. Ни с того ни с сего, отодвигая дела, поехать и включить свет – я думаю, это самое радостное.
– В вас больше человека частного или общественного?
– Частного. Я такой однополюсный магнит. Все, что меня волнует в жизни, это мое частное. Даже если касается каких-то общественных дел. Я никогда не буду делать это по убеждению другого человека. Это должно стать моим.
– Политикой интересуетесь?
– Политикой не интересуюсь по определению.
– А в какой стране вы живете?
– В стране, которая себя делает. Я устал от политики. Мы самая заполитизированная страна в мире, самая бездарная и самая безграмотная. При том количестве политической информации, которая обрушивается на наши головы, мы все равно самые необразованные. Американцы вообще знают только, кто их президент, и все.
– Они интересные люди?
– Мы интересны не из-за того, что политикой интересуемся.
– А из-за чего?
– Так земля устроена. Это талантливая земля и талантливые люди. Почему? Потому. Я не делаю из России исключение. Но если удельный вес талантливых людей сравнить, я думаю, мы будем на первом месте.
– В стране, которая себя делает, какое преобладает ощущение: тревожное, радостное, возбуждающее?
– Прошел все стадии. И прохожу, получая ту или иную информацию, как любой. Но мне это совсем неинтересно, потому что, как ни странно, это неважно. Самое страшное, когда вся страна начинает сопереживать какому-то событию, бросая все дела и участвуя в этом. Я делаю то, что я умею. И может, прозвучит совсем аморфно и аполитично, но мне, по большому счету, по фигу, коммунисты ли у власти, демократы или либералы. Я при всех буду делать то, что я считаю нужным. В этом есть и моя жизненная позиция, и моя жизненная правда, и моя жизненная польза. Не моя для меня, а моя для общества. Я считаю, что если люди науки, культуры, искусства уходят в политику, это от творческого бессилия. Когда здесь уже как бы потеряли стимул и не знают, что делать дальше, а там имеют вес, потому что их помнят по сделанному. Всякий раз уход нормальных людей, профессионалов в политику я считаю потерей государства и общества. Мне симпатичен наш президент. Я за него голосовал.
– А гимн нравится?
– А мне все равно, какой гимн. Мне нравится гимн, который ассоциируется у меня только с одним – с победой в Отечественной войне. И другую музыку в мою голову уже не вставишь. А слова – слов же никто не знает. И когда наши спортсмены выигрывают и играют та-ра-та-ра-ра-ра… – мы победили.
* * *
Актер Леонид Филатов и художник Давид Боровский тогда были еще живы…
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ЯРМОЛЬНИК Леонид, артист.
Родился в 1954 году в Приморском крае.
Окончил театральное училище имени Щукина. Играл в театре на Таганке.
Снимался в фильмах «Без права на ошибку», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сыщик», «Пеппи Длинныйчулок», «Человек с бульвара капуцинов», «Московские каникулы», «Операция “С новым годом”», «Барак», «Мой сводный брат Франкенштейн», «Трудно быть богом» и др.
КНУТ В РУКАХ У ПРЯНИКА Александр Ширвиндт
Мы перешли на ты в течение минуты. Формально познакомились недавно, но ведь сколько лет одна Москва, одна среда, одни люди, вместе пришли, примерно вместе уйдем – само собой является чувство родства.
Александр Ширвиндт. Стоит произнести имя – и рот до ушей. Производитель веселья – его амплуа. В «Книге воспоминаний» он объясняет, почему не празднует юбилеев: «Я не мыслю себе юбилея, на котором юбиляра не поздравляли бы Ширвиндт и Державин». Читала книгу – слезы наворачивались на глаза от смеха.
В разговоре – неожиданный Ширвиндт. В противофазе к облику, который сложился, вышел такой грустный человек…
* * *
– Как ты себя чувствуешь, как здоровье? Жалуешься на что-нибудь?
– Здоровье у меня плохое, потому что очень много лет неожиданно настало. В секунду почему-то. Я не ощущаю себя на эти годы в голове, а коленки не ходят. Был на рыбалке, привезли друзья, друзья тоже не самые свежие, но все-таки лет десять-пятнадцать разницы. Там сход вниз к озеру. Такой обрывчик. Они туда-сюда, а я туда ссыпался, а назад не могу подняться.
– Это с курением связано, с сосудами?
– Это связано с 1934 годом рождения. А так ничего. День на день не приходится.
– О прошедшей молодости не сожалеешь?
– Не просрал ли я ее? Или что?
– Что ушла.
– Нет.
– А не просрал?
– Наверное, просрал.
Из книги: «В разгар веселья я стал тихонько пробираться на выход. А в тот момент как раз уводили Олега. Он уже не мог долго без кислородной машины. Мы столкнулись в холле. Он подошел, обнял меня, буквально повис на плечах и говорит: “Мы просрали нашу с тобой биографию, Шура”. И ревет. И я реву. Так вдвоем и стоим. Через месяц его не стало».
Олег – Ефремов. Стало быть, реально можно состояться на триста процентов, а то, что у человека внутри…
– С годами приходишь к выводу, что люди, упертые во что-то одно, в какую-то одну глобальность, профессиональную, идеологическую, любую, зашоренные на своем деле, выигрывают. Если говорить о нашей шершавой профессии, взять того же Эфроса, или Плучека, который не знал даже, с какой стороны ставится камера, настолько они были углублены в свое…
– Ты считаешь, они оказались в более выигрышной позиции, чем…
– …чем те люди, которые мечутся. Не мечутся, а которым все интересно. Мне все интересно.
– Мне кажется, наоборот, когда видишь, сколько упущено – не пропутешествовано в ту сторону, не рассмотрена картина, книги не прочитаны, которые уже не будут прочитаны…
– Ты говоришь о житейских делах. А я – о профессиональных. На телевидении работал, передачи делал, на эстраде работал, ученики были, в училище работаю, в театре работаю, в кино снимаюсь. А если тупо капать в одну точку – уходишь дальше, наверное. Сейчас я так думаю.
– Есть состояние неудовлетворенности?
– Некоторой умозрительной итожности, что ли.
– Мысль: что я после себя оставлю?
– Нет. Ни в коем случае. Сейчас, в этом дыму, разве можно что-то оставить? Чихнешь – и неизвестно, где кто. У вас в «Комсомолке» был анекдот: работник крематория чихнул на рабочем месте и теперь не знает, где кто. Сейчас эпоха так чихнула на наше поколение, что где кто, совершенно неизвестно. У многих такая старческая агония, погоня за старческой творческой эрекцией. Я наблюдаю это повсеместно, даже у своих друзей. Дико боятся исчезнуть. Некоторые смирились, сидят, удят рыбу, растят кабачки. Может быть, они внутренне содрогаются. А есть люди нашего возраста и постарше, которые просто, как у Есенина, «задрав штаны, бегут за комсомолом». А с другой стороны, был тезис, что «коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым». Если вместе составить – получается сегодняшнее. Я к этому отношусь спокойно, но констатировать должен.
– Что пришло на смену молодому ощущению жизни?
– Ощущение, что я не вписываюсь. Я прикидываюсь иногда, что вписываюсь. Иногда я пыхчу, что ай-яй-яй. Но мне интереснее было бы вписаться. Не получается.
– По каким параметрам не получается?
– Очевидно, по тем же – мировоззренческо-возрастным.
– Чего-то не принимаешь?
– Я, например, совершенно не ханжа, я славлюсь как очень опытный, крупный и классический матерщинник. Говорят: если материтесь, то как Ширвиндт, потому что он делает это артистично. Я всегда говорю, что не ругаюсь, а разговариваю на родном языке. Поэтому где бы я ни был, если чужая компания, я присматриваюсь, начну тихонечко с жопы, проскочило – потом пошло. Везде, вне зависимости от возраста и ранга. Но когда я смотрю моего жанра телевизор под фамилией «Комеди Клаб» и вижу этих настырных, нахальных, совершенно раскрепощенных балаболов, с патологически подвязанным языком, где бесконечно анал-орал, омлет… я тебе сейчас сделаю омлет из двух яичек… И баба – переодетый мужик. Все это необаятельно, противно, нахально и безнадзорно!..
– Как различить, что это не от зависти к ним? Когда мы были молодые, нам тоже казалось, мало ли что там старики говорят, вот мы скажем, а они уже отработанный материал. Как ты в этом смысле распоряжаешься собой?
– Нравится – не нравится. Я не могу это анализировать с точки зрения этики, эстетики, театроведения или сегодняшней телевизионной конъюнктуры. Я смотрю абсолютно обывательски: нравится – не нравится. Я сегодня летел из Питера в семь утра. Сидел в «виповском» зале в Пулково в шесть утра. Кроме меня сидела компания бизнес-класса, человек пять. Крепкие ребята с кейсами, с четырьмя одновременно рассованными в разные карманы телефонами. Там стоит телевизор и идет повтор «Комеди Клаба». Ужас какой-то. Этот грязный понос они несут, и эти все пять человек уссываются!..
– Значит, не вписываешься…
– Нет. Хотя я совершенно не классная дама. Я понимаю, что дух времени, вкусы времени. А что делать, непонятно. Это ужасно. Катится дальше и дальше. Ах, свобода! Вот она. Все-таки в цензуре есть корень – ценз. Ценза сегодня нет. Помимо, как ты помнишь, цензоров были редакторы, которые кроме всякой антисоветчины смотрели уровень…
– Иные еще старались пропустить антисоветчину, следя только, чтобы был достаточно эзопов язык…
– Даже если взять чистую юмористику или сериалы – где редакторы?
– Потрясающе услышать это от тебя. Я понимаю, какой-нибудь пуританин по природе… но ты, веселый мужик, и ты это воспринимаешь трагично!..
– Я очень трагично воспринимаю. Я всю жизнь был на всех этих юмористических делах, «капустниках» наших знаменитых, всегда на грани фола, и по линии каких-то социальных дел, и по линии пикантностей. Но есть же рамки. И потом, все зависит от обаяния и от таланта. Без обаяния невозможно это делать… Думаю, что я выражаю не только свое настроение. Многие делают вид, что этого нет. Но чего прикидываться-то? Когда отторгает многое. Когда по телевидению милый ведущий говорит: «Совершен очередной теракт. К счастью, погибло всего три человека». К счастью!
– У тебя всю жизнь реноме сибарита. Как тебе удавалось это в стране, где сибаритство никогда не было в моде, в моде были желчные или разочарованные, с одной стороны, с другой – целеустремленные карьеристы, и вдруг такая свободная поза…
– Если говорить серьезно и честно, некоторый элемент вынужденной беспринципности преследовал меня всю жизнь. У меня была масса друзей – так называемых диссидентов. И была масса друзей из противоположного лагеря, люди, которые мне помогали.
– Кто из диссидентов?
– Взять альманах «Метрополь» – это мои друзья. Но все равно я не был «ихний» стопроцентно. В клане я не был. Это не значит, что я трус. Хотя трусость – основная наша защита. Старость – это же в основном трусость. Я очень боюсь. Боюсь за своих близких. Боюсь случайностей для друзей, детей, внуков, собак. Боюсь выглядеть старым. Боюсь стать обузой. Не финансово… «Наше все» написало очень правильно: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог…» Раньше, когда я был молодой, я считал, что это преамбула и все. Сейчас я понимаю, что это самое главное, что есть в этом произведении.
– Молодой Пушкин угадал…
– Гений. Все-таки гений, как ни крути.
– А смерти ты боишься?
– Абсолютно я не боюсь смерти. Боюсь умирания постепенного. Я боюсь, что придется хвататься за что-то и за кого-то…
– Вернемся к сибариту, о грустном успеем.
– Ну какой я сибарит… Я человек простой, я люблю вареный лук, шпроты, в гараже на капоте с чмурами чекушечку раздавить, потрепаться о задних мостах. Все эти нынешние куверты, полные собрания сочинений меню когда мне приносят, у меня начинается просто изжога изначально. Я уверен, что у этих дебилов-нуворишей все – понты. Понты – особняки: не знаю, что делать на четвертом этаже… У меня один знакомый, чуть младше меня, но уже с четырьмя инфарктами, одышкой, построил дом, шесть лет там живет и никогда не был на втором этаже. Он туда не может подняться. А их четыре у него. Почему? Потому что рядом трехэтажный – значит ему нужно выше. Это психология абсолютной неподготовленности к богатству.
Из книги: «Сегодняшняя жизнь – кровавое шоу с перерывами на презентации и юбилеи. Звонят: “Завтра у нас большой праздник, круглая дата – три года нашему банку”. И я понимаю, почему они празднуют: боятся, что до пятилетия не доживут – или накроются, или их всех пересажают».
– Этап, который мы пройдем? Или, как в болоте, так и застрянем навсегда?
– Все очень плохо. Сколько настроили, наворовали, воткнули, и как это все выглядит для людей?..
– Народ взбунтуется?
– Не народ… Счастье сегодняшнего времени, что не появился еще ни Раскольников, ни Ленин, ни Сталин. Как только возникнет… Сейчас пока только фарс. Если бы человек таланта лицедейского Жириновского был бы не просто мыльный пузырь… Счастье, что пока этого нет. Ребята молодые ничего не знают из истории. Поступает в театральный институт мальчик. Его спрашивают: кто был Ленин? Ответ: Ленин был президентом. Это не анекдот. Его спрашивают: а кто был после Ленина? Отвечает: Борис Годунов. Это на полном серьезе. Понимаешь степень чистоты?..
– Не москвич?
– Москвич. Замечательный «левый» ребенок, закончивший школу, поступавший в театральный институт, которого надо было провести… У нас институт при театре Вахтангова. Туда пришел артист Юра Яковлев. Это было лет десять назад. Он никогда в училище не преподавал. И вся эта шпана шквалом бегала, сметая его, задевая ногами, а он сидел, ждал кого-то в вестибюле. Я собрал курс и начал орать: у нас был артист Астангов, и когда он шел мимо, мы сбегались смотреть на него, а вы… Яковлев – великий артист, такой же, как Астангов, а вы ничего знаете!.. Одна смешная толстая кретинка-студентка, она сразу начинала плакать, как только ей что-то говоришь, и вот она плачет: вы сердитесь, а сами нам ничего не рассказываете, почему вы не рассказываете нам о своих встречах с Мейерхольдом?.. Ну?! Почему я не рассказываю о встречах с Мольером? Я же не Радзинский, который встречался с Марией-Антуанеттой, с Распутиным. Или Виталий Вульф, который всех знал в лицо…
– А почему твои студенты тебя обожают?
– Во-первых, я хороший.
– Что значит хороший?
– Я терпеливый, не вредный. Я очень хороший педагог. Лучше всего, что я делаю, я делаю как педагог. У меня замечательные дипломные спектакли.
– Когда ты начал как педагог?
– С 57-го года. Ровно пятьдесят лет. Я в 56-м закончил Вахтанговское и в этом же году остался там преподавать. При этом я получаю удовольствие. Хотя это бесплатный труд. Наоборот, доплачиваешь сам – подкормить их там или что… Но от них исходит такой азарт! Сидишь – глаза молодые, идиоты и все такое… Это некоторый вампиризм – педагогика. А когда у меня спрашивают про учеников, и начинаешь говорить: Пороховщиков, Наташка Гундарева, Андрюша Миронов…
– Да неужели! Они же и друзья… Скажи, а как тебе удалось всю жизнь быть другом своих друзей, и прежде всего Миши Державина?
– Не одного Державина – их много. Было. Сейчас все меньше и меньше.
Друзья – Андрей Миронов, Григорий Горин, Зиновий Гердт, Александр Володин, Эльдар Рязанов, Маргарита Эскина, Белла Ахмадулина и Борис Мессерер, Фазиль Искандер и многие, и многие.
– Друзьями надо заниматься. Заниматься ими надо, а не просто дружить.
– Что значит заниматься?
– Их надо веселить, кормить и одаривать. Быть ответственным, заботиться, помогать…
– Больницы?
– Бесконечные больницы, телефоны, квартиры, врачи, связи… Это первое. И второе: их надо уметь слушать. Я очень умею слушать. Друзья, особенно знаменитые, – это же монологи о себе. Он может позвонить, сказать: ну как ты, что ты, а я… И дальше можно класть трубку и на час уходить по делам: там идет развернутый монолог – о себе. Кто-то для приличия, может быть, минуту-две тебя послушает, а дальше с нюансами, подробностями – о себе… Это очень выгодная история для друзей, когда есть такой, как я, кому можно говорить и его не перебьют. И потом я – могила. Когда я читаю современную мемуаристику, особенно про то, где я был… о! Если все, что я знаю, взять и написать, это будет… Но я же не стану этого делать.
– Мама с папой так воспитали?
– Никто не воспитывал. Я вообще считаю, что все разговоры о воспитании – полная туфта. Все, что заложено в ночь любви или случая, то заложено, и в конце концов вылезет существо…
– А кто у тебя папа с мамой?
– Очень скромные, хотя интеллигентные люди. Мама работала редактором в филармонии. Я же еще скрипач! Дома у нас бывали все великие, разножанровые, и дирижер Флиер, и певица Обухова, и Рина Зеленая, и Дмитрий Журавлев, и Качалов. Я с молоком отца всосал великое. Между нами говоря, я ни разу в жизни никуда не опоздал при всем сибаритстве. Это не потому, что я хороший, это патология. Никуда не опаздываю. И обязательность. Казалось бы, не нужно. А вот нужно. Почему я так трудно сижу в этом кресле…
– Почему?
Из книги: «У настоящих худруков есть внутренняя стратегия поведения: “кнутом и пряником”. К этой позиции многие мои друзья призывали и меня. Я согласно кивал и даже пытался, но увы. Когда кнут находится в руках у пряника…»
– Чтобы в театре все было нормально, надо, чтобы, как всегда говорил Гончаров, каждой твари по паре…
– Для равновесия? Об актерах говорят: террариум единомышленников…
– Это я сказал. На десятилетии «Современника».
– Правда? Я считала, народное выражение…
– Это образное сравнение. Преувеличение, конечно. Мне их жалко. Сейчас я сталкиваюсь повсеместно – на рыбалке ли, на телестудии, в театре, в институте: в человеческих взаимоотношениях выхолощена доброта как чувство, как категория. Деловое сотрудничество, снисходительные взаимоотношения, но душевность выхолощена совершенно. И это все зависит от бесконечного ящика, который капает на мозги. Но злость – абсолютно бессмысленная история. Театр – это настолько раскрытые нервы… Особенно сейчас, когда такая беготня, когда порванная штанина или смерть воспринимаются с одинаковой степенью глобальной эмоции. Открытые темпераменты. И потом, с мозгами неравноценно у артистов… Мне их жалко. Я не могу понять, почему они сидят в песочнице, все такие прелестные, и почему через пятнадцать-двадцать или сорок-пятьдесят лет из них вырастают монстры! Вот муравьишки – какие есть, такие есть. Цивилизация муравьев значительно древнее, чем человеческая. Мудрее, точнее правильнее. А здесь из прелестных, совершенно наивных…
– В чем же дело?
– Я думаю, в обстоятельствах. Обстоятельства сделали такими. А все равно жалко их.
– Сколько лет ты во главе театра Сатиры?
– Шесть. Это много. Президентский срок. Нам с Владимиром Владимировичем надо уходить вместе. Одновременно кончаются договоры. Но в театре перевыборов быть не может. Вот столько лет я отдал этому сараю, что сейчас зажмуриться и послать это все элементарно… А завтра придет какой-нибудь западный режиссер прибалтийского разлива, и это все накроется медным тазом. И что делать? Сидеть на речке? Ну день, два, три. Потом в жопе засвербит, потому что мотор-то заведен. Старые ходики, но все равно. Тут есть какая-то ответственность. Вот у Юрия Петровича Любимова юбилей – девяносто лет. Молодец-огурец. Там, конечно, Катя. У Любимова Катя, у Рязанова Эмма, люди, которые не дают стариться…
– А у тебя Наташа. Ты запретил мне спрашивать про женщин, но разговор сам на эту тему вышел. Что такое Наташа в твоей жизни?
– Не для прессы: в будущем году де-факто будет пятьдесять. Золотая свадьба. Де-факто, потому что де… больше. С девятого класса.
– Так не бывает!
– Так не бывает. Школьная любовь, которая обернулась катастрофой. Это уже концерн. Прелесть этого существования – когда я ставлю ей в пример Эммочку, Катю как движителей жизни, а она толком не знает, где я работаю. Я условно говорю. С одной стороны, завидно, когда человек знает, советует. А с другой, можно сойти с ума, если бы каждый раз шло такое суфлерство. Лучше где-то посередке.
– У тебя не посередке?
– Тата – самостоятельный человек. Сейчас растит внуков и собак, а вообще была довольно известный архитектор. Она все ныла: хватит, хватит. Тогда я сказал: если научишься делать фаршированную рыбу, можешь уходить на пенсию. Она пошла к своей подружке, научилась и сейчас, по-моему, единственная в Москве, кто умеет делать фаршированную рыбу, и когда приходят зажравшиеся гости, единственное, чем можно их удивить…
– Мой муж умеет делать фаршированную рыбу.
– Да ты что! По-настоящему?
– По-настоящему. Когда Арбузов поел его рыбы, сказал: это даже лучше, чем в ЦДЛ.
– У меня сейчас полный холодильник карпов. Я же ловлю карпов. Она их морозит. И всю зиму мы едим. Сейчас доедаем прошлогодних карпов.
– Ну и под конец: какой главный жизненный урок ты извлек?
– Конкретных заповедей нет. Есть параметры… Сейчас кругом человеконенавистничество. А я считаю, человек должен быть изначально человеколюбив.
– С самим собой разговоры существуют?
– Иногда ночью, когда бессонница.
Из книги: «Упоение собственной уникальностью не является страховкой от ночных кошмаров…
Если без позы, для меня порядочность – чтобы не было стыдно перед самим собой в районе трех часов ночи».
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ШИРВИНДТ Александр, актер.
Родился в 1934 году в Москве.
Окончил театральное училище имени Щукина. Был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола, играл в спектаклях Анатолия Эфроса «Чайка», «104 страницы про любовь», «Снимается кино». Вслед за Эфросом перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной. Был занят в постановках «Счастливые дни несчастливого человека», «Ромео и Джульетта» и др. С 1970 года – в театре Сатиры, который теперь возглавляет.
Снимался в фильмах «Майор Вихрь», «Еще раз про любовь», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Вокзал для двоих», «Аплодисменты, аплодисменты», «Зимний вечер в Гаграх», «Миллион в брачной корзине», «Забытая мелодия для флейты» и многих других.
Преподает в «Щуке».
Народный артист России. Награжден Орденом дружбы народов.
Жена – Наталия Белоусова, архитектор.
Сын – Михаил Ширвиндт, актер, телеведущий.
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ Армен Джигарханян
Добиралась к нему, в его театр, на метро.
В кабинете – фотография, где он и Фил.
В жизни он такой же, как на экране, – серьезный, печальный, с искорками смеха в глазах. Обаятельный.
* * *
– Вы на метро ездите?
– Езжу.
– С каким чувством смотрите на указатель в метро: Театр Армена Джигарханяна?
– Никаких чувств.
– Ни радости, ни гордости?
– Театр – по-настоящему такая бездна, особенно если ты должен отвечать! Для легких чувств места нет.
– Вы говорите про себя, что вы клоун. А что значит быть клоуном?
– Это значит найти определенную интонацию, определенное отношение к жизни, способ говорить правду. Назидательность, в моем представлении, не подходит искусству. Сказать с важным видом: жизнь прожить – не поле перейти… это ерунда. Так же как, скажем, социальные мотивы. Это другая область. А то, чем занимается искусство, – раз, и схватить за нос.
– Эмоцией?
– Желательно эмоцией. Своей. И вызвать эмоцию у другого. Сомерсет Моэм сказал, что искусство – это половой акт со всеми вытекающими отсюда последствиями. И я повторяю за великим Моэмом, что он прав.
– Я клоун, я шут – в театре. А в жизни тоже?
– Это не наше с вами дело. Какой я в жизни, я не знаю. И кто это сделал, я не знаю. Не хочу знать. Совсем меня не интересует.
– Не интересует, кто сделал человека?
– Абсолютно.
– Вы играли в спектакле «Трамвай “Желание”». Там был человек. Вы играли Сенеку в спектакле «Театр времен Нерона и Сенеки». Играли Сократа. Звездные ваши роли. Они вас интересуют?
– Интересуют. Я играл человека. Но не знак. Что, мол, это великий философ… Или актер… Мы сейчас выпустили «Гедду Габлер». Я еще раз прикоснулся к великой драматургии. Удивляться особо нечему – над Ибсеном стоит Чехов. Это две величины – Шекспир и Чехов. Все остальные родились оттуда, из них. Мы с вами знаем, что есть тридцать два сюжета и восемь или десять типов человеческих. Но как они поступают в тех или иных обстоятельствах – вот где бездна.
– Я зайду с другого бока. Я слышала историю о том, как началась ваша любовь с женой Татьяной, будто когда вы встретили свою будущую жену, то не вы, а она была инициатором…
– Это неправда.
– Неправда? Якобы она сказала, что ей скучно, и вы посоветовали ей влюбиться. А через какое-то время она пришла и сказала: вот я влюбилась. В кого? В вас. Означает ли это, что она была ведущей, а вы были ведомым, или…
– История красивая. Может, и был такой разговор. Но я думаю… Знаете, в психиатрии лидер называется преследователь. Мы с вами будем понимать это широко, не так, что это тот, который бьет по голове. Нет, он по идее направляет туда, куда ему нужно. А форм – бесконечное количество. Бернард Шоу сказал, применительно к театру, что слово да можно записать только одним способом, а произнести – миллион интонаций.
– Я не спрашиваю, кто был лидер…
– Я. Я неустроенный был. Я. Это тяжелый рассказ. Потому что у Тани была семья. Я разбил семью. И даже до сих пор эта рана где-то кровоточит. Хотя прошло сорок два года.
– Вы прожили сорок два года с одной женщиной – это что-то значит!
– Как только вы, как человек со стороны, возьметесь судить об этом, вы обязательно совершите ошибку. Потому что в отношениях двоих такие разные вещи задействованы! Я, например, говорил, и даже мою жену Таню обидел этим, что не знаю, что такое любовь. Я знаю, что такое ответственность. Есть библейское определение: вы в ответе за тех, кого приручили…
– Это Сент-Экзюпери сказал.
– Это Соломон сказал изначально. Но мы любим Экзюпери, пусть будет Экзюпери. Я хочу сказать, что выводить какую-то формулу, даже при благих намерениях, невозможно.
– Но чувство любви на протяжении жизни от молодости к зрелости менялось?
– Обязательно.
– Как?
– От биологического, физиологического – к чувству ответственности. Вот говорят: жалеет. Это близко к чувству ответственности. Это для меня важнее. Чувство вины входит в «жалею». Потому что недодал.
– А восторг любви?
– Обязательно. Но я же говорю, это такое биологическое чувство. Немножко потребительское. Не главное. Если бы встал вопрос выбора, я бы выбрал чувство ответственности… Причем, хочу я этого или не хочу, я себя соразмеряю с природой. Я убежденно говорю, что в нас во всех самое сильное – это животное, природное. Я как актер это знаю. Инстинкты и запахи. У армян есть хорошее выражение: дырка носа. Дыркой носа вы ощущаете. Я много раз, имея на это право и возможность, задавал великим людям, причем разных профессий, вопрос: почему ты так решил? Ответ: интуиция. Я спрашивал выдающихся хирургов, людей науки. У меня друг, крупный ученый, академик, лекарства придумывал. Я спрашиваю: как? Не знаю. В актерской жизни то же самое. Единственно: дыркой носа. Потому что я – животное. Вот похолодело что-то… вот горячо…
– Но насколько я знаю, вы человек очень размышляющий…
– Это ничему не мешает.
– Животное не размышляет.
– Размышляет. Еще как. Натурально размышляет. А не выдавливает из коробки своей. Мы же совершаем здесь, в головном мозгу, трагические ошибки. Когда подбегает цунами, собаки и кошки чувствуют. Но мы ведь тоже получили сигнал, а мы говорим: нет, это северный ветер, он переменится на южный. И хрясь по голове. Беда. В актерской профессии, я убежденно это говорю, потом, когда уже сыграно, я думаю: подожди, может быть, мне с этой стороны подойти. Но изначально это моя эмоция. Животная эмоция.
– Я знаю двух актеров, которые умели играть интеллект, ум, мудрость, умели молчать на сцене как никто. Евстигнеев – потрясающе играл интеллект. И вы.
– А вы знаете, что обожаемый мною Евстигнеев был неумный человек? Более того, в этом его сила. Потому что рассудок не мешал ему. У меня со старостью появились нелюбимое мною качество – раздраженность. Я репетирую с нашими актерами и начинаю раздражаться, когда не отсюда, не из нутра идет. Я ему рассказываю, пошлости говорю, матом ругаюсь, чтобы вызвать у него эмоцию. Говорю: он вот что хочет – сорвать с нее колготки. Ничего, не работает. Если бы не опыт, не знание, можно отчаяться. И я вижу молодых – они отчаиваются.
– А вы? Никогда?
– Отчаиваюсь.
– А что вы делаете, когда отчаиваетесь?
– Нет такого одного пирамидона. Надо проникнуть туда, внутрь, в характер: кто такой, что это, почему так. Есть очень хороший совет, которому я научился у Марка Захарова. Он говорит: спроси свой организм. Вот я репетирую и говорю: что здесь играть, не знаю, спроси свой организм, поковыряй там.
– И как вы это делаете?
– Как я вам могу рассказать, какое место я ковыряю! Это невозможно. У меня был великий учитель институтский в Ереване – Армен Карапетович Гулакян. Около пятидесяти лет назад мы что-то репетировали. И я говорю: помните, в такой-то картине Вася вошел, Петя ушел. Он слушал, потом говорит: да, это очень хороший пример, но, может, попробуешь какой-то пример из жизни? В искусстве – из жизни. Я тогда не понял, а теперь я знаю, что лучше, чтобы меня задело что-то из жизни. И еще мой гениальный учитель рассказывал, как приехал в Тбилиси ставить какую-то мелодраму в армянском театре. Там старик, мудрец-артист играет хозяина дома, у которого слуга. И я, говорит, работаю с этим артистом и рассказываю про то, что еще Спартак, будучи рабом, любил свободу и поэтому восстал. Рассказывал часами. Потом приводил Фрейда, что он сказал… а тот на меня смотрит, говорит, и ничего. Наконец, этот старик-артист сказал: можно я с ним поговорю? Пожалуйста. Иди сюда. Значит ты мой слуга, ты употребляешь мою жену очень крепко, но меня боишься, как видишь, сразу обкакиваешься. Понял? Да. Можешь сыграть? Да.
– Живое. Смешно.
– Я много раз… меня всегда интересует, и я спрашиваю… я космонавтов спрашивал, что там на самом деле. И всегда мне отвечали, что боялись, там же страшные вещи, мы же с вами не знаем, как люди оттуда кричали: я умираю! Представляете, если бы им с Земли отвечали: ты учти, Н2О – формула воды… Или кричали отсюда матом: сука, только попадешь на Землю, убью тебя!.. Вот эти чувства и преодоление этих чувств и есть театр. И оказывается, память настоящая, если ты ее не насилуешь, что мы часто делаем, она вовремя выдаст информацию, может, самую тяжелую, самую страшную. Иногда меня ошарашивает: откуда она пришла, эта память, почему такие задеты нервы…
– Я тоже, как ваш учитель, спрошу: не можете из жизни пример привести?
– Нет, не расскажу. Я размечтался сделать «Дядю Ваню». Читаю и потом думаю. И занимаюсь своеобразным спиритизмом – духи вызываю.
– Чьи духи?
– Дух мамы… Как дочку хороню…
– Самые страшные минуты жизни…
– Конечно, а боль откуда у меня? Отчего у меня боль? Что меня до сих пор задевает? Как в стоматологии, когда у вас не убит нерв.
– Много таких неубитых нервов в жизни?
– Много. И все они болят. К сожалению, такая память – лучшее питание актера.
– Вытаскивать всякий раз из себя боль в роли – так же можно сдохнуть. Как восстанавливаться?
– Если честно, это организм восстанавливает. Опять приходят на помощь физиологические потребности. Говорю вам самое трагическое. Когда хоронили мою дочку… рассказывать это невозможно… Это было 24 декабря. У меня ноги отморозились. Уже не похороны, ничего… я выл от этой боли… Если мы подумаем, то увидим, что иногда желание пописать поднимается над всем – иначе лопнет мочевой пузырь…
– Сколько было лет вашей дочке?
– Двадцать семь.
– Простите, что спрашиваю… что-то случилось?
– Она отравилась. Случай. Не болезнь, ничего.
– Не самоубийство?
– Нет. Двадцать с лишним лет прошло..
– А как Таня перенесла?
– Это не Танина дочь. У нас с Таней нет общих детей.
– У вас были другие романы?
– Это не роман был, а жена. До Тани. Актриса в Ереване. Иногда мне кажется, что этого периода жизни у меня не было. Я серьезно говорю. У меня психика очень здоровая, я с ума не схожу пока. Но иногда я хочу восстановить лицо, какую-то деталь, и не могу. Уже умерло…
– А чем актер отличается от обыкновенного человека?
– Вот обостренным этим чувством. У меня был приятель в Армении, актер, его уже нет, у него были адские головные боли. Ничего не могли найти. Привозили в Москву, в Петербург. Совершенно случайно нашелся один хирург, который знал, в чем дело. Выяснилось, что у него в носу нервы обоняния очень обострены. Почти как у собаки. Информация поступает, а голова не справляется, потому что голова человека, а нюх собачий. Ему это вытравили, и он стал человек. Вот я думаю, актер – с таким чутьем. Или еще сравнение. Нормальный человек реагирует на восемь-двенадцать информационных сигналов в секунду. А у летчика сверхзвукового самолета этот показатель – тридцать. Как только он падает меньше тридцати, летчика списывают. Я думаю, хороший артист – у которого эта цифра больше.
– А почему вы себя списали?
– Я не списал.
– Вы же не выходите на сцену.
– Потому что мне физически трудно играть. Я начну давать брак. От меня уже дети не будут рождаться. Я буду делать вид, что они еще рождаются, а уже нет. Мы все время стоим перед желанием и умением…
– Сначала желание опережает умение, потом умение есть, а желания нет.
– Вот вы эту формулу знаете. Но еще долго сохраняется желание не согласиться, что наши желания и умения больше не совпадают. Тут и наступают смешноватые вещи.
– Не хочется быть смешным?
– Я за других не думаю, но смотрю на кого-то: может, не надо было этого делать? Я все равно продолжаю жить как актер. Я продолжаю жить. Я читаю что-то – я продолжаю играть. Я по телевизору смотрю что-то – я включаюсь в это. Мой организм не умер. Но он перешел в режим без деторождаемости…
– Шут, клоун и мудрец – как соединены?
– Абсолютно один и тот же человек. Если мудрец – это тот, кто говорит умные слова, то это скука смертная. Переходить улицу только по «зебре»… Ерунда собачья. Я всегда вспоминаю письмо Лики Мизиновой Чехову. Уже к концу жизни она написала: я так и не поняла, вы любили меня или издевались надо мной. Вот и все. Вот это. Настоящее – это. Причем боюсь, что он сам не понял. Если бы таблица умножения была главным достижением человечества, мы бы жили все почти как эти…
– А какое главное достижение человечества?
– Хаос. Вдруг. Получится – получится, а может быть, не получится.
– А в вашей жизни план играл роль или случай?
– Случай. Никаких планов я не составлял, что вот приеду в Москву… В основном были желания…
– Которые чудесным образом воплощались.
– Да. Я иногда думал что-то сделать, а потом быстро терял интерес: да ладно, не надо. Какая-то проблема с картиной – давайте пойдем к начальству. А шел туда – думал: а, не надо, получится – получится, не получится – не надо.
– Выходит, что не вы строили свою жизнь, а вас кто-то вел?
– Вот вы опять требуете от меня: кто-то вел. А потом спросите: а кто это? Я скажу: не знаю. Запах.
– Дырка носа?.. Вы не честолюбивый, не тщеславный?
– Очень тщеславный. Но это опять же такое удовлетворение физиологических потребностей. Я вам говорю честно. Да ты что, народного СССР мне дают? Как интересно!.. Через пять минут мне уже неинтересно. Если у меня зуб болит, это хуже. Если желудок плохо работает, это проблема.
– Вы органичный человек.
– Животное. А так, что вот на съезде меня выберут или не выберут… Причем не то что я буду: нет, даже не подходите. Ради бога. Меня несколько раз в Думу толкали разные команды. Соблазняли, что будет зарплата пятьдесят восемь тысяч, машина все время стоит и так далее. Не могу сказать, что я не захотел бы иметь пятьдесят восемь тысяч и чтобы машина всегда стояла. Но как-то мне стало скучно. И я подумал: надо же куда-то ходить. А так я в любую минуту звоню и говорю: я очень заболел. Неохота мне. А туда не смогу не поехать. Испугаюсь, что меня посадят. Я имел возможность выйти на очень высокий уровень. Мне сказали: вот через пять минут ты можешь свою судьбу решить до конца жизни. Но ведь что-то потребуют взамен!
– То есть чем я заплачу…
– Ну да. Вам надо поехать в Монино… Нет, сегодня в Монино не могу. Один раз не могу, второй раз не могу, в третий выгонят или посадят.
– У вас образовался домик в Америке. Как это случилось?
– Элементарно. Моя жена Татьяна занялась английским языком. Окончила двухгодичные курсы английского при институте Мориса Тореза для дипломированных специалистов.
– А она кто по профессии?
– Она актрисой была, потом театроведением занималась. Потом стала моей женой. И один мой друг, который живет в Техасе, а мы дружим еще по Еревану, как-то звонит и говорит: в Америке интерес к России, и при университете в Далласе открывается кафедра русского языка, и наша Таня, говорит он, прямое попадание, потому что она русский знает великолепно и знает английский. Она приехала, год или два прожила, ей хорошо было. Потом они поняли, что, извините за выражение, фраернулись с Россией, и кафедру русского сменили на кафедру китайского. Они же очень гибкие. А Татьяна осталась, там ей понравилось. Более того, и мне понравилось, потому что летом я еду туда на два месяца, гуляю…
– А она купила домик?
– Не купила. Это домик нашего друга, который сам живет в Далласе. А домик находится в городе с красивым названием Гарланд. Мы раньше полюбили Америку, когда бывали в гостях у нашего друга. И я до сих пор очень люблю Америку.
– За что вы любите Америку?
– За высокую культуру быта. Я объездил весь мир. В Японии вообще можно свихнуться, потому что такого не может быть. Но Америка – это другое.
– Другие отношения человеческие?
– Оттуда все и идет. Потому что злых людей мало. Они выработали некую мораль…
– У них реальный демократизм…
– Но вы должны знать, что демократия держится на двух великих вещах. Это нравственный закон и юридический. Истинная демократия – это нравственный закон, они боятся Бога, и даже умные боятся, и юридический закон, которого тоже боятся.
– Вы любите путешествовать?
– Очень. Одно время мы с Татьяной ездили по Америке. Машину брали и ездили. Сейчас устаем. Мне там хорошо. Я вольный человек.
– Тем не менее вы туда не уезжаете?
– Языка нет у меня. Значит, заработка нет. А на что я буду жить? Моя жизнь здесь. Но у меня нет ностальгического чувства родины. Мне всегда там хорошо, где мои люди, где я пригрелся. Так не бывает, что я ночью вою. Не было такого у меня. Фактически я эмигрант же. Я сорок с лишним лет живу в Москве.
– Эмигрировали из Армении?
– Да. Своего отца я впервые увидел, когда мне было двадцать девять лет. У меня семья была: я и моя мама. Больше никого.
– У вас с мамой была большая любовь?
– Счастье мое в том, что моя мать научила меня жесткости, юмору. Она невероятного юмора и плакала крайне редко. Она так разыгрывала моих друзей, они не могли догадаться, что она их за нос водит. Она потрясающая была. Меня спрашивали: в кого ты пошел? Моя мама всегда говорила, что в ее отца. Говорят, он был профессиональный тамада в Тбилиси. Потрясающий человек. Стихи писал, будучи абсолютно неграмотным… У меня тяжелое детство было. Была маленькая комната, дверь выходила прямо на улицу. Война была. Я закаленный. Бабушка моя, мама отца, научила меня читать, полюбить чтение. Мое первое потрясение было – рассказ Гаршина «Лягушка-путешественница». Я любил очень эту книгу и плакал сколько раз. Я очень люблю читать до сих пор, для меня это особый мир. Я когда что-то читаю, а сижу здесь, то думаю: сейчас поеду, почитаю дальше.
– Вы как ребенок…
– Да. Но не сюжет меня интересует. А как они думают. Например, я в последние годы в третий или четвертый раз читаю «Дон Кихота». И каждый раз обнаруживаю новое и думаю: какие мы кретины, что не видели. А там, оказывается, начало фашизма. Оказывается, это гораздо раньше, чем Ленин сказал страшную фразу: кухарка может управлять государством. Это Сервантес сделал. Санчо Панса стал губернатором и сказал: осла моего приведи, он будет стоять рядом со мной. Черкасов играет Дон Кихота – такой романтик. Ничего подобного. Это же фашист. Коммунисты родились из «Дон Кихота». Он всех заставлял: идите, скажите, что Дульсинея хорошая. Бил их за это… Или «Дядя Ваня». Я думаю: где они вычитали это? Там написано, что Астров – алкоголик, спивается. Откуда этот Станиславский, с этими усами? Почему они придумали это?
– Как удалось сохранить в себе детское восприятие?
– Знаете, я однажды слушал редкое интервью Рихтера. Ему говорят: вот вы такую-то сонату Бетховена так неожиданно играете. А он в ответ: а что неожиданного, я просто внимательно прочитал ноты.
– Это самое трудное.
– Вот. Это самое трудное.
– Скажите, ваш сиамский кот Фил здоров?
– Нет. Он умер два года назад. Это моя последняя великая любовь. Ему было восемнадцать лет, по человеческим меркам девяносто с лишним. Все равно не могу прийти в себя. Слышу его, иногда мне кажется, что он здесь где-то. Очень тоскую. Так хочу его увидеть, потрогать.
– И уже ведь не заведешь никого…
– Никогда в жизни. Заменителя нет. И не хочу.
– Его полное имя было Философ?
– Да, Философ. Он был маленький, садился так, задумывался. Ах, какой он был потрясающий! У меня три места родных. Ереван, где я похоронил свою мать. Москва, где я похоронил свою дочь. И Даллас, где похоронен Фил.
– Что важно в жизни, Армен Борисович?
– Я думаю, жить. Как это ни прозвучит примитивно. Жить. Хотеть – очень важная вещь. Мой Фил меня научил этому – хотеть. Хотеть покушать, хотеть поиграть… Потому что рассуждать скучнее, чем хотеть. Я очень люблю фразу из «Макбета». Макбет говорит про жизнь: повесть, написанная дураком, в ней много шума и ярости, нет лишь смысла. У Пастернака это плохо переведено: в ней много слов и страсти. Нет, именно шума и ярости. Фолкнер же именно отсюда взял название для своего романа – «Шум и ярость». Моего любимого… В ней много шума и ярости, нет лишь смысла.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ДЖИГАРХАНЯН Армен, актер.
Родился в 1935 году в Ереване. После школы отправился в Москву поступать в ГИТИС – не поступил из-за сильного армянского акцента. Вернувшись, стал студентом Ереванского театрально-художественного института. На втором курсе сыграл роль Ленина в пьесе Михаила Шатрова «Именем революции». Своим кинодебютом считает фильм «Здравствуй, это я».
В 1967 году начинает работать в театре Ленинского комсомола в Москве у Анатолия Эфроса. Затем переходит в театр Маяковского к Андрею Гончарову. Спектакли «Трамвай “Желание”», «Бег», «Закат», «Беседы с Сократом», «Театр времен Нерона и Сенеки» с его участием становятся событием в театральной жизни Москвы.
На его счету больше трехсот киноработ, десятки премьер на телевидении и радио.
Созданному им Московскому драматическому театру под руководством Армена Джигарханяна – десять лет.
Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР.
ПУТЬ АДАМА Василий Аксенов
Эта беседа была опубликована в «Комсомольской правде» буквально за пару дней до того, как Василий Аксенов, сидя за рулем, потерял сознание, после чего в больнице, куда его отвезли, впал в кому. В те дни, когда готовилась эта книга, ему как будто бы стало лучше. А я все вспоминала последние слова, какими закончилась наша беседа.
Первые тоже…
* * *
– Вася, давай поговорим о женщинах. У Тургенева была Полина Виардо, у Скотта Фитцджеральда – Зельда, у Герцена – Наташа, не будь ее, не родилась бы такая великая книга, как «Былое и думы». Что такое для писателя его женщина? Случалось в твоей жизни, что ты писал ради девушки, ради женщины?
– Так не было… Но все же такое возвышенное было. И наша главная любовь – я не знаю, как Майя на это смотрит, но я смотрю так: Майя, да.
– Хорошо помню: дом творчества в Пицунде, ты появляешься с интересной блондинкой, и все шушукаются, что, мол, Вася Аксенов увел жену у известного кинодокументалиста Романа Кармена…
– Я ее не уводил. Она была его женой еще лет десять.
– Ты с ним был знаком?
– Нет. Я один раз ехал с ним в «Красной стреле» в Питер. Я был под банкой. И что-то мы с ним говорили, о разном. А я уже слышал о его жене. И я ему говорю: правда ли, что у вас очень хорошенькая жена? Он говорит: мне нравится. Так он сказал, и я забыл про это. Хотя, может, где-то отложилось.
– Сколько лет тебе было?
– Года тридцать два или тридцать три. Я был женат. Кира у меня была жена. Кира – мама Алексея. И с ней как-то очень плохо было…
– В то время?
– Да вообще всегда.
– Вы плохо жили?
– На самом деле мы неплохо жили. Мы жили, в общем, весело. До рождения ребенка, до того, как она так располнела…
– Все изменилось оттого, что она располнела? Тебя это стало… обижать?..
– Ее это стало обижать. Я к этому времени стал, ну, известным писателем. Шастал повсюду со всеми нашими тогдашними знаменитостями… разные приключались приключения… она стала сцены закатывать…
– А начиналось как студенческий брак?
– Нет, я уже окончил мединститут в Питере. И мы с другом поехали на Карельский перешеек, наши интересы – спорт, джаз, то-се. И он мне сказал: я видел на танцах одну девушку… Она гостила там у своей бабушки, старой большевички. Та отсидела в тюрьме, ее только что отпустили, это был 1956 год. А сидела она с 1949-го…
– И твоя мама сидела…
– Моя мама сидела в 1937-м. А Кирину бабушку каким-то образом приплели к делу Вознесенского…
– Какого Вознесенского ты имеешь в виду?
– Не Андрея, конечно, а того, который направлял всю партийную работу в Советском Союзе. Его посадили и расстреляли. Приходил его племянник, который рассказывал, как тот сидел в тюрьме в одиночке и все время писал письма Сталину, что ни в чем не виноват. И вдруг в один прекрасный момент Политбюро почти в полном составе вошло в его камеру, и он, увидев их, закричал: я знал, друзья мои, что вы придете ко мне! И тогда Лазарь Каганович так ему в ухо дал, что тот оглох.
– Зачем же они приходили?
– Просто посмотреть на поверженного врага.
– Садисты.
«Коммунисты не могут иначе править государством. У них принцип: сперва придушать. Смотрят: ага, посинел. Хватку можно немного ослабить. Порозовел человек – снова придушили…» (из чужого интервью).
– …А Кира заканчивала институт иностранных языков и пела разные заграничные песенки очень здорово…
– И твое сердце растаяло.
– Вот именно. А потом… всякие штучки были…
– Штучки – любовные увлечения?
– Любовные увлечения. Это всегда по домам творчества проходило. И вот как-то приезжаем мы в дом творчества в Ялте, зимой, вернее, ближе к весне. Там Поженян, мой друг. Мы с ним сидим, и он так потирает ручки: о-о-о, жена Кармена тут…
– Потирает ручки, думая, что у тебя сейчас будет роман?
– Он думал, что у него будет роман, у Поженяна с Майей. Она только что приехала и подсела к столу Беллы Ахмадулиной. А мы с Беллой всегда дружили. И Белла мне говорит: Вася, Вася, иди сюда, ты знаком с Майей? Я говорю: нет, не знаком. Как, ты не знаком с Майей!.. И Майя так на меня смотрит, и у нее очень измученный вид, потому что у Кармена был инфаркт, и она всю зиму за ним ухаживала, и когда он поправился, она поехала в Ялту. А потом она стала хохотать, повеселела. У меня еще была Кира тогда, они с маленьким Алексеем жили со мной в доме творчества и собирались уезжать. А в Ялте стоял наш пароход «Грузия», пароход литературы. Потому что капитан обожал литературу и всегда заманивал к себе, устраивая нам пиры. И вот мы с Майей… Майя почему-то всегда накрывала на стол, ну как-то старалась, я что-то такое разносил, стараясь поближе к ней быть…
– Сразу влюбился?
– Да. И я ей говорю: вот видите, какая каюта капитанская, и вообще как-то все это чревато, и завтра уже моя жена уедет… А она говорит: ну вот, и мы будем ближе друг к другу. Поженян все видит и говорит: я ухожу… И уплыл на этой самой «Грузии». А мы вернулись в дом творчества. Я проводил Киру, и начались какие-то пиры. Белла чего-то придумывала все время. Она ходила и говорила: знаете, я слыхала, что предыдущие люди закопали здесь для нас бутылки шампанского, давайте искать. И мы искали и находили.
– Развод Майи был тяжелым?
– Развода как такового не было, и не было тяжело, она хохотуха такая была. Все происходило постепенно и, в общем, уже довольно открыто. Мы много раз встречались на юге, в Пицунде тоже и в Москве. Я еще продолжал жить с Кирой, но мы уже расставались. Конечно, было непросто, но любовь с Майей была уже очень сильная… Мы ездили повсюду вместе. В Чегет, в горы, в Сочи. Вместе нас не селили, поскольку у нас не было штампа в паспорте, но рядом. За границу, конечно, не ездили. Она ездила одна, привозила мне оттуда какие-то шмотки…
– Время это самое счастливое в жизни?
– Да. Это совпало с «Метрополем», вокруг нас с Майей все крутилось, она все готовила там. Но это уже после смерти Романа Лазаревича. Мы в это время были в Ялте, ее дочь дозвонилась и сказала. Его смерть носила тоже какой-то богемный характер. Там были какие-то девушки из его киногруппы, но точно я не знаю. Я никогда не общался с ним.
– Он не делал попыток вернуть Майю?
– Он – нет, но у него друг был, Юлиан Семенов, он вокруг меня ходил и говорил: отдай ему Майку.
– Что значит – отдай? Она не вещь.
– Ну да, но он именно так говорил.
– У тебя нет привычки, как у поэтов, посвящать вещи кому-то?
– Нет. Но роман «Ожог» посвящен Майе. А рассказ «Иван» – нашему Ванечке. Ты слышала, что случилось с нашим Ванечкой?
– Нет, а что? Ванечка – внук Майи?
– Ей внук, мне был как сын. Ему было двадцать шесть лет, он закончил американский университет. У Алены, его матери, была очень тяжелая жизнь в Америке, и он как-то старался от нее отдалиться. Уехал в штат Колорадо, их было три друга: американец, сомалиец и он, три красавца, и они не могли найти работу. Подрабатывали на почте, на спасательных станциях, в горах. У него была любовь с девушкой-немкой, они уже вместе жили. Но потом она куда-то уехала, в общем, не сладилось, и они трое отправились в Сан-Франциско. Все огромные такие, и Ваня наш огромный. У него была склонность к американским стихам, он читал их на вечерах. И работал в спортивном магазине. Он уже забыл эту Грету, у него была масса девушек. Когда все съехались к нам на похороны, мы увидели много хорошеньких девушек. Он жил на седьмом этаже, вышел на балкон… Там какие-то странные обстоятельства были. Они все увлекались книгой, написанной якобы трехтысячелетним китайским мудрецом. То есть его никто не видел и не знал, но знали, что ему три тысячи лет. Я видел эту книгу, по ней можно было узнавать судьбу. И Ваня писал ему письма. Там надо было как-то правильно писать: дорогому оракулу. И он якобы им что-то отвечал. И вроде бы он Ване сказал: прыгни с седьмого этажа…
– Какая-то сектантская история…
– Он как будто и не собирался прыгать. Но у него была такая привычка – заглядывать вниз…
– Говорят, не надо заглядывать в бездну, иначе бездна заглянет в тебя.
– И он полетел вниз. Две студентки тогда были у него. Они побежали к нему, он уже лежал на земле, очнулся и сказал: я перебрал спиртного и перегнулся через перила. После этого отключился и больше не приходил в себя.
– Впал в кому?
– И из нее не вышел.
– Как вы перенесли это? Как Майя перенесла?
– Ужасно. Совершенно ужасно. Начался кошмар.
– Когда это случилось?
– В 1999 году. Мы с ним дружили просто замечательно. Как-то он оказался близок мне. Лучшие его снимки я делал. Я еще хотел взять его на Готланд. Я, когда жил в Америке, каждое лето уезжал на Готланд, в Швецию, там тоже есть дом творчества наподобие наших, и там я писал. Этот дом творчества на вершине горы, а внизу огромная церковь Святой Марии. Когда поднимаешься до третьего этажа, то видишь химеры на церкви, они заглядывают в окна. Я часто смотрел и боялся, что химера заглянет в мою жизнь. И она заглянула. Майя была в Москве, я в Америке. Мне позвонил мой друг Женя Попов и сказал…
– Мне казалось, что, несмотря ни на что, жизнь у тебя счастливая и легкая.
– Нет, очень тяжелая.
– Ты написал рассказ о Ванечке – тебе стало легче? Вообще, когда писатель перерабатывает вещество жизни в прозу, становится легче?
– Не знаю. Нет. Писать – это счастье. Но когда пишешь про несчастье – не легче. Она там, в рассказе, то есть Майя, спрашивает: что же мы теперь будем делать? А я ей отвечаю: будем жить грустно.
«В России действительно остался какой-то скрытый ментальный большевизм. Мы не хотим единения. Мы хотим быть самыми главными… Мечта всей моей жизни – чтобы Россия стала обычным нормальным государством в рамках Европы, без болезненных амбиций. А они опять появляются. Кошмарные генералы заявляют: “Наша плав-единица одним залпом покрывает корабль НАТО!” Они другого ничего не знают вообще. Думают, что пуски ракет с Северного полюса должны наполнять нас гордостью. На самом деле просто тошнит…» (из чужого интервью).
– Вася, а зачем ты уехал из страны, это раз, и зачем вернулся – два?
– Уехал, потому что они меня хотели прибрать к рукам.
– Ты боялся, что тебя посадят?
– Нет. Убьют.
– Убьют?! Ты это знал?
– Было покушение. Шел 1980-й год. Я ехал из Казани, от отца, на «Волге», летнее пустое шоссе, и на меня вышел КамАЗ и два мотоцикла за ним. Он шел прямо мне навстречу, они замкнули дорогу, ослепили меня…
– Ты был за рулем? Как тебе удалось избежать столкновения?
– Я был за рулем. Просто ангел-хранитель. Я никогда не был каким-то асом, просто он сказал мне, что надо делать. Он сказал: крути направо до самого конца, теперь газ и крути обратно, обратно, обратно. И мы по самому краю дороги проскочили.
– А я считала тебя удачником… Ты так прекрасно вошел в литературу, мгновенно, можно сказать, начав писать, как никто не писал. Работа сознания, или рука водила?
– В общем-то, рука водила, конечно. Я подражал Катаеву. Тогда мы с ним дружили, и он очень гордился, что мы так дружны…
– Ты говоришь о его «Алмазном венце», «Траве забвенья», о том, что стали называть «мовизмом», от французского «мо» – слово, вкус слова как такового, а у меня впечатление, что сперва начал ты, тогда и он опомнился и стал по-новому писать.
– Может быть. Вполне. Он мне говорил: старик, вы знаете, у вас все так здорово идет, но вы напрасно держитесь за сюжет, не надо развивать сюжет.
– У тебя была замечательная бессюжетная вещь «Поиски жанра» с определением жанра «поиски жанра»…
– К этому времени он с нами разошелся. Уже был «Метрополь», а он, выступая на свое восьмидесятилетие по телевизору, сказал: вы знаете, я так благодарен нашей партии, я так благодарен Союзу писателей… Кланялся. Последний раз я проезжал по Киевской дороге и увидел его – он стоял, такой большой, и смотрел на дорогу. Просто выходил, стоял и смотрел… Если бы не было такой угрозы моим романам, я бы еще, может, не уехал. Были написаны «Ожог», «Остров Крым», масса задумок. Все это не могло быть напечатано здесь и стало печататься на Западе. И на Западе же, когда я начал писать свои большие романы, произошла такая история. Мое главное издательство, «Рэндом Хаус», продалось другому издательству. Мне мой издатель сказал: не волнуйся, все останется по-старому. Но они назначили человека, который сперва присматривался, а потом сказал: если вы хотите получать прибыль, вы должны выгнать всех интеллектуалов. Таких-то и таких-то.
– И ты попал в этот список? Прямо как у нас.
«Деньги, конечно же, главный мотор общества. Возможно, это вообще самое гениальное изобретение человечества. Но счастья они не приносят. Они могут лишь предоставить свободу от других давящих моментов жизни» (из чужого интервью).
– Приноси доход или пропадешь – у них такая поговорка. Этот человек стал вице-президентом издательской компании, и я понял, что моих книг там больше не будет. Я тогда выступил в университете своем и сказал: самое божественное, что я узнал в Америке, это университет как главный храм Америки, а главный ужас Америки – это книжная торговля. И я вдруг понял, что возвращаюсь в Россию, потому что опять спасаю свою литературу. Главное, я вернулся в страну пребывания моего языка.
– Вася, вот ты жил в Америке и в России. Что лучше для жизни там и здесь?
– Меня греет то, что в Америке читают мои книги. Это, конечно, не то, что было в Советском Союзе…
– Тебя читают сейчас так же, как тогда.
– Это вообще невероятно. Меня здесь издают тиражами семьдесят пять тысяч, пятьдесят пять тысяч…
– Но я спрашиваю не о твоих эгоистических, так сказать, радостях, я спрашиваю о другом: как устроена жизнь в Америке и как устроена у нас?
– В Америке удивительная жизнь на самом деле. Невероятно удобная, уютная. Во Франции не так уютно, как в Америке.
– В чем удобство? К тебе расположены, тебе улыбаются, тебе помогают?
– Это тоже. Там много всего. Там университет берет на себя множество твоих забот и занимается всей этой бодягой, которую представляют формальности жизни, это страшно удобно.
– А что ты любишь в России?
– Язык. Мне очень язык нравится. Больше ничего не могу сказать.
– Кому и чем чувствуешь ты себя обязанным в жизни?
– Я сейчас пишу одну штуку о моем детстве. Оно было чудовищным. И все-таки чудовище как-то давало мне возможность выжить. Мама отсидела, отец сидел. Мне некуда было кинуться. Когда меня разоблачили, что я скрыл сведения о матери и об отце, меня выгнали из Казанского университета, где я учился. Потом восстановили. Я мог загреметь на самом деле в тюрьму. Потом такое удачное сочетание 60-х годов, оттепели, и всего вместе – это закалило и воспитало меня.
– Ты чувствовал себя внутри свободным человеком?
– Нет, я не был свободным человеком. Но я никогда не чувствовал себя советским человеком. Я приехал к маме в Магадан на поселение, когда мне исполнилось шестнадцать лет, мы жили на самой окраине города, я два года там прожил, и мимо нас таскались вот эти конвои, я смотрел на них и понимал, что я не советский человек. Совершенно категорично: не советский. Я даже один раз прицеливался в Сталина.
– Как это, в портрет?
– Нет, в живого. Я шел с ребятами из строительного института по Красной площади. Я учился уже на втором курсе питерского меда. Мы шли, и я видел Мавзолей, где они стояли, такие черные фигурки справа, коричневые слева, а в середине – Сталин. Мне было девятнадцать лет. И я подумал: как легко можно прицелиться и достать его отсюда.
– Представляю, будь у тебя что-то в руках, что бы с тобой сделали.
– Естественно.
– А сейчас ты чувствуешь себя свободным?
– Я почувствовал это, попав на Запад. Что я могу поехать туда-то и туда-то, в любое место земного шара, и могу вести себя, как захочу. Вопрос только в деньгах.
– Как и у нас сейчас.
– Сейчас все совсем другое. Все другое. Кроме прочего у меня два гражданства.
– Если что, будут бить не по паспорту.
– Тогда я буду сопротивляться.
«Большинство наших сограждан происходит от той половины населения, что выполняла надзор за другой половиной населения, которая не дала большого приплода. Отсюда, возможно, и проистекают идеи новой империи, мощи, этнической диктатуры. Конечно, и речи нет о повторении советского режима, но массы явно хотят чего-то не менее мощного» (из чужого интервью).
– Возвращаясь к началу разговора, женщина для тебя как писателя продолжает являться движущим стимулом?
– Мы пожилые люди, надо умирать уже…
– Ты собираешься?
– Конечно.
– А как ты это делаешь?
– Думаю об этом.
– Ты боишься смерти?
– Я не знаю, что будет. Мне кажется, что-то должно произойти. Не может это так просто заканчиваться. Мы все дети Адама, куда он, туда и мы, ему грозит возвращение в рай, вот и мы вслед за ним…
«Я думаю, что единственная цель человеческого существования – совершенствование. Я называю это – путь Адама. После того как Адама изгнали из рая, началось время. Времени же до этого не было! Время – это формула изгнания из рая. Для чего оно нужно? Чтобы пройти отмеренный Адаму путь и вернуться в прежнее идеальное существование. Для этого, очевидно, и нужны все наши страдания, столкновения, революции, контрреволюции» (из чужого интервью).
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
АКСЕНОВ Василий, писатель.
Родился 20 августа 1932 года в Казани в семье партийных работников. Родители арестованы в 1937 году, осуждены на 10 лет.
Окончил Ленинградский медицинский институт в 1956 году. Три года работал врачом.
Автор 30 повестей и романов: «Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Затоваренная бочкотара», «Поиски жанра», «Остров Крым», «Ожог», «Скажи изюм», «В поисках грустного бэби», «Московская сага», «Вольтерьянцы и вольтерьянки», «Москва-ква-ква», «Редкие земли» и др.
Участник неподцензурного альманаха «Метрополь».
В 1980 году, выехав в США, был лишен советского гражданства. Преподавал в Вашингтоне, в университете Джорджа Мейсона. Гражданство вернули в 1990 году.
Награжден французским Орденом литературы и искусства.
Лауреат Русского Букера.
КАК ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ Евгений Евтушенко
В издательстве «Слово» вышла уникальная книга «Весь Евтушенко».
Весь Евтушенко – это яростный и нежный репортаж с места душевного события.
«Меня научили, а кто – не скажу, ходить между змей, по огню, по ножу», – сказано в его знаковом стихотворении «Роман с жизнью»
Впрочем, у него почти все стихи знаковые.
* * *
– Фантастическая книга: от первых детских стихов, в которых ты уже поэт, и до стихов последних лет. Какое чувство тебя охватывает, когда ты сам видишь вот так вот всю свою жизнь запечатленной? Не страшно? Или прекрасно? Или как?
– Честно признаюсь, Оленька, что когда я получил эту книгу, я провел всю ночь до утра с ней в постели, да так и заснул, ее обнимая, как будто свою жизнь, в которой было столько всего, столько ударов судьбы, потом оказавшихся драгоценными подарками, еще и еще раз понимая, что никогда не возымею права на нее жаловаться, ибо вместе с незаслуженными оскорблениями, а иногда и незаслуженными комплиментами, я ее, кажется, выдержал, не озлобившись на клевету и сплетни, но и не задрав носа от похвал. Хотя не мне самому об этом судить. В ней и мои юношеские иллюзии, и разочарования в них, и моя любовь, и вечный страх остаться не рассчитавшимся должником всех тех, кто учили меня уму-разуму. Все мы должны быть взаимодолжниками и взаимоспасателями, взаимоучителями и взаимоучениками, и никогда – взаимообманщиками, взаимопредателями, взаимомучителями. А когда это получается нечаянно, не со зла, а по недомыслию, недочувствию – мы не должны стесняться признать свою вину. Чувство собственной виноватости во всем и перед всеми – вообще признак настоящих людей, в том числе и настоящих поэтов. Лишь взаимоисповедальность может привести к взаимоблизости. А у нас и не пахнет этим, в нашем королевстве солдатском. Мы стали слишком закрытыми друг для друга. Но мы должны набраться смелости для взаимоисповедальности.
Перечитывая книгу, я вдруг первый раз понял, что, в сущности, это сборник исповедей с пылу с жару, а иногда и запоздалых, но не опоздавших, то есть до-исповедей. Как хорошо было бы, если бы хоть разок в три года главы всех на свете государств собирались, и, вместо того чтобы высокомерно поучать друг друга, как надо жить, а как не надо, каждый по-честному исповедался бы, в чем его страна и он сам виноваты перед человечеством. Слишком много сейчас соревновательства в амбициозности, в самоуверенности, в только собственной правоте, но одновременно в подозрительности и злорадстве ко всем, кто «разные». Посердечней бы друг с другом, подоверчивей, поисповедальней.
– А как книга появилась?
– Ты знаешь, Оленька, нелегко представить, но она никогда никем не планировалась заранее, ни мною самим, ни издательством. В начале августа 2007 года рукописи или даже замысла книги с таким названием «Весь Евтушенко» не существовало. Вот как это случилось. Я с рисковой импровизированностью решился через двадцать пять лет после моего пятидесятилетия снова выступить с поэтическим зрелищем «Идут белые снеги» 12 декабря 2007-го. И с горечью посетовал моим многотерпеливым армянским друзьям из издательства «Слово» Диане Тевекелян, Наташе и Григорию Ерицянам, столько делающим для русской литературы, что моя антология «Десять веков русской поэзии», увы, к этой дате еще не будет готова. И тут у меня без ложной скромности, что мне свойственно, но и без всякой надежды, вырвалось: «Вот бы сделать такую книжку – “Весь Евтушенко”!» И тут я увидел, что у них у всех глаза загорелись, у одного за другим, как лампочки на елке. «А почему бы и нет?» – улыбнулась Диана, как только она одна умеет, одновременно с колкой иронией и с нежностью. «Сколько печатных листов?» – с опаской, но практично спросила Наташа. «У меня есть один институтский друг. Он, как и вы, любит живопись. И ваши стихи тоже», – поставил все на деловые рельсы Гриша, и не ошибся в друге юности. Словом, все издательство стояло на ушах вместе со мной, включая мою героическую редакторшу, вообще-то специалистку по иностранной литературе, очаровательную Иру с фамилией Опимах, звучащей как эсперанто. Когда к точной дате вечера в «Олимпийском» я получил сигнальный экземпляр, я не мог поверить не столь глазам своим, сколь рукам: в ней было 11 165 страниц, и она весила 2 кг 800 грамм. «Мне даже как-то неудобно, – сказал я Диане, – ведь только у Пушкина до меня вышла книга такого же объема». Она не отказалась и тут от своей всегдашней иронии и шутливо погрозила мне пальцем: «Теперь вам будет еще неудобнее, Женя, ведь Пушкину не пришлось такую книгу держать в руках, она вышла только после его смерти, да и то через много лет».
Чушь, что интерес к поэзии умер. Почему такие, отнюдь не обиженные неуспехом у зрителей, любимые молодежью актеры, как Харатьян, Алешин, Смеян, говорили мне после громовой премьеры рок-оперы «Идут белые снеги» на музыку Глеба Мая в «Олимпийском», как они хотят проехать с ней по всей России. Они мне признавались, что эта опера дала им возможность высказать свои чувства и мысли о нашей эпохе, а десятитысячному залу – из разобщенного стать объединенным. Со всей страны поступают ко мне запросы: когда же эта опера будет показана, наконец, по телевидению, ведь она же записана ТВЦ, когда она выйдет на DVD?..
– На протяжении своей жизни, своей поэзии ты составляешь единого человека или разных людей?
– А кто написал: «Я разный – я натруженный и праздный, я целе– и нецелесообразный, я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый…»? Это было напечатано в 1955 году, всего-навсего через пару годиков после смерти Сталина, который, по определению Пастернака, изо всех сил старался стать непробиваемым монолитом, «и стать образчиком, оформясь во что-то прочное, как соль». Но ведь неразноообразность как цель неестественна. Если разобраться, Сталин на самом деле был тщательно скрываемо весьма многоингредиентен. Но он и себя насильственно загонял в одноингредиентность, и весь народ, как в прокрустово железное ложе, отбирая одно из самых главных прав человека – на разнообразие противоречий, дай-то Бог, не опасное для окружающих. А мне Бог дал разнообразие буратинистых любопытств, и больших и маленьких, и разнообразие обожаний: и природы, и музыки, и женщин, и приключений, и книг, и живописи, и футбола, и тенниса, и дружеских пирушек, обязательно с тостами, а не с пьянством как мрачной молчанкой. Я ведь ко всему прочему и виноделом был неплохим в своем гульрипшском доме, который так безжалостно превратили в пепелище…
– А где тебе писалось и жилось лучше, в Сибири, в Грузии, в Переделкине или в твоем доме в Оклахоме, где ты нынче преподаешь?
– А мне везде хорошо на земле, потому что везде большинство – это все-таки хорошие люди. Они просто разобщены, и, к несчастью, политика их еще больше разобщает. А вот литература нас всех соединяет, и, по сути, весь земной колобок с его страстями и войнами – это просто-напросто кругленькая деревушка Макондо, написанная Габриэлем Маркесом. Но, конечно, та земля, где ты первый раз разбил нос, пытаясь перейти от ползания по ней к первым шагам, – это нечто особенное. Когда я начал делать первые серьезные шаги в поэзии вместо младенческого ползания, мне уже начали разбивать нос другие. Они не любили того, что я, в отличие от них, именно «разный». Я ведь, Оля, все сибирское детство провел под лоскутными сибирскими одеялами и обожаю их за красоту импровизации, которую диктовала бедность. Ты, наверно, заметила, что я очень люблю гватемальские пиджаки, виртуозно сшитые из лоскутов, которые попадались под руки крестьянкам, когда кроме лоскутов ничего и не было.
– Я заметила. И всегда хотела спросить, почему ты так пестро одеваешься. В автоэпитафии, как бы от лица твоих недругов, ты даже храбро употребляешь слово «попугай»…
– Мне хватило в детстве видеть вокруг черные ватники заключенных, солдатское хаки и темно-серые рубашки «смерть прачкам». Я люблю праздник красок и поэтому покупаю галстуки нашего русского дизайнера Кириллова, написанные как будто радугой, а не просто масляной краской, а материал для рубашек иногда выбираю сам и заказываю их по собственному дизайну. Да, я лоскутный человек – и мое образование было лоскутным. Я и повар точно такой же, как поэт. Если я засучиваю рукава и становлюсь к плите, обожаю только многосоставные блюда. Например, грузинский аджап-сандал, там полная свобода от рецептов, хотя основа – баклажаны, помидоры, репчатый лук, а уж травы и приправы идут по вкусу, когда можно добавить и киндзу, и петрушку, и хмели-сунели, а если хочешь, и говядину или телятину, и фасоль, и гранатные зернышки, и морковку, и корневой сельдерей, и чернослив – да вообще все, что в голову взбредет, лишь бы одно с другим каким-то магическим образом соединялось. Так, честно говоря, я и стихи пишу. И даже антологии чужих стихов составляю. Да что такое сама природа? Это кажущийся эклектизм, ставший гармонией.
– Твое редкостное свойство: полная распахнутость, искренность в поэзии. Ты очень откровенен, и коря себя, и хваля себя. Между прочим, искренность и вкус иногда входят в противоречие друг с другом, не правда ли?
– Конечно, искренность и вкус – разные вещи. Я, например, могу предположить, что автор самых знаменитых строк девяностых годов ХХ века был абсолютно искренен, когда воздвиг себе памятник «рукотворный» его личной метафоры любви: «Ты – моя банька, я – твой тазик». В истории бывали случаи, когда плохой вкус становился правящей идеологией. Вспомни присядку Гитлера после подписания унизительного мира во Франции. Или Сталина, целящегося из подаренной ему двустволки в зал Съезда Победителей, большая часть которых потом была уничтожена. К сожалению, осознание плохого вкуса происходит значительно позднее, чем его приход. Пастернак писал, что плохой вкус смертельно опасен для совести нации. Мы должны всерьез задуматься над тем, какая зомбизация населения дурновкусием производится уже который год подряд с голубого экрана, особенно в новогоднюю ночь, когда как бы должна наступить новая жизнь.
– Ты сам сказал о своей нескромности. Тебя упрекали в ней с самого начала, но у тебя и с самого начала был огромный замах: ты говорил с Пушкиным, Лермонтовым, Блоком, Пастернаком. Как соотносятся скромность и нескромность в поэте и человеке?
– Наши классики для меня не памятники, а «люди теплые, живые». И они не ушли на дно времени, я ощущаю все время их испытующие глаза на мне. На думание о собственной нескромности, прости, у меня не хватает времени так же, как на постоянные тренировки в показной скромности. Пушкин ребячливо хвастался иногда перед друзьями, но в этом ничего не было оскорбительного для них. А вот показные скромники прятали в своей груди гадючьи гнезда зависти к нему. Но я и из классиков не сотворяю кумиров и оставляю за собой свое полное право не любить множество стихов Маяковского, хотя всегда встаю на защиту при попытках вообще перечеркнуть этого великого поэта. Я полностью согласен с ближайшим другом Пушкина Вяземским в его отрицательной оценке риторического, амбициозного стихотворения «Клеветникам России». А строчки Блока «О, вонзай мне, мой ангел вчерашний, В сердце острый французский каблук» смешили меня еще с подросткового возраста. Но это мои личные взаимоотношения с моими близкими любимыми родственниками, и мы с ними сами разберемся. Между прочим, из книги «Весь Евтушенко» я не дрогнувшей рукой отправил в корзину, даже не допуская до набора, примерно семьдесят процентов моего самого искреннего мусора.
– Мы зачитывались твоей любовной лирикой – «Заклинание» – «Весенней ночью думай обо мне…», «Со мною вот что происходит», «Любимая, спи»… Чисто, тонко, сложно и просто. Что такое была и есть любовь в твоей жизни? Множество любовных связей – истощает это или обогащает? Как менялось чувство любви на протяжении лет?
– Множество любовных связей, если они не для заполнения амбарной книги мелких сексуальных интриг, это серьезно. Когда возникает неожиданная, как землетрясение, влюбленность, то в этом нельзя обвинять человека, хотя и стоит пожалеть за чрезмерную истощающую впечатлительность. То же самое происходит иногда в творчестве, когда человек лихорадочно хватается то за одно, то за другое, а в конце концов остается совсем один к концу жизни, не создав ничего стоящего. Так и в любви. Бывают случаи, когда даже две одновременных любви могут разбить жизни сразу трем людям, не оставляя веры в жизнь. Бывает, что это приводит к самоубийству. Но я бы не советовал поспешно осуждать всех влюбчивых людей за аморализм. Это некрасиво и жестоко. У любви бывает много разных форм и разных периодов. И нельзя подходить ко всем случаям с одной меркой. Самый классический случай – так называемая священная лихорадка, которая возникает с первого взгляда. Но она не может продолжаться вечно. И не надо себе искусственно набивать градусник и страшиться того, что это конец любви. Потому что нежность – тоже форма страсти. Бывая много раз на золотых и серебряных свадьбах, я видел, как очень немолодые люди смотрят друг на друга влюбленными молодыми глазами, и понял, в чем секрет. Сквозь их морщины, заметные другим, на лице любимого человека для них неизбежно, как бы смывая следы постарения, выплывает то самое лицо, которое они когда-то, пятьдесят лет назад, впервые увидели. У меня есть стихи, которые я не мог бы написать раньше, потому что я этого не знал. Незнакомый человек, к которому они попали, показал их жене, а та заплакала, сказав: это про меня.
То язвительная, то уязвимая, мой защитник и мой судья, мне сказала моя любимая, что она разлюбила себя. Есть у женщин моменты загнанности, будто сунули носом в хлам, тайный ужас от собственной запусти, злость ко взглядам и зеркалам. Мною вылепленная, мной лепимая, меня вылепившая, как судья, неужели ты тоже, любимая, разлюбила меня, как себя? Время – это таинственный заговор против юности и красоты, но в глазах моих время замерло, и в них лучшая женщина – ты. Так зазывно играют разлуки мной, но в тебя я хочу, как домой. Не позволь себе стать разлюбленной мной, и даже тобою самой.– Твои ранние человеческие привязанности – Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский. Жизнь развела вас. Через много лет ты написал их лирические портреты с любовью. А как в реальной жизни?
– А что такое стихи – разве это не реальная жизнь? Если я снова пишу о ком-нибудь с любовью, пусть даже после долгого перерыва, это означает, что у нас был период отдаления, но все-таки любовь победила.
– Ты сравниваешь свой поэтический труд с трудом Золушки, когда она и полы отмывает, и на балы поспешает. Но при этом рядом с такими шедеврами, как «Патриаршие пруды», «Уходят наши матери от нас», «Долгие крики», «Катер связи», – лобовая публицистика. И тут уже не Золушка, а нечто другое…
– Иногда она необходима, лобовая публицистика. Я горжусь тем, что написал стихотворение «Так им и надо», когда звонили на радио «Эхо Москвы» люди, злорадствующие, что в лондонском метро случился террористический акт. Я написал его сразу, иначе нельзя было. Такие стихи необходимо рождаются. Я был бы счастлив, если б они устаревали. Если бы устарел «Бабий яр». Если бы люди стали спрашивать: а что такое антисемитизм? Но этого же не происходит.
– На самом деле гражданская лирика – твоя органическая составляющая. Откуда это в тебе?
– От папы-геолога. На его надгробье я и двое моих сводных братьев Саша и Володя решили написать его четверостишие:
Отстреливаясь от тоски, Я убежать хотел куда-то. Но звезды слишком высоки, и высока за звезды плата.Папа мне однажды сказал в сталинское время: «У нас никакого социализма в помине нет. Есть государственный капитализм». По всем тогдашним правилам я должен был написать донос на отца. Но я не сделал этого. Я задумался. С этого всегда и начинается гражданская лирика.
– Когда ты ощутил, что пришел в этот мир с поручением?
– Я лишен какого-либо мессианства, и люди, изображающие из себя мессий, самые опасные. Но ощущение чьего-то поручения – не мессианство. Ты помнишь ту старушку, которая, узнав Ахматову в очереди к тюрьме, спросила ее: «А вы сможете описать это?» Это ведь было поручение. Такое чувство «поручения» я испытал, когда, поджимая ноги, чтобы не ступать по мягкому – по людям, сжатый до хруста ребрами других людей на похоронах Сталина на Трубной площади, я понял, что должен это поручение выполнить, запомнить, спасти для истории, чтобы ничто, подобное сталинизму, не повторилось. Именно из этого выросли строки, напечатанные всего через два года, когда неудержимо захотелось увидеть мир, украденный у нас. «Границы мне мешают. Мне неловко Не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. Хочу шататься сколько надо Лондоном, со всеми говорить – хотя б на ломаном, Мальчишкой, на автобусе повисшим, Хочу проехать утренним Парижем!» Боже, какой вой поднялся. Какое позерство! Пижонство! А между прочим, этот же самый поэт стал единственным народным депутатом, включившим уничтожение оскорбляющих достоинство советских людей «выездных комиссий» в свою избирательную программу. На самом деле меня напрасно называли политическим поэтом. Все мои так называемые политические стихи – стихи о защите человеческих прав и достоинств. Многие стихи о любви – тоже защита столь часто попираемого достоинства женщины. У меня естественно любовная лирика переливалась в гражданскую, и наоборот.
Финал когда-то интимного «Со мною вот что происходит» сегодня для многих россиян, оказавшихся иностранцами, звучит как проповедь народам: «О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ». Соединенность и разобщенность.
– Женя, а что за история была, когда ты должен был в кино играть Иисуса Христа?
– Это очень смешная история. Фильм должен был снимать всемирно известный режиссер Пазолини. Но мне не разрешили выехать из страны. Всемирно известные режиссеры Феллини и Антониони написали письмо Хрущеву, где обещали, что роль Христа будет трактоваться в марксистском духе. Ничего не вышло. И другая была история, когда Эльдар Рязанов предложил мне роль Сирано де Бержерака. Представь себе, там пробовались Юрский, Андрей Миронов, Олег Ефремов, Высоцкий. Худсовет утвердил меня. Но я в очередной раз был в опале, и с этим фильмом тоже ничего не вышло. А я уже занимался фехтованием, готовился. Остались стихи «Прощай, Сирано…»
– Само собой случилось, что ты стал человеком мира? Или ты стремился к этому? Я помню твои стихи о человеке, похожем на Хемингуэя, а он оказался Хемингуэем. Твои встречи с самыми известными людьми мира – что они тебе дали?
– Самое главное в жизни мне дали встречи с неизвестными миру людьми.
– А какое важное нравственное открытие ты совершил за жизнь?
– Читая Рэя Брэдбери, я раз и навсегда понял, что смерть бабочки, случайно растоптанной на деревянной висячей тропе охотником, прилетевшим на машине времени в доисторическое прошлое, может изменить эволюцию человечества, и к власти могут прийти фашисты.
– Что ты думаешь сегодня о России, которую так страстно любишь?
– Я хотел бы, чтобы Россия любила тех, кто ее любит, не только посмертно.
* * *
Стихи, написанные в 5 лет: Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя Лужа стала толстым дядей Льдом.ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ЕВТУШЕНКО Евгений, поэт.
Родился в 1933 году в Сибири, на станции Зима.
Окончил Литературный институт. Выпустил около тысячи книг поэзии.
Пишет прозу. Снимался в кино. Как сценарист и режиссер сделал фильм «Детский сад».
Лауреат многих поэтических премий.
ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ Сергей Бодров
Я даже не помню, сколько лет знаю Сергея Бодрова. Он всегда мне нравился. Милый, застенчивый заика, высокий, худой, с темными азиатскими глазами («татаро-монгольское иго»), явно одаренный и тайно ранимый, глубокий и амбициозный, очевидно нежный, однако не дающийся, ускользающий, но так и надо с нами, женщинами, якобы желающими быть порабощенными, а на самом деле стремящимися поработить. Сказать «твоя», а про себя засмеяться: «мой».
Он писал пьесы и киносценарии. Многие писали, и были удачливее его. Он уходил в тень и снова появлялся. Потом вдруг стал снимать кино как режиссер, раз от разу все профессиональнее, все лучше, и уже имя было на слуху, и с каждой новой лентой он просыпался все более знаменитым.
Мы еще ездили за грибами в Подмосковье, в деревню, где у него стоял домик-развалюха, перекрикивались счастливо на крепких бурых взгорках и во влажных долинах, усыпанных прелым осенним золотом, когда, раздвинув палкой палую листву, обнаруживали красную головку подосиновика, или коричневую – боровичка, или россыпь рыжих лисичек, или вкусно пахнущее светлоголовое семейство опят. А его счастливая звезда уже всходила над дорогой, что поведет в Париж и Калифорнию, к золоту не листьев, а высших киношных наград, но мы пока этого не знали.
Спустя годы он пришел, и я сказала:
– Сережа, я хочу задать вопрос, который может показаться странным, которого я никогда тебе не задавала: о мужчине и женщине, о том, что происходит между ними, – давай поговорим об этом.
– Что же странного, – сказал он в ответ, как обычно, слегка заикаясь. – Ты просто угадала, я как раз начинаю снимать фильм о мужчине и женщине, о том, что происходит между ними.
– И сам будешь играть главную роль? – спросила.
– И опять угадала, ну вот как ты догадалась? – спросил он в свою очередь.
– Я больше догадалась: что это история твоей любви.
– Конечно, – сказал он, – конечно.
– Это связано с твоей американской женой?
– Нет, не совсем. Нет.
А дальше я молчала и только слушала.
* * *
…Ты понимаешь, конечно, мне говорить на эту тему очень сложно. История для меня очень неожиданная. Я буду рассказывать тебе всю правду, как на духу, а потом мы решим, что с этим делать.
Затея вообще дико отважная. Но, с другой стороны, у меня нет иного выхода. Знаешь, как романы нужно писать так, чтоб было стыдно, настолько открываться, так и кино нужно делать, не стесняясь, все рассказывать, хотя будет больно и тебе, и кому-то еще.
Это было тринадцать лет назад. Я снимаю кино в Казахстане. А снимать еще не умею. Просто знаю, что могу снимать кино. Снимаю кино о первой любви четырнадцатилетней девочки. И мне дико везет. Сценария практически нету, есть более или менее аура, туманы, ощущения. Потому что до той поры все фильмы, которые делались по моим сценариям, они очень мне не нравились, потому что рассказывали историю, и все. А кино нету. А тут нет никакой истории, а только вот эта атмосфера, запахи, и я нахожу потрясающую девочку. И она – как американцы говорят: save my head – в результате меня спасла. Она просто на себе всю эту картину вытянула.
Я не Роман Полански. Для меня четырнадцатилетняя девочка… она с мамой и все такое… Но у нас с ней очень были интимные отношения. В плане… ну ты знаешь, это всегда: художник и модель, режиссер и актриса, мужчина и женщина. Между нами большая разница: ей четырнадцать, мне тридцать четыре. Двадцать лет. Но все, все, вот все ее крупные планы – это что-то… Там очень много было без слов. Я мог ее обнять, мог поцеловать – немножко еще она была для меня как ребенок. Эротика если и была, то очень глубоко спрятана, потому что все-таки у нас другой менталитет, мы не из той культуры, так скажем. Хотя Набоков и написал «Лолиту», но для нас это все-таки было табу. Для меня особенно. Хотя был момент…
Но не случилось, и слава богу, что не случилось.
Мы снимаем картину и расстаемся.
Видимся спустя три года. Она приезжает в Москву поступать во ВГИК, ее не принимают, мы видимся два часа, ничего не происходит, она уезжает. Возвращается в Алма-Ату. В семнадцать лет выходит замуж. Рожает ребенка. Я иногда что-то о ней узнаю, спрашиваю. И так проходит тринадцать лет.
Я еду в Алма-Ату с последней премьерой. Еду на день. Самолет туда и обратно. Я прошу ее найти и приглашаю на премьеру. Она приходит.
Да, надо сказать, что когда я представлял там картину с ней, она имела необычайный успех. «Огонь, мерцающий в сосуде» – писали критики о ней, об этой девочке. «Чеховские интонации» – все она, ее. Моего там ничего нет…
Я видела эту картину. «Сладкий сок внутри травы». Случайно, по телевизору. Кажется, даже не сначала. Что-то казахское, степное, далекое. Хотела переключить на другую программу. Но зацепило, начала смотреть – и не могла оторваться. Нечто прелестное, невысказанное, исполненное сладкой боли. Когда пошли титры, закричала: боже, да это же наш Сережка Бодров! То ли сценарист, то ли «при участии», точно не помню.
…И вот, когда сейчас я представляю свою группу, а я знаю, что она в зале, и говорю, как я связан с Казахстаном, а у меня же там ребенок еще, не Сергей, а девочка десяти лет… Я вообще почему начал там работать? Потому что я сценарист. Бумажки, что режиссер, у меня нет. А без бумажки кто даст работать? Ты можешь быть плохой режиссер, но если у тебя есть бумажка, тебе предоставляют работу – такой был порядок в советском кино. А я без бумажки. Я приехал в Алма-Ату на киностудию к Олжасу Сулейменову, рассказал свой замысел, он, поэт, сразу сказал: очень нравится, но у нас никто не снимет. Я ему говорю: я сниму сам. И он меня запустил с моей картиной. Меня всегда привлекала вот эта натура, я не поэт русской деревни, мне нужна такая восточная экзотика, может, оттого, что во мне самом татарская кровь. Я снял одну картину, потом другую, там у меня родилась дочка, очень хорошая, раньше мальчик, теперь девочка, очень хорошо все.
Значит я говорю, что у меня с Казахстаном давние связи, та-та-та-та-та, и вот, говорю, первая актриса, которая у меня снималась, она в зале. Она встает – и овации. Больше, чем Олегу Меньшикову. Потому что они все ее знают. Она не актриса. Она работает на фабрике Philip Morris по рекламе. Но в ней то, что называют вот этим замызганным словом: духовность. Какая-то особенность. Когда видно: что-то особенное в человеке. Она это практически не использует. Она снималась еще несколько раз, но как-то так…
Да, а еще три года назад в Америке я летел однажды в самолете. Все замечательно, летим бизнес-классом, рядом со мной мастер спорта по боксу бывший из Казахстана, теперь бизнесмен, удачливый, толковый, разговариваем, он рассказывает про себя, потом спрашивает: а ты чего, кто? Я говорю: вот, снимаю, в Казахстане снимал такую-то картину. И вдруг он хватает мою руку и целует. Я не понимаю. Он говорит: у меня три дочери, это их любимая картина, они говорят, что хотят быть похожими на эту девочку. То есть она – какая-то их светлая мечта…
Потом мы идем на банкет с членами правительства, там премьер-министр, жена президента Казахстана, президент в это время в Москве, я должен пожать всем руку, а она, Гука, стоит поодаль. И я к ней подхожу, уже когда почти все кончено, и говорю: Гука, знаешь, что я хочу тебе сказать, когда мы с тобой снимали кино, я тебя очень любил, у нас ничего не получилось, но я хочу, чтоб ты знала. Она поворачивается и плачет. А тут дочка моя стоит в отдалении, мама дочки, сын Сережа. И я в их окружении. И меня бьет такая дрожь. И она уходит.
Я подхожу к ее приятельнице: что такое, что с ней? Она говорит: она тебя любила с четырнадцати лет, все учителя, подруги в школе были уверены, что вы спите, она поехала в Москву, а когда вернулась, вышла замуж, родила ребенка, все думали, что ребенок от тебя, и через шесть месяцев она ушла от мужа, он был наркоман, жизнь у нее очень трудная, сестра на руках, бабушка, семья, которую она должна обеспечивать…
Я улетаю этой же ночью в Париж и звоню ей: сделай мне подарок, я возвращаюсь в Москву тогда-то, прилети туда на два дня. Она говорит: хорошо. Ну, ей там покупают билеты, и она прилетает. Два дня мы просто вот так лежим, обнявшись, и ничего не происходит, просто говорим. То, что она рассказывает, это даже тяжело пересказывать, что у нее было в жизни. И такие пронзительные вещи для меня… Она говорит: я никогда не верила, что ты еще раз вернешься. У нее не было отца, родители разведены, отчим погиб. Одинокий очень человек. Ты, говорит, отец, мужчина – всё.
Я говорю: знаешь, я не был готов к нашей встрече абсолютно, у меня жена, замечательные отношения. Она говорит: у меня никаких иллюзий нет и даже не могло быть по этому поводу. Вот.
На третий день что-то такое произошло.
А у меня еще херня всякая, интервью на радио с сыном вместе…
Это интервью на «Эхо Москвы» я тоже случайно слышала. Слышала, как сын пришел, а отец все запаздывал. Потом появился, сказал, что трудно было проехать по Москве. Сергей Бодров-младший, сыгравший одну из двух главных ролей в «Кавказском пленнике», уже входил в моду. Так что пока не было Сергея Бодрова-старшего, он хорошо держал площадку.
… А я ее беру всюду с собой, не могу же я ее нигде оставить, и на «Эхо Москвы» взял. Мы приходим, ребенок уже в эфире, я подключаюсь, то-се. Мы выходим… А ребенок ее уже знает по Алма-Ате. И он говорит: о, Гука, ты здесь, ты приехала в командировку? Ничего не соображая. А она смотрит на меня и говорит: да. Потом сказала: я не знала, как с ним разговаривать. Мы идем пить кофе, есть чего-то. И она улетает. А я…
Во-первых, мне кому-то надо рассказать. Во-вторых, у меня с сыном замечательные отношения, и я не могу морочить ему голову. И я ему все рассказываю. Я говорю: Серега, я не хочу тебе морочить голову, я хочу тебе все рассказать. Он выслушал, говорит: хорошо, что я не спросил ее, где она остановилась, потому что у меня была такая мысль, но потом я как-то не сделал этого. Я ему все рассказываю, он знает про все, ну почти, про многое, кое-чего на его глазах случалось, отношения с мамой… Я развелся, и три года он не знал, что я ушел, я был то тут, то там, потом я вернулся в семью, и у нас очень долго продолжались отношения такие кровавые. И он все это знает и как-то понимает. Я ему говорю: Серег, я ничего не могу поделать, жизнь такая. Он меня слушает и говорит: тебе очень повезло. Ну, он знает. Эту девочку надо знать. Она чуть постарше его. На три года. Выглядит лет на семнадцать-двадцать. Такой тип.
Как ты понимаешь, это для меня оказалось очень серьезно. Хотя я думал, что уже все. Третий раз женат, два ребенка, все замечательно, с женой все хорошо, плюс жена – товарищ, партнер, что очень важно. Я учил ее писать сценарии, она сама замечательно пишет, она мне помогает во всем, на монтаже сидит со мной, у нее замечательный глаз. В Москве, когда мы жили, было очень тяжело, этот тяжелый период мы прошли. И что, все начинать сначала?..
Первая мысль была такая, что я просто хочу Гуке помочь. Денег, к сожалению, нет. Этот год вообще был самый тяжелый. Я уже не помню, когда у меня было так тяжело с деньгами. Потому что я снимал эту картину что называется label love – за копейки. Я думал, что я получу за нее что-то, но все эти наши замечательные продюсеры… ничего не получу, конечно. Расходы все больше и больше, хотя картина продается замечательно. Меня это не волнует, потому что я могу брать взаймы, есть предложения работы, и деньги будут. Но сейчас нет…
Когда он уже уехал, я узнала, что, получив что-то за «Кавказского пленника», он дал миллион долларов «Новой газете» – своим бедствующим друзьям. Вот просто взял и сделал такой жест, о котором никто не знает, кроме журналистов газеты.
…Как помочь? Дать много денег, увезти куда-то – это один путь. Нету денег. Второй путь – сделать кино с ней. Сделать кино – и этим ее поддержать. Сначала думал так: сделать какое-нибудь кино. Но потом: если делать кино, сейчас я уже решил делать только то кино, которое умираешь хочешь сделать, не можешь его не сделать, то есть делать очень хорошее кино. И я придумал: а очень хорошо может быть, если рассказать нашу историю и самому сыграть. Потому что… Но это же очень опасно. И это у меня было, когда я стал думать, это же тоже поганая писательская и режиссерская натура: использовать, использовать. Это моя жизнь, но это и материал. Хочешь хорошо сделать – значит, надо все туда, все туда. Наши секреты, наши интимные вещи, то, что нельзя выставлять напоказ, – все на продажу. Плохо? Наверное, плохо. Но нету иного выхода. То есть если хочешь что-то сделать, то своя кровь, пот и все такое…
Я позвонил ей по телефону. Она очень умная. Я все ей сказал. Пауза. Потом дрожащим голосом: я знала, что так все кончится, мы сделаем кино и опять больше не увидимся. Потому что это тоже один из вариантов: когда всё туда – дальше может быть очень сложно общаться. И я это тоже понимаю. Но я должен придумать так, чтобы это все-таки не кончилось. У нас нету иного способа продолжать. Она умная, она все понимает. Она говорит: ты не оставил мне иного выбора. Я ей говорю: но и у меня нет иного выбора.
Когда ты делаешь такую вещь, повторю, это очень опасно. Потому что когда ты ее сделаешь, неизвестно, чем это все кончится. По отношениям, личным отношениям. Может быть, мы перейдем какую-то границу, и все будет очень сложно…
Я слушала его и думала, в общем, банальное: какая жестокая штука – жизнь. И какая жестокая штука – искусство. Он отдает себе во всем отчет. Она тоже. И оба на это идут. Оба идут на это, потому что во всех случаях это – продолжение. Легальное продолжение того, что, возможно, в иных, нелегальных, условиях привело бы к каким-то неестественным, уродливым или совсем уж мучительным формам.
Я спросила его, все ли он контролирует в себе и своей жизни. Он помотал отрицательно головой. «Нет. Абсолютно. К сожалению». Видимо, у нас в мыслях было одно и то же: что он может в очередной раз поломать жизнь себе и близким, или… или она может выбрать трагический конец, хотя – хотя в этом случае противовесом служит ответственность перед ребенком, перед семьей.
…Боюсь. Боюсь. У нее уже была попытка самоубийства. Где-то в семнадцать лет. Она сильный человек и слабый одновременно. А с другой стороны, она говорит: Сереж, но ты же не можешь теперь меня бросить, я тебя столько ждала, ты не можешь. И она права.
А что – третий человек в этом треугольнике? Сережина американская жена?
…Она не знает. Но она узнает. Опять же подлая натура режиссерская: это – замечательное объяснение. И она поймет. Можно все, к сожалению. Но трудно очень продолжать эти отношения и там, и тут, просто эта двусмысленность ситуации – я так жил уже, и это тяжело очень. Но когда ты делаешь кино, и это серьезно, – то это замечательное объяснение.
Я не знаю еще, как это закончится. Вроде я придумал все очень хорошо. Я придумал… То есть опять жизнь сама все берет на себя. Перед отъездом в Америку, когда мы с тобой встретились в последний раз, меня чуть не убили. В полдвенадцатого, машин нет, на Кутузовском проспекте вдруг останавливаются «жигули», трое людей в них, выходит немой парень лет тридцати пяти, улыбается, идет ко мне, что-то мычит, я ничего не понимаю, подходит близко и дергает за штанину, что-то спрашивает, я чувствую, что рука его у меня в кармане, и когда он поднимается, я вижу, что денег нету, они не в бумажнике у меня лежали, а просто так. Никакого испуга. Я говорю ему: отдавай деньги. Он вытаскивает нож, но не бьет, что странно. Я так чуть оборачиваюсь и вижу этот нож, а там еще люди выходят. Испуга нету. Я говорю грубо: ладно, ладно. И два шага делаю на шоссе – никого. Потом останавливается машина, я говорю: отвези меня домой, но денег нет. Ну, он ничего, взял и повез. На следующий день пошел к друзьям в милицию, у меня есть в милиции друзья, а они говорят: ты в рубашке родился, потому что немые – самая жестокая мафия. Я понимаю комплексы этих людей, они могут убить ни за что…
И я подумал, что может быть тоже хорошее начало: с ножом. Так, до титров. И я ей звоню тогда – ну, то, что живой остался, звоню. И потом я делаю снимки. Снимки. Просто жесткое, надо жесткое кино делать…
И опять я догадываюсь: это будет кино в кино.
…Да, ты права, кино в кино. Нету другого выхода. Три куска. То, что до титров. Потом кусок ее жизни. Потому что это очень, ну… Потом мы с ней встречаемся. Я делаю кино – ну условно: мы лежим в постели, потом она лежит с актером в постели, я заставляю ее делать что-то, что было со мной. Чтобы это не было красивой сказкой о Золушке, к которой пришел некто, полюбил… Нет, нет. Это еще и история о среднем режиссере, который делает свою последнюю картину. У него когда-то что-то было. И вот чтобы сделать последнюю картину – он все туда, и ничего уже больше не оставляет себе. Предположим, это одна из тем. То есть это отстраненно. Я себя делаю персонажем. Но какие-то куски из себя…
Плюс еще вот что. Где-то какая-то журналистка. У меня было смешно – приходит одна кинокритик брать интервью и задает еще до включенного магнитофона первый вопрос: скажи мне, пожалуйста, почему ты на мне не женился? Мне это так понравилось. Я не знал, что ответить. Ну у нас были какие-то отношения, но… Это смешно очень. Потом все по делу, и она задает мне последний вопрос, я что-то уворачиваюсь, и она говорит: ах, как ты всегда умел уворачиваться от ответов. Я ей потом говорю: так и напечатай, потому что какая-то есть в этом изюминка. Но они, видимо, не стали печатать. А для кино это годится.
Плюс какой-то человек, который говорит: слушай, но ведь это твоя история. А режиссер отвечает: нет, не моя.
И еще женщина, которая говорит: я же узнала, это все твоя история, зачем ты врешь? А я отвечаю: потому что я врун.
Вот эти провокации будут. Плюс я еще придумал, по-моему, очень хорошую штуку. Нельзя, чтоб только по правде, надо обязательно что-то придумать. Значит, какие-то короткие интервью с моими женщинами. Одна говорит: да, хороший, добрый. Другая: подлец, обманул, уехал, не позвонил. Третья говорит: жадный, подарил только то-то, и все. И придумать еще что-то. Преувеличить.
И такая еще линия – чтобы всегда можно было отодвинуть от себя и сказать: нет, это я играю, я этого человека придумал, со мной такого не было, меня не убивали, не резали, и с этой женщиной у меня никогда ничего не было, это же мы играем.
Тут он умолк, и мы немного помолчали. А потом я сказала:
– Замечательно. Это как капустная кочерыжка, скрытая под множеством листьев. Листья срывают и срывают, а она все прячется, и все время да – нет, да – нет… Да – нет. Замечательно.
– Спасибо. Я так и думал, что ты поймешь. В этой картине должны быть какие-то вещи сокровенные, но я все время хочу их прикрывать.
– Видимо, прошел тот возраст, когда была необходимость прямой исповеди, и пришел тот, когда ясно, что есть форма, формой владеем, ну и прочее.
– Хотя все очень кроваво, конечно.
– Вопрос, – я засмеялась, – что мы теперь будем публиковать?
– Не знаю, – засмеялся он, – это вопрос.
– Если ты разрешаешь мне это печатать, то ничего больше и не надо. А если нет, то я не знаю, что делать. Потому что все другое по сравнению с этим будет мертвее – и для тебя, и для меня. Тут – кровавый кусок сердца.
– А если ты придумаешь такую же форму, как в кино? Да, собственно, и придумывать ничего не надо. А просто – потом он позвонил и сказал: я рассказал тебе сценарий, неужели ты поверила?..
…Так и было.
Он позвонил и сказал: я рассказал тебе сценарий, неужели ты поверила?
Я не сказала ему, что таких кино уже было множество. В том числе у Феллини.
Между прочим, раннее детство я провела в Казахстане, в Алма-Ате.
Сережа Бодров-младший еще некоторое время был жив.
…А зимой 2008 года мы увиделись на вечере нашего друга. Бодров был с молодой женщиной. Представил: «Познакомься, это Гука». На следующий день он улетал в США – на «Оскара» был выдвинут его фильм «Монгол».
Гука стала его женой.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
БОДРОВ Сергей, кинорежиссер.
Родился в 1948 году в Хабаровске.
Окончил сценарный факультет ВГИКа.
По его сценариям поставлены фильмы «Любимая женщина механика Гаврилова», «Сестры» и другие.
Постановщик фильмов «Сладкий сок внутри травы», «Профессионалы», «Катала», «Медвежий поцелуй», «Кавказский пленник», «Кочевник», «Монгол».
Сын, Сергей Бодров-младший, актер и режиссер, трагически погиб в 2002 году в киноэкспедиции при сходе лавины в Северной Осетии.
ПЕПЕЛ СТРАСТЕЙ Элина Быстрицкая
Красавица-актриса всегда представлялась необыкновенной. Лицо, пластика, манеры – все необыкновенно. Все, казалось, должно быть у ее ног. Звездная карьера, звездная жизнь. Легендарная Аксинья в шолоховском «Тихом Доне», земная, страстная, с ее силой характера и силой чувства, ошеломляюще выламывалась из образа небожительницы, ступающей по облаку…
До чего же удивительно было, приблизившись, узнать оборотную сторону славы этой выдающейся женщины.
* * *
– Почему вы уехали из нашего дома на площади Восстания? Мы были соседи…
– Что-то связано с гастрономом… с тараканами… Может, еще что-то. Я не помню.
– Знаменитого гастронома больше нет… А в Леонтьевском лучше?
– Когда я получила эту квартиру, здесь было очень хорошо. Чудный переулок, в котором не ходили машины, тихо. А сейчас… Но я сделала окна хорошие, они убирают шум.
– С изумлением узнала, что в детстве у вас был мальчишеский характер. Это правда?
– Это правда. Я росла вместе с двоюродным братом, мы одного года, он январский, я апрельская. Его мать и наша бабушка были расстреляны в 1941 году, и он остался в нашей семье. Первые драки были с ним. К нему приходили его друзья, я с ними проводила время. Отсюда бильярд. Сперва купили детский, с металлическими шариками. Так началось. У меня была подружка Муся, через всю жизнь прошла, тоненькая, слабенькая, я ее защищала. Я была крепкая. И драчливая. Я могла ударить хорошенько. Это и в юности случалось…
– Расскажите, как вы играли в «Чапаева».
– Это воспоминание скорее моей подруги, которая сейчас в Америке… У нас была площадка на лестнице с выходом на балкон. На балконе – закулисье, площадка – сцена. Занавес из бабушкиных юбок. Знаете, какие на Украине были юбки? И мы разыгрывали спектакль. Мой брат – Чапаев, я – Петька.
– Не Анка, а Петька?
– Анкой была та самая подружка Муся. У нас, конечно, пулемета не было, но что-то такое было… Хотя мама была строгая и многого мне не разрешала. Зато она учила выговаривать все слова.
– Она научила вас такой четкой и ясной речи?
– Она.
– У вас никогда никакого хохлацкого акцента, хотя жили на Украине…
– Я училась на украинском языке. Я закончила украинский факультет. У меня диплом актрисы украинского театра. Но во время войны я была санитаркой военного госпиталя, хотя исполняла обязанности лаборантки, но так оформили из-за возраста, а начальником лаборатории была врач из Астрахани. Второй врач – из Москвы. Я эту речь слышала, и она мне нравилась. Я не думала, что когда-нибудь буду актрисой, я должна была стать врачом, это было ясно…
Из книги «Встречи под звездой Надежды»:
«В ответ на вопрос, откуда я родом, я могла бы ответить: из бедности, из коммуналки, из войны… Я ушла в мирную жизнь повидавшей войну и кровь, мне еще долго слышались разрывы снарядов. Но Бог оберегал меня: я не приучилась курить и пить, не утратила доверия к людям. Грязь ко мне не пристала».
– У вас есть значок «Сын полка». Вы были в действующей армии?
– Знака «Дочь полка» ведь нет… Отец был военврач. 22 июня вестовой принес ему сообщение. Его не было дома. Мама взяла пакет, вестовой передал через окно, первый этаж. Она отдернула кружевную шторку, а там – голова лошади и вестовой: пакет капитану Быстрицкому… Я так и запомнила на всю жизнь начало войны. Отец пришел, взял свой баульчик и ушел в госпиталь. Он был участником всех войн: и Халхин-Гол, и польская, и финская кампании. Перед этим госпиталь разворачивали и сворачивали, были маневры. И я с папой туда бегала, мне было интересно. Я знала всех врачей. И тут я тоже захотела помогать. Мне было уже тринадцать лет. И у меня была младшая сестричка, которая мне сильно мешала, потому что родители вроде бы любили ее больше меня, но я уже считала себя взрослой, я пеленала ее, принести два ведра воды из колонки – моя забота… Я пошла проситься туда. Фронтовые условия, а ни возраста, ни образования… Все, что мною сделано в жизни, все связано с преодолением, с трудом, иногда опасностью…
– Даже с опасностью?
– Ну смотрите. До 1942 года мы были с папой вместе в госпитале, а потом он ушел под Сталинград. Многие шли туда, потому что там было самое трудное место. Все считали, если Сталинград не сдадут, будет перелом в войне. Так и было в конечном счете. А мы остались работать с мамой. Как-то договаривались, чтобы дежурить по очереди, когда мама дежурит, чтобы я дома с сестрой. Мы ее не отдали в детдом, как полагалось. Ну куда четырехлетнего ребенка отдать? А прием раненых – это несколько суток без сна. После этого надо было пройти по черному пустому городу, где и бандиты, и все что угодно, а одна, провожать некому, и вот у меня была заточенная металлическая расческа в кармане, мое оружие, я считала, что этого достаточно. Как-то прихожу, а квартирная хозяйка рассказывает: сестричка сказала, что если убьют, то лучше в постельке. Понимаете, когда ребенок четырех-пяти лет такие вещи говорит?.. А стала постарше, на меня начали обращать внимание солдатики – тоже было опасно.
– Когда вы узнали, что красивы?
– В 1941 году. Услышала, но не согласилась. Пришла домой, долго смотрела в зеркало и поняла, что издевка или шутка. Я же привыкла к себе. И у меня не было стремления быть красивой. Стремление появилось, когда я влюбилась. Это я уже училась в медицинском техникуме. К этому времени я поняла, что не смогу быть врачом. У меня было первое практическое занятие по хирургии. Делал все врач, мы присутствовали. Пришел больной с воспалением надкостницы, требовалась операция, дали наркоз, маску – подышать. А он захрипел и умер. Нас тут же выдворили из операционной. Я видела такое количество смертей от ран, когда люди умирали на столе у хирурга, потому что их не довезли вовремя! На приеме раненых у меня было однажды в машине четверо, их привезли, открывается дверь, а они все четверо уже… Это ужасно. Психика еще неустойчивая…
– Плакали?
– Нет, я не плакала. Плакать – это потом у меня началось. Тогда я знала, что надо помогать. Действовать надо. А тут, придя домой, я подумала: боже мой, всегда быть под страхом, что это может произойти!.. И еще был случай, когда я приняла за одну ночь четверо родов, все оказались патологическими. Не повезло так. Или, наоборот, повезло, что я поняла, что не смогу. А поскольку я ничего не умела, только на сцене в самодеятельности… то решила, что туда и надо идти. У меня была тяжелая борьба с родителями. Мой отец считал, что актриса – не профессия, а я всегда считалась с ним. Но я никогда не пожалела, что пошла в актрисы. Никогда. Я люблю свою профессию. Я получаю радость от работы. Пожалуй, это самая большая радость в моей жизни. Хотя сегодня отношение к театру… Так, чтобы люди любили театр, как они любят спорт…
– Думаете, это навсегда?
– Это результат многолетних неправильных взаимоотношений государства с людьми. Когда были уничтожены лучшие российские кадры. Когда интеллигенция, знаменитая во всем мире своими достижениями, вдруг была объявлена врагом. Когда было решено, что кухарка может руководить государством. Она, конечно, может руководить, но что из этого получится?..
Из книги:
«Но я умела держать себя в руках. Уже тогда твердо знала: никто не должен видеть тебя растрепанной или беспомощной, уверенность в себе – шажок к успеху».
– А за что вас хотели выгнать из комсомола в театральном институте в Киеве?
– Я хулигана ударила так, что он отлетел. Я стояла возле входа в аудиторию, где должна была прочитать педагогу сказку о Ленине, потому что вечером мое выступление перед публикой на траурном ленинском вечере. Двадцать пять минут текста, и я, прикрыв глаза, его повторяю. И в это время свист мне в ухо. А у меня, ко всему, уши были проблемой. Я училась уже на последнем курсе, он студент второго…
– Ухаживание или хулиганство?
– Это была весна 1953 года. Вы же знаете, что такое весна 1953 года.
– «Дело врачей», антисемитская истерия…
– Я ответила на хулиганство. А из этого сделали целую историю. Мой педагог вечером сказал: подавайте заявление о переводе в Харьков, потому что завтра будет приказ о вашем отчислении. Я сказала: хорошо, если завтра приказ о моем отчислении, послезавтра ищите меня в Днепре. Повернулась и пошла. Меня не исключили из института.
– И вы бы так сделали?
– Конечно. Я пережила горькую борьбу с родителями, чтобы попасть в театральный. В 1947 году пыталась поступить – папа поехал со мной, заходит к директору и просит не брать меня, можете представить? Потом я училась в пединституте и ушла. И когда поступила в театральный – это было выстрадано. Меня не исключили, но комсомол устроил собрание, разборку до трех часов ночи тяжелейшую, это было модно тогда.
– Вас осудили?
– Конечно. И в райкоме потребовали, чтобы я положила на стол комсомольский билет. Я сказала: вы можете издалека посмотреть на него, я его получала на фронте и вам не отдам.
– Что давало силы так себя вести?
– Я была абсолютной комсомолкой. Я была защитницей СССР. Я была участницей войны. Я добивалась всего своими силами. Я все могла. Я помогала маме, я помогала сестре. Я была взрослой, сильной и очень уверенной в справедливости. Я два месяца походила с выговором, потом его сняли. Я закончила театральный институт в Киеве, но после этого собрания решила уехать с Украины.
– Вас пригласили в театр Моссовета?
– Меня не приглашали. Театр Моссовета был на гастролях в Киеве, и я добивалась, чтобы меня посмотрел Завадский. Кончилось тем, что мне сказали: мы вас берем, давайте документы. А спустя время я получила все свои документы обратно… Я уже снималась в «Тихом Доне», когда на съемках спросила артиста Бориса Новикова, он работал в театре Моссовета: Борь, ты не знаешь, что тогда там случилось. А прошло года три или четыре. Он сказал: пришло двадцать анонимок на тебя.
– Как вы отреагировали?
– А никак. А что я могла сделать? Я только подумала: да, люди бывают и такими…
– Театр – ваша жизнь. Но интриги, зависть, предательство – как вы справлялись с этим?
– У меня всегда было одно правило: никогда никому сознательно не делать зла. Этому меня учили с детства. Бабушка говорила: нельзя, Бог накажет. Мама говорила: нельзя, приличные дети так не поступают. У нас в семье было: это порядочно, это непорядочно. И я знала: сделаешь кому-то плохо – обязательно вернется. Мне могут делать плохо, но я не имею права отвечать тем же. А тогда… я стала актрисой, снялась в Ленинграде, меня взяли в «Тихий Дон»… я ни о чем не жалела.
Из книги:
«– А ты неси бедрами… Бедрами, бедрами неси…
Я никак не могла вначале понять, как это ведра с водой можно нести “бедрами”, если они на коромысле. А баба Уля давала мне “режиссерские” указания…
Я плясала с казаками, пела с ними и в конце концов вписалась в их круг, как вписываются в пейзаж».
– Мне казалось, вы, такая «тонная», как говаривала моя мама, и вдруг Аксинья. Скорее Мордюкова, которая тоже хотела играть эту роль и чуть с собой не покончила, не получив ее…
– Я этого не знала. Я знала, что примерно тридцать актрис пробовались. И знала, что утверждает сам Шолохов.
– Вы попросились на роль?
– Я не на роль попросилась. Я на роль никогда в жизни ни у кого не просилась. Я услышала, что Герасимов будет снимать фильм, и ахнула в душе – я всегда восхищалась «Тихим Доном». И я попросила разрешения принять участие в пробах. Проба – это конкурс, на равных условиях с другими, которых тоже пробуют. Это сегодня говорят «кастинг» и берут одного, без соревнования.
– И Шолохов отобрал вас?
– Да, Шолохов сказал: «Так вот она!» Мне это передали. И только в прошлом году дочь Шолохова рассказала, что этому предшествовало. Когда вышла «Неоконченная повесть», они дали папе мою фотографию и сказали: вот тебе Аксинья. Поэтому он и сказал: «Так вот она!»
– Он был доволен фильмом и вами?
– Да.
Из книги:
«Шолохову показали подряд первую и вторую серии. Он долго не поворачивался к нам. Уже свет зажгли, а он сидел – “шапка” окурков накрыла напольную пепельницу. Потом повернулся – лицо у него было… ну, наплакался человек».
– Он всех нас пригласил к себе. А я не приехала, то ли была больна, то ли что-то репетировала в театре. Я ни разу не была в Вешенской. Что-нибудь все время случалось. Я очень хочу туда попасть и уже боюсь загадывать, потому что всякий раз…
– Да, впечатление полного благополучия – и все время сопротивление…
– Все время какие-то перегородки…
– А вам нравится, что всё не так и что на самом деле у вас другой характер?
– Я не думаю, какой у меня характер. Я думаю, как жить. Мне каждый раз приходится думать: что делать, как жить?
– Это главный вопрос молодости – как жить. И вы до сих пор его себе задаете?
– Да. И я стараюсь жить достойно.
– Что это значит?
– Это значит использовать свои возможности без того, чтобы кому-то делать плохое. Мне бывает очень трудно, но я никогда не жалуюсь. Я и вам говорю только потому, что вы заговорили об этом. Сейчас есть слово «гламур». Я на самом деле не знаю, что это такое. Но я была в делегации в Париже, и нас повели в «Лидо». Давно. Я первый раз увидела голых женщин в перьях, с обнаженными верхними прелестями, как стадо дрессированных лошадей. И знаете, я расплакалась. Я скрыла свои слезы, но мне стало так больно…
– За них?
– За них… Я в то время не понимала, что есть разные люди, разные возможности, разная психология. И разные способы зарабатывать деньги. Просто это не для меня.
Из книги:
«Объясню: я никогда не считала, что моя внешность позволяет мне делать то, что не разрешает мне моя нравственность… Эмоциональный мир актрисы – особый. Он соткан из таких тонких и нежных струн, что тронь любую – и заплачет, затоскует, заболит вся душа, заноет сердце».
– Еще во время моей учебы на втором курсе, по-моему, были гастроли Малого театра в Киеве. Я увидела четыре спектакля и просто влюбилась. Я поняла, что я никогда там не буду, но это вот то самое оно. Играли Зубов, Анненков, Пашенная, Гоголева, Турчанинова, вся эта великая когорта. Ах, какое было потрясение для меня!.. Поэтому, когда я уже снялась в «Тихом Доне» и стала известной, тогда я пошла проситься в Малый театр. Не было совершенно никакой уверенности, что меня возьмут. У меня была только мечта…
– Взяли!
– Взяли.
– И более тридцати главных ролей, и звание народной артистки СССР!..
Из книги:
«Все у меня было в Малом – яркие взлеты, затяжное молчание, радость успеха и отчаяние… Словом, всё, как в жизни…»
– А как в жизни? В личной жизни вы тоже сохраняли бойцовские качества?
– Я была самостоятельной. Во всем и всегда. Я принимала решения, я поступала так, как я считала нужным. И я всегда умела за себя постоять.
– Но замуж ведь вас просили выйти? Не вы его, а он вас просил? Я понимаю, что за вами было решение – выходить или нет. Но в этом случае инициатива принадлежала не вам.
– Это правда. Я согласилась, но я не добивалась этого. Я добивалась квартир для кого-то, я ходила, доказывала, чтобы кого-то в больницу положить вовремя. Я учредила в 1994 году благотворительный фонд для учащихся театральных вузов…
– …потому что они падали в голодные обмороки?..
– Да. Вот я чего добивалась. А для себя я добивалась только работы. Я двадцать семь лет прожила с мужем, любила его и сама с ним рассталась. И больше мы про личное не будем, я вас предупреждала.
Из книги:
«Моя актерская жизнь давала выход моим эмоциям. Я много времени провела на сцене в страхе, страданиях, в любовных похождениях моих персонажей. Я вкладываю в них свои мысли и чувства. И случается так, что для повседневной жизни ничего не остается, в лучшем случае – страсти, прикрытые пеплом…»
– Ваше прямодушие мешало вам?
– Очень сильно мешало. Я себе позволяла многое. Я не понимала, что говорить правду нужно не всегда. Я сказала Игорю Ильинскому: как вы могли дать роль мадам Бовари Еремеевой, с ее фигурой…
– То есть жене…
– …и я помню его лицо. Но Эмма Бовари – тоненькая, изящная, я во Франции побывала, я видела, какие француженки.
– Вы и Шолохову что-то сказали…
– Это было в Ленинграде. Я снималась, а у них был симпозиум писателей. И я узнала, что там Шолохов. Поскольку он меня приглашал, а я не ездила, я позвонила ему и сказала, что хотела бы увидеться. Он сказал: давай приходи. Я приехала. У него был трехкомнатный номер в гостинице. И через всю анфиладу комнат стояли столы. И вчерашние гости полупьяные, и какие-то остатки еды, запах перегара, полный кошмар. У Шолохова вот такие набрякшие глаза, я поняла, что он пьян. Но, вместо того чтобы повернуться и уйти, я сказала: Михаил Александрович, как вы можете, что вы делаете с писателем Шолоховым?! А он: замолчи, ты думаешь, я не знаю, что я выше «Тихого Дона» ничего не написал?.. Это была его боль. Я не помню, как ушла. Думаю, что сразу повернулась и ушла.
– Вы импульсивный человек?
– Наверное, да. Я научилась себя сдерживать. Я научилась этому, потому что наколотила всякого…
– Много упреков себе предъявляете?
– Я знаю, что, отказываясь от ролей, теряла на этом. Надо было потерпеть, а я …
– А в отношениях с людьми? Корите себя за что-то? Или живете в гармонии с собой?
– Пожалуй, да. Я, видимо, научилась. Научилась все выдерживать.
– Напоследок про вашу замечательную собачку Фифу.
– Я осталась одна и все думала, что хорошо бы завести собачку. Когда после театрального института меня приняли в Вильнюсский театр, у меня там был пес – помесь овчарки с волком, подарок подруги Яны в Киеве, где у меня заканчивались съемки. Ее собака Элька никого к себе не подпускала, подпустила только волка в зоопарке. И последний из семи щенков стал моим. Я так и назвала его Волк. Яна привезла его мне в корзиночке на аэродром. Мы уговорили стюардессу, и его взяли в самолет. Пересадка в Минске. Билет есть, а с собачкой не берут. Что делать? Еду на вокзал – тоже не берут. Но у меня был гонорар за роль. И я весь его потратила на такси от Минска до Вильнюса. Зато с Волком. Он был у меня три с половиной года. Огромный, красивый. Таскал с речки мне булыжники, сложил целую горку возле дома. Пришлось отдать – съемки, разъезды, а он никого, кроме меня, не признавал. Я отвезла его на хутор к хорошим людям. Но, боже мой, что со мной было! Семь лет за каждой овчаркой бегала… И вот снова захотела, но уже маленькую собачку, которую можно под мышку взять, поехать с ней. И что случилось. Я пригласила к себе на дачу гостей. Заехали на рыночек в Жуковке, что-то прикупить. Мужчины мне говорят: вы с нами не ходите, мы сами, с вами всё дороже. И я пошла смотреть на собачек. Всё не те. И вдруг несут вот такусенькую. Я не знала, что это пекинес. Я говорю: ой, какая хорошенькая, можно с ней поиграть? Мне говорят: да, пожалуйста. Я ее взяла. Вот такусеньким язычком она меня всю сразу обцеловала. Как ее зовут? Называют имя моей покойной мамы. Это было 9 августа, а у мамы день смерти – 11 сентября. И сразу: это от мамы! Сколько стоит? Хозяйка называет сумму – в 1998 году вообще предел, даже помыслить нельзя, где такие деньги взять. Я начинаю думать, что продать. В это время один господин отдает деньги, берет собаку, и я в ужасе, что он уйдет, а он вот так обходит и подает собаку мне: возьмите, я ваш почитатель. Я запомнила фамилию, имя, отчество этого человека. И не было дня, чтобы я не пожелала ему добра. Это было потрясение. И недавно я встретила человека, который его знает. Я думаю, мы еще встретимся…
– Слово «одиночество» вам незнакомо?
– Знакомо. Я понимаю, что это такое. Но у меня есть театр. Есть телефон. Есть телевизор. Есть мой фонд. Есть ученики. Я все время что-нибудь делаю. У меня интересная жизнь. Мне интересно жить. У меня есть еще желания. И у меня что-то получается.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
БЫСТРИЦКАЯ Элина, актриса.
Родилась в 1928 году в Киеве. Окончила Киевский театральный институт. Работала в Вильнюсском драматическом театре. Была принята в труппу Малого театра.
Легендарная Аксинья в фильме «Тихий Дон». Снималась также в картинах «Неоконченная повесть», «Добровольцы», «Все остается людям», «Дачники» и др.
Народная артистка СССР.
ЦИРК ШАПИТО Сергей Гармаш
Один из самых ярких и талантливых актеров последнего времени.
Заразительный, искренний, смешливый, он выделяется из своего поколения серьезным отношением к искусству, которому служит – без громких слов, но всей сутью своей природы.
* * *
– Я помню вас начиная с фильма «Отряд» – очень сильный дебют.
– Спасибо.
– Вы много снимаетесь, но если бы вы были американским артистом и вам присуждали «Оскара», как вы думаете, какую премию вы бы получили скорее: за роль второго или первого плана?
– Трудно сказать. Количество ролей второго и первого плана у меня, наверное, одинаковое. У меня четыре дощечки стоят – номинации на «Нику», из них две – за главную роль в «Механической сюите» Димы Месхиева и «Любовнике» Валеры Тодоровского и две – за роль второго плана в «Нежном возрасте» Сергея Соловьева и «Ворошиловском стрелке» Станислава Говорухина. Я больше скажу. Иногда роль второго плана, а то и просто эпизод приносили мне гораздо больше, чем главная роль. Недавно позвонила молодая продюсер и сказала, что они придумали проект: все главные роли играют молодые люди, а на второстепенные хотят взять звезд, и предложила эпизод метров на десять. Мне категорически не нравится слово «звезда», я никак не отношу себя к этой категории, но дело не в этом. Объясняя свой отказ, я рассказал ей такую историю. Я попал в фильм «Отряд», когда играл роль соседа в пьесе Вампилова в дипломном спектакле школы-студии МХАТ, в кино роль уместилась бы в пять метров. Не от размера зависит. Я, может быть, с удовольствием соглашусь на роль без текста, если есть что сыграть. Я играл маленькую роль в картине Цымбала «Повесть непогашенной луны», которая и опыт мне принесла, и была замечена. И так происходило не раз. Я знаю артистов, у которых это проблема – не у меня.
– А почему вы не любите, когда вас называют звездой?
– Потому что мы переживаем трудное время, я бы сказал, время мнимых величин. Куда ни ткни… Есть другие осветительные приборы, кроме звезд. Нужна градация. Мало того что мне это не нравится… Нельзя про Качалова сказать: звезда. Он артист. Великий русский артист. Это звучит. Или про Ефремова. Или про Евстигнеева: по слуху просто не монтируется. А если глубже – я себя от этого оберегаю.
– Каким образом?
– Трудно соглашаюсь на такие встречи, как вот у нас с вами. Очень избирательно. Практически не хожу на телевидение.
– Вам и не надо ходить – оно само вас тиражирует.
– Я имею в виду, когда люди готовят еду, отгадывают загадки, выигрывают деньги…
– Один французский исследователь сказал: сегодня, если вас нет в телевидении, вас вообще нет.
– Я же говорю, время мнимых величин.
– А почему вы такой? По природе или задали себе урок?
– Не то что урок… Сейчас себя легко потерять. Даже не заметишь, как это произойдет. В результате частого мелькания в прессе, на телеэкране… не мне вам объяснять. Если какой-нибудь американский актер типа Николсона, которого мы каждый раз ждем с трепетом в новой роли, начнет вести еженедельное шоу – всё. Я очень хорошо вижу, что происходит с артистами, даже хорошими и мной уважаемыми… Я этого боюсь. Может, лет пять-шесть назад я не так это понимал и шел на передачи, но тогда этого и не было так много. А пятнадцать лет назад артисты вообще появлялись только в «Кинопанораме», а остальное время занимались профессией. Кино хорошего было больше, между прочим.
– А то, что вы играете в сериалах, что-то отнимает или что-то дает? Или вы зарабатываете деньги?
– Первый мой сериал – «Досье детектива Дубровского». Его делал Саша Муратов, у которого я снимался в «Моонзунде», кстати, вместе с Евстигнеевым. Я не мог отказаться. В «Каменской», где продюсер Валера Тодоровский, к которому я отношусь с большим интересом и уважением, была прекрасная команда, приличный бюджет, мы старались работать честно и снимали абсолютно киношным способом, подробно и тщательно. Но, конечно, когда это случилось второй и третий, и уже четвертый раз, было бы глупо говорить, что я испытываю такой же интерес, как раньше. Но студия Тодоровского, которая это производит, на протяжении всех лет так относилась ко мне, что грех обижаться. Я снимался в картине «Любовник», в картине «Мой сводный брат Франкенштейн», в картине «Поклонник». Эта студия обеспечила меня не просто работой, а выбором работы. Я снимался в сериале «По ту сторону волков» у Володи Хотиненко, которого люблю, и в сериале «Линии судьбы» у Димы Месхиева, которого обожаю. У Месхиева история человека в состоянии аутизма, я молчал почти все двадцать четыре серии и заговорил только в конце. Я такого не играл, мне это было интересно. Я понимаю, что сериалы пришли, и мы никуда от них не денемся.
– А было что-то, отчего неудобно?
– В послужном списке? Полным-полно. Да больше, чем того, за что не стыдно. До 1999 года я знал, что зарабатываю деньги, и не ждал результата. Но в это время я снялся в «Бесах» у Игоря Таланкина, картины не случилось, зато это был процесс! Для меня Достоевский – икона. Я считаю, что Достоевский – принадлежность актерской профессии. Как и Чехов. Это постоянные величины, которые нужно проходить гораздо тщательнее, чем, положим, Станиславского. У меня был педагог, который говорил: небось «Работу актера над собой» Станиславского читаете от корки до корки, дураки, а надо ткнуть пальцем куда попало, прочесть и поставить на полку…
– Почему вы пошли в актеры?
– Случайно. Ой, я не могу это рассказывать! Много раз рассказывал.
– Не все слышали, а аудитория у нас огромная.
– Я учился в восьмилетке в Херсоне – хорошо всего по четырем предметам: русскому, литературе, истории и природоведению. Но мальчик был неуравновешенный, и в восьмом дважды просили забрать меня из школы. Я мечтал о море. И сейчас мечтаю. Если б у меня вдруг оказалась яхта, я бы все в жизни оставил и всю остальную часть провел в океане, правда! Не потому, что я то не люблю, а потому что я это люблю так, что!.. Короче, мама, понимая, что надо что-то делать, купила мне справочник для поступающих в средние учебные заведения Украины. И я помню мизансцену: она гладила белье, а я листал справочник. Смотрел, где есть мореходки. Случайно открыл: Днепропетровское театральное училище. И говорю: вот сюда я бы поступил. Даже не на уровне шутки, а на уровне реплики. Я никогда не участвовал в художественной самодеятельности, я был плохой мальчик, но иногда просили на какой-нибудь линейке зачесть лозунг: у меня это получалось выразительно. Стихи запоминал с двух раз. И когда я был на соревнованиях, моя мама, диспетчер на автостанции, повезла туда мои документы. Ей сказали: тетя, мы не принимаем документы без человека. Она говорит: он у меня такого маленького росточка… В общем, сделали снисхождение и приняли заявление. Я приехал с соревнований, а мама говорит: а я сдала твои документы. Я помню, что не удивился, а подумал: о, в другой город съезжу. Папа говорит: садись за учебники. Я сел. И происходит фантастическая история. Мы приезжаем с папой в Днепропетровск, а мне пятнадцать не исполнилось, я смотрю, какая-то тусовка, я спрашиваю одну барышню: что тут такое? Отвечает: мастерство сдают. Я говорю: какое мастерство? В это время папа мой становится зеленого цвета и показывает мне программу, общую для всех вузов, но внизу, помимо общеобразовательных предметов, меленько примечание: основным экзаменом при поступлении в театральное является экзамен по мастерству. Он говорит: ты это читал? Я говорю: нет. Я приехал сдавать диктант, а никакое не мастерство. Упросил переложить мой экзаменационный лист, вышли с папой, сели на скамейку, я у этой барышни взял украинскую книгу – прозу и стихи надо было читать по-русски, а басню по-украински – быстро выучил что-то самое короткое, моментально вспомнил Исаковского, пафосное, типа «Родина прекрасная моя», а что делать с прозой? А мне папа принес с работы коробку пластинок с интермедиями Райкина, и я их слушал. И когда мне сказали: прозу, – я начал голосом Райкина исполнять его интермедию. Они ошалели. Говорят: что вы делаете, надо прозу. А я говорю: а чего, это не проза разве? Говорят: а почему вы не готовы? Я говорю: я готов. И слышу: ну мы вас пропустим, наглец, но если вы приедете к следующему туру не готовым!.. Я вернулся, выучил рассказ Чехова, стихи Есенина и поступил.
– Когда же вы так вымахали?
– На втором курсе, сразу. Мама рассказывает, что когда мне было лет пять, я говорил, что буду киноартистом. Не помню начисто. Но кино очень любил. В пятом классе я посмотрел «Без вины виноватые» с Аллой Тарасовой и Борисом Ливановым и рыдал полночи. Я обожал цирк. Рядом парк, там всегда шапито, а у нас свой дом, и бабушка пускала к нам жить артистов цирка. Я пропадал у них. В шестом классе неделю ходил не в школу, а в шапито. То есть я пытаюсь выстроить что-то, чтобы увидеть судьбу.
– Как вы играете: слушаете режиссера, действуете по наитию, вынимаете из копилки?
– Копилка, наверное, существует. Артист Весник рассказывает, как берет человека целиком и играет. Это здорово. Я так не пытался. Мне не хотелось. Хотя какие-то ситуации с людьми я подмечаю. Но срисовать конкретно характер – нет. Я безусловно слушаю режиссера. Мне нравится постулат Волчек: умейте быть первоклассником. Не притвориться, а быть. Наитие – наверное. Знаете, я у Вайды на первой читке «Бесов» начал читать так, как будто я уже на сцене. Я иногда чувствую, что надо вскакивать в роль сразу, врываться в нее, чтобы поломать в себе какие-то стереотипы.
– Вы играете всегда другого или всегда себя?
– Я играю из себя. Я в этих обстоятельствах. Я вытаскиваю этого Лебядкина из себя. Мне интересно, как бы я вел себя, будь я Лебядкин. А если бы я стал показывать, что вот Лебядкин, а вот Гармаш, – было бы хуже.
– Какой режиссер – для вас счастье?
– Абдрашитов. Тодоровский. Месхиев. У Вадима съемки – некое таинство. Он может заставить всю группу жить целиком в этой истории. В «Армавире» я не просто жил в Сочи, Феодосии, Одессе – я жил в этой истории. Он своей фантастической энергетикой втягивает тебя в это пространство. Мы сидим разговариваем, а герой между нами – третьим. Вадим не говорит: вот тут ты то-то и то-то. Он говорит: он. И так его видит, что и я начинаю видеть. Процесс, подготовка, эта стойка Вадима, когда он начинает работу, – это что-то! Неспроста все люди, которые с ним работали, становятся его людьми. Он с невероятной серьезностью учит нас, что такое кино. Я обожаю все его шифры в кино. С Тодоровским мы были знакомы, а с Месхиевым нет. И вдруг произошла такая штука. Островский пишет на «Кинотавре» сценарий «Своих» и все время мне рассказывет, что дальше, а мы вместе в жюри, и потом говорит: мне кажется, что Макиянц – это ты. Месхиев, с которым я незнаком, звонит мне и спрашивает: вы будете сниматься? Я говорю: да. Он говорит: хорошо, я вас утверждаю. Без проб, без ничего. Мы встретились, и через пять минут у меня было ощущение, что мы знали друг друга всю жизнь. А уж когда я попал к нему на съемочную площадку… Прежде всего, это семья. Картин восемь они делали вместе. Я не знаю больше такой группы в России, которая бы, по всеми забытой традиции, отмечала 100-й, 200-й и т. д. кадр. Вы знаете, что это? 100-й кадр – режиссерский, 200-й – операторский, 300-й – художники выставляются, 400-й – артисты, 500-й – администрация. Я всю жизнь капустниками в театре занимаюсь и никогда не делал ничего подобного в кино, а на картине «Механическая сюита» я, Пореченков, Зибарев, Хабенский делали капустник, писали песни, на «Своих» покупали подарки, сочиняли, придумывали что-то – опять же я, Михалкова, Хабенский, Ступка. Никто не соблюдает – Месхиев соблюдает, как соблюдали отцы и деды. А что перед съемкой? Мы собираемся, Костя Хабенский, Миша Пореченков, что-то придумываем – я люблю на съемках придумывать, – приходит Месхиев с горящим глазом, выслушивает и говорит: дураки, ни фига, совсем не так. И сколько я с ним работаю – это его «совсем не так» всегда меня удовлетворяет. Он ко мне и к Косте относится замечательно, но если есть режиссеры, которые видят, что я в третьем дубле сыграл и недо-играл чуть-чуть, и говорят: ничего, нормально, – то Месхиев подойдет и скажет: нет, Серёнечка, давай еще раз. Я его обожаю за это. Я снялся у него в двух картинах, когда начался «Любовник». О Тодоровском еще больше могу говорить. Мы садились в ресторане часов в десять после съемки и сидели до двенадцати ужинали, и это перетекало в репетицию, и в разные размышления, и забирались каждый в свою судьбу, что-то рассказывали. А в девять утра Тодоровский приходил на площадку, и я реально видел, сколько он еще потом не спал. Я этим восхищен. Он работает, с головой погрузившись только в это, а при этом легок, азартен…
– Вы так вкусно рассказываете, что у меня вопрос: вам больше нравится жить в искусстве или просто жить?
– Что значит просто жить? Ну я водку начал бы, наверно, пить сильно. Если бы, конечно, не смог приобрести яхту. Вот если яхта… то честное слово!.. Мы не знаем, что в нас хранится. Может, я закончу не артистом «Современника», а воспитателем в колонии или вахтером…
– Вы чего-нибудь боитесь?
– Да. Боюсь подумать, что я чему-то научился и что-то значу. Искренне боюсь. Боюсь, что чем старше становлюсь, тем больше начинаю не то что брюзжать… но мне досадно, что молодые ни фига не читают, ни фига не видят. А с другой стороны, понимаю, что ничего с этим не поделать.
– У вас дочь?
– Дочь Даша, шестнадцати лет.
– И какие у вас взаимоотношения?
– Сейчас тяжелые. Мы, конечно, любим друг друга, но последний год деремся, потому что жестокий, строгий и плохой папа – все время занят – с упорством кретина приучает ее читать и отучает, чтоб не стала артисткой.
– Скажет ли она вам спасибо за это?
– Думаю, да. Потому что если она – артистка, то никакой папа не поможет, ничего ее не удержит. Папин характер – живая, общительная, болтливая, пытается шутить…
– А как артиста она вас любит?
– Спокойно относится. Мне, кстати, это нравится.
– А как вы женились?
– Мы учились на первом курсе, я влюбился, ухаживал-ухаживал до третьего курса, на четвертом уже стали жить вместе, а закончили школу-студию – женились. 21 августа было двадцать лет.
– Жизнь кругом взбаламученная, много жестокости и отчаяния, вы это в себя впускаете?
– Знаете, раньше в ответ на вопрос, как дела, я отвечал: ничего, да так. А теперь – если у тебя есть крыша над головой и хлеб, ты уже не имеешь право говорить: да так. Я отвечаю: хорошо. Хо-ро-шо. Есть мои родители, живущие в Херсоне, которым я могу помогать и испытывать от этого счастье. Хо-ро-шо. Именно оттого, что ощущаю и обездоленность людей, и несправедливость невероятную. Иногда становится страшно от того, что видишь и слышишь.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ГАРМАШ Сергей, актер.
Родился в 1958 году в Харькове.
В 1984 году окончил школу-студию МХАТ. Был сразу принят в труппу театра «Современник». Из значительных театральных ролей – Лебядкин в «Бесах» по Достоевскому, Фамусов в «Горе от ума» Грибоедова.
Снимался в фильмах «Отряд», «Армавир», «Дети чугунных богов», «Плащ Казановы», «Летние люди», «Время танцора», «Ворошиловский стрелок», «Нежный возраст», «Любовник», «Мой сводный брат Франкенштейн», «12», а также в сериалах «Каменская», «Досье детектива Дубровского», «Линии судьбы».
Лауреат премий «Ника» и «Золотой овен».
МЕШОК МОНЕТ Наталья Белохвостикова
Мы встретились накануне ее дня рождения в маленьком кафе неподалеку от дома, где она живет. Она не скрывает своих лет, потому что ей нельзя их дать: та же фигура, то же обаяние. А между тем в раннем возрасте ее называли «запасной Черчилль». Щеки лежали на плечах, по ее собственному выражению.
Я думаю, она могла бы стать великолепным послом: умная, красивая, сильная. Родилась в дипломатической семье, детство провела в Лондоне, повзрослев, собиралась поступать в МГИМО (институт международных отношений). Но в Стокгольм приехал и пришел к послу Марк Донской. Он снимал фильм о матери Ленина, нужны натурные съемки, а артистов вывезти за границу не получалось, бюджет маленький, он привез только их костюмы, чтобы подснять дублеров – из посольских. Посольские все заняты, свободна дочь посла. Так тринадцатилетняя Наташа сыграла в эпизоде семидесятипятилетнюю Марию Ульянову.
* * *
– В Москве мы шли с мамой после просмотра на студии Горького, а навстречу – Сергей Аполлинариевич Герасимов. Донской представил ему маму, потом меня: будет, мол, актрисой. Герасимов сказал: ну пусть поступает, но курс я уже набрал. А вскоре дома звонок: Герасимов ищет ту большелобую девочку, пусть придет.
Большелобой девочке идти первого сентября в десятый класс – она отправилась во ВГИК (институт кинематографии). Герасимов задерживался. Зато не задержались с косыми взглядами будущие коллеги: толстая коса до попы, юбочка в складочку, краснея и бледнея, она все замечала, тихо вышла и поехала домой. Дома сказала, что ей не понравилось, и стала собираться в школу. Папа сказал: подожди, давай поговорим, ты же хотела стать актрисой, тебе шестнадцать лет, ты взрослая? Взрослая, отвечала Наташа. А если взрослая – бери такси и поезжай, пока не опоздала.
– Отец у меня был уникальный. Ну какой еще посол после приема, встреч на любом уровне возвращается домой и часами играет с дочкой и сыном на ковре, до полуночи читает вместе книжки… Всякий на его месте обрадовался бы: не в актрисы, а пусть кончает школу!..
– Ваш замечательный лоб…
– …отцовский. Поехала – и опять навстречу Герасимов. И вдохнув, словно перед тем, как прыгнуть в ледяную воду, я все-таки вошла в его мастерскую… Говорили, что Сергей Аполлинарьевич писал роль специально для меня – ничего подобного, он полгода со мной репетировал, чтобы я освоила характер. Фильм черно-белый, а я даже на черно-белой пленке вижу, где у меня пылает лицо. Полгода не получалось, я все фазы прошла, от решения уйти до надежды, что получится. Он хотел, чтобы у меня была вертикальная складка над переносицей, и я часами морщила лоб, так она навсегда и осталась.
– Государственная премия, поездки по миру, всенародная популярность – и не изменившаяся природа? У вас так и остался застенчивый характер?
– Достаточно замкнутый. Самостоятельный. Все-таки детство было странное, я рано стала взрослой, а в то же время была незащищенной. Папа говорил: что бы с тобой в жизни ни происходило, улыбайся и держи спину. И я это знала. Мне это нравится. Я вообще мало верю в какое-то там сострадание со стороны окружающих. И очень благодарна папе-маме за то, что напиталась этой правильной позицией жизненной. Я хохотушка. И не революционерка, дверь ногой открывать, требовать: возьмите меня, я такая-разэдакая… С ранних лет никогда ничего не просила.
– Сами придут и все дадут?
– Да! Хотя тогда я еще «Мастера и Маргариту» не прочла.
В самолете, которым группа кинематографистов летит в Югославию, актриса Наташа Белохвостикова знакомится с режиссером Владимиром Наумовым. Он шесть лет как разведен, живет один в четырехкомнатной квартире, разводя одного бурундука, и жениться больше не собирается. С ним происходит что-то вроде солнечного удара. Позднее, в Пицунде, работая над сценарием с постоянным соавтором Александром Аловым, он купит у пожарного брезентовый мешок, набьет «пятнашками» для автомата и часами будет разговаривать с Наташей по телефону.
– Володя – первая любовь?
– Первая и единственная. Я вспоминаю ВГИК: успела поучиться, посдавать экзамены, поработать и даже ни на одном вечере вгиковском не была! Мне было двадцать лет!
– Первая и единственная, да еще художественная близость… Вы уникально счастливы по случаю, или секрет заключается в вашем отношении к жизни?
– Сказать, что я уникально счастливая – безумие. С нами происходит разное – и самое яркое, что может перевернуть жизнь, и боль, и тяжелые ситуации.
– Ну что тяжелого было у вас?
– Потеря отца. В одночасье. Болезнь мамы. Болезнь брата, сначала два инфаркта, потом инсульт. Когда я приходила к маме в реанимацию, а она говорила, что не понимает, зачем она тут, и хочет уйти, а я знаю, что ей час назад сердце завели и вернули с того света, и слушаю ее совсем без кожи… Когда с братом случилось, и мне говорят, что его не спасут… а я говорю, что не хочу, чтобы он погиб, и мы с Наташей, дочкой, вызываем реанимобиль и везем его из этой больницы в другое место… Я точно знаю, что пока я этого не хочу, пока говорю: я этого не дам, – я буду держать человека. Может быть, это иллюзия, наверное, решается не тут… Но если впал в отчаяние – теряешь. А если любишь и хочешь – то в этот миг просыпается какая-то сила…
– Люди слишком часто говорят себе, что ничего не могут сделать…
– И теряют. А если ты делаешь, то это не то что украшает жизнь, а заводит ее. У меня всегда было желание беречь все, что вокруг. Я очень берегла маму. Если у меня были проблемы, мама никогда не знала о них. Я понимала, что ей будет тяжело, она была болезненна. Я всегда знала, что те, кто рядом, я должна их сохранять.
– Откуда это?
– Не знаю. Но это качество, оно… звенящее.
– А постоянное существование в вашей жизни соавтора мужа, Алова, не вызывало у вас досаду, что вот он проводит время с ним, а не со мной?
– О, это была такая замечательная дружба! Мне нравилось невероятно! Утро начиналось со звонка. Вечер кончался тем же. И так до его смерти, в последний съемочный день на «Тегеране». Володя создал для меня удивительный круг общения. Вот я сижу в городке Сан-Арканджело, в Италии, где Володя собирается снимать фильм с Мастроянни, Тонино Гуэрра писал сценарий, и они все вместе сочиняли кино. Это было потрясающе!.. А потом мы приезжали в Пиннеабили, к Тонино, и опять они сочиняли, хохотали, а я сидела в уголке – такое удовольствие! Проходит время, и понимаешь, какие мощные люди, как они творят, и так жалко, что этого никто не видит.
– Вы не знаете скуки?
– Нет. Не получается просто. Только соберусь переждать и поскучать…
– Слишком энергична…
– Володя – фонтанирующий человек, круглосуточно, круглогодично, а мне нужны отливы. Я люблю, чтобы тишина, я где-то в уголке, с книжкой. И если это происходит, мне с собой нескучно. А Володя приходит со съемок и садится рисовать. Сегодня всю ночь рисовал. Ему это нужно для переключения, или, быть может, он сочиняет тогда.
– Что вы сейчас делаете?
– Заканчиваю озвучание картины «Джоконда на асфальте», Володя снимал по своему сценарию. Играют Валерий Сторожик, Армен Джигарханян, наша Наташа…
– Как вам с дочерью игралось?
– Когда мы с ней в первый раз встретились в кадре, мы хохотали час на площадке. Я там играю женщину экстравагантную, экзальтированную, странную, она все время хочет замуж выйти… Отсмеялись и начали играть.
– Наташа, а вы живете мимо того, что происходит на улице, в телевизоре?
– Ну как же можно мимо!… Вот вчера Наташа меня подвезла, я рядом живу, проехали мимо гаражей и поднялись наверх. Через сорок минут приезжает Володя, какой-то не такой. Я говорю, что случилось. Он говорит: кошмар, мимо тех же гаражей ехал, там милиция, две машины, все перекрыли, лужа крови, не знаю, убит кто-то или ранен… Под нашими окнами, в центре Москвы. Хочешь не хочешь, это входит в твою жизнь… Я узнала, что в Москве каждый год сдают в дома престарелых три тысячи человек. И только троих-четверых забирают обратно в семьи. Мне нехорошо неделю. Я вообще не понимаю, как это может быть.
– Помните библейское: спасешься сам, спасутся вокруг тебя…
– Как эта девочка Вика, стюардесса, спаслась и спасла из самолета двадцать человек, прямое воплощение библейского.
* * *
Наташа и Володя взяли в свою семью мальчика из детдома.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
БЕЛОХВОСТИКОВА Наталья, актриса.
Родилась в 1957 году в семье дипломата.
Окончила ВГИК. Снялась в 30 фильмах, включая «У озера», «Легенда о Тиле», «Бег», «Тегеран-43», «Берег», «Джоконда на асфальте».
Муж – Владимир Наумов, кинорежиссер.
Дочь – Наташа, киноактриса.
КЛУБНИКА С ОГУРЦОМ Артемий Троицкий
Известный летописец рока, известный плейбой, бывший главный редактор журнала «Плейбой», мой давний знакомец разговаривал со мной не столько о музыке, сколько о себе, о своих взаимоотношениях с эпохой и людьми.
А также о совести.
* * *
– Тёма, позвольте мне вас так называть в память о тех днях в замечательной эстонской деревне Вызу, где проводили лето наши семейства, вы с бабушкой и мои девицы. С тех пор прошло время – изменились ли вы или равны себе?
– В смысле физиологическом – да, изменился. Слегка. Прибавил килограмм десять веса. Вес, естественно, лишний. Кроме того, некоторое время назад я понял, что уже не молод и здоровье оставляет желать лучшего. А тогда, естественно, никаких этих проблем не было. Я был счастлив, жил с таким мальчишеским мироощущением, хотя и было мне уже лет тридцать, не меньше. Внутри, я думаю, произошло очень мало. То есть мир изменился очень сильно. К новым условиям я более или менее адаптировался. Причем у меня, в отличие от многих, это произошло абсолютно органично. Я не могу сказать, что я себя ломал, испытывал какие-то культурные, экономические, политические и прочие шоки. Вообще, интересно приспосабливаться к переменам и находить какие-то новые тактики и стратегии. Так что за последние десять-пятнадцать лет, когда перемены только и случались, я как раз чувствовал себя абсолютно в своей тарелке.
– О русских, советских людях говорят, что они терпеть не могут жить в ситуации выбора, привычнее в колее. Вы в этом плане советский человек? Не любите выбора? Или наоборот?
– Я, действительно, абсолютно не советский, не знаю, русский или нет, поскольку очень люблю ситуацию выбора. Эта самая проблема выбора, стоящая перед нашим молодым героем, меня всегда исключительно привлекала и представлялась самым интересным из всех вызовов, которые жизнь бросает. И напротив, я чувствовал, что начинаю захиревать и загнивать, как только моя жизнь входила в колею. В общем-то, вся моя жизнь – нахождение этой колеи и попытки из нее выбраться. Скажем, в восемьдесят каком?.. третьем году я уже был на пороге кандидатской диссертации…
– По какой науке?
– По социологии. То есть был бы кандидат философских наук…
– А что вы закончили?
– Я закончил экономико-статистический институт, факультет экономической кибернетики. А работал после этого в Институте искусствознания, занимался социологией и прогнозированием художественной культуры. Потом я из этого института вылетел, отчасти по собственной, отчасти по несобственной воле, и был ужасно этому рад, потому что вот это уже была колея железная. А еще раньше я себя просто криминальным образом повел, поскольку был распределен в Центральное статистическое управление, куда не явился на работу и бегал от властей, от милиции и военных повесток… Если говорить о выборе, то мой выбор – это, наверное, иметь выбор всегда. И по возможности не попадать в безвариантные положения.
– Вы были в андеграунде, человек подполья. А стали весьма светским человеком. При этом сохраняете самоуважение и уважение людей, у вас независимая позиция, вы позволяете себе критиковать пошлость, которая существует на эстраде, называете вещи своими именами и при этом не испытываете жизненных тягот: вас никто не бьет по лицу, не убивает, напротив, с вами считаются. Как это вам удается?
– Вы сразу несколько тем затронули, Ольга. Опять же проблема внутренней и внешней независимости. Еще до всякого андеграунда, когда я был фактически тинейджером, в семидесятые годы, мне очень нравилось быть одновременно в самых разных и практически взаимоисключающих компаниях: московские хиппи со всеми их атрибутами, с другой стороны – какие-то полууголовные блатные круги, с третьей – круги интеллектуально-диссидентско-студенческие, с уклонами то в «новые левые», то в православие, то в буддизм. И я повсюду себя чувствовал хорошо. И переходил из одной авоськи в другую без труда.
– Вы при этом впитываете в себя то, что вокруг вас, или себя несете?
– Я боюсь, что такого рода отношение к жизни грешит определенной поверхностностью. То есть я скорее покрываю максимальную территорию, нежели ухожу на максимальную глубину. Люди, которые все время делают одно и то же и в этом, естественно, достигают поразительного совершенства, – я их очень уважаю. Но мне интереснее вот растекаться вширь, хотя, разумеется, это имеет свои недостатки. В каком-то смысле я очень поверхностный человек. Что касается андеграунда и светскости, это продолжение того же. Мне интересно это сочетание, условно говоря, клубничного варенья и соленого огурца. Кстати, на самом деле и в еде тоже. Мне нравятся острые контрасты. И я себя чувствую вполне естественно и там, и здесь. А там, где я себя чувствую неестественно, там, где мне реально не нравится, я не показываюсь никогда, даже если это сулит мне огромные выгоды. Я знаю совершенно точно, что я ни за что не буду вливаться в какие-то компании, связанные, скажем, с большим бизнесом, или преступностью, или нашей российской политикой. Этого я всегда избегал. И нисколько об этом не жалею.
– Так, эту тему отработали. Теперь насчет самоуважения и уважения.
– Я боюсь, что я ничего специально не достигал и не выстраивал над собой никакой крыши. Скорее надо бы спросить жертв моих оценок, почему они все принимают и не спорят со мной. Отчасти даже обидно. Я припоминаю один-единственный случай, когда Маша Распутина сказала: а кто, вообще говоря, такой Троицкий, я читала в детстве его статью о группе «Queen», он и «Queen» тоже ругал, какой же это, к черту, специалист и авторитет? Я был очень рад такой отповеди, потому что обычно этого не делают. Потом мне приятно было бы поспорить.
– А почему с вами не спорят?
– Ой, да я не знаю. В общем-то, скучно быть каким-то непререкаемым авторитетом. Я думаю, что, может быть, отчасти это связано с тем, что если я высказываю какие-то мнения, в том числе и резкие, то они более или менее умно аргументированы. То есть не простые эмоциональные наскоки, а результат какого-то анализа, основанный на фактах, сравнениях и так далее. В принципе, я думаю, со мной очень сложно спорить. Потому что уж если я начну это делать, я не помню случая, чтобы я кого-то не переспорил.
– Вам стало как будто тесно в рамках только музыки. Вы завели в «Новой газете» свою рубрику. Это душевная потребность высказаться о времени или просто ремесло?
– Это ни в коем случае не ремесло, поскольку ремесло – то, что человек делает ради выживания или карьерных устремлений. В данном случае, и с точки зрения материальной, колонка почти ничего не дает. Так что да, это потребность. И для меня, может, самое интересное, наряду с моей радиопередачей, из всего, что я сейчас делаю.
– В чем ваша позиция?
– Я думаю, моя позиция может быть определена двумя вещами. Во-первых, стремлением быть умным, и, во-вторых, стремлением быть честным. Всё. Больше ничего. У нас масса неглупых людей, которые пишут в газету и выступают по телевидению. Но, как правило, свои интеллектуальные способности они ставят на службу конъюнктуре – левой, правой, финансовой, идеологической.
– А вы продолжаете оставаться независимым?
– Я думаю, что я абсолютно независим, и, собственно, поэтому я пишу в «Новую газету», которая, как мне кажется, осталась последней газетой, действительно не подвешенной ни за какую веревочку, кончик которой упирается в чей-то жирный палец. Не могу сказать, что я во всем согласен с «Новой газетой», но, по крайней мере, я уважаю то, что они никому задницу не лижут. Это уникальное качество для средства массовой информации в современной России.
– Вы не принимали советской власти, теперь не принимаете власти денежного мешка?
– Нет, конечно, не принимаю.
– А что вам помогало и помогает сохранять независимость? Это природное свойство, воспитанное, или материальная независимость вам дала такой статус?
– Никогда об этом не думал.
– Подумайте сейчас.
– Скорее всего, все то, что вы назвали, в той или иной пропорции. Хотя я думаю, что материальная независимость тут на последнем месте, поскольку я прекрасно помню буквально нищенское существование в 70—80-е годы, когда не на что было купить проездной билет, или в середине 80-х, когда меня отовсюду изгнали, повсюду запретили за какую-то эстетическую и идеологическую неблагонадежность. У меня абсолютно не было денег, но я себя прекрасно чувствовал и делал то, что хотел. Хотя нынешние времена намного жестче в этом отношении. И теперь, если бы у меня не сложилась эта толстая денежная подушка подо мной, может быть, мне и пришлось бы чем-то поступаться. Слава богу, пока не приходится.
– Вы производите впечатление денди. Несмотря на рубашку такую расхристанную. Вот этот дендизм, определенное высокомерие, отчего народ может брызнуть в разные стороны, – вы культивируете? Вы из простых или сложных?
– Я не могу сказать, что я культивирую. Наверняка нет. По поводу простых или сложных – не могу ответить. То есть я думаю, что на самом деле существует какая-то внутренняя диалектика. Я до некоторой степени верю в астрологические характеристики. Я родился под знаком Близнецов, которым свойственны раздвоенность, шизофрения, постоянно борющиеся два начала. Во мне это все есть. То есть простой и сложный, сноб или человеколюб – все намешано. Время от времени проявляется одно, потом другое. Но одно я могу сказать абсолютно точно: что я никогда в жизни не работал над собой в плане воздействия на окружающих. В плане самосовершенствования —сколько угодно. Но в плане имиджа, репутации, впечатления, которое произвожу, – никогда в жизни эти вещи меня не волновали.
– А «учитесь властвовать собой»?
– Властвовать собой очень сложно. Я активно работал над собой в плане, скажем так, не то что выдавливания раба – этого во мне никогда не было, – а чтобы быть лучше, честнее. То есть анализировал свои поступки. Я всегда стараюсь поступать хорошо.
– Вы из себя выдавливали подлеца, скажем так?
– Да, подлеца и вруна, и человека, который идет на сделки с собственной совестью. Сделки с совестью у меня никак не получаются. Я просто решил, что мне при моем внутреннем устройстве намного проще быть честным и порядочным человеком, потому что каждый раз, когда я знаю, что поступаю нечестно и непорядочно, меня начинают угрызать какие-то страшные мысли.
– Ну хорошо, а страсти разрывают? Как ваша любовная жизнь протекала?
– Бурно всегда. Нет, это очень интересно, конечно, быть влюбленным, быть подверженным страсти. Просто это лучшие минуты, часы, дни, недели человеческой жизни. Естественно, не слишком все это продолжительно, но безумно красиво. В последние годы я стал семейным человеком. Сначала у меня была одна семья, теперь – другая. Точнее, раньше была жена, потом стала семья. И это что-то новое.
– У вас была английская жена?
– Нет-нет, все мои жены, их было три, русские. Бывали подруги из других стран мира, но жены со штампом – наши гражданки. С первой женой темная история. Мне тогда было девятнадцать лет, и все было очень странно, скоропалительно и скандально. Вторая жена – Света Куницына, которая вела программы о моде на НТВ. Третью жену зовут Марьяна. Она журналист, пишет рецензии, писала, точнее.
– А почему семья? У вас появились дети?
– Детей пока нет, но есть семейное ощущение. То есть ощущение того, что дом, в доме есть собака.
– Это новое для вас чувство?
– Да-да-да, абсолютно новое. То есть раньше меня по жизни вели в основном музыка, секс, путешествия, может быть, журналистика, а ничего такого домашнего-семейного не было. Это ощущение появилось совсем недавно и сразу вышло если не в лидеры, то по крайней мере выдвинулось вперед.
– Вы любите жизнь?
– Да, я неплохо отношусь к жизни, скажем так. Я не могу сказать, что люблю ее до трепета и безумно боюсь потерять…
– А что значит не боитесь потерять?
– У меня нет страха смерти. Или я фаталист.
– И не было никогда?
– Сколько я себя помню, не было. Может быть, с этим отчасти и связано то, что я позволяю себе резкие высказывания в адрес некоторых деятелей, связываться с которыми, как известно, очень опасно.
– То есть не боитесь, что они вас пристрелят. А, скажем, радость, отчаяние – такие сильные чувства вы продолжаете испытывать? Или все приглушено воспитанием?
– Я думаю, что до некоторой степени приглушено. Естественно, мне очень трудно сравнивать свое нутро и свое мироощущение с мироощущением других людей. Но я думаю, что никогда не был таким суперэкспансивным и гиперэмоциональным человеком. То есть когда я вижу людей, которые визжат и прыгают от радости или от отчаяния, я уж не говорю о самоубийцах… я этого никогда не испытывал.
– У вас сильный интеллект?
– Я очень рациональный человек, да. Я думаю, что отчасти из-за этого я абсолютно нерелигиозный человек. Для меня знать, в отличие от известной песни Макаревича, значительнее важнее и интереснее, чем верить.
– И вы не страдаете от безрелигиозности?
– Абсолютно. Я не исключаю того, что как случалось со многими, с Вольтером, как гласит легенда, аж на смертном одре, и со мной может случиться, но пока симптомов не наблюдается.
– А был самый-самый момент в жизни, который вы помните как переломный?
– Последний раз это было где-то в конце 1994 года, когда я однажды проснулся после многодневного загула и понял, что не могу встать, и что пульс у меня триста с чем-то ударов, и так далее. Я понял, что мне уже не семнадцать лет. После этого я кое-что бросил, включая вторую жену. Это можно считать переломным моментом. Но это очень скучно, конечно. Я скорее могу вспомнить какие-то яркие положительные ощущения.
– Какие?
– Я так думаю, что лучшая ночь без секса, когда-либо мною проведенная, это ночь 19 августа 1991 года, когда я циркулировал вокруг Белого дома. Там была совершенно фантастическая атмосфера, и я был просто счастлив.
– Тёма, а общественные страсти и личные в каком соотношении? Эта ночь была единственная, или вообще вы гражданин этого Отечества?
– Я боюсь, что если я за все эти годы никуда из этого Отечества не уехал, наверное, я гражданин. Хотя совершенно не хочется вставать в патриотическую позу. Ощущения, близкие к личной страсти, да, я испытывал во время этого самого путча, хотя…
– Теперь вы уже имеете в виду 1993 год?
– Нет, 1991-й. В 1993-м я опять же был около Белого дома. Чувство, естественно, уже совсем иное. История смешная. Я просто как зомби пошел на этот самый Белый дом, остановился только, когда вдруг увидел перед собой стреляющих из-за бетонной штуки солдат и подумал: что ж это такое – они в касках, и они лежат, и они за какой-то бетонной штукой, а я стою в джинсах и курточке. Я пошел обратно, долго гулял, потом решил зайти в туалет. А ближайший туалет – через мостик в представительстве компании Си-эн-эн. Я пришел на Си-эн-эн к приятелям. Там, естественно, паника: танки стреляют, Белый дом горит. Ну и стал я им рассказывать всякие истории, только что увиденные, они тут же включили камеру. И получился вот очень известный репортаж, который потом все цитировали, – о дамах с собачками и так далее. Да, и репортаж этот увидело очень большое количество народу во всем мире. И мне отовсюду звонили. У пары девушек по ту сторону океана или, по крайней мере, Ла-Манша случились сердечные приступы. В общем, тоже было очень романтично. Хотя, конечно, никакой радости, глядя на это безобразие, я не испытывал.
– Тёма, а девушки по ту сторону чем вас привлекали, и почему вы женились в результате на русской, а не на иностранке?
– Привлекали они меня, естественно, в первую очередь, тем, что это было по-другому, по-новому, нечто очень неизведанное. Ну и потом, девушки тоже были хороши собой. Почему я на них не женился? Не знаю. Отчасти, я думаю, потому, что мне казалось очень пошло и банально – жениться на иностранке. Так поступили очень многие мои знакомые, естественно, для того, чтобы уехать из Советского Союза. Мне казалось, что я не могу так банально себя проявить.
– С кем вы находите большее взаимопонимание и кто вам интересен – совсем молодые люди, ваше поколение, или те, кто взрослее вас?
– Я думаю, что интересны мне все. Другое дело, с кем-то у меня есть контакт, кого-то я понимаю, а кого-то нет. Я прекрасно понимаю людей своего поколения. И я думаю, что не хуже понимаю так называемых «шестидесятников». Это мне все очень понятно. Хотя не во всем близко и приятно. Что касается молодежи, то я ее очень плохо знаю и практически не понимаю. Но оценивать не хочу, потому что меня в молодом возрасте оценивали столь многие и столь круто, что мне совершенно не хочется рядиться в ту же тогу и с высоты своего опыта как-то опускать новое поколение.
– Я спрашиваю, потому что встречала совсем молодых людей, которые говорят о вас с придыханием.
– Я боюсь, что это такая полупроводниковая, односторонняя связь. То есть я очень рад и, пожалуй, польщен. Но не могу сказать, что они меня остро интересуют.
– А что вас сейчас остро интересует?
– Я думаю, что сегодня нет такой темы и такой стороны жизни, которая бы меня интересовала очень остро. То есть от сегодняшней политической ситуации у меня ощущение просто безнадежной злости. Она меня абсолютно не радует, но в то же время я и не могу сказать, что готов становиться каким-то страстным трибуном-обличителем и посвятить этому значительную часть жизни. Нет. К музыке я тоже охладел, хотя и не в такой степени, как это может показаться. Я боюсь, что просто в нашей стране совершенно исчезла острота музыкальной и вообще контркультурной ситуации. Острота исчезла, а профессионализм не пришел. На Западе всё намного интереснее, и тамошнюю музыку я по сей день слушаю с большим вниманием. Домашние вопросы меня интересуют, пожалуй, более остро, чем что бы то ни было. Личная, частная жизнь. То, что на самом деле касается только меня.
– Это временно? Надолго? Какой-то катаклизм может вас выбить из этого состояния? Я имею в виду общественный катаклизм.
– Да, я думаю, что может. Я всегда готов, как юный пионер, я всегда готов к каким-то новым переживаниям, страстям, действиям, акциям. Сегодняшний день место подвигу не очень-то дает. Но как только это место возникнет, я думаю, что буду в первых рядах.
– А скажите, что вы любите сегодня из мира культуры, из мира музыки? У вас есть одно-два имени?..
– Лучше бы, Ольга, вы мне этот вопрос не задавали… Я могу сказать, что таких людей в нынешней культуре, которые бы мне нравились страстно и взахлеб и от которых бы я испытывал чувство восторга, как когда-то было с Башлачевым, с Мамоновым, с Агузаровой, таких людей нет.
– Я помню, кстати, как вы нас водили в «Литературку», когда там выступал Саша Башлачев. И помню свое впечатление: совершенно дикое и странное. Другой мир. И когда я попала туда, я не могла понять, что должна чувствовать. Как если б я ела все время картошку, а мне дали попробовать селедки, которую я в жизни не ела. Такой вкусовой ужас был.
– Несовместимость.
– Да. А потом постепенно-постепенно, без дальнейших прослушиваний произошло проникновение того же самого, что я услышала. И вдруг нечто такое настоящее, трагическое, такое сильное, абсолютно истинное проросло, что я до сих пор это помню. Я никогда не говорила вам спасибо, вот могу сказать – случай свел.
* * *
В этой семье у него родилась дочка Саша.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ТРОИЦКИЙ Артемий, культуролог.
Родился в 1955 году в Ярославле.
Закончил Экономико-статистический институт. Был первым в Москве диск-жокеем. Работал младшим научным сотрудником в Институте истории искусств. Диссертацию защитить не успел, так как был уволен из института. Его музыкальные публикации были под запретом. Жил в Чехословакии и в Англии. В Англии вышла книга об истории рок-н-ролла в Советском Союзе и была переведена на шесть языков. В Италии, Англии и Голландии вышла следующая книга – «Тусовка. Что случилось с советским андеграундом».
Вел программы на телевидении и радио, выступал с колонкой в «Новой газете».
Снимался в фильмах «Даун Хаус», «Неваляшка», «Глянец».
ДЕНЬ МОЦАРТА Владимир Спиваков
В Светлановском зале Международного дома музыки Владимир Спиваков дирижировал Национальным филармоническим оркестром России и хором Академии хорового искусства в честь 250-летия Моцарта.
Накануне я сидела в этом зале – практически одна, слушая ту же музыку.
* * *
Познакомили с ним, и – о, чудо! – иду к нему на последнюю репетицию оркестра с хором и солистами перед завтрашним концертом. Завтра – день рождения Моцарта. Сегодня он может говорить только о Моцарте.
– Будут исполняться Коронационная месса и Реквием. О выборе Коронационной думают не знаю что, а она написана в память иконы Богородицы. Когда Моцарт родился, Бог коснулся его, сказав: ты будешь тот, кто понесет свой свет через столетия. Музыка – закодированные эмоции человечества. Моцарт сумел сделать для людей больше, чем любой проповедник, потому что свет его музыки охватывает весь мир. У него была такая короткая жизнь, потому что он задуман и рассчитан был по-иному, иное наполнение времени…
Он замолкает. Когда я вошла, он смотрел партитуру. Я не хочу мешать и тихо обхожу кабинет. Фотография Шостаковича. Карандашные портреты Прокофьева и Пастернака. Шкаф с книгами: два тома «Дневников» Прокофьева, том митрополита Сурожского Антония, том Гарсиа Маркеса… Маленький черный рояль. Бюст Пушкина. Заметно: парный портрет хозяина кабинета со Светлановым. Менее заметно: парный портрет его же с президентом России.
Мы пьем чай, он продолжает о Моцарте:
– Моцарт, как и Шекспир, соединял низкое и высокое.
Я возражаю, что в Шекспире, да, есть низкое, грубое, а в Моцарте нет.
– Низкое не как низменное, а как земное. Вы обращаетесь к небу, а в руке держите локон умершей матери – все соединяется.
– Ваша мама умерла? – спрашиваю.
– Да. Поэтому, наверное, когда я читаю, как старый слуга Пушкина отрезал и спрятал локон волос, когда Пушкин умирал, меня это необычайно трогает.
– Вот я вам расскажу, – продолжает он, – как мы приехали в Пермь с концертом, было страшно холодно, у меня началось воспаление среднего уха, пришлось спать в ушанке, а ночевали в детском саду, на детских кроватях, и некуда деть ноги, я взял партитуру Мессы и, услышав первые же звуки, ушел туда, забыв о воспалении и ногах, какие некуда было поместить. Вот вам соединение одного и другого.
Он поднимается, мы идем в зал. Он садится на высокий стул, поднимает дирижерскую палочку и…
И взмыл хор. И взмыли скрипки. И альты. И все-все инструменты. Они играли для себя, для завтрашнего концерта. Но я была единственный слушатель в зале, и они играли для меня. После оглянулась – еще несколько человек пришли. Я не могу описывать музыку. С ума можно было сойти, какую они давали музыку. Я могу только сказать, что в один прекрасный момент пришло и спокойно расположилось знание, что жизнь прожита не так. Что надо было быть внутри музыки, всегда в музыке – тогда будет счастье.
Я села так, чтобы слышать не одну музыку, а Спивакова тоже, что говорит оркестрантам, хору, солистам. Таинство внутри таинства. Все в свитерах, безрукавках, джинсовых рубашках, и это только усиливает таинство. До меня долетал голос Спивакова, я записывала:
– Здесь последний звук отдельно… каждый раз кyrie все с большим наполнением…
– Kyrie eleison, gloria, miserere – ключевые слова. Господи помилуй, слава Создателю…
– Это все построено по канонам древнегреческой трагедии, солист вступает – хор отвечает, хор диктует – солисты отвечают…
– Тромбоны, вы поддерживаете, как при Моцарте, хорошо, но… не верьте написанному – верьте моей руке…
– Я бы вас попросил немножко больше значения четвертям, чтобы как колокол звучало…
– В этом месте… обратите внимание, когда Христа снимают с креста, у него спокойное лицо, зато все остальные страдают…
– Должно быть ощущение, как ребенок в первый раз в церковь пришел… никакой жирной вибрации…
– Это удивительная вещь еще тем, что они так же, как в живописи, употребляли золотое сечение… и тут тоже смещенная кульминация… поэтому – с ощущением, что тут любовь… вот сейчас очень хорошо начали…
– Я хочу, чтобы вы это идеально сделали… вы можете сделать это идеально…
Он приподнимался с высокого стула, он пронзал воздух волшебной палочкой, он вскакивал и вскрикивал, как от боли, он широко помавал руками, как будто рождал эту музыку, и музыка рождала его.
А однажды, когда солистка Хибла Герзмава выложилась до донышка, сказал:
– Поёшь прекрасно… давайте поаплодируем…
И все зааплодировали. И аплодировали в конце Мессы, и потом, в конце Реквиема. И это было – до слез.
На Реквиеме он говорил басу Николаю Диденко, одному из четырех солистов:
– Тут какое-то русское прочтение, а должно быть… приближение к Господу… четыре характера – четыре отношения к Богу…
Герзмаве:
– О чем мне молиться, беззащитной… помни, что ты беззащитна…
Хору:
– Я должен сказать, что намного лучше, то есть практически хорошо…
Оркестру:
– Помните, это перемещение не людей, а душ… У Бродского: и душа неустанно, поспевая во тьму, пролетит под мостами в петроградском дыму…
Когда все кончилось, он сказал – почти теми же словами, что раньше подумала я:
– Я невероятно счастлив, что моя жизнь сложилась в музыке. Я все больше в том мире, чем в этом. Знаете, даже не хочется уходить из зала… из этой музыки…
И они некоторое время не расходились: дирижер, виолончель, скрипка, еще кто-то. И дирижер рассказывал историю, как его высококлассно обворовали в аэропорту в Италии. Сидя с сумкой, он ждал багаж. В какое-то мгновенье почувствовал странное облегчение и – увидел человека, удалявшегося с его сумкой. Догнал его, и оба с силой врезались в рекламу, так что стекла посыпались. Полицейские любезно спросили: что случилось? Обоих отвели в служебное помещение. Чья сумка? Спивакова поразило, с каким спокойствием тот отвечал: моя. Спиваков даже смутился: а может, правда, сумка чужая и только похожа. Спрашивают: что там? Тот отвечает: бритва, носки – обычный набор путешественника. Спросили Спивакова – он ответил: партитура Первого концерта Бетховена. О, вы музыкант! Открыли – сверху лежала партитура. Спивакову: вы свободны. Тому: а вы задержитесь.
Холод в детских кроватках в Перми и звуки Мессы Моцарта, кража в итальянском аэропорту и бетховенская партитура… Рецепт счастья.
Перед расставанием:
– В одном месте на репетиции вы сказали: «Моцарт думал здесь про себя», – а я подумала, что вы имеете право так сказать.
– Да, я чувствую, что хотели сказать Чайковский или Бетховен. И это делает любовь. Смерть – не конец жизни. Человек умирает, когда устает любить. Интуиция и любовь позволяют проникнуть в душу другого.
И еще:
– Когда-то была единая истина, потом разбилась на осколки, и в каждом человеке – осколочек истины…
Я давно научилась складывать в копилку редкие минуты жизни и, как пушкинский скряга, перебираю их при случае, чтобы засмеяться или заплакать. Эти три часа со Спиваковым – там, в копилке.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СПИВАКОВ Владимир, музыкант.
Родился в 1944 году в Башкирии, в местечке, которое позже вошло в состав Уфы.
После войны семья переехала в Ленинград. Учился в средней музыкальной школе при Ленинградской консерватории по классу скрипки. Посещал школу живописи при Ленинградской академии художеств. Занимался боксом, получив впоследствии второй разряд. Как способному ученику ему предлагают перевестись на учебу в Москву, и он становится учеником Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Окончив школу, а затем консерваторию, два года проходит ассистентуру-стажировку у профессора Янкелевича, своего учителя. Участвует в конкурсах, где последовательно получает третью, вторую и первую премии. Дает концерты на родине и за рубежом, выступая с самыми известными оркестрами под управлением Аббадо, Озавы, Шайи, Хайтинка. А затем сам становится дирижером и создает блестящий камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Позднее возглавляет Российский национальный оркестр. Еще позднее собирает свой коллектив – Национальный филармонический оркестр России.
Организатор Московского международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…».
Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, премии «Триумф» и множества других отечественных и зарубежных премий.
Посол доброй воли ЮНЕСКО.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ Игуменья Ксения
Признаться, при слове «монастырь» в воображении возникало нечто унылое и постное. И вдруг: энергично двигающиеся монахини Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря в Коломне. Жизнерадостные, располагающие. Может, оттого, что в большинстве молоды? Или оттого, что наставница, игуменья Ксения, сама такая?
Молоденькая мать Анастасия стремительно везла нас в Коломну на старом джипе, лихо объезжая заторы. Молоденькая мать Таисия отдавала распоряжения по мобильнику. Мать Анна снимала на кинокамеру художников. Мать Елена щелкала фотоаппаратом. Замечательные собаки сопровождали нас в саду, где росли яблоки и груши. Важно поглядывал верблюд Синай, подаренный космонавтами. Оказывается, единственный верблюд в мире, который не плюется, – так хорошо воспитан. Потом моя Даша на нем каталась. Все удивительно. Я думала, в монастыре терпят, а тут живут, осуществляя такую полноту бытия, какая не всем и снилась.
Мы приехали на выставку питерских художников, учеников школы Владимира Стерлигова, христианского живописца. Когда-то матушка Ксения, увидев его работы и познакомившись с его вдовой, художницей Татьяной Глебовой, поняла, что Бог есть. Да, вот так прямо. Время от времени игуменья устраивает такие праздники: то фестиваль Тарковского в Коломне, то художественные выставки, то выступления монастырского хора. На «круглом столе» запомнилось ее слово о том, что христианство парадоксально и антиномично – так она выразилась.
Захотелось поговорить с коллегой – игуменья закончила факультет журналистики МГУ.
* * *
– Литература свидетельствует, что в монастырь приходят после какой-то личной драмы – у вас тоже было так?
– Кто-то один написал, и все повторяют. Не было никакой личной драмы. Был поиск пути. Я родилась в семье, в которой про Бога не говорили, дедушка был ученый, папа военный, детство прошло в военном городке, все вне. Но с детства было ощущение, что мне чего-то сильно не хватает, что со мной должен быть Кто-то, Кто может помочь мгновенно. Я очень точно помню свое маленькое сознание: вот именно мгновенно. В пору школьных страданий, когда меня ругали, мне казалось, что люди все так далеко, и нет Того, Кто может помочь. И еще важное переживание: постоянное тяготение к небу. Я даже пошла в авиационный институт, чтобы быть ближе к небу. А когда прошло полтора года, а небо не приближалось, чертежи и чертежи, – я перешла в университет, решила, что там ближе к искусству: телевизионная группа, изучаем кино, искусство даст то, что душа ищет. А моя родная тетя, Алла Повелихина, историк искусств, знала Стерлигова. Вы ее видели. Она живет в Питере, я в Москве. И уже студенткой в серьезных разговорах с ней я поняла, что эти люди, которым я глубинно верю, знают, что есть Бог. Это было переворотом. Началась работа: как все свои знания собрать в единую систему, где есть место Богу. Университет – через русскую литературу, философию – давал это знание. А дальнейшая жизнь в монастыре дала ответ на вопрос, а кто Он есть. Во время учебы в университете я крестилась. Потом взяла академический отпуск и поехала в Псково-Печерский монастырь. И здесь ощутила, что можно прийти к благодати, то есть к некоему ответу сверху, не только посредством прочитанных книг, но непосредственно через труд и молитву. Это было открытие. Я всю жизнь училась и вдруг… Я хожу на общее послушание, ношу дрова, помогаю в теплице, иду со всеми на обед – и через это обретается радость жизни. Ученому человеку просто так трудно радость испытывать. Надо понять, почему. И я оказалась в Пюхтицком женском монастыре в Эстонии. Я и не предполагала, что я, вот такая гениальная, стану монахиней. Очень неожиданно. Сердцем чувствовала, что это то место, где я должна быть, а умом не понимала. И тут обозначился новый путь к знанию, которого жаждало сердце.
– Вы – о знании, а традиция свидетельствует о вере. Говорят: там, где есть место вере, нет места знанию, и наоборот.
– Это вопрос очень глубокий. Есть специальный курс лекций в Московской духовной академии, читает Александр Ильич Осипов, умнейший человек, называется: Основное Богословие. В нем дается путь к знанию, как он проходил через научные концепции, и хотя мы не можем познать ни природу Божию, ни Его промысел в полноте, мы видим, что вера присутствует в любой научной гипотезе, а то, что есть Бог, – не просто теория, а опытное знание, которое отпечаталось на сердце.
– Вы не можете простой пример этого знания привести?
– Это наше страдание перед тем, как раскрыть себя на исповеди, и наше облегчение, когда мы эту борьбу с собой с помощью Божией проходим и получаем утешение. Вот сейчас была битва, и мы все-таки оказались с Богом, полюбили не себя больше, а ту правду, которая нарушена в нас каким-то грехом. Это наша жизнь в послушании, которая связана с испытанием. Все время нравственные конфликты, конфликты с собой, ты видишь, что как человек своими силами не справляешься, но в то же время видишь: есть реальная Божья помощь. Есть понимание, что каждое твое слово, сказанное на земле, отзвуком идет на небо. Поэтому постоянное состояние внутренней чуткости. И молитва становится твоим вторым внутренним дыханием.
– А конфликты случаются? Какие?
– Монастырь – это коллектив. Значит, есть соприкосновение людей друг с другом. Направление духа одно, а воспитание и образование разное. Обиды: как она на меня посмотрела, как грубо сказала, почему не хотела мне помочь. То есть это целый большой день, буквально загруженный нравственными вопросами: как поступить. Хорошо, если мы готовы, как воин, который знает, где у него оружие. А бывает, все замечательно – и вдруг землетрясение.
– И слезы тоже?
– Естественно. Один из основных мотивов жизни в монастыре – искренность. А в искреннем состоянии человек и плачет, и обижается, и недоумевает, и ругается. Задача – в своем искреннем состоянии разобраться, с помощью старших, насколько оно соответствует тому духу христианской любви, который заповедал Господь. В нас часто действует ветхий человек, которому трудно действовать по закону любви – вот по закону эгоизма легко. Я себя люблю, мне себя жалко, а другого – не знаю. Поэтому должно быть постоянное перековывание, переделывание себя. Это сложно. Бывает, надо немедленно разобраться, потому что все кипит и может взорваться. А бывает, вечером все прибегут, и мы разговариваем. Но я не сижу где-то на печке отдельно, а потом снисхожу, – я с ними.
– Я запомнила, как вы сказали, что христианство – парадоксальная вещь. А это не диссидентство в церкви?
– Это реальность. Потому что то, с чем мы столкнулись – а мы столкнулись с Откровением Божьим, – поразительно. Вот Христос – в нем два, казалось бы, несовместимых естества: человеческое и Божественное. Пресвятая Богородица – она же и Дева и Богородица. Для обычного сознания это несовместимые вещи. Многое в христианстве выходит за рамки простого, логического мышления. Апостол Иван говорит: оно юродство для мира. Господь говорит: блаженны чистые сердцем. То есть путь не в количестве прочитанных богословских книг и отстоянных служб, а в чистом сердце, которое созидается большим трудом. Все это моменты необычные, нестандартные, которые надо ощутить и понять.
– Я изумилась реалиям вашего бытия и опять подумала: а это – не диссидентство?
– Каждый монастырь имеет свой дух, свою направленность. Много замечательных монастырей, в которых созидается святое устроение души. Наш монастырь с академической направленностью. Мы стараемся обучить все делать хорошо. С собаками как общаться, как с верблюдом, с воронами, с ястребом, что раненый к нам попал. Нам помогают специалисты из зоопарка, из цирка. Занялись изготовлением фарфора – стали изучать, какие были промыслы раньше, смотреть альбомы. Есть много неожиданного, о чем мы и не думали. Например, у нас появилась школа-интернат для мальчиков, мы впрямую занимаемся воспитанием детей. Многие сестры учатся в пединституте. Организовали свое радиовещание…
– Вы открыли монастырь пятнадцать лет назад?..
– Он основан в 1799 году, но в начале ХХ века уничтожен. Все было разрушено. Когда открывали, дядечки приезжали, молодые люди, сестер мало, и мы пели: спаси, Господи, игуменью Ксению с братьями святой обители сия. А через год-два спрашивают: про каких братьев вы все поете? Уже появились молодые девушки, и мы стали петь: с сестрами.
– Молодые сестры – потому что молодые руки понадобились?
– Не совсем. Если только работать и ничего внутренне для себя не делать – не то. Знаете слово: трудоголики. Я всегда против этого внутренне, когда уходишь в дело от себя – потому что это жизнь без Бога. А монастырь может формироваться так, как ты способен его сформировать. Мы принимали девушек, девочек. Слава Богу, это тот потенциал, который может быть взращен.
– А у вас нет любимиц?
– А почему нет – это не запрещается. Вот у Господа был любимый ученик Иоанн-богослов. Есть психологическая близость людей – и тут кто-то может быть тебе более созвучен, а есть нравственная любовь, она должна быть ко всем одинакова. Но не так, что мне кто-то понравился, я буду ее от работы освобождать или конфеты пакетами посылать. Не дождется.
– Бывали у сестер серьезные искушения? Пытался кто-нибудь уйти из монастыря?
– Меня всегда поражает, как ищут какого-то удовлетворения в том, что ах, кто-то убежал, кто-то пошел рожать из монастыря. В этом есть момент какой-то внутренней некрасивости. Я не про вас говорю, это всеобщее. Да, были случаи, когда мать протестовала, отец вытаскивал дочь, кричали: лучше ей стать блудницей, чем жить в монастыре. Мы пережили много. Поразительно то, что сестры, которые пришли в монастырь, ничего не зная, вдруг становятся такими великими воинами. Ну что такое наша плоть, которая все время хочет есть? Хочет спать и не хочет работать? Наша душа, которая получила навыки с детства: себя ценить, другого уничижать? И все это надо в себе разрушить и построить дом на совсем другом основании. Тут есть своя колоссальная внутренняя культура. Я разговаривала с одной дамой, вернулась сюда и говорю: сестры, какие же вы счастливые, что вам всем уже дано войти в эту культуру мышления, а другие, которые вне этого, даже не знают, чего они лишены. Жизнь в монастыре – постоянное внутреннее творчество.
– Существует представление, что монахини уходят от мира в монастырь. В вашем монастыре не чувствуется, что вы ушли от мира…
– Есть мир как квинтэссенция страстей. В этом смысле монастырь ушел от мира. Поэтому мы носим черные, как бы погребальные одежды, символизирующие смерть. Но это смерть души для греха. Через это происходит рождение того, что будет соприкасаться с вечностью, что уйдет в вечность. Происходит созидание той личности, которая по духу на той же радиоволне, где Божественная благодать. Но есть общение с миром через художников, ученых, необходимое в эти трудные времена, почти похожие на апостольские, когда ничего не ясно и надо вместе искать пути к спасению.
– У вас стоит чудесный фарфоровый корабль – что он означает?
– Один из символов церкви – корабль, который среди бурных волн моря помогает человеку чувствовать, что он достигнет берега. Это житейское море страданий и страстей. Это сестры сделали наш кораблик: скрипичный ключ, басовый и хор – наш и мальчишек.
– А вы регент…
– А я регент. И пою громче всех.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Игуменья Ксения
В миру – Ирина Юрьевна Зайцева. После школы поступила в Московский авиационный институт (МАИ). Отучившись 1,5 курса, перешла в МГУ на факультет журналистики, который окончила в 1979 году. Окончила также регентский класс при Московской духовной Академии и Семинарии. Автор нескольких книг.
Игуменья Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря.



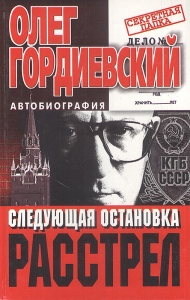


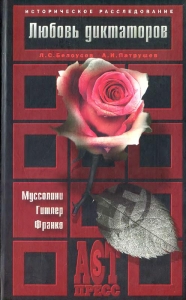
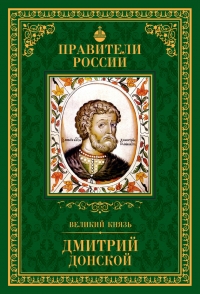

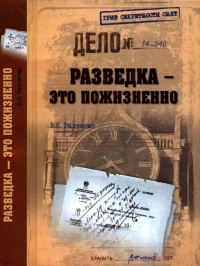

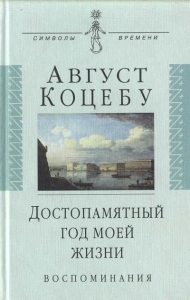
Комментарии к книге «Любовь и жизнь как сестры», Ольга Андреевна Кучкина
Всего 0 комментариев