М. Загребельный Эдуард Багрицкий
Предисловие
«Думу про Опанаса» – поэму о гражданской войне на Украине, которая разгорелась начиная с 1918 года, Эдуард Багрицкий создал стилем украинских народных песен. За образец он взял «Гайдамаки» Тараса Шевченко, который эту поэму о «колиивщине» – гражданской войне 60-х годов XVIII столетия, посвятил Василию Григоровичу, своему преподавателю теории изящных искусств. Григорович наставлял учеников: «Побольше рассуждать и поменьше критиковать». В предисловии к «Гайдамакам» Кобзарь пишет: «Серце болить, а розказувать треба: нехай бачать сини й онуки, що батьки їхні помилялись, нехай братаються знову з своїми ворогами».
В поэме Багрицкого смертный приговор махновцу Опанасу выносят в штабе большевиков в городке Балта. «Балта – городок приличный, / Городок что надо…» Когда Балту захватили петлюровцы, всех родных красноармейца Самуила Шварцбальда, шестнадцать человек, уничтожили. В мае 1926 года в Париже Самуил из Балты отомстит Петлюре. В июне 1926 года в Москве газета «Комсомольская правда» печатает первые три главы «Думы…». В июне 1926 года Пленум ЦК Компартии большевиков Украины в Харькове обсуждает итоги украинизации. Одессу покинули Хаим Бялик, Владимир Жаботинский, Яков Фихман. Они стали мировыми классиками. А кто знает их сегодня на Украине? Багрицкий с друзьями – поэты, прозаики, их «Коллектив поэтов», объединение художников-одесских парижан – уехали навсегда. Кто выбрал Москву, кто – евроатлантические города и веси, кто отплыл в Палестину. Из одесских классиков до конца, до последнего держался Эдуард Багрицкий. Но и он в августе 1925 года вынужден был сесть в поезд «Одесса – Москва». Культработник на джутовой фабрике элементарно нуждался, не в состоянии был прокормить жену и трехлетнего сына.
«В каких-нибудь три года (1924–1927), почти одновременно, кумирами читателей стали Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров, Вера Инбер, Семен Кирсанов. Рядом с этими, знаменитыми и поныне писателями, работали менее крупные авторы, почти забытые, но совершенно необходимые в культурном контексте времени – Сергей Бондарин и Семен Гехт, Аделина Адалис и Зинаида Шишова, Татьяна Тэсс и Семен Олендер, Виктор Финк и Осип Колычев. Никто не собирался возрождать Одессу, – размышляет современный одесский филолог Елена Каракина. – Ни в чьи планы это не входило. Строительство нового мира – да, это планировалось. А возрождение города – чересчур свободного, чересчур языкатого, чересчур богатого и своеобразного – извините, никак нет. Тем более, что во время неразберихи властей или, говоря современным языком, разборок между ними, прозвучала мысль о создании Черноморской республики со столицей в Одессе. И было сделано все, чтобы никому никогда больше не пришло в голову объявлять Одессу столицей… Так настало время великого рассеяния одесситов по всему миру. Уехали сионисты, пианисты, дантисты, карикатуристы, профессора, фельетонисты, шансонетки, предприниматели, меценаты, архитекторы. Уехали, чтобы преподавать в университетах Берлина, Парижа, Буэнос-Айреса, уехали строить Тель-Авив и Хайфу, писать для эмигрантских газет и журналов, придумывать пышные декорации для оперных подмостков. Мир, конечно, от этого только приобрел, да Одесса потеряла».
Украинизация, своего рода холодная гражданская война, продолжается по сей день на Украине. Французский суд давным-давно оправдал мстителя Самуила из Балты. А героев «Думы…», отринув заветы Шевченко увидеть ошибки отцов, по сей день продолжают судить, разделять на идейно выдержанных героев и врагов. На страницах ксенофобских писаний ходит гоголем скакун под Паньком из Балты. Красуется Опанас, отведав молодого вина, в шубе с мертвого раввина, с бомбой и обрезом. Он – герой для правильных украинцев. А остальные – враги. «Вы говорите на вражеском языке», – так на недавней книжной выставке в Киеве мне лично заявил благообразный пожилой книголюб.
В 1929 году в стихотворении «Вмешательство поэта» Эдуард Багрицкий передал привет поколениям своих грядущих критиков. Те возглашают: «Прорычите басом, / Чем кончилась волынка с Опанасом…» Поэт берет слово.
Через дорогу, в хвойном окруженье, Я двигаюсь взлохмаченною тенью, Ловлю пером случайные слова, Благословляю кляксами бумагу. Сырые сосны отряхают влагу. И в хвое просыпается сова. Сопит река. Земля раздражена (Смотри стихотворение «Весна»). Слова как ящерицы – не наступишь; Размеры – выгоднее воду в ступе Толочь; а композиция встает Шестиугольником или квадратом; И каждый образ кажется проклятым, И каждый звук топырится вперед. И с этой бандой символов и знаков Я, как биндюжник, выхожу на драку (Я к зуботычинам привык давно).Одесса. «Стучал сазан в оконное стекло; Конь щебетал; В ладони ястреб падал; Плясало дерево. И детство шло». 1895–1905
Преддверие XX века. Одесса, Базарная улица, 40. В скромной квартире обитают Годель Мошкович Дзюбан и его супруга – Ита Абрамовна. 3 ноября 1895 года у них рождается сын. Мама выбирает ему имя Эдуард – она зачитывается переводными романами, и в одном из них ей приглянулось имя польского графа.
Годель Мошкович был, как сейчас принято говорить, мелким предпринимателем. В обильные времена держал мелкую лавочку. В скудные – служил продавцом, приказчиком в магазине готового платья. Эдуард Багрицкий в «Стихах о поэте и романтике» повествует о романтике в образе женщины. Романтика в июльскую ночь является на свидание к поэту, сыну продавца. На год раньше Эди на Молдаванке увидел свет Исаак Бабель.
Отец Эди в справочнике «Вся Одесса» в 1912–1914-х значится как Дзюбан. В суматохе грядущего в его фамилии некий писарь изменит предпоследнюю гласную на «и». Годель Мошкович уйдет из жизни в 1919 году в возрасте примерно 60 лет. Он был невысоким, рано полысел, набрал лишний вес. Передал сыну в наследство одну свою страсть: он подарит маленькому Эде клетку с певчей птицей. Это стало одним из ярких впечатлений ребенка. Свою первую книгу – «Юго-Запад» – Багрицкий решится издать только в 1928 году. Ее откроет стихотворение «Птицелов».
Ростом, статью, яркой, запоминающейся внешностью Эдуард пойдет в маму. Ита Абрамовна, в девичестве Шапиро (1871–1939), была высокой сухощавой брюнеткой, рано поседевший – как и позже Эдуард. Она посвятила себя воспитанию единственного сына – второй ребенок четы Дзюбан скончался в младенчестве. От мамы Эдя унаследует страсть, обожание самого процесса чтения. Как Ита Абрамовна, он и в зрелом возрасте будет подвержен влиянию только что закрытого фолианта и буквально носиться с ним, переживая о том, что произошло на его страницах.
Мама, бабушка, тетя постоянно читают вслух маленькому Эде. Он, как завороженный, замирает, вслушиваясь в сказки. И постоянно требует новых. Не терпит повторов – имеет прекрасную память. Правда, спустя лет тридцать это подведет Багрицкого в стихотворении «Происхождение» – Ита Абрамовна по его прочтении проворчала, что на их столе никогда не было скисающих сливок. Кроме сказок Эдя любит легенды, предания, мифы. Он фантазирует, представляя себя пиратом или капитаном Летучего Голландца. Важничает, воображая себя безмятежным, как мудрец Акиба.
Путешественнику отказали в крове жители селения. И Акиба, приговаривая: «Всё к лучшему», заночевал в пустыне. У него были лампа, лев и осел. Лампу загасил порыв ветра. Осла и льва растерзали хищники. Ночью селение захватили кочевники и увели жителей в рабство. Заметь они свет лампы, услышь осла или льва – забрали бы и Акибу. «Всё к лучшему» – повторил странник.
На рубеже XIX–XX веков Одессу делили на город и предместье с дачами. В одном из них, на Бугаевке, Эдя проводил летние месяцы. В августе 1924-го Багрицкий посвятит Бугаевке «Детство». Сквозь бестолочь годов забьется сердце первооткрывателя. За Бугаевкой пролегала бесконечная дорога в древнюю степь, где ястреб дрожит над стогом, крыльями расплескивая зной, свистят джурбаи, свищут кулики, в ковылях таятся дрофы. В городе же с осени до весны взрослые водят гулять Эдю по Базарной улице в Александровский (ныне имени Шевченко) парк. Там два овражка напоминают очертания Черного и Азовского морей. В них не садили деревья. Траву вытаптывали юные черноморцы. Они не играли в мяч. Они «гулялись в мяча». Так малыш усваивал неподражаемую одесскую речь. Среди игравших Эдя мог видеть старшего на 15 лет земляка и соседа по улице Владимира Жаботинского. На аллеях парка мог поравняться с младшим его на два года Валентином Катаевым с улицы Базарной, 4. Брат Валентина, Евгений, будущий соавтор Ильи Ильфа, родится на Базарной в 1903 году. А в 1902 году в Одессу из нынешнего Кировограда переедет семья трехлетнего Юрия Олеши.
Базарная улица, как повествует одесский краевед Арье Арьев, была в ту пору одна из центральных в Одессе. Там размещалась знаменитая Одесская иешива, где кроме традиционных предметов – Танаха, иврита – изучали математику, географию, немецкий. Базарная улица представляла собой своего рода выставку достижений южно-российского капитализма. На ней находились «Когановское здание дешевых квартир» и контора нововыстроенного Одесско-Днестровского водопровода. Зазывными рекламами привлекал иллюзион «XX век». Незнакомые с римскими цифрами мальчишки называли его не иначе как «Ха-Ха век». Прохожий проходил мимо вывесок широко известного ремесленного училища общества «Труд», представительства киевского издательства «Вся Россия». Товарищество Черноморского Виноделия поставляло импортные да отечественные – бессарабские, грузинские, крымские, шабские – вина, коньяки, шипучие вина собственных заводов. Рядом находились представительства табачных фирм – ростовской «Братья Коген», феодосийской «Крым», воронежской «Сычев и сыновья», продукцией которой была дерущая горло махорка. Подвалы буквально каждого дома занимали белошвейные, велосипедные, заготовочные, красильные, кузнечные, малярные, медно-литейные, портняжеские, примусные, сапожные, свечные, столярные, ювелирные и другие мастерские, прачечные, пекарни… А на первых этажах размещались магазины, лавки, склады – аптекарских товаров, кожи, красок, галантерейные, писчебумажные, топливные… Но больше всего было торговых точек «съестного профиля» – бакалейные, гастрономические, кондитерские, мясные, овощные, табачные, фруктовые магазины, винные погреба и единственная на всю улицу «монополька», где продавали разнокалиберные бутылки водки, запечатанные белым сургучом. А одних только молочных здесь насчитывалось не менее десятка.
Семья Эди поменяла несколько адресов, пока незадолго до 1917-го не обосновалась на первом этаже правого дворового флигеля в квартире № 7 на Ремесленной улице (ныне Осипова). На углу Базарной и Ремесленной в конце позапрошлого столетия процветало питейное заведение Коднера. Сюда охотно захаживал отец Эди. Он и многие его соседи коротали вечера вместе со старовещниками. Так прозвали скупщиков старых вещей из-за их беспрестанных возгласов по дворам: «Покупайм старевещ, старевещ!». С закатом солнца они приносили с собой свежие новости и последние слухи в стены обетованного трактира.
Под названием «Трактир» Багрицкий создаст в 1919–1920-м поэму – драматические сцены. В 1926-м потрактует ее дополненный вариант как опыт лиро-эпической сатиры. Фрагмент из черновиков к «Трактиру», озаглавив его «Ночь», Багрицкий разместит на третьем месте в книге «Юго-Запад» – будто указывая на значение произведения для автора. При жизни «Трактир» полностью не публиковали. В одной из рукописей архивы сохранили строки:
Не мистика, а точное познание, Грядущего, такое ж, как когда-то Германцы видели в косматом небе, Нависшем над языческою рощей, — Нам ближе, ощутимей и прекрасней, Чем метафизика и чад свечей…Детству Эди приходит конец в 1905 году. Мальчик застегнет сверкающие пуговицы формы-мундира, затянет пряжку на ремне, поправит фуражку с гербом «РУВЖ» и отправится в первый класс реального училища Жуковского на Херсонской улице (ныне Пастера). В 1905-м для веселых черноморских левантийцев наступила эра испытаний. Одессе, равной по жизнерадостности, ослепительности и многоязычию древним городам Леванта – государств побережья Средиземного моря, – перемены предвестит лето 1905-го. Два залпа на рейде Одессы корабельной артиллерии восставшего «Потемкина» окончились беспорядками и кровью горожан. Одесса начнет терять облик цветущего и безмятежного торгового города, четвертого по значению в Российской империи после столицы, Петербурга, Москвы и Варшавы. Во время октябрьского погрома в 1905-м погибнет несколько сотен мирных одесситов. Среди них – дедушка Бабеля, а внук его чудом спасется. Всего через несколько лет по мощенной крупным булыжником мостовой Базарной улицы станут гарцевать наездники гражданской войны.
В предсмертную свою ночь, с 15 на 16 февраля 1934 года, Багрицкий, задыхаясь от астматического припадка, прохрипит сиделке: «Какое у вас лицо хорошее – у вас, видно, было хорошее детство, а я вспоминаю свое детство и не могу вспомнить ни одного хорошего дня». Юрий Олеша в воспоминаниях о Багрицком цитирует «Происхождение»:
Стучал сазан в оконное стекло; Конь щебетал; в ладони ястреб падал; Плясало дерево. И детство шло.И размышляет о том, какое надо было иметь замечательное дарование, чтобы, вспоминая детство, в котором не было ни одного доброго дня, сказать о нем так мастерски «в чисто поэтическом смысле, в смысле применения метафоры – о коне, что он щебечет, и о дереве, что оно пляшет».
Багрицкий в ту ночь переживал утрату навсегда утерянной сказки детства. О зыбке, где его качали, большом море, бьющем с размаху в окно, о запахе кофе, муската, мускуса, вина и пота, который, подобно облаку, витал над мачтами кораблей.
«Я не узнавал нашего города, такого еще недавно легкого и беззлобного. Ненависть его наводнила, которой никогда, говорят, не знала до того метрополия мягкого нашего юга, созданная ладной и влюбленной хлопотнею, в течение века, четырех мировых рас. Вечно они ссорились и в голос ругали друг друга то жульем, то бестолочью, случалось и подраться; но за мою память не было настоящей волчьей вражды. Теперь это все переменилось, – вспоминает политик и литератор Жаботинский (1880–1940) в автобиографическом романе «Пятеро». – Исчез первый знак благоволения в человецех – исчезла южная привычка считать улицу домом. Теперь мы по улице ходили с опаской, ночью торопились и жались поближе к тени… В детстве моем еще лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех гаванях, когда Одесса была царицей; потом стало жиже, много жиже, но я хочу так, как было в детстве: лес, и повсюду уже перекликаются матросы, лодочники, грузчики, и если бы можно было услышать, услышал бы лучшую песню человечества: сто языков…»
В 1931 году журнал «Красная нива» печатает «Разговор с сыном». Отец, Эдуард Багрицкий, повествует своему сыну Всеволоду, как в его детство вторгается дикий вой: «Бей! Рраз!» И погром проходит рыча. Эта симфония человеконенавистничества, расовой кровной вражды, идеологического гнета будет стучать в сердце Багрицкого всю жизнь, как в сердце Тиля Уленшпигеля. Этот мотив звучал и в 1930 году, когда просходил процесс антисоветской Промпартии, в стихотворении «О чем они мечтали». Багрицкий вспоминает свое детство. Пишет о торговце-погромщике, готовом к расправе. Ему недостаточно убийства. Он должен сперва душу по капельке выпустить из тела. Иные литературоведы исходят желчью. Как можно было процесс Промпартии поддерживать? И заявлять: «Семь в обойме, / Восьмой в стволе – / Должны быть нашим ответом»?
Им Багрицкий уже ответил: «Каждый солдат заранее знает, чего он хочет». Меня поражает объем рассуждений о том, кто, как и в каких подтекстах в строках Багрицкого находит его неприятие семейных, религиозных устоев. Разделяю протест российского мыслителя Петра Баренбойма. Он в 2010 году публикует книгу «Flanders in Moscow and Odessa…» («Фламандцы Москвы и Одессы…»), где осуждает косность многих современных критиков Багрицкого. Нет, Эдя растет не загнанным или несчастным ребенком. Он до десяти лет приобретает приличное домашнее образование в благополучной, пусть и не богатой, семье. Учится играть на скрипке. Получает от приходящих учителей познания фундаментальных азов музыки, изобразительного искусства. Изучает иврит. Беда в том, что Эдуард, как Тиль Уленшпигель, alter ego поэта Багрицкого, родился в неблагополучном обществе. Больном обществе, где позволено торжествовать ражим лабазникам, матерым купчинам, обезьянам из чиновников. Где свирепые охранительницы правильной идеологии, как всезнающая Галина возле батьки Махно в либретто Багрицкого к опере по «Думе…», делят мир на своих и чужих. Где правят бал мертвые души. Где нет конца «ночи Третьего отделения», ненависти властей придержащих и их лающих прислужников к инакомыслящим, как в стихотворении «Папиросный коробок» – его Багрицкий создает в 1927 году. И завершает обращением к пятилетнему сыну:
Вставай же, Всеволод, и всем володай! Вставай под осеннее солнце! Я знаю: ты с чистою кровью рожден, Ты встал на пороге веселых времен! Прими ж завещанье…Отрочество. «Эдины штучки». Второгодник. Птицелов. 1905–1913
В реальное училище Эдя отправляется против своей воли. Родители его воспротивились порывам сына выучиться на художника. Разве это профессия? Разве она сулит прочное положение в жизни? Позже они наотрез отказывались видеть его поэтом, как не хочет этого большинство родителей на свете, справедливо полагая, что сама жизнь важнее разговоров о ней, рифмованных и нерифмованных. Для отца Багрицкого, как и для отца Есенина, поэзия была этаким пустым делом. Вместе с тем родители не стремились к тому, чтобы Эдя, подобно отцу, стал приказчиком или лавочником. Они желают для него карьеры инженера или врача.
Первые два класса Эдя щелкает школьные задания как орешки. С третьего класса, лет с двенадцати, происходит перелом. Примерно тогда он стал хронически больным бронхиальной астмой, переживет первое, двухнедельное осложнение.
«На уроке физики, – вспоминает в 1933-м Багрицкий, – закон проходили какой-то, сейчас я точно не помню какой, и я написал стихотворение на эту тему». Затем появляются стихи об учителях: «Всё было очень глупое и плохое, но всё это печаталось в нашем школьном журнале». Из-за этих стихов об учителях их персонажи не раз пытались изгнать Эдю из реального училища. Да и сам юный стихотворец был бы не против. Будь его воля, он давно бы перевелся в художественное училище. А пока он, кроме поэзии, дерзает в школьном журнале «Дни нашей жизни» на поприще художника. И гордится на первых порах рисунками больше, чем стихами. Рисовал он не с натуры, а то, что приходило на ум. Быстро, за 3–5 минут. Рукописи стихов Багрицкого будут неизменно сопровождать изображения только людей, изредка зверей. Он никогда не делал зарисовок природы, пейзажей, предметов, исключая оружие. Багрицкий прослывет признанным знатоком изобразительного искусства, хотя в музеях и на выставках его не повстречаешь: «Представляю себе заранее, что увижу». Передвижников, реалистов терпеть не мог. Восторгался Гогеном, Дюрером.
«Склонность к карикатурной трактовке того или иного литературного сюжета в графике Багрицкого обнаружилась очень рано. Еще в тот период, когда ему было свойственно наивно-восторженное преклонение перед образами книжной романтики, он выступает в рисунке ее насмешливым оппонентом. Багрицкий-рисовальщик в этом смысле предваряет некоторые тенденции, получившие развитие в его поэзии много лет спустя и говорившие о преодолении книжных влияний, о переоценке прежних литературных увлечений. Показательна серия его графических работ 1910–1911 гг., и персонажи, составившие вскоре экзотический типаж поэта-романтика, а позднее отброшенные или переосмысленные им под углом зрения реальной действительности, явлений современности, предстают здесь в пародийном, ироническом освещении. Автоирония, сыгравшая впоследствии такую важную роль в эволюции поэтической системы Багрицкого, в обновлении его романтизма, дает себя знать уже у истоков его творчества. В частности, в этих юношеских рисунках Багрицкий, как мы видим, достаточно по натуре жизнелюбив и зорок к реальному миру, достаточна непочтителен к литературным шаблонам. Пристрастие к корсарам и рыцарям не мешало ему одновременно над ними иронизировать, подчеркивая маскарадный, бутафорский характер всех романтических одеяний», – рассуждает Андрей Синявский (Абрам Терц) в исследовании «Рисунки Эдуарда Багрицкого». Эту работу накануне ее запланированного выхода в свет в СССР в середине 1960-х запретили, а самого автора арестовали и впаяли ему семь лет лагерей.
С третьего класса, года с 1908-го, юноша Эдя начинает куролесить, выкидывать «Эдины штучки». Он останется отличником только по словесности, истории. За бутылочку вина ленивым школьникам пишет сочинения. Иногда на уроке щеголяет литературными познаниями, поправляет преподавателя, ставя его в неловкое положение. Порой делает это бесцеремонно, с сарказмом, актерствуя. Он из всего любил устраивать театр.
Летом Эдя пропадает в одесских парках, на берегу моря. Может несколько дней не появляться дома. Попытки отца с матерью наставить сына на путь истинный ни к чему не приводят. В поиске новых ощущений, приключений молодой человек не тянется к коллективу сверстников. Хотя если он гуляет в дружной компании из пяти ребят, то проявляет себя как лидер. Весной, прогуливая занятия, в одиночку, Эдя раскидывает сети среди деревьев и, подражая звукам птиц, ловит их.
Трудно дело птицелова: Заучи повадки птичьи, Помни время перелетов, Разным посвистом свисти…В порту Эдя знакомится с рыбаками, ловит с ними рыбу и даже торгует ею на базаре. Он пропадает на волноломе: закидывает длинные шнуры-самоловы на бычков и барабульку. Мимо него, до бортов садясь в воду, проходят на заплатанных парусах черные дубки с очаковскими кавунами, баркасы, фелюги, шаланды.
Пустынное солнце садится в рассол, И выпихнут месяц волнами… Свежак задувает! Наотмашь! Пошел! Дубок, шевели парусами!Багрицкий растет романтиком вольных покорителей морей. Их объединяет воля бескрайних просторов, где лежат многие пути. Они видели бури. Они ветры знают. Непокорные смутьяны, они с веселой песней отплывают навстречу прихотям сурового Посейдона. Для них решительно не важен ваш язык, вероисповедание, цвет кожи, наконец – происхождение. Главное – твоя способность вслушаться в дикий крик чаек, всмотреться в их тревожный полет, заметить, как в полдень пробежит рябь, предвестник вечернего шторма. Главное – твое согласие и готовность отрешиться от суеты, вознестись.
Худой высокий мальчик со своеобразным лицом, как будто птичьим, сам весь похож был на какую-то хищную птицу. Таким его запомнят современники в 1913 году. Дважды второгодник был изгнан после шестого класса. Его спровадили учиться на землемера. Терпение учителей и родителей исчерпано. Значительно позже, в апреле – августе 1932 года, Багрицкий пишет поэму «Последняя ночь». Одноименную – третью – последнюю свою прижизненную книгу он откроет этой поэмой.
Я вышел… За мной затворилась дверь… И ночь, окружив меня Движеньем крыльев, цветов и звезд, Возникла на всех углах. …Мне было только семнадцать лет, Поэтому эта ночь Клубилась во мне и дышала мной… Еще один крутой поворот — И море пошло ко мне, Неся на себе обломки планет И тени пролетных птиц.Молодой поэт Багрицкий. 1913–1917
Эдуард не унывает по поводу прощания с унылым реальным училищем. Он вкушает славу молодого автора. Первые его стихи в 1913–1914-м печатает одесский альманах «Аккорды». Юноша уже знает наизусть бесчисленное множество стихов, он овладевает искусством декламатора, читает вслух стихотворения Бальмонта, «Жемчуга» и «Капитаны» Гумилева, «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского.
В эту пору начинает меняться круг товарищей Багрицкого. Он отдаляется от своих прежних хулиганствующих приятелей. Но тяга к приключениям, к знакомству с личностями яркими и независимыми, как скрипач из рассказа Куприна, останется неизбывной. Прочитав его «Гамбринус», Эдуард бросится с одноклассником в подземную пивную – знакомиться с его героем, Сашкой. Заодно и пропустить кружку-другую, спрятав перед входом фуражку и обмотав кусочками черного дерматина пуговицы школьной формы.
Начинающий стихотворец постепенно сближается с теми, кто так же бредит словом, поэзией. К слову «бред» Багрицкий будет прибегать часто: оно для него выражало очень многое. Близким порой было нелегко уяснить, что Эдуард подразумевал. «Бред» могло указывать на то, что речь идет о чем-то странном, несоответствующем общепринятому пониманию, затем в него могло быть вложено понятие о сумбурности, хаотичности, отсутствии порядка и последовательности. Наконец, в него могло входить и представление о чем-то занятном, забавном – «бредовой человек».
Примерно в 1912 году Эдуард подружится с Натаном Шором (1897–1918). Ему он посвятит поэму «Трактир». Молодых людей не смущает классовое – имущественное – неравенство. У Шора дедушка и отчим были состоятельными финансистами. Но гимназист, так же, как Эдя, бредил поэзией. В общем, как водится, для начала следовало обзавестись псевдонимом. Натан Шор и Эдуард Дзюбин выбрали для этого два цвета – багровый и фиолетовый – и разыграли их между собой. Шору достался Фиолетов. Он и имя поменял на Анатолий. Эдуард ограничился фамилией и стал Багрицким. Хотя до начала 1920-х он будет прибегать и к иным псевдонимам.
К середине 1914-го появляется «Кружок молодых поэтов». Багрицкий и Фиолетов знакомятся с Валентином Катаевым, который на тот момент был членом черносотенной организации и публиковал соответствующего содержания вирши в одесской прессе. Потом завязывается дружба с Юрием Олешей. Его портрет от 1914 года – низенького юноши «с грубым лбом» – Багрицкий вспомнит в «Последней ночи».
Он молод был, этот человек, Он юношей был еще… Старчески согнутая спина И молодое лицо. Лоб, придавивший собой глаза, Был не по-детски груб, И подбородок торчал вперед, Сработанный из кремня.27 мая 1914 года в местной прессе одесситы прочитали следующее объявление: «Поэтам Одессы. Этой зимой возникла мысль об устройстве вечера молодых поэтов юга… Я прошу молодых поэтов собраться в литературном клубе сегодня в 9 час. вечера». А 15 июня 1914 г. состоялся платный вечер «Кружка молодых поэтов» в курзале Хаджибейского лимана (это дачное место под Одессой).
Идея нажиться на поэтическом молодняке принадлежала журналисту Петру Пильскому. В Одессе шутили: доходами от подобных мероприятий можно было прокормить разве что канарейку. И поскольку Пильский не стал домовладельцем и не открыл счета в швейцарском банке, очевидно, это было правдой. Впрочем, доверие вызывают и те очевидцы, у которых Пильский занимал деньги – безвозвратно. Правда, он никогда не превышал лимита в двадцать пять рублей. Человек, одолживший ему эту сумму, был свободен от дальнейших посягательств на свой кошелек. Поговаривали также о любви Петра к красному бессарабскому вину, в котором он, несомненно, черпал вдохновение. Пильский оставил свое определение одесситов: «Одессит – тип. Это – русский марселец. Легкомысленный хвастун, лентяй, весь внешний, великолепный лгун, задорный шутник. Как жаль, что у него, этого лгуна и этого взрослого шалуна, нет своего Додэ, нет своего одесского романа, своего героя, имя которого стало бы нарицательным. Где одесский Тартарен, как есть он у французов из Тараскона?»
Пильский стал возить кружковцев по дачным театральным площадкам и летним ресторанам, одесским «ланжеронам», «аркадиям», «лиманам». Нередко будучи изрядно навеселе, продюсер юных талантов представлял школьников, перевирая их имена. Правда, они того и хотели – ведь учащимся запрещали выступать публично за деньги под страхом исключения из школы без права восстановления. Они же, сменив школьную форму на партикулярные костюмы, взятые напрокат, тешили осоловевшую публику и утомленных солнцепеком дачников своими нетленными сочинениями. Денег им организатор выдавал только на трамвай. И то не всегда. Настоящее вознаграждение они получили от газеты «Маленькие одесские новости»: «Главная заслуга вечера в том, что он показал публике двух молодых, еще нигде не печатавшихся, но, безусловно, имеющих право на внимание поэтов – гг. Багрицкого и Фиолетова».
Перенесемся на одно из тех выступлений. Эдя читает один из первых вариантов «Конца Летучего Голландца». Рыча и брызгая слюной, он выкрикивает в полупустой, полутемный зал: «Нам с башен рыдали церковные звоны, для нас подымали узорчатый флаг, а мы заряжали, смеясь, мушкетоны и воздух чертили ударами шпаг». Его руки с напряженными бицепсами полусогнуты, как у борца накануне схватки. Косой пробор растрепался, и волосы упали на низкий лоб. Бодлеровские глаза мрачно смотрят из-под бровей. Зловеще перекошенный рот при слове «смеясь» обнаруживает отсутствие переднего зуба. Слова «чертили ударами шпаг» он подкреплял энергичными жестами, как бы рассекая по разным направлениям балаганный полусвет летнего театра воображаемой шпагой. «И даже как бы слышался звук заряжаемых мушкетонов, рыдание церковных звонов с каких-то башен – по всей вероятности, зубчатых – и прочей, как я понял впоследствии, “гумилятины”», – завершал свои наблюдения над товарищем острый на язык Валентин Катаев.
На начало Первой мировой войны Багрицкий ответит в сентябре 1914 года стихотворением «Враг».
Идет, под котомкой сгибаясь, В дыму погибающих сел, Беззвучно кричит, задыхаясь, На знамени черный орел.В 1915 году Багрицкий уже громко заявляет о себе опубликованными стихотворениями. Кружок поэтов, куда в то время вошли Багрицкий и Фиолетов, назывался «Аметистовые уклоны». На деньги Фиолетова издали на глянцевой бумаге в квадратном формате поэтические альманахи «Серебряные трубы» и «Авто в облаках». Были и другие сборники поэзий с не менее вычурными названиями – «Шелковые фонари», «Чудо в пустыне», «Смутная алчба». В «Серебряных трубах» увидели свет «Креолка», «Конец Летучего Голландца», «Рудокоп». В альманахе «Авто в облаках» – «Суворов», «Нарушение гармонии», «Гимн Маяковскому», «Дерибасовская ночью», «О любителе соловьев». «Обязанность, принятую на себя – выдумывать позабористей слова, – авторы «Авто в облаках» выполняют скучно и неумно», – отозвался в ноябре 1915 года в Питере «Синий журнал». Мнение столичного критика разделили в одесском журнале «Южный вестник»: «Одесское «Авто в облаках» – это своего рода chef d'oeuvre безвкусицы и дурного тона». Но далее авторы статьи сделали одно исключение, отметив, что г-н Багрицкий дал одну более или менее сносную вещь («Суворов»), в которой есть и чувство стиля, и изящество.
Юрий Олеша первые строки «Суворова» считал замечательными по ритму, лиричности и вкусу:
В серой треуголке, юркий и маленький, В синей шинели с продранными локтями, — Он надевал зимой теплые валенки И укутывал горло шарфами и платками.В 1915 году в стихотворении «Гимн Маяковскому» Багрицкий заявляет:
Я, изнеженный на пуховиках столетий, Протягиваю тебе свою выхоленную руку… Я, ненавидящий Современность, Ищущий забвения в математике и истории, Ясно вижу своими же вдохновенными глазами, Что скоро, скоро мы сгинем, как дым.«Крутая талантливость, дымящаяся в этих строках, не мешает нам разглядеть несомненную выдуманность фигуры патриция, у коего «математика и история» на самом-то деле укладываются в курс реального училища, дополненного училищем землемерным, а изнеженность – плод упоенного чтения мировой мифологии и декадентской поэзии, помогающих вытеснить из сознания действительно ненавидимую Современность. В противовес этой ненавидимой Современности (а если точнее, то – презираемой, незамечаемой, «мещанской», «обывательской», «пошлой») возникает в воображении Багрицкого мир, извлекаемый из “учебников и книжек”», – заключит в 2003 году российский критик Лев Аннинский. Забегая вперед, замечу, что у Багрицкого в 1920-х, мягко говоря, не сложились отношения с Маяковским.
Вооруженный поэт. «Зеленая лампа». «Коллектив поэтов». Багрицкий и одесские художники. 1917–1918
В октябре 1915 года российские войска под командованием генерала Николай Баратова высадились в Энзели, в Персии. Спустя два месяца, в декабре они вошли в древнюю столицу Персии – Хамадан. С занятием Кума и Керманшаха Иран был отрезан от союзной Германии турецкой Месопотамии. Сюда, на турецкий фронт, осенью 1917 года прибывает Багрицкий. Перед этим он обретает опыт вооруженной борьбы в Одессе после февраля 1917-го. Студента юридического отделения Новороссийского университета А. Фиолетова мобилизуют для службы в новом, нецарском уголовном розыске. К нему присоединился и Багрицкий. Друзья хвастаются перед невестой Фиолетова Зинаидой Шишовой описанием подвигов, новенькими удостоверениями и настоящим оружием. Эпизоды обыска в незавершенной поэме Багрицкого «Февраль» – автобиографичны, исключая сцену изнасилования. Да, Эдуард действительно встретил во время обыска в притоне старую знакомую – гимназистку, которая стала проституткой. Все, что он далее живописует в поэме, – вымысел. «Я пишу поэму. Поэма эта о себе самом, о старом мире. Там почти все правда, все это со мной было, – рассказывал Багрицкий, – когда я увидел эту гимназистку, в которую я был влюблен, которая стала офицерской проституткой, то в поэме я выгоняю всех и лезу к ней на кровать. Это, так сказать, разрыв с прошлым, расплата с ним. А на самом-то деле я очень растерялся и сконфузился и не знал, как бы скорее уйти».
Сражениям с уголовниками Багрицкий в октябре 1917-го предпочитает командировку в Персию. Он покидает Одессу, где ожидают окончания войны, результатов выборов в Учредительное собрание, смены режима самодурства династии Романовых демократическим устройством государства, и отправляется в расположение войск генерала Баратова, на должность делопроизводителя в 25-й врачебно-питательный отряд Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым.
Через Ростов, через станицы, Через Баку, в чаду, в пыли, — Навстречу Каспий, и дымится За черной солью Энзели.В феврале 1918 года Багрицкий возвращается. В Персии уже не с кем воевать. Большевики прекращают Брестским миром войну с немцами, а значит, и с Османской империей. Однако пребывание Багрицкого на турецком фронте не было туристическим путешествием. Артем Веселый после гражданской собирает и документирует рассказы ветеранов. Вот что он обобщил из свидетельств участников верблюжьих походов (тогда Багрицкий в самом деле научился ездить на верблюде) экспедиционного корпуса генерала Баратова. «Иные за все время походов хлеба настоящего и на нюх не нюхали и давно уже забыли вкус хорошей воды. Цинготные их десны сочились гноем, литую мужичью кость ломала тропическая малярия, язвы и струпья разъедала шкуру томленую… Непролазна ты, грязь урмийская, остры камни Курдистана, глубоки пески Шарифхане!..»
Весной в Одессе усиливается хаос. После так называемого «троевластия» на смену Советам и иным заявляются 13 марта 1918 года австро-германские оккупанты. До дня окончательного воцарения в Одессе большевиков, 8 февраля 1920-го, в нем будут править и сменять один другой более десяти различных режимов. Пришлось и поэтам Одессы подумать о выживании, о своей партии. Еще в сентябре 1917 года в здании Новороссийского университета в 8-й аудитории начинают собираться поэты, литераторы, которые создают творческий союз, окончательно оформившийся в 1918 году.
Зинаида Шишова вспоминала, что там она впервые выступила с чтением стихов. Познакомилась, а впоследствии сдружилась с Багрицким, Олешей, Катаевым и Адалис: «Освободившиеся от влияния «ахматовщины», «гумилевщины», «северянинщины», мы назвали свой кружок “Зеленая лампа”». На первом своем вечере в консерватории на сцене на стол поставили лампу с обычным тогда абажуром из зеленого стекла. Лампу случайно разбили. Отсюда и произошло название. Правда, литературоведы без устали упражняются, выискивая причинно-следственные связи с одноименными кружками времен Пушкина и русской эмиграции в Париже 1920-х.
Багрицкий, Катаев и Олеша становятся главными генераторами идей «Зеленой лампы». К ним охотно присоединился Лев Славин. Он оставил воспоминания о знакомстве с Багрицким. Славин пришел в тесную бедную квартирку на Ремесленную улицу, где жил Багрицкий вдвоем с мамой.
«Я увидел человека худого и лохматого, с длинными конечностями, с головой, склоненной набок, похожего на большую сильную птицу. Круглые серые, зоркие, почти всегда веселые глаза, орлиный нос и общая голенастость фигуры усиливали это сходство. Сюда надо прибавить излюбленный жест Багрицкого, которым он обычно сопровождал чтение стихов: он вытягивал руку вперед, широко расставив пальцы и упираясь ими в стол. Его кисть, крупная, с длинными и сильными пальцами, напоминала орлиную лапу. Он косо глянул на меня из-под толстой русой пряди, свисавшей на невысокий лоб, и сказал хрипло и в нос: «Стихи любите?»
Он был полуодет, сидел, скрестив ноги по-турецки, и держал перед собой_блюдце с дымящейся травкой. Он вдыхал дым. Мы застали Багрицкого в припадке астмы. Болезнь, впоследствии убившая его, была тогда несильной. Она не мешала ему разговаривать и даже читать стихи. Читал он хрипловатым и все же прекрасным низким голосом, чуть в нос. Длинное горло его надувалось, как у поющей птицы. При этом все тело Багрицкого ходило в такт стихам, как если бы ритм их был материальной силой, сидевшей внутри Багрицкого и сотрясавшей его, как пущенный мотор сотрясает тело машины…
Есть натуры закрытые, которые узнаешь исподволь, Багрицкий был, наоборот, человеком, распахнутым настежь, и немного мне понадобилось времени, чтобы увидеть, что эта зоркость и сила Багрицкого и словно постоянная готовность к большому полету были точным физическим отражением его душевных качеств. Это ощущение осталось у меня на всю жизнь».
Славин сочинил шаржи отцов-основателей «Зеленой лампы», вспомнив, что одно время Багрицкий трудился редактором в одесском отделении Российского телеграфного агентства.
Небритый, хмурый, шепелявый Скрипит Олеша лилипут. Там в будущем – сиянье славы И злая проза жизни – тут. За ним, кривя зловеще губы, Рыча, как пьяный леопард, Встает надменный и беззубый Поэт Багрицкий Эдуард. Его поэмы – совершенство. Он не марает даром лист. И телеграфное агентство Ведет, как истинный артист. Но вот, ввергая в жуткий трепет, Влетает бешеный поэт — Катаев – и с разбега лепит Рассказ, поэму и сонет.В газетах печатают следующие объявления: «Зал консерватории. Новосельская, 63. В воскресенье, 17 марта 1918 года, второй интимный вечер «Зеленой лампы». Новые стихи. Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Зинаида Шишова».
Кроме творческих, поэты преследовали прозаические цели – заработать. Билеты продавали на Дерибасовской или у швейцара консерватории. Интимный вечер состоял из нескольких отделений. Сначала – лекция о литературе, музыка, мелодекламация, пластический танец. Потом при свете лампы с зеленым абажуром на столе на сцене поэты читали стихи. Далее следовал «ералаш» – инсценировки юмористических рассказов и оживленные гравюры. А потом начинался бал – танцы под рояль до утра.
«Зеленая лампа» объединяла неунывающих, веселых людей. Они вместе ходили в кино, смотрели многосерийный фильм «Парижские тайны». Садились в первых рядах – среди одесских мальчишек-«папиросников». Это была публика восторженная и благодарная. Она так вживалась в экран, что предупреждала героиню о приближении злодеев: «Бетина, тикай!». Или напоминали: «Эй, гитару забыл». Изредка появлялся главный герой «Железный Коготь» – у него действительно был протез в виде когтя. Лица его никто не видел. «Железного Когтя», сцены из «Тайн» Эдуард Багрицкий великолепно имитировал. Вместе с Фиолетовым они демонстрировали «Эдины штучки»: Багрицкий, по-пиратски повязанный красным платком, с петлей на шее, изображал Фому-ягненка, идущего на виселицу, а Фиолетов с подушкой на животе – его беременную и вероломную подругу. Этот же красный платок участвовал в другой картине – Эдя повязывал им лицо, нахлобучивая кепи на глаза, поднимал воротник, вытягивал вперед руку и крючком выпускал палец. Он крался вдоль стены, как кошка. Это была «Маска, которая смеется, или “Железный Коготь”».
Одесские литераторы подчеркнуто пренебрежительно относились к нужде. Одеты они были в потертые военного времени френчи и пиджаки, но забота об обуви представляла труднейшую проблему. Рынок отвечал астрономической цифрой стоимости «колес», как их тогда называли. Если ботинки рвались, над человеком нависала катастрофа, ибо все пределы починки и ремонта были давно превзойдены. Вся «проза» жизни превращалась в угрозу существованию. Это касалось всего – от продуктов до топлива, одежды, обуви, белья, мыла, освещения… И вот, несмотря на все это, «Зеленая лампа» обустроила себе штаб на улице Петра Великого. Его назовут «Коллектив поэтов», и он просуществует до 1922 года.
На Петра Великого в 1918-м пустую квартиру бежавших от революции буржуев самолично реквизировал некто Митя Ширмахер – человек, который на сегодняшнем языке «жил по понятиям». Он был хром, носил ортопедический сапог. Лицо имел бледное, один глаз был зеленый, другой – желтый. Опираясь на палку и хромая, Митя предложил поэтам комнаты. Их было две, довольно обширные, обе с выходом на балкон. Двигаясь, Ширмахер ласково ощупывал рукой шелковую обивку кресел и большие атласные желтые портьеры. В комнатах сохранилась мягкая мебель и даже рояль. Мелких предметов, посуды, ваз не было – их начисто унесла волна эвакуации. Митя поинтересовался: «Будут ли все расходы по квартплате и освещению оплачивать поэтами?» – и получил немедленное согласие. Потом он перешел к главному для себя вопросу: «Из чего лучше сшить костюм для приема гостей – из занавесок или обивки?»
Поэты заподозрили, какая угроза нависла над креслами. После долгих дебатов и консультаций они убедились, что отговорить Митю от задуманного никак не удается. С болью в сердце пожертвовали занавесками. Через некоторое время действительно на Мите и его верном адъютанте молодом Юре появились баснословно ярко-желтые блестящие френч и галифе, чем-то отдаленно напоминавшие камзолы мушкетеров.
Митя Ширмахер принадлежал к славному племени одесских комбинаторов. Его прозвали Хромым бесом Тюркаре. Он действительно напоминал героев Лесажа. Но пока что он был небезынтересным собеседником и гостеприимным хозяином.
Решили, что клуб будет открыт без ограничений для всех выступлений, не будет ни устава и никаких стеснений для посетителей. По вечерам все больше стекалось народу, горела одна лампа под зеленым абажуром. Багрицкий и Олеша читали стихи русских поэтов. Память их была неисчерпаема. «Чьи это стихи, Юра?» – порой обращался Багрицкий к Олеше. Но эрудиция Олеши тоже огромна. Они читают по очереди Фета, Тютчева, Баратынского, Батюшкова, Языкова, много Пушкина и Лермонтова.
«Зеленая лампа», «Коллектив поэтов» собирали самодостаточных людей. Шишова сравнивала коллег с волчатами – они не баловали друг друга похвалами. Однажды она прочла свое новое произведение. Багрицкий без комментариев высказался: «Очень хорошо». Остальные не проронили ни звука. Шишова подозрительно оглядела всех – она была уверена, что над ней издеваются. В «Зеленой лампе» на целые полчища слов налагали табу, выводили из употребления. Так, слова «красивый», «стильный», «стихийно» затаптывали, как окурки. Кто-то под шумок протащил в кружок слово «реминисценция». Оно прижилось и уже побрякивало кое-где в разговоре. В один прекрасный день Багрицкий его убил. Расправился с ним в открытую, как честный враг: «Слова «реминисценция» не существует, говорите – «литературная кража», «воровство», «плагиат», наконец, если вам уж так нравится».
Завершение в ноябре 1918 года австро-германской оккупации поэты отпраздновали с шиком. Это обеспечил бочонок спирта – трофей обменной операции Мити Ширмахера. Он обещал за него подошвенную кожу некоему лейтенанту германской армии. Зная, что час эвакуации вот-вот наступит, Митя не торопился с доставкой кожи. Дождавшись нужного момента, он буквально вырвал из рук немца заветный бочонок: «Глянь, там за углом стоит твоя тележка с кожей». Лейтенант удрал, догоняя свою часть, а спиртом комбинатор поделился с поэтами.
«Коллектив поэтов» дружил с обществом независимых художников. Их еще называли одесскими парижанами. Это общество начало образовываться не с 1907 года, как ошибочно ссылаются на мемуары Якова Перемена, а примерно с 1913-го. В сентябре 1917 года одесские художники-модернисты совместно с обществом «Искусство и революция» образовали «Союз деятелей искусства», куда вошел и «Коллектив поэтов». Творческая молодежь участвовала в совместных сатирических изданиях, например, в популярной «Бомбе», в «Яблочке», в альманахах модернистской поэзии, поэты выступали на поэтических утренниках, на открытии выставок «независимых» и расписывали кафе вместе с художниками.
Душой мастеров кисти был Яков Перемен. Одесский Морозов и Щукин в одном лице, он отличался превосходным вкусом. Перемен вывез коллекцию одесских парижан в Палестину. Прозвучавший 22 апреля 2010 года в нью-йоркских залах «Сотбис» удар молотка поставил точку: долгая сага закончилась – 86 работ одесских художников-модернистов начала XX века из собрания Якова Перемена купил украинский предприниматель.
Сохранился шарж, на котором художники поставили шутливые надписи, построенные на игре слов из фамилии Перемена, на вывеске нарисованного музея и «перемен в живописи», как написано под портретом: с намеком на мечту Якова о музее в Палестине и поддержку новаторского искусства. Шарж родился в раблезианской атмосфере «Свободной мастерской декоративной живописи и скульптуры», открытой «независимыми» в октябре 1918 года на Екатерининской, 24. Художник Амшей Нюренберг (1887–1979), глава мастерской, оставил воспоминания о частых вечеринках в студии. В них «активно выступали дружившие с нами молодые одесские поэты. Центральное место, разумеется, принадлежало Багрицкому». Сохранились шутливые куплеты Багрицкого: «Здесь Нюренберг рисует быстро…»
Возможно, именно Багрицкий был автором каламбура и на шарже на Перемена. Нюренберг утверждал, что «в шутках, остротах и каламбурах, всегда тонко отшлифованных, поэт не имел соперников…
Он входил как-то празднично, гордо держа свою великолепную голову, и, степенно устроившись на свободном стуле, начинал развлекать студийцев… Иногда он брал уголь и обрывки газетной бумаги, на которой мы рисовали, и порывисто набрасывал причудливые фигуры фантастических людей, живших в его неисчерпаемо богатом воображении. К рисункам своим он относился так же иронично, как к своим стихам и остротам, он их великодушно жертвовал студии».
Фиолетов ив 1918 году оставался в уголовном розыске. Однако Багрицкий с друзьями вскоре понесли утрату. «Одесские новости» 28 ноября 1918 года: «Жертвами злоумышленников сделались вчера инспектор уголовно-розыскного отделения студент Анатолий Шор 22 л.». «Одесская почта» 28 ноября: «Около 4-х часов дня инспектор уголовно-розыскного отделения, студент 4 курса Шор в сопровождении агента Войцеховского, находясь по делам службы на «Толкучке», куда они были направлены для выслеживания опасного преступника…» «Одесские новости» 29 ноября: «…вошли в отдельную мастерскую Миркина в д. № 100 по Б.-Арнаутской, как передают, поговорить по телефону. Вслед за ними вошли три неизвестных субъекта. Один из них быстро приблизился к Шору и стал с ним о чем-то говорить. Шор опустил руку в карман, очевидно, желая достать револьвер. В это мгновение субъекты стали стрелять в Шора и убили его». «Южная мысль» 25 декабря: «…состоится вечер поэтов памяти Анатолия Фиолетова. В вечере примут участие Л. П. Гроссман, Ал. Соколовский, Ю. Олеша, Э. Багрицкий, В. Инбер, А. Адалис, И. Бобович, С. Кесельман, В. Катаев…»
Анатолий Фиолетов оставил после себя 46 стихотворений. Его четверостишие о лошадях цитировали Ахматова, Бунин, Катаев, Маяковский, Чуковский.
Как много самообладания У лошадей простого звания, Не обращающих внимания На трудности существования…Читающий поэт. Хаим Бялик. Яков Фихман
Современники запомнят Багрицкого как поэта, который досконально знал русскую и мировую литературу. За вечер он мог одолеть 200–250 страниц. Цитаты приводил скрупулезно точно. Не полагался на чужое мнение, читал, по его словам, и «ужасное», чтобы составить собственное мнение. Был поклонником исторической, мемуарной литературы, фантастики, приключений. Периодику открывал от случая к случаю. Из русских классиков обожал Достоевского, почитал Лескова, Гоголя. Толстого не любил: «Если “Войну и мир” кое-как прочитал, – иронизировал, – то “Анну Каренину” – не мог одолеть». В украинской литературе выделял Тараса Шевченко, народные думы.
Одесса начала века была одним из центров издательской активности в Российской империи. Заметную роль играло издательство «Мория». Украинская советская власть запретила его в 1921 году. Одним из основателей «Мории» был Хаим Бялик.
Классиков литературы на иврите и идише Хаима Бялика (1873–1934), Якова Фихмана (1881–1958) Багрицкий считал своими наставниками, учителями, единомышленниками.
Книгу «Юго-Запад» он предваряет строками Якова Фихмана: «Нет, нет, поверь, не тщетны были грезы!..»
В поэме «Февраль» автор обращается к Хаиму Бялику:
Мы соперники Рока, Род последний для рабства и первый для радостной воли! Мы разбили ярем и судьбу мятежом побороли… Мы взойдем, мы взойдем На вершины! — И страшно ярится пустыня, грозней и грозней, И нет ей владыки; И вопли страданья и ужаса мчатся по ней, Безумны и дики, Как будто бы в недрах пустыни, средь мук без числа, Рождается Нечто, исчадье великого зла…Стихи в чтении Багрицкого звучали по-особенному. Быть может, тому виной был его астматический хриплый голос. И правда, раскаты его голоса напоминали львиный рокот. Багрицкий обладал достаточно громким голосом, но довольно низким, с глуховатым оттенком. Его произношение было безукоризненным, и он отличался хорошей дикцией. Только иногда слышен был легкий свист при разговоре – следствие потери одного переднего зуба. Голос Эдуарда отличался наибольшей выразительностью по сравнению со всеми остальными выразительными движениями, был более выразительным, чем мимика и жестикуляция. Частых изменений голоса во время речи не было, говорил он большей частью в одном тоне. Речь средней быстроты, скорее несколько замедленная, как и все движения вообще, плавная, свободная, без запинок и затруднений. Он произносил слова, строил фразы и ставил ударения правильно. Случаев выпадения из памяти или неумения произнести отдельные слова или обороты речи не отмечалось, так же как и случаев непонимания смысла или значения слов и фраз, которые он слышал от собеседника.
Когда Багрицкий декламировал стихи, то по временам прикрывал глаза и по-птичьи нахохливался. В 1925 году с ним познакомится Георгий Мунблит. Ему чтец Багрицкий, если посмотреть на него вблизи, напомнит пожилого соловья, который пел не для дамы и не для публики, а для одного только себя: «И дело здесь было не в одном только внешнем сходстве. Такой чистой от примесей, такой самозабвенной любви к стихам, какая владела этим человеком, мне не случалось видеть ни у кого другого».
Современники запомнят Багрицкого как человека словоохотливого, любящего порассуждать в своем кругу. В разговорах о литературе он охотно цитировал стихи, но только когда говорил по поводу данного стихотворения, а не так, чтобы цитировать то или иное стихотворение для иллюстрации других затрагиваемых в беседе вопросов. В разговоре очень любил употреблять характерные черноморские выражения, словечки, особенно когда рассказывал что-либо смешное.
Когда требовалось, мог убедительно выступать публично, но делал это нехотя, не считал себя созданным для ораторства. Иногда пел, хотя не имел голоса. В манерах, действиях был естественен. Но близким к Багрицкому людям бросалась в глаза его порой нарочитая грубость, стремление казаться менее сентиментальным, более мужественным. Багрицкий мастерски изъяснялся нарочито плебейским языком, так называемым «жлобским» голосом. Это предусматривало небрежное смягчение шипящих. Употреблял «ё» вместо «о». Слово произносил с величайшим отвращением, как бы между двух плевков через плечо. Так говорили уличные мальчишки, заимствующие манеры у портовых грузчиков-биндюжников.
Красный партизан Багрицкий. Петлюровец Владимир Сосюра. Большевистский акмеист Владимир Нарбут. 1919–1920
Во время интервенции, после ухода австрияков и германцев, Одессу поделили на четыре зоны: французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Границами служили ряды венских стульев. Однажды петлюровцы заметили, что «пограничник» француз-зуав отлучился по нужде. Они переставили кордон и увеличили просторы своей самостийной земельке. Однако сын Африки не стал терпеть колонизатора в шароварах. Одесситы рассказывали, что тогда поднялся страшный шухер. А вот ни с чем не сравнимый шухер имел место быть в три часа пополудни 6 апреля 1919 года.
Под черными и красными знаменами Одессу заняли хлопцы батьки Никифора Григорьева – Верблюжский, Херсонский, Таврический полки. Григорьев прибыл на одесский вокзал в собственном поезде. Важно, как его кинодвойник Грициан Таврический в фильме «Свадьба в Малиновке», ступил на платформу. Ни с кем не здороваясь, сел на поданного кровного коня. Первым-наперво объехал у вокзала фронт Верблюжского полка, названного именем родного села атамана – соседнего с селом Малиновка. Атаман рысью проскакал по фронту. Верблюжский полк производил грозное впечатление: все одеты были в английское обмундирование, отнятое у греков, и вооружены трехлинейными русскими винтовками. Потом батька пересаживается в автомобиль и едет в гостиницу «Красная». По Пушкинской улице шпалерами по обе стороны стоят горожане. Их видимо-невидимо. Во всю свою длину Пушкинская улица была запружена народом. Григорьев едет, стоя в автомобиле. Кто-то схватил руку атамана и поцеловал ее. После этого атаман уже сам протягивал руку для поцелуев толпе…
В апреле 1919 года Багрицкий идет добровольцем на войну. Накануне он с товарищами побузит во время бурных прений одесского Союза по организации профсоюзов, изрядно разозлив присутствовавшего там же Ивана Бунина. В дневниковой записи от 11 апреля его супруге привиделись лица молодых поэтов и писателей острыми и преступными. «Катаев, Олеша и Багрицкий и прочие держали себя последними подлецами, кричали, что они готовы умереть за советскую платформу, что нужно профильтровать собрание, заткнуть рот буржуазным обветшалым писателям. Держали они себя нагло, цинично и, сделав скандал, ушли».
Слова Багрицкого не разошлись с делом. Первое место службы красного партизана – Особый партизанский отряд ВЦИК. Потом – Отдельная стрелковая бригада, инструктор политотдела. Главной его обязанностью стало сочинение листовок. Их он выдавал без устали. Сохранилась листовка, которую Багрицкий сочинил сразу после успехов белых Деникина в Донбассе. «Всякий, – писал он, – кто может носить оружие, пусть берет винтовку и идет с нами на фронт. Колебаний быть не может. Кто не с нами, тот против нас».
В последний час тревоги и труда Над истомленными бойцами Красноармейская звезда Сияет грозными лучами.В первой половине мая 1919 года партизаны отряда Багрицкого приняли неравный бой с восставшими вчерашними союзниками – батьками Махно и Григорьевым. Григорьевцы быстро и сравнительно легко захватили Александрию, Кременчуг, Бобринскую, Черкассы, Золотоношу, Екатеринослав, Елисаветград, Пятихатки, Николаев, Херсон. Почти во всех этих городах красноармейцы, в подавляющем большинстве состоящие из крестьян, перешли на сторону анархистов.
В книге «Юго-Запад» в отдельный раздел вынесены сначала стихотворение «Голуби», а уже потом хрестоматийная поэма «Дума про Опанаса». В «Голубях» Багрицкий вспоминает свою персидскую кампанию. И 1919-й, когда красные партизаны шли на врага через дубняк дремучий, вброд или вплавь. «Багрицкий – наш товарищ по партизанскому отряду, – будут одобрительно в 1930-х повествовать ветераны, – провел с нами горячие дни… т. Багрицкий пишет прекрасные стихи, воодушевляющие бойцов».
Гляжу: близ Елисаветграда… Лежат верблюжские полки. И ночь и сон. Но будет время — Убудет ночь, и сон уйдет. Загикает с тачанки в темень И захлебнется пулемет…Когда Зинаида Шишова решила проведать сражающегося товарища, она повстречала бронепоезд другого известного своего земляка. В письме в одну из одесских газет этот незаурядный одессит свидетельствовал: «…была возложена на меня задача как на командира бронепоезда № 870 932 очистить путь от ст. Вапнярка до Одессы от григорьевских банд, что мною было выполнено; подтверждается документом командующего 3-й армией за № 1107…. Моисей Винницкий под кличкой Мишка Япончик. 30 мая 1919 г.».
Роль таких агитаторов, комиссаров, как Багрицкий, на Южном фронте летом 1919 года трудно переоценить. Отряды красноармейцев и противостоящих им григорьевцев, махновцев и других состояли преимущественно из жителей села. Каждая сила пропагандой стремилась перетянуть их на свою сторону. Григорьев – «Универсалами». Махно – растиражированной тысячами экземпляров листовкой «Кто такой Григорьев?» за подписью «Коллегия штаба дивизии войск имени Батько Махно». После гибели в июне 1919 года Григорьева красным противостояли уже махновцы с остатками григорьевцев. Это была мобильная и безжалостная армия. Она перемещалась по Украине несколькими эшелонами сразу. На платформах высился лес оглобель от тачанок, поднятых кверху. В теплушках привязывали лошадей. В вагоны набивались вооруженные до зубов хлопцы. На их папахах, кубанках, кепках, котелках, ушанках развевались черно-красные банты. На отдельной открытой платформе водружали роскошное лакированное ландо с золочеными княжескими гербами на дверцах. По четырем углам платформы у пулеметов усаживались телохранители батьки. На заднем сиденье ландо из красной сафьяновой кожи восседал Махно. Над ним развевалось черное знамя с лозунгом «Анархия – мать порядка!».
Уже в начале февраля 1920 года Одессу окончательно занимают части Красной армии под предводительством Котовского. Эффектно, как в фильме 1943 года «Котовский». Так случилось – в феврале 1920 года вчерашний петлюровский казак Владимир Сосюра решился посетить на улице Петра Великого собрание одесского «Коллектива поэтов». Этот вечер рассыпал небрежною рукою над ним по небу янтари. Сосюра в июле 1920 года в Одессе напишет стихотворение «Шагами шумными, в шинели, шелком шитой, к Шенгели спешно шел…» А Багрицкий предскажет красному курсанту, что тот вырастет в великого украинского поэта. Ученик не забудет наставника: «Вчитель мій, мій далекий, мій рідний / Побратим по рушниці й перу…»
«Будучи курсантом военно-политических курсов при 41-й стрелковой дивизии, я познакомился с Юрием Олешей, с поэтами Шенгели и Багрицким, которые в светлые и добрые руки взяли мое сердце и показали ему дорогу в лазурное небо поэзии, – расскажет в автобиографии Владимир Сосюра. – Когда я в кружке поэтов впервые читал свои стихи, в которых были такие слова, как «хлопцы», «девчата», «половники», и спросил: «Я поэт?» – юноша с орлиными глазами и соколиным профилем отозвался с подоконника: «Да, поэт, украинский поэт».
То был Эдуард Багрицкий.
Я стал украинским поэтом. Потом, после гражданской войны, в Харькове я познакомился с поэтами Куликом, Блакитным и другими, но встречи с Шенгели, Багрицким и Олешей навсегда запечатлелись в моем сердце. Багрицкий говорил: «Надо развить свой художественный вкус», – а лозунгом Юрия Олеши было: «Слово должно светиться».
Багрицкий первый познакомил меня со стихами Василя Чумака. До него я, конечно, уже читал и беспредельно любил стихи великих Шевченко, Франко, Лесю Украинку и Олеся…»
В 1930 году Багрицкий переведет стихотворение Сосюры.
І пішов я тоді до Петлюри, бо у мене штанів не було. Скільки нас отаких біля мурів од червоної кулі лягло! И пошел я тогда до Петлюры, Потому без штанов я ходил. Сколько нас, погибающих сдуру, Комиссарский наган находил!..В мае 1920 года в Одессе жил большевик и один из корифеев поэтической школы акмеизма Владимир Нарбут (1888–1938). Он создал и возглавил ЮгРОСТА (Южное отделение Всеукраинского бюро Российского телеграфного агентства). Нарбут славился колоритностью личности. Возможно, образ Воланда Булгаков представлял в его лице. Брат Нарбута Георгий был известным художником из объединения «Мир искусства». Его считают основоположником украинской советской графики. По его рисунку при гетмане Скоропадском была выпущена купюра в пятьдесят карбованцев.
Багрицкий высоко ставил творчество В. Нарбута. Девизом Нарбута, его поэтическим кредо было: «Бодлер и Гоголь, Гоголь и Бодлер. Не так ли?» И еще: «Мы и не акмеисты, пожалуй, а натуралисто-реалисты». Нарбут называл себя виеведом, «принимая Вий за единицу настоящей земной, земляной жизни».
В литературной секции ЮгРОСТА, позднее Одукроста (одесское отделение бюро РОСТА), Нарбут произвел своего рода реформу. Он привлек Бабеля, Багрицкого, Ильфа, Катаева, Кольцова, Олешу, Славина, Шишову, художника Ефимова, буквально сохранил «Коллектив поэтов», дал им возможность заработать на жизнь. В Одессе Нарбут основал новые литературно-художественные журналы – «Лаву», сатирический – «Облаву». Наряду со стихами, посвященными «злобе» дня, звучит Нарбут-акмеист. В 1920-м он выпустил книгу «Плоть».
В 1919 году Багрицкий, Катаев, Олеша уже приобрели опыт БУПе – Бюро украинской печати. Май 1920 года не располагал к сантиментам. Пилсудчики и петлюровцы заняли Киев. В Крыму, Таврии окопались белогвардейцы. Первые шаги Багрицкого на новом поприще были памятными. Сначала его назначили стихотворным фельетонистом стенной газеты. Придя в редакцию, прежде всего он деловито осмотрелся и потянул носом, отчего двум напомаженным и напудренным машинисткам сделалось дурно. Они не знали, что перед ними не солдафон. Просто больные астмой реагируют на любые запахи. Затем Багрицкий общительно подмигнул секретарю. Секретарь, крайне вежливый молодой человек, скрывался на госслужбе от мобилизации на польский фронт, поэтому он стушевался от проникающего до глубины его штатской души взгляда грозного ветерана Багрицкого. Тот же, скрутив огромную папиросу из секретарского же табака, зловеще констатировал: «Короста – болезнь накожная, а югароста – настенная».
После чего стараниями перепуганных секретаря и подчиненных ему машинисток Багрицкого немедленно перевели в отдел изобразительной агитации. Югаростовец Багрицкий рисовал нехитрые плакаты и снабжал их подписями в том же стиле. Например, на первом плакате – враг-золотопогонник с лопатой в руках: «Копаю яму для Советов, и ты, мой злейший враг, идешь». На втором – красноармеец в буденновке бросается в атаку: «Ты не увидишь больше света и сам в ту яму попадешь!» Багрицкий поддерживал дух освобожденных большевиками гимназисток, дам и иных боевых подруг: «Была ты жалкою рабою, / И все глумились над тобою: / Буржуи и капиталисты. / Но вот явились коммунисты. / Работница! Возьмемся дружно. / Нам всем теперь работать нужно! / И ты должна принять участье / В строительстве Советской власти». Доставалось от него по первое число и буржуям: «Буржуазия ласкала пролетария всегда. Миловала, целовала, на деревьях ве-ша-ла».
Сохранились автобиографические заметки Багрицкого: «Понимать стихи меня научила РОСТА. Моя повседневная работа – писание стихов и плакатов, частушек для стенгазет и устгазет – была только обязанностью, только способом добывания хлеба. Вечерами я писал о чем угодно, о Фландрии, о ландскнехтах, о Летучем Голландце, тогда я искал сложных исторических аналогий, забывая о том, что было вокруг. Я еще не понимал прелести использования собственной биографии. Гомерические образы, вычитанные из книг, окружили меня. Я еще не был во времени – я только служил ему. Я боялся слов, созданных современностью, они казались мне чуждыми поэтическому лексикону – они звучали фальшиво и ненужно. Потом я почувствовал провал – очень уж мое творчество отъединилось от времени. Два или три года я не писал совсем. Я был культурником, лектором, газетчиком – всем чем угодно – лишь бы услышать голос времени и по мере сил вогнать в свои стихи. Я понял, что вся мировая литература ничто в сравнении с биографией свидетеля и участника революции».
Тая Лишина. Пэон Четвертый. Сестры Суок. 1920
Югростовский паек был более чем скромен. В голодное лето 1920 года выручали верная подруга «Коллектива поэтов» Тая Лишина и «Эдины штучки». Накануне «дела» собирались на военный совет дома у Таи. Лишина помогала знакомым в Аркадии окучивать картошку и поливать красненькие – помидоры по-одесски. Аркадия напоминала руины римских вилл, Боргезе или Конти. Сухой плющ обвивал колонны с надбитой штукатуркой. Ее оббивали в поиске дерева – на дрова. Аркадия до революции славилась не только своим великолепным естественным пляжем и даже не оборудованной на заграничный манер водолечебницей, а прежде всего дорогим рестораном над морем с летней эстрадой, где выступали международные кафешантанные звезды. В Аркадии, как и во всех одесских пригородах, каждый клочок земли был занят в 1920 году под огород. Там, где раньше были дачи со стеклянными шарами на цветочных клумбах, теперь пробивалась чахлая зелень моркови и низко стелилась картофельная ботва. Одесситы неумело возделывали землю, и она приносила им тощие плоды. Тае в благодарность за помощь разрешали собрать для себя часть небогатого урожая.
Провозившись дотемна на огороде, она вернулась в кромешной тьме с тяжелым рюкзаком. Дома у Лишиной, растопив чугунную печурку пухлыми пачками журнала «Нива» за 1916 год, литераторы пекли в горячей золе картошку, обжигая пальцы и губы, ели ее без соли, которая тогда была дороже золота, грызли пахнущую острой свежестью морковку. Мечтали о шоколаде, если завтра выгорит их план. А пока что распределяли роли в предстоящем действе.
Рано утром Тая отправлялась на дело. Ее напутствовали наставлениями быть осторожной. Тая еле несла на себе корзину с носильным, постельным и столовым бельем. У ворот дома ее поджидали Багрицкий, Ильф и другие литераторы. Они сопровождали ее до улицы, ведущей к базару. Там по уговору рассредоточивались. Задача Багрицкого состояла в умении появиться по условиям игры в нужный момент. Его товарищи слонялись неподалеку, готовые в случае чего прийти на помощь. Базар начинался с пустырей и пыльных тупиков. Здесь бродили какие-то подозрительные личности. Не дав опомниться, они налетали на Таю, выхватывали из корзинки белье, предлагая за него смехотворно низкие цены. Девушка еле успевала следить за вещами, которые они перебрасывали друг другу, не соглашалась и отчаянно мотала головой. И тут на помощь приходил Багрицкий.
Высокий, с покатыми плечами, с лохматым чубом, свисающим на лоб, в гимнастерке, подпоясанной ремнем, в галифе и солдатских ботинках с обмотками, он решительно отбирал у опешивших перекупщиков белье. Хриплым голосом мрачный ветеран партизанских сражений исподлобья интересовался: «Почім це, дівчино?» Становилось ясно, что такого бойца на испуг не возьмешь. А ветерану-партизану финкой грозить уж тем более не находилось желающих.
Перекупщик, не давая Тае ответить, называл свою цену. Тогда Багрицкий предлагал немного больше. Перекупщику приходилось повышать свою цену. Багрицкий, войдя в роль, хлопал Таю по плечу, подмигивал, вращал глазами и весело повышал голос: «Ну шо, домовились?» – кричал он.
На крик сбегались другие перекупщики. Видя, что белье добротное и крепкое, переругиваясь между собой, они начинали вырывать его из рук друг друга. Цена росла как на дрожжах. Тая переглядывалась с Багрицким, тот продолжал оглашать округу возгласами: «Беру вже!» Тая нехотя уступала перекупщику и получала деньги. Багрицкий покачивал головой, сокрушенно вздыхал. Мол, дешево отдала дивчина. Подмигнув Тае, ретировался…
Не увядали в 1920 году и традиции «Зеленой лампы». Танцами до утра, как в 1918-м, публику уже было не заманить – голодно и холодно. И вот вечная предприимчивая черноморская смекалка помогает летом 1920 года открыть первое одесское кафе поэтов с загадочной вывеской «Пэон четвертый». Ее позаимствовали из стихов Иннокентия Анненского: «…Назвать вас вы, назвать вас ты, пэон второй, пэон четвертый…» Сохранилась афиша вечера в этом кафе. В группе авторов экспромтов, эпиграмм и памфлетов упомянуты Багрицкий, Ильф и Олеша.
Название привлекало, но нуждалось в разъяснении. Пэон четвертый – это сложный стихотворный размер, немножко посложнее амфибрахия и попроще гекзаметра. Есть четыре его разновидности. Багрицкий сочинил несколько гимнов этого кафе, который поэты пели перед началом.
Вперед, товарищи! Так без формальностей Оформим форму мы без платформ! Долой банальности! До идеальности Нас доведет лишь строгость форм!Или другой его гимн. Растолковывал название: «Четвертый пэон – это форма стиха, но всякая форма для мяса нужна, а так как стихов у нас масса, то форма нужна им, как мясу». И вот еще такой: «Всем, кто прозой жизни стертой нежность чувствует к стихам, объяснит «Пэон четвертый», как им жить по вечерам».
Инициативная группа, в которую вошли Багрицкий, журналист Регинин (будущий редактор известного советского журнала «30 дней») и художник Файнзильберг, брат Ильфа, занялась именно этим. Были развешены плакаты, сатирические рисунки, стихотворные лозунги. Привлекал внимание рисунок с изображением огромного металлического ключа и маленького фонтанирующего источника с надписью «Кастальский ключ» и шуточными стихами Багрицкого: «Здесь у нас, как сон невинен и как лезвие колюч, разъяснит вам всем Регинин, что за ключ – Кастальский ключ». Однако кафе просуществовало недолго и к осени 1920-го закрылось.
В конце 1920 года Багрицкий встретил на базаре Юрия Олешу, который продавал юбку из английского шевиота.
«Я женюсь», – поделился Юрий.
«Вижу, распродаешь имущество невесты», – съязвил Эдуард и предложил пойти пропустить по маленькой. Олеша в ответ галантно назначил на семь вечера представление другу своей избранницы. Тем более, у нее дома в комнате, которую та делила с сестрой, можно погреться у печки-буржуйки. Багрицкий оказался пунктуален. И явился не с пустыми руками: «Туго с дровами. Захватил сосенку из соседнего леса», – опустил он на пол створку от дубовой двери.
Перед ним стояла скромно причесанная, толстенькая, с розовыми ушками, похожая на большую маленькую девочку Лидия Суок. С ней рядом – Серафима с Олешей. Лидия и Серафима растопили печку и испекли коржики. На следующий вечер Багрицкий явился опять с «сосенкой» – спинкой венского стула.
Так Багрицкий повстречался с двумя из трех сестер Суок. Их отец был преподаватель музыки, в прошлом – подданный Австро-Венгерской империи чех Густав Суок. Старшая сестра Лидия в декабре 1920 года станет женой Багрицкого. Ее первый муж, военный врач, погиб на войне. Серафима через два года покинет Олешу. Ее мужьями будут Владимир Нарбут и Николай Харджиев. В 1956 году Серафима выйдет замуж за Виктора Шкловского. Олеша же женится на третьей сестре, Ольге. В «Трех толстяках» он расскажет о девушке Суок.
Перед смертью Олеша попросит похоронить его в могилу Багрицкого, который успел умереть до писательских репрессий и был погребен с большими почестями на Новодевичьем кладбище. Это желание Олеши даже было записано в его завещании. И хотя захоронение Багрицких уже было, так сказать, укомплектовано (там были похоронены сам Багрицкий, его жена и погибший на фронте сын), да и Олеша был в опале, его все-таки похоронили впритык к могиле Багрицкого. Удивительно, но такое же желание перед смертью высказал и Виктор Шкловский. Администрация Новодевичьего кладбища решила, что это уже будет слишком, и Шкловского похоронили на Новокунцевском кладбище.
Лидия Суок-Багрицкая отправится в 1937 году на Лубянку хлопотать за посаженного Нарбута. Вернется и перекрасит всю одежду в черный цвет – так вещи дольше прослужат в местах не столь отдаленных. Арест не заставил себя долго ждать. Лидия вернется в Москву лишь в 1956 году.
В 1935 году Суок-Багрицкая поделится первым впечатлением от знакомства с мужем. Увидела в наружности что-то птичье. Производил впечатление чего-то необычного. Поражал своим остроумием. Остроумие было очень острое и в то же время грубое. Прочел только что написанное им стихотворение «Трактир». Очень быстро освоился с обстановкой на новом месте и спустя короткое время уже чувствовал себя как дома. В вечер знакомства она испекла коржики: «А за коржики Багрицкого всегда можно было купить». После этого он стал приходить довольно часто и уже спустя несколько посещений остался в комнате сестер. Лидию очень удивило, что он вместо нижней рубашки носит маркизетовую кофту матери. Оказалось, что другого у него просто нет.
Первое время в Одессе Багрицкий с женой, сестра жены Сима – гражданская жена Олеши, – сам Олеша жили все вчетвером в одной комнате. Сперва жена Багрицкого еще ходила на службу, потом, видя, что, кроме нее, никто не желает служить, она также бросила работу. Жизнь была как у настоящей богемы: «дальше ехать некуда». Начиналось с того, что обсуждалось, какая вещь должна быть отнесена на толкучку. Жили, совершенно не заботясь о будущем, исключительно сегодняшним днем. Проводили время в безделье. Багрицкий носил одно время оба правых ботинка, различного фасона и номера, которые ему дала какая-то кухарка, вообще ходил оборванцем. Таким же был и Олеша. В комнате была кушетка и кровать, причем обе пары, Багрицкие и Олеши, поочередно честно менялись местами, так как на кровати было удобнее спать, чем на кушетке. Часто приходил Катаев. Когда он оставался ночевать, то ложился на пол посередине комнаты. В это время уже не в первый раз Багрицкий читал «Тысячу и одну ночь», Стивенсона, Гумилева и других современных и старых поэтов. Стихам уделялась все же большая часть времени. Просыпаясь с утра, часто Багрицкий и Олеша забавлялись тем, что начинали переговариваться между собою тут же сочиненными рифмованными стихами.
«Если спросят, кто я, скажи – Махно». 1921–1925
Февраль 1921 года. На улицы Одессы Багрицкий выходит, как на праздничный парад. Он держит путь свой на бульвар Фельдмана, 1 (сейчас это Приморский бульвар), к Паустовскому в редакцию. Багрицкий импозантен. Прохожие оглядываются – неужто повстречали вчерашнего атамана или батьку? Пронеслись над ним грозы гражданской, и возвернулся он в Совдепию. А может – это сам Нестор Махно?
В серой папахе, зеленой бекеше, хрустящих галифе, сверкающих чоботах чеканит шаг ладный казак. Косая сажень в плечах, немного сутулится. Ростом – выше среднего. Вес – трудно определить. Но бросается в глаза его правильное телосложение. Нет лишнего веса. Плечи несколько приподняты. Ноги непропорционально худые по сравнению с мускулистым туловищем. Шея короткая, полная. Череп круглой формы, лоб небольшой, плоский. Грудь широкая. На сцене сгибает руки, как борец перед схваткой. Крепко захватывает края трибуны. У него кисти и пальцы рук большие. Только на правой руке не сгибается один палец. Чрезвычайно пластичные кисти и пальцы. Их можно перегибать в дорсальную сторону, они производят впечатление бескостных. О таких говорят – руки скрипача.
Казак прямо смотрит перед собой. Его глаза глубоко сидят в орбитах. Они серого цвета, ясные и лучистые. Лицо бледное. Очень белое. На щеке – шрам. Из-под папахи вьется каштановый чуб с сильной проседью. Чуб у него казацкий, густой, спутанный. Волосы слегка вьются. Они отличаются способностью сами по себе быстро приходить в беспорядок, почти совершенно закрывая собою лоб.
Неожиданно послышался забытый возглас: «Мрак! Газэта!» Отощавшие разносчики прессы отвыкли от своего занятия – он не вчитались в заголовок, и «Моряк» продавали как «Газэту “Мрак”». За полчаса разошелся весь тираж. Печатали «Моряк» на оборотной стороне неразрезанных табачных акцизных листов – бандеролей времен Центральной Рады с надписями: «За продаж і купівлю тютюнових виробів без бандеролів або з зіпсованими бандеролями винуватці караються на підставі закону».
Секретарь редакции Константин Паустовский познакомился тогда со всем «Коллективом поэтов». Они охотно шли к нему ради чудного авторского вознаграждения: черный кубанский табак, синька, хлеб, ячневая крупа, соленая килька. Паустовскому Багрицкого представляет выпускающий «Моряка» Исаак – Изя Лившиц: «Это наш одесский поэт и птицелов Эдуард Багрицкий».
«Вы, как всегда, напутали, Изя, – поправляет его нарочито хриплым басом Багрицкий. – Следует произносить: «Багратион-Багрицкий, последний потомок княжеского кавказско-польского рода из иудейского колена Дзюба».
Высокий и неправдоподобно худой человек с профилем менестреля и прядью красивых каштановых волос, свисавшей на лоб, подает руку Паустовскому. Широкую дружелюбную руку. И щелкает по-военному каблуками. Потом он подходит к шкафу с 82 томами энциклопедии Брокгауза и Ефрона и четырем к ней дополнительными. Достает первый том. Перелистывает его и выбирает все листки папиросной бумаги, которыми в книге были переложены цветные рисунки и карты.
«Эдя!» – предостерегающе восклицает Изя. Но человек с профилем менестреля даже не взглянул на него. Он вынимает второй том энциклопедии и повторяет свои действия.
«Вот теперь покурим!» – говорит он со смаком.
«Эдя, это некрасиво», – настаивает Изя.
Багрицкий молча оторвал от папиросной бумаги короткую полоску.
Как-то особенно ловко он зажимает ее между пальцами. Подносит ко рту. И вдруг, к изумлению Паустовского, раздается тоненькая, как колокольчик, но вместе с тем громоносно-звонкая трель какой-то безусловно трогательной птахи: «Это было необыкновенно. Я слышал, как в крошечном и горячем горле этой птахи пересыпался поющий бисер».
«А это, по-вашему, красиво или некрасиво?» – интересуется Багрицкий.
«Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья «Альшванг и компания». Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже, – вспоминал Паустовский. – В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки – и мои и поэта Эдуарда Багрицкого – выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло».
К лету 1921 года литературная жизнь в Одессе ненадолго оживилась. В полуподвальчике, бывшем ванном заведении, открывают кафе. Вначале его назвали «Хлам» (Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты). Но вскоре переименовали в «Мебос» – Меблированный Остров.
Десяток стульев и столов, буфетная стойка и расстроенное пианино, над которым висела надпись: «В пианиста просят не стрелять – делает, что может» – составляли всю меблировку «острова». За единственным маленьким зальцем нового кафе в тесных кабинах почему-то остались мраморные ванны, пугая неожиданностью случайно попавшего туда посетителя. Участникам выступлений они служат и раздевалкой, и местом отдыха и перекура между выступлениями, за которые полагался бесплатный ужин. Но читать стихи под стук и грохот посуды и шум разговоров было трудно. Надо было придумать, чем заинтересовать посетителей и заставить их быть повнимательней к поэтическому слову.
Багрицкий предлагает инсценировать свою драматическую поэму «Харчевня». В ней участвовали знаменитый старый поэт – теперешний хозяин харчевни – и два проезжих молодых поэта, едущие в Лондон на состязание поэтов. Между старым поэтом и молодыми возникает спор о поэтическом мастерстве. В стихотворном поединке побеждает старый поэт, но, уйдя на покой от суеты и бренной славы, он нашел свое место за трактирной стойкой, где продолжает сочинять стихи. Багрицкий играл старого поэта, Ильф и Славин – молодых. Другим участникам «Коллектива поэтов» – Бондарину и Гехту – в этой инсценировке были отведены роли посетителей «Харчевни». Нехитрые костюмы и грим, широкополые шляпы, шарфы и трости, бакенбарды и передники были принесены из дома. На столах зажглись свечи, и «Мебос» превратился в старинную английскую харчевню.
В харчевне декламируют стихи. Потом посетители харчевни – простые рыбаки и рыбачки, крестьяне и конюхи – в конце представления запевают песню о Джен, написанную Багрицким. Ее подхватывают и поют вместе с исполнителями все посетители «Мебоса».
Давно утеряна поэма «Харчевня» и ее инсценировка, и судьба их неизвестна. Не все слова песенки запомнились правильно теми, кто исполнял их тогда. Только к 70-летию со дня рождения Багрицкого удалось полностью восстановить слова и мелодию этой милой песенки. Она отчетливо заново зазвучала в памяти друзей юности Эдуарда Багрицкого.
Песенка о милой Джен
(Из инсценировки поэмы «Харчевня»)
Джен говорила: не езжай, Мой милый, в путь опасный, Пройдет апрель, наступит май, И в щебетанье птичьих стай Воскреснет снова мир прекрасный…Багрицкий умел радоваться чужим удачам, поэтическим находкам. Наравне со стихами прославленных поэтов он читал понравившиеся ему стихи тех, кто был рядом с ним, кто только начинал поэтический путь. С восторгом Багрицкий повторял строфы из стихов молодого поэта Эзры Александрова: «И утром зашагавший ряд деревьев, выставивших пики, а на столе стоит снаряд, вода, весна и две гвоздики». И еще: «Но мои пустые глазницы, благословенные предками, зарастут разноцветными птицами и разноцветными ветками». Он читал их вслух, бормотал про себя. Они никогда не были напечатаны, но с голоса Багрицкого запомнились навсегда. Эзра Зусман, писавший под псевдонимом Александров, в 1922 году уехал из России в Палестину. Там он стал писать стихи на иврите. Израильские стихолюбы с восхищением вспоминают, например, филигранные пейзажи его стихотворения «Тверия в дождь». Зусман переводил на иврит русскую поэзию – Ахматову, Пастернака, Багрицкого, Мандельштама.
В 1922 году у Багрицких родился сын Всеволод. Жили они в Одессе в очень большой нищете. Но это казалось как бы само собой разумеющимся. Никто из друзей и знакомых этому не удивлялся, как будто так и должно было быть. Это как-то гармонировало с Багрицким. Жена в этом отношении всецело придерживалась того же беззаботного отношения к бытовой обстановке. На первом плане была еда, для нее могли продать любую вещь. Обстановки, по существу, никакой не было, был поломанный стол, пара стульев и вместо кровати – охапка сена на полу, ребенок рос без пеленок. Все эти материальные лишения переносились очень легко и беззаботно.
Однажды маленький Севка чуть не стал сыном других родителей. Случилось это еще в Одессе. Багрицкие тогда сняли по дешевке антресоли в большой коммунальной квартире. Севе было всего несколько месяцев. Однажды родители ушли, оставив спящего малыша одного. Сева проснулся и стал плакать. Его услышали бездетные супруги. Они поднялись на антресоли и увидели в корзине малыша, лежащего на соломе в каком-то тряпье. Решив, что это подброшенный кем-то ребенок, супруги взяли его к себе. Севку вымыли, завернули в красивое одеяло с кружевами, положили в чистую постель. Вернувшись домой и не найдя в корзине сына, Эдуард и Лида стали его искать по всему дому. Наконец обнаружили у молодоженов, где он лежал, что «тот принц». Ребенка водворили обратно в корзину. Гордый Эдуард приказал снять с него «всю барскую красоту» и завернуть в прежнюю «одежду».
«Но почему, Эдя? – пыталась возразить Лидия Густавовна. – Смотри, какой он стал хорошенький».
«Все снять немедленно – и на барахолку. Ребенок не тех кровей».
Позже Багрицкие обитали одно время под Одессой в дачной местности. Эдуард работал в культотделе в составе маленькой актерской труппы, которая разъезжала на грузовике по различным красноармейским частям. Багрицкий выступал в качестве поэта-импровизатора, сочиняя тут же во время выступления стихи на заданные темы или рифмы. Лидия Густавовна вспоминала, что он пользовался во время этих выступлений большим успехом. Роль затейника-импровизатора удавалась ему хорошо. Жили Багрицкие в проходной комнате, в квартире, занятой главным врачом госпиталя. В качестве загородки с одной стороны комнаты был поставлен оставшийся от старых владельцев дачи шкаф красного дерева, а с другой было повешено казенное одеяло со штампом. Сам Багрицкий также ходил в казенной рубашке с большим штампом на груди. Не было дров и еды. Вначале отапливались палочками от шкафа, что было связано с некоторыми трудностями, так как красное дерево очень твердое и с трудом поддавалось колке ножом. Затем Багрицкие нашли другой выход. В шкафу были двойные толстые зеркальные стекла, а в годы разрухи на стекло был большой спрос. Поэтому началась продажа стекол из этого шкафа. Причем Багрицкий оказался очень ловким в деле освобождения стекол от замазки. Жена относила стекла на рынок. Там их «спускала» и покупала на вырученные деньги съестное. Под конец она настолько осмелела, что носила стекла на рынок, даже не пытаясь их чем-либо прикрыть. Но так как путь на рынок шел мимо отделения милиции, однажды Лидия попалась на глаза дежурившему милиционеру. Тот жену поэта задержал. Чтобы выпутаться из положения, ей пришлось спешно выдумать какую-то историю для объяснения того, что она идет продавать стекла. История оказалась настолько правдоподобной, что Лидию тут же освободили. Но настал момент, когда все стекла из шкафа были проданы. Багрицкие попытались было добывать стекла в помещении, занимаемом врачом. Но однажды, когда они вытаскивали ночью стекло из входной двери в коридоре, едва не попались, поэтому решили больше врача-соседа не тревожить.
Кроме того, Багрицкий трудился руководителем литкружка «Потоки» Одесских железнодорожных мастерских. В 1923 году кто-то из советского начальства возмутился: «Что за такие «Потоки»? Потоки чего, собственно говоря?» И тогда было придумано «идейное» название, но получилось как-то еще более двусмысленно: «Потоки Октября». Багрицкий отзывался о своем кружке лаконично: «Потоки патоки и пота». Помогал ему совсем молодой человек, поэт и прозаик, которого Эдуард также опекал, – Иван Микитенко. В соавторстве с Багрицким он даже две поэмы написал, которые были опубликованы тогда в Одессе: «Ночь в монастыре» и «Иван Синица». В соавторстве с Миколой Бажаном И. Микитенко позже переведет на украинский «Думу про Опанаса».
Одесса 1920-х была центром кинематографии европейского уровня. Багрицкий захаживал к киношникам на посиделки с директором Одесской кинофабрики Павлом Нечесой. Их роднили сабельные походы гражданской. Было о чем посудачить красному партизану с красным матросом Нечесой. В рекламных целях Багрицкий писал стихотворения, посвященные новинкам, революционным лентам. Например «Укразия».
По деревням ходил Махно щербатый, И вольница, не знавшая труда, Горланила и поджигала хаты И под откос спускала поезда…«Укразия» – так назвали Украину европейские интервенты, а одесситы – кинодетектив о том, как «наш втерся к ихним» – о Штирлице 1925 года. В фильме «Укразия» некий коммунист в некоей заграничной стране пошел на подпольную работу… в высшее общество. Для этого он назвался графом Виолет и по ходу действия в партийных целях ухаживал за баронессой Дианой. Однажды в маленьком зале фабрики Нечес и Багрицкий просматривали материал отснятого павильона «Будуар баронессы Дианы». В будуар, к светски возлежащей на софе баронессе, входил одетый во фрак, с цилиндром на голове граф Виолет. Баронесса держала в пальцах длинную «аристократическую» папиросу. Граф подходил к софе, доставал из кармана коробок спичек. Чиркал несколько раз, изогнувшись перед баронессой, и, когда скверная серная спичка наконец загоралась, зажимал в ладонях огонек. И таким манером подносил ее к баронессиной папиросе. К концу просмотра послышался знакомый всей кинофабрике зубовный скрежет.
Зажгли свет. Нечес с недоброй улыбкой глядя на режиссера, процедил: «Я, братику, баронов в лицо не бачив, а бачив только баронские задницы, когда воны тикали от нас. Но я тебе скажу, что твои аристократы даже на те задницы не похожи».
С 1924 года и без того скудные гонорары от публикаций в одесской прессе стали иссякать. В 1924 году Одессу посетил В. Маяковский. Взял с собой стихи Кирсанова и рассказы Бабеля, но испортил жизнь Багрицкому. Одесситы с гордостью дали Маяковскому почитать стихи свого земляка, но, на горе, стихи, посвященные Пушкину У Багрицкого их несколько – «Пушкин», «О Пушкине» и «Одесса»:
Поэт походного политотдела, Ты с нами отдыхаешь у костра… Довольно бреда… Только волны тают, Москва шумит, Походов нет как нет… Но я благоговейно подымаю Уроненный тобою пистолет…Владимир Владимирович взбесился. У самого Маяковского в это время были очень сложные отношения с Пушкиным. Тогда он как раз написал стихотворение «Юбилейное». Маяковский позволял только себе вести диалог с Пушкиным на равных. Как посмел Багрицкий сделать подобное! Да и вообще Маяковский любовь к Пушкину считал отсталостью и правым уклоном. Он произнес публично несколько очень резких и несправедливых слов о Багрицком. И этого было достаточно для мобилизации завистников и недоброжелателей. Одесская пресса, прежде очень часто печатавшая Багрицкого, что давало ему средства к существованию, почти перестает его публиковать. Он казался отторгнутым.
Еще Багрицкий подрабатывал литконсультантом. Вот характерная зарисовка, диалог учителя с учениками. Багрицкий визитеров – юных талантов – ожидал на Пушкинской улице, в редакции «Одесских новостей»:
«…Меня принял высокий, с седым вихром, чуть сутулый консультант в мятых парусиновых брюках и толстовке – одет не по-зимнему. Рукой с необычайно длинными ногтями он отстранил мою тетрадку, сказал, хрипло дыша: «Стихи надо читать вслух, – писал в дневнике один из неофитов. – Так слушайте. Багрицкий буду я. Вы ничего не знаете. Приходите ко мне в воскресенье вечером на Дальницкую. Вам известно, где находится джутовая фабрика?» – «Да, в конце Молдаванки, за Степовой».
Юный талант приходит на Степовую. По указанному адресу находилась халупа. Прихожей не было. Дверь вела сразу в комнату. Она освещалась сверху, фонарем, под которым стояло корыто (или лоханка). Фонарь протекал, южные зимы часто дождливые. Лидия Густавовна, в пенсне, возилась у «буржуйки». Маленький мальчик Сева пытался выстрелить в неофита из игрушечного ружья:
«Багрицкий, полулежа на чем-то самодельном, стал читать поэтов двадцатого века – Блока, Анненского, Ходасевича, Мандельштама, Клюева, Гумилева. Его чуть хриплый, задыхающийся голос стал неожиданно звонок, певуч, крепок. До сих пор этот голос живет в моих ушах блоковскими «Шагами командора», «Коллежскими асессорами» Случевского».
Весной 1925 года Эдуард Багрицкий и писатель Сергей Бондарин (1903–1978) встречали в Одессе Артема Веселого. Бондарин вспоминает, как тогда был популярен Веселый в кругу их друзей. Веселый – он был свой. В его произведениях они находили себя, видели картины того недавнего, что многие из их сверстников сами пережили на фронтах, во взбудораженных революцией семьях. Никого не удивляло, что в мощно-широких, несдержанных произведениях Артема Веселого – в них и страницы верстались как-то по-особенному, то пирамидкой, то столбцом, – встречались выражения малолитературные – это тоже воспринималось как признак новой литературы и даже нового быта. Это подкупало, устанавливало какую-то таинственную, только молодым понятную связь. Словом, все это очень нравилось. Одну песенку из только что появившегося романа «Страна родная» живо подхватили. Эдуард Багрицкий то и дело напевал глуховатым баском:
На заре каркнет ворона. Коммунист, взводи курок. В час последний похорона Расстреляют под шумок.Багрицкий начинал, а остальные поддерживали его:
Ой, доля — Неволя, Глухая тюрьма… Долина. Осина. Могила темна…Эта песенка Багрицкому нравилась особенно, потому что как раз в это время он начал работать над своей «Думой про Опанаса». Она звучала в тон новой его поэме. Друзья не только знали книги Веселого в их законченном виде или в их фрагментах – как любил называть отрывки из своих произведений Артем, они немало знали и о самом авторе «Страны родной», «Вольницы», «Похождений Максима Кужеля» со слов Багрицкого. О том, что, подобно Багрицкому, трудился Веселый в РОСТА, служил пропагандистом на фронтовом агитпоезде. 21-го мая 1925 года С. Бондарин опубликовал статью: «О чем пишет Артем Веселый». И начал ее так: «В Одессу приехал Артем Веселый».
Как раз об этом, бодрясь, Бондарин говорит в тот майский день старшему своему другу Эдуарду Багрицкому, который зашел к нему вместе с четырехлетним сыном Севкой после первой весенней прогулки к морю. Малыш тут же уснул. Эдуард Георгиевич листал дорогое брокгаузовское издание Пушкина – самую большую ценность в студенческой полутемной комнате, которую Бондарин снимал у старенькой одесситки, – посмеивался над страхами Бондарина. Хотя и сам не знал, как повести себя при встрече с Артемом.
Взглянув на Севку из-под своего низко начесанного чуба, Багрицкий негромко запевает:
На заре каркнет ворона…В дверь постучали. Багрицкий смолк.
– Наверно, старуха, – пробурчал он. – Если спросит, кто я, скажи – Махно.
Но это не была милая хозяйка Бондарина. Решительно толкнув дверь, кто-то пробасил: – Можно?
В дверях стоял довольно рослый дядька. Стриженая голова, широкое, румяное, слегка калмыцкое лицо, блестящие, чуть-чуть косые глаза, солдатские усы. Из-под отложного воротничка выглядывает край тельняшки. При первом же взгляде на этого человека бросалась в глаза его мышечная сила. Багрицкий и Бондарин сразу поняли, кто перед ними. Артем Веселый шагнул, радушно протянул руку. Разговор завязался сразу, легко и дружески, с первых же слов они стали говорить друг другу «ты».
Багрицкий легко сходился с людьми. И хотя он был немножко смущен тем, что гость застал его за песенкой из «Страны родной», он уже напевал другую, черноморскую песенку в том же жанре. Севка продолжал сладко спать. Артему понравилась и одесская песенка, и то, что в комнате спит ребенок, и то, что отец, поэт, водит малыша к морю.
«Верно, Багрицкий! Эти песни – замечательные. Волнуют и рвут душу, а если хочешь, прижимают к земле. Ты, Эдуард, правильно назвал их мрачно-прекрасными… Россия!.. – обращается Артем Веселый. – А я шел сюда, на улице весна, и все бормотал про себя стихи Есенина: «Бедна наша родина кроткая… в древесную цветень и сочь и лето такое короткое, как майская теплая ночь…» Читали “Анну Онегину”?»
Новая поэма Есенина была знакома поэтам. Багрицкий даже указал ошибку в интонации: «Бедна наша родина кроткая в древесную цветень и сочь…»
В годы нэпа возродился, вернее, пытался восстановиться в прежнем виде прославленный Куприным «Гамбринус» – пивная в подвале на Дерибасовской, переименованной в улицу Лассаля. И как же было не пригласить туда гостя на кружку пива. Или в какой-нибудь припортовый кабачок. Или в крикливо-шумные, отдающие запахами рыбы, черешен, первых свежих овощей, пестрые, как сама молоденькая редиска, румяные по утрам торговые ряды одесского базара. Друзья даже сначала обиделись, когда Артем отклонил приглашение, сославшись на дела. Это было ново и малопонятно. Но потом Багрицкий одобрительно проронил:
– Мне это нравится: не то что наши шалопуты… И все-таки от него можно ждать всего – Пугачев…
Путешествие из Одессы в Москву. «Загоняй бебехи хапай Севу катись немедленно Эдя». Август 1925–1926
В 1925 году лидер «Одесской, южно-русской литературной школы» Багрицкий, как последний из могикан, оставался в родном городе. Впервые явление «Одесской литературной школы» констатировал Виктор Шкловский в 1933 году в статье «Юго-Запад». Он назвал самые видные, на его взгляд, фигуры в ее составе: И. Бабель, Э. Багрицкий, В. Катаев, Ю. Олеша, И. Ильф и Е. Петров, В. Инбер. Завершил автор статью оптимистическим прогнозом: «Южно-русская школа будет иметь большое влияние на следующий сюжетный период советской литературы. Это – литература, а не только материал для мемуаров».
К середине 1925 года созрело решение Багрицких переезжать в Москву. Эдуард не без колебаний отправился вперед, в разведку. Подтолкнуть его отправиться в путь помог Катаев. А обустроиться на первых порах в Москве – К. Паустовский. Вчерашний белогвардеец Катаев, которого чудом не расстреляли в одесской ЧК, прибывает из Москвы и ультимативно заявляет красному партизану, что они вдвоем отправляются в Москву. Багрицкий отвечает как-то неопределенно:
«Да, конечно, это было бы замечательно, но здесь тоже недурно. Хотя, в общем, паршиво, но привычно. Тут Лида и Севка, тут хорошая брынза, дыни, кавуны, вареная пшенка… Вообще есть литературный кружок «Потоки». Ну и, сам понимаешь…»
«К черту! – возмущается Катаев. – Сейчас или никогда!»
«В Москве ты прославишься и будешь зарабатывать», – Суок-Багрицкая занимает сторону Катаева.
«Что слава? Жалкая зарплата на бедном рубище певца», – вяло отбивается Багрицкий старым жалким каламбуром. Произносит это нарочито жлобским голосом, как бы желая этим показать себя птицеловом прежних времен, молодым бесшабашным остряком и каламбуристом.
«За такие остроты вешают, – объявляет приговор Катаев с той беспощадностью, которая была свойственна общению в «Коллективе поэтов». – Говори прямо: едешь или не едешь?»
Багрицкий вопросительно смотрит на жену. Она молчит. Тогда он переводит взгляд на увеличенный фотографический портрет военного врача в полной парадной форме – покойного мужа Лидии. Багрицкий чрезвычайно почтительно относился к своему предшественнику и каждый раз, глядя на его портрет, поднимал вверх указательный палец и многозначительным шепотом произносил:
«Канцлер!»
Он вопросительно посмотрел на портрет «канцлера». Но канцлер – строгий, с усами, в серебряной портупее через плечо и с узкими серебряными погонами – молчит.
Багрицкий подумал, потряс головой и солидно ответил:
«Хорошо. Еду. А когда?»
«Завтра», – отрезал Катаев, понимая, что надо ковать железо, пока горячо.
«А билеты?»
«Билеты будут».
«А деньги?»
«Деньги есть».
«Покажи».
Катаев демонстрирует несколько бумажек.
Багрицкий еще более жалобно смотрит на жену.
«Поедешь, поедешь, нечего здесь…» – ворчит она.
«А что я надену в дорогу?»
«Что есть, в том и поедешь».
«А кушать?» – уже совсем упавшим голосом спрашивает Багрицкий.
«В поезде есть вагон-ресторан».
«Ну это ты мне не заливай. Дрельщик!» – обрадовался Багрицкий. Наконец он поймал друга. Существование вагона-ресторана кажется ему настолько фантастичным, что он даже обозвал Катаева «дрельщиком», что обозначает «фантазер», «выдумщик», «врунишка».
«Вообрази!» – отрезает Катаев настолько убедительно, что Багрицкому ничего не оставалось, как сдаться. Условились встретиться завтра на вокзале за полчаса до отхода поезда.
Катаев хорошо изучил характер Багрицкого. Знал, что он слово сдержит и на вокзал придет. Но Катаев так же не сомневался, что в последний момент он может раздумать. Поэтому приготовил Эдуарду ловушку, которая должна была сработать наверняка. И вот на перроне действительно появляется Багрицкий в сопровождении супруги, которая несет узелок с его пожитками и едой на дорогу. По уклончивым взглядам друга Катаев чувствует, что в последнюю минуту он приготовился улизнуть.
Они прохаживаются вдоль готового отойти поезда. Багрицкий кисло смотрит на зеленые вагоны третьего класса, бормоча что-то насчет мучений, предстоящих ему в жестком вагоне, в духоте, в тряске и так далее. Он даже вспомнил Блока: «…молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели» – он не хочет ехать среди пенья и плача.
«Знаешь, – заявляет Эдуард, надуваясь, как борец-тяжеловес, – сделаем лучше так: ты поедешь, а я пока останусь. А потом приеду самостоятельно. Даю честное слово. Бенемунес», – не мог не прибавить он клятву на идиш и посмотрел на свою жену.
Она, в свою очередь, участливо смотрит на мужа, на его угнетенную фигуру. Ее нежное сердце дрогнуло.
«Может быть, действительно…» – мямлит полувопросительно.
Ударил первый звонок.
Тогда Катаев выкладывает свою козырную карту.
«А ты знаешь, в каком вагоне мы поедем?»
«А в каком? Наверное, в жестком, бесплацкартном».
«Мы поедем вот в этом вагоне», – Катаев показывает пальцем на сохранившийся с дореволюционного времени вагон международного общества спальных вагонов с медными британскими львами на коричневой деревянной обшивке, натертой воском, как паркет. Этим вагоном Багрицкий и передислоцировался в Москву.
Первое время, без семьи, он пользовался гостеприимством Паустовского. Багрицкий явился к Паустовскому домой в подвал в Обыденский переулок. Дорогу ему показал писатель Семен Гехт (1903–1963). Расстегивая зеленую бекешу, Багрицкий доложил свое видение:
«Златоглавая столица! Порфироносная! Азия! Но в общем знайте, не буду жить у вас в грубом понимании этого слова. Нет! Я буду стоять постоем!»
Паустовский вспоминал, как сейчас же после приезда Багрицкого нахлынули одесские литературные мальчики. В то время они уже всем кланом переселились в Москву. Мальчики расхватали у Багрицкого привезенные стихи – весь этот рокочущий черноморский рассол, все поющие строфы, пахнущие, как водоросли, растертые на ладони. Мальчики разобрали по рукам стихи, переписанные на щербатой машинке с пересохшей лентой, и ринулись разносить их по редакциям.
Сам Багрицкий этого бы не сделал никогда в жизни. Он боялся выходить на московские улицы. Он задыхался от московской желтой оттепели. Клокочет бронхами, сидя весь день на тахте, поджав по-турецки ноги. Отдышавшись, читает вслух поэму «Уляляевщина» Ильи Сельвинского (1899–1968).
Даже сквозь закрытое окно проникает во двор его певучий, срывающийся голос и знакомые слова:
Гайда-гайда-гайда-гайда – гай даларайда… И-и-й ехали казаки, ды и-и-й ехали казаки, — Чубы по губам!Багрицкий читает «Уляляевщину» каждый раз по-новому. Обыгрывает своим симфоническим голосом ритмы этой поэмы или какое-нибудь одно любимое место:
Улялаев був такій: выверчено віко, Дірка в пидбородце тай в ухі серга. Зроду нэ бачено такого чоловіка, Як той батько Улялаев Серга.Паустовский просит Багрицкого, чтобы он прочел свои стихи. Надеется утолить свою тоску по недавно покинутому Черному морю. По перегретому воздуху в тени одесских акаций. Но Багрицкий не слушает и поет в каком-то самозабвении:
Гайда-гайда-гайда, гайда-гай-далара́йда!..Однажды Паустовский принес мороженого судака. Багрицкий обещает зажарить его по «черноморско-греческому способу». Для этого понадобилось кило масла, кило чернослива и лимон. Такая трата была в то голодное время неимоверной, но Паустовский не жалел об этом.
Багрицкий засучил рукава, повязался полотенцем, растопил на сковородке все масло и ждал, потирая руки, пока оно не пошло трещать и взрываться золотыми темными пузырями. Тогда Багрицкий утопил в кипящем масле куски рыбы, обвалянные в муке. Отсвет огня играет на смуглом средневековом лице Багрицкого. В то время он был еще худ и напоминал Паустовскому юношу с потемневшей итальянской фрески.
Трещали и румянились ломтики белого судака, синеватый чад вился над сковородой. Багрицкий плотоядно присвистывает:
«Вот сейчас вы узнаете, какая это смакатура! Нигде в Греции, даже на острове Митиленакаки, вы не сможете поесть такого судака. Мировая шамовка! – гордится он, разделывая этого действительно замечательного судака с жареным черносливом. – Пища титанов и кариатид!»
Потом закуривают папиросы «Ира». Начались мечты. Багрицкий рассказывает почему-то во множественном числе, но совершенно серьезно: «Получим гонорар. Ну, сколько? Как вы думаете! На круг – тысячу рублей? Или, может, больше?»
«Больше», – храбрится Паустовский.
«Полторы тысячи! – восклицает Багрицкий и испытующе глядит в ответ. – Или две?»
«Свободно! – небрежничает Паустовский. – Очень даже свободно, что и все три. Чем черт не шутит».
«Три так три! Тогда так, – соглашается Багрицкий и загибает палец на левой руке, – одну тысячу – телеграфом в Одессу Лиде и Севе. У них нет ни ложки постного масла. На другую тысячу мы покупаем на Трубе птиц. Всяких. Кроме того, на пятьсот рублей покупаем клеток и муравьиных яиц для корма. И еще канареечного семени. Самый легкий и калорийный корм для птах. Остается пятьсот рублей на дожитие».
Мечты эти каждый день менялись, но не очень значительно. То прибавлялись книги среди будущих покупок. И за этот счет одесская тысяча сокращалась до семисот рублей. То возникало духовое ружье.
Багрицкий развлекается этими мифическими подсчетами. Паустовский вместе с ним втянулся в игру. Его только смущает сумма в 500 рублей, предназначенная на муравьиные яйца и канареечное семя.
Он представлял себе навалы, целые Чатырдаги яиц. Их, по словам Багрицкого, надо было хранить очень умело, в точной температуре. Иначе в один прекрасный день все эти яйца могут превратиться в рыжих злых муравьев. Они разбегутся и за полчаса вынесут из дома до последней крупинки весь сахарный песок.
Паустовский считал, что пятисот рублей на муравьиные яйца, пожалуй, много. «Пусть много, – соглашается Багрицкий. – Но вы представляете, что будет с одесскими птичниками и птицеловами? Или с тем подлым стариком, который продавал мне на Привозе муравьиные яйца чуть не по штукам и выжимал из меня последние соки? Посмотрю я теперь на этого старика!»
В это время в подвале появился один из одесских литературных мальчиков по имени Сема. Он оторопел от безумных планов Багрицкого. Выражение ужаса искажает его лицо. Посидев пять минут, Сема просто сбежал.
Но мечты мечтами, а за стеной подвала, в редакциях и издательствах Москвы происходит нечто, казавшееся Багрицкому чудом. Стихи его газеты и журналы брали нарасхват. Издательства начали заключать с ним договоры на книги и платить авансы. Мальчики, нагруженные доверенностями от Багрицкого, приносят в подвал деньги. Друзья тщательно их пересчитывали и записывали итог на стене около времянки.
Багрицкий посматривает на цифры на стене и фантазирует: «Мы сможем купить на эти деньги еще и справный парусно-моторный дубок. Назовем его по традиции «Дуся» и будем возить на нем из Херсона в Одессу через Днепровско-Бугский лиман лучшие монастырские кавуны. Почернеем, как черти. Вы имеете понятие о лиманном загаре? Это – лучший в мире загар. Цвета коньяка с золотом. Он образуется не только от солнца, но и от его отражений в тихой лиманной воде. На лиманах много штилей. Жар от солнечного отражения такой же палящий, как и от прямого солнечного луча. Он качается и слепит, этот жар».
Дальше эпопея переезда Багрицких в Москву продолжается «историей о добродетельном лавочнике».
На одесской Молдаванке, на Дальницкой улице, рядом с домом, куда после подвала на другом приморском краю города вселились Багрицкие, помещалась мелочная бакалейная лавочка. Лавочник рассматривал соседку Лиду как несчастную женщину, брошенную с малолетним сыном беспутным мужем-поэтом. Он сочувствовал ее печальной судьбе, а Лида старалась не изменить ложное впечатление. Долг перед лавочником достиг неописуемых масштабов.
Решительный момент наступает. Озорная телеграмма из Москвы гласит буквально следующее: «ЗАГОНЯЙ БЕБЕХИ ХАПАЙ СЕВУ КАТИСЬ НЕМЕДЛЕННО ЭДЯ». Разумеется, текст ошарашил московскую телеграфистку.
«Не удивляйтесь, – успокоил ее Багрицкий. – Принимайте, иначе в Одессе не поймут».
А в Одессе положение запутывалось ужасно. Начальником почтового отделения, через которое прошла телеграмма и ожидался денежный перевод (Багрицкий выслал 50 рублей), был друг-приятель благодетеля лавочника. Хотя сама Лида говорила о нем, что это святой человек, можно было ожидать всего. И в самом деле, встревоженный кредитор вдруг появился на пороге у Лиды. Посреди опустевшей комнаты оставалась только швейная машина, величайшая наследственная ценность, расстаться с которой у Лиды не было сил.
Инстинкт подсказывает Лидии Густавовне выход из, казалось бы, безвыходного положения.
«А! Это вы! – Лида протягивает руку к бланку телеграммы, слышится горькая жалоба: – Вот негодяй, издевается!»
Нужно было спасти пятьдесят рублей, в которых заключалась дальнейшая судьба семьи, и незаметно вынести швейную машину. Путем хитроумных маневров удалось сделать и одно и другое. Вскоре Лидия Густавовна с малышом Севкой, с тремя рублями, оставшимися на дорогу, и с корзинкой, в которой не уместились бы две толстые книжки, села в вагон. Трудно поверить, но у Лидии Густавовны существовали столь странные представления о далекой, важной, столичной Москве, что она в приятном возбуждении, разговорившись, спросила у соседки:
«А сады для детей в Москве есть?»
Изумление собеседницы не имело границ:
«А как вы думаете?»
«А я, знаете, как-то еще не думала».
«А к кому же вы едете в Москву, зачем?»
«К мужу и совсем», – гордо ответила Лида.
«У вас есть муж? В Москве?» – снова удивилась собеседница.
«Да, конечно… Что вас удивляет? Вот наш сын».
Как нарочно, лишь накануне шалопай Севка исцарапал себе лицо колючей проволокой. Глаза и носик мальчика едва выглядывали из-под бинтов.
Собеседница еще раз беззастенчиво оглядела и мать и ребенка и посочувствовала мужу, к которому едет такая жена. Э! Можно себе представить, впрочем, что за муж у такой жены! К вящему изумлению спутницы, да и самой Лиды, на Брянском вокзале их встретил хорошо выбритый джентльмен. Эдуард Георгиевич красовался в элегантном костюме и модном осеннем пальто, взятых напрокат у одного из литературных друзей-земляков.
Горячий рассказ о лавочнике взволновал Багрицкого. Эдуард не один раз рисовал себе фантастическую картину, как добродетельный лавочник снова появляется на пороге – теперь в Москве. И какой происходит диалог.
«А! Мосье (следует фамилия лавочника), это вы!» – радостно восклицает должник-поэт.
«Да, мосье Багрицкий, – хмуро говорит кредитор. – Это я. Думаю, вам нехорошо спится».
«Ах, без лишних слов. Вы меня не поняли… Впрочем, поэты всегда остаются непонятыми… Но я вас понимаю. Как сказал наш славный земляк, не будем размазывать кашу по столу. Лида! Позвони по московскому телефону в Кремль, в Академию наук – пускай немедленно пришлют с курьером десять тысяч… Севка, перестань резать дяде штаны!.. Видите, мосье, эту папку с бумагами?»
Озадаченный гость теряет свою воинственность. Эдуард продолжает:
«Это моя новая поэма «В последнем кругу ада», за которую Академия наук платит мне тридцать тысяч рублей. Сейчас пришлют аванс – десять тысяч. Все отдаю вам. Да-с».
Почему Эдуарду хотелось, чтоб в этом воображаемом акте справедливости принимала участие Академия наук, свидетель репетиции волнующей сцены, писатель Сергей Бондарин, не вспомнил. Но утверждал, что сущность диалога не извратил.
Итак, Одесса была оставлена. Начался период жизни и творчества Багрицкого 1926 по 1930–1931 годы, который принято называть «кунцевским». Товарищи по Одессе, Бондарин и Гехт, которые уже обосновались в Москве, будут рядом. В 1944 году их арестуют. Они получат за антисоветскую агитацию по 8 лет каждый. На допросах у Гехта будут выяснять, как Багрицкий рассказывал ему о «Письме съезду» Ленина с критикой Сталина. В одном из прощальных произведений, «Возвращение», посвященных Одессе и опубликованных еще там, в газете «Моряк», Багрицкий прощается с Дальницкой улицей, откуда он отправится на вокзал и на поезд на Москву.
Кто услышал раковины пенье, Бросит берег – и уйдет в туман; Даст ему покой и вдохновенье Окруженный ветром океан… Ранним утром Я уйду с Дальницкой, Дынь возьму и хлеба в узелке, — Я сегодня Не поэт Багрицкий, Я – матрос на греческом дубке… Свежий ветер закипает брагой, Сердце ударяет о ребро… Обернется парусом бумага, Укрепится мачтою перо… Этой осенью я понял снова Скуку поэтической нужды; Не уйти от берега родного, От павлиньей, Радужной воды… Только в море — Бесшабашней пенье, Только в море — Мой разгул широк: Подгоняй же, ветер вдохновенья, На борт накренившийся дубок…Москва. Кунцево. Человек предместья. 1926–1931
До 1931 года Багрицкие живут в пригороде Москвы, Кунцево, снимают в Овражном переулке половину избы у отца Вали Дыко, смерть которой в 1930 году будет положена в основу сюжета стихотворения «Смерть пионерки».
Первый московский год Багрицкий участвует в литературном объединении «Перевал». Оно сложилась при журнале «Красная новь» во главе со старым большевиком А. Воронским. Там он встречает Артема Веселого, Веру Инбер. Потом Багрицкий покидает «Перевал». Он шутил о причинах: «Там нужны стихи о березках, а у меня написано о дубах».
Эдуард переходит в Литературный центр конструктивистов (ЛЦК), где состоят близкие ему Владимир Луговской и Илья Сельвинский. В феврале 1930 года одновременно с Маяковским и Луговским Багрицкий вступает в РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей).
Современный классик литературоведения Александр Гольдштейн (1957–2006) уделил ЛЦК особое внимание в своих исследованиях отечественной литературы прошлого века. В частности потому, что ЛЦК был активен в переломный момент российского существования – в середине 1920-х годов. Неудачная попытка похода ЛЦК во имя организации и смысла на обломовский табор (так именуются консервативные силы традиционной России) поучительна, а проблематика конструктивистских публикаций отнюдь не изжита, поэтому и приобретает актуальность на поворотах истории (не исключение нынешний ее этап): «ЛЦК возобновил в подсоветской культуре проблематику противостояния Востока и Запада как двух во всем несходных социополитических и идейных миров, а также и проблематику соперничества западничества и славянофильства – двух направлений русской мысли, борьба которых не получила в прошлом окончательного разрешения, и в своем полном объеме, а главное, в своих определяющих будущее страны практических следствиях может быть решена только сейчас, в реконструктивный период».
В Кунцеве жили писатели, большей частью молодые и безвестные, родом из двух противоположных областей России: одесситы и сибиряки. У одесситов был несомненный лидер – Багрицкий. У сибиряков лидером считали Павла Васильева. Писатели снимали комнаты в деревянных домах, а то и в избах. Почти каждый вечер товарищи шли к Багрицкому. Вряд ли это нравилось Лидии Густавовне, но она вынуждена была примириться с тем, что в дом ежедневно приходят поэты, иногда рыбоводы. Багрицкий так увлекся разведением рыбок, что однажды, заполняя какую-то анкету, в графе «Профессия» написал: «ихтиолог», а потом «поэт». Вполне возможно, что это были «Эдины штучки».
Багрицкий, мучимый астмой, редко выезжал в город, и ему нужны были собеседники, сообщавшие ему литературные и другие новости. Всех надо было принять, пусть кое-как, но угостить, а в то время заработки Багрицкого были скудные, он мало писал, на гонорары прожить было трудно, и он переводил то Ицика Фефера, то Назыма Хикмета. Уставал от подневольной работы. Половину подстрочников отдавал на верифицирование своим друзьям, честно делясь гонораром с безымянными соавторами.
После переезда в Москву Багрицкий все меньше участвовал в поэтических вечерах – астма давала о себе знать. Хотя он ездил на выступления в Питер, Иваново-Вознесенск, другие города. Должно быть, по временам Эдуард завидовал храбрецам, срывавшим на них аплодисменты и проверявшим силу своего дарования в живом, горячем, прямом общении с читателями. Однажды кунцевская ватага пришла на вечер стихов в консерваторию. Там блистал на сцене Шенгели. Публика замерла, пока он дочитывал свои творения до конца. И что самое удивительное, его не прервали ни единым возгласом или хлопком.
Коллеги Шенгели вывалились тогда из консерватории целой гурьбой. Идя вверх по тогдашней Большой Никитской, они увидели триумфатора. Он шествовал впереди, ведя под руку хорошенькую девушку, отлично известную в Кунцево своим пылким темпераментом, и что-то жарко шептал ей на ухо. «Вот что значит успех!» – заметил кто-то из компании завистников Шенгели, указывая на нежную парочку.
«Они будут щипать друг друга за ямбы!» – проворчал Багрицкий.
И в этом неожиданном и, надо думать, обоснованном предположении послышалась не столько зависть к шенгелиевскому успеху у дам, сколько желание помериться силами перед публикой с этим баловнем счастья, так легко завоевавшим сегодня ее внимание.
Случилось так, что один кунцевский «библиофил» явился однажды к Багрицкому с весьма причудливой просьбой.
«Слушайте, Эдя, – сказал он, садясь и отводя глаза в сторону. – На Моховой продаются пять томов афанасьевских сказок. Я уже давно хочу их купить».
«Вы же знаете, что у меня нет денег», – ответил Багрицкий, обнаруживая недюжинную догадливость.
«Кто вам сказал, что я к вам пришел за деньгами?»
«Просто мне показалось…»
«Ничего подобного. Я у вас вот о чем хочу попросить… – Библиофил полез в карман и вытащил оттуда листок бумаги, исписанный короткими строчками. Разгладив, он положил его перед Багрицким. – Я написал это стихотворение для «Гудка», и если вы его подпишете, они его напечатают в два счета и я смогу купить Афанасьева».
«Мне не жалко, я подпишу, – вздохнул Багрицкий, проглядев стихи и поморщившись, – но я бы на вашем месте купил не Афанасьева, а пальто для Семена[1]. Сердце болит смотреть, в чем ходит парень».
«Там будет видно», – загадочно промолвил автор стихов для «Гудка», складывая подписанный Багрицким листок и пряча его в карман.
Стихотворение действительно напечатали в два счета. Но разговор о пальто не возобновлялся. И однажды Багрицкий увидел, как мимо его окна прошел Семен, осторожно ступая по мокрому снегу и придерживая у горла окоченевшей рукой поднятый воротник пиджака.
Багрицкий приоткрыл форточку и окликнул его. Обрадованный возможностью обогреться, Семен вошел в комнату, потирая руки и шмыгая носом. И тогда ему было сделано предложение, о котором долго потом толковали, хихикая, в кругах кунцевских литераторов.
Багрицкий заявил, что напишет на его имя доверенность на получение гонорара за стихотворение, напечатанное в «Гудке». По этой доверенности Семену надлежало завтра же получить деньги и купить себе пальто, которого он, разумеется, не увидел бы как своих ушей, ежели бы понадеялся на великодушие «библиофила».
Уразумев смысл всей это махинации, Семен решительно от нее отказался.
«Боже мой, да отдадите ему при первой возможности его грязные деньги!» – убеждал Багрицкий совестливого поэта. Он очень терзался при мысли, что его отлично придуманный план может вдруг провалиться. Но последний довод наконец подействовал. Коварный замысел был осуществлен. На следующий день к вечеру Семен пришел к своему благодетелю в новом теплом пальто.
А наутро явился «библиофил» за доверенностью на получение своих более или менее честно заработанных денег. О чем уж они толковали с Багрицким в то утро, никто никогда не узнал. Но охлаждение между ними продолжалось довольно долго.
Однажды случилось происшествие с поэмой под интригующим названием «Не Васька Шибанов…»
Когда Багрицкий читал ее первые фрагменты, один молодой человек из кунцевской ватаги от всей души комментировал сатиру и предлагал выражения посочнее. В результате он счел себя ее «соавтором». В поэме были осмеяны нравы, процветавшие в РАППе, и вожди, боровшиеся за власть в этой организации. Начиналась она строкой «Лелевич от рапповской злобы бежал…», в которой авторы перефразировали первую строку «Василия Шибанова» А. К. Толстого. А кончалась сценой, где посла Лелевича, доставившего от него дерзкое, обличительное письмо Авербаху, предают мучительной пытке, читая ему целую ночь напролет стихи рапповских поэтов. Посол, разумеется, умирает в ужасных муках. Поэма была написана, так сказать, для домашнего употребления. Напечатать ее было мало шансов, ведь Авербах был любимцем ГПУ и Горького. Это не мешало поэме, однако, несколько месяцев потешать всех кругом. Она ходила по рукам в списках, передавалась из уст в уста и на короткое время блеснула на поэтическом небосклоне так ярко, что у «соавтора» закружилась голова. Когда он слышал, как читают поэму вслух, частенько намекал своим слушателям на то, что истинным ее создателем был он один. А участие Багрицкого в сочинении поэмы сильно преувеличено.
Узнав о вероломстве «соавтора», Багрицкий рассвирепел. И так как негодование его разделяла целая компания почитателей и друзей, оно вылилось в заговор. Была поставлена цель примерно наказать человека, поправшего священные принципы соавторства. Началось с того, что в адрес «соавтора» пришла повестка. Его приглашали зайти в учреждение не вполне ясного профиля, помещавшееся на Мясницкой. Это само по себе не могло не встревожить и без того не очень отважного самозванца.
В назначенный день и час «самозванец», замирая от страха, вошел в здание построенного по проекту Корбюзье Центросоюза. Поднялся на второй этаж, разыскал указанную в повестке комнату. Было это всего-навсего помещение редакции журнала «Город и деревня». Но горемыке было не до чтения табличек, и, войдя в комнату, он увидел перед собой только одно – строгое лицо сидевшего за столом человека. Человек указал посетителю на стул и предложил папиросу. Он утверждал потом, что эта папироса окончательно доконала несчастного. Затем начался разговор, в котором чем дальше, тем все более заметную роль играла злополучная поэма.
Человеком за столом был писатель Иван Катаев, автор отличных рассказов, известных в ту пору всем, кроме «соавтора», по уши погруженного во французскую поэзию восемнадцатого столетия. Итак, человек за столом был полон священного гнева: «Устраивать балаган вокруг принципиальной борьбы между старым и новым руководством РАППа! Издеваться над творчеством пролетарских поэтов!» Он просто не находил слов, чтобы квалифицировать вредоносность поэмы.
«Соавтор» пытался защищаться. Но он рухнул, когда дело дошло до строк:
За пушкинской задницей пышно цветет Советская литература. Вождям славословья… поет, Гремит боевая халтура.Самозванец чистосердечно признался, что автор сатирической поэмы – Багрицкий.
Он заявил, что, в сущности, не имеет к поэме прямого отношения. Что сочинил ее один Багрицкий. А сам он повинен лишь в том, что несколько раз читал друзьям небольшие отрывки из нее, которые ему удалось запомнить. И что, наконец, теперь, осознав свои кратковременные заблуждения, он полностью соглашается с суровой оценкой, данной поэме его собеседником.
Эта покаянная речь, казалось, несколько смягчила сурового человека. Взяв с «соавтора» торжественное обещание никогда больше не читать вслух злокозненное сочинение, он продиктовал ему текст заявления. «Соавтор» торжественно отказывался от своего участия в сочинении «Не Васька…», и только после этого был отпущен с миром.
А на другой день Багрицкий в присутствии большого количества благородных, с трудом удерживающихся от смеха свидетелей, среди которых находился летописец этих событий – писатель Георгий Мунблит (1904–1994), во всеуслышание огласил текст этого отречения и потребовал у своего «соавтора» объяснений:
«Соавтор молчал. Охотнее всего он бы, вероятно, в эту минуту заплакал, или выстрелил в воздух из пистолета, или провалился сквозь землю, но, увы, все это было одинаково неосуществимо. Тогда он сделал единственное, что ему оставалось, – выбежал из комнаты, хлопнув дверью с таким отчаянием, что из стены вывалился большой кусок штукатурки».
«Сцена из быта полковницкой жизни», – заключил Багрицкий, поглядев ему вслед.
Окно в комнате Багрицких выходило на болото. Сама комната отделялась от кухни не достигавшей потолка фанерной стенкой, оклеенной полинявшими обоями. Обстановка была бедная, деревенская. Постель, на которой Багрицкий всегда полулежал, широкий самодельный стол и такая же скамья, раскладушка для Севы. Украшали комнату птичьи клетки и аквариумы с пестрыми рыбками: Багрицкий был страстным любителем рыб, хорошо, почти профессионально их знал. Отчужденно выглядел в деревенской избе телефонный аппарат.
Впервые чета Багрицких обрела пусть и скромное, но постоянное жилье и смогла наладить размеренный быт. Каким был Багрицким дома? Не переносил все жидкие блюда – супы, борщи, подливки. Еда должна была быть сухой (например, котлеты, жареное мясо). Не переносил лука, чеснока, помидоров, огурцов, капусты, салатов, многие сильно пахнущие вещества. Из-за этого не любил еврейскую кухню. Совершенно не переносил кухонного запаха. Еще когда Эдя был мальчиком-школьником и ему приходилось при возвращении из школы проходить через кухню, то он закрывал лицо платком, чтобы не чувствовать и не видеть кухни.
У Багрицких определенный церемониал во время еды. Эдуард всегда ел один, исключение делалось только для жены. Когда он находился в обществе, то почти никогда не притрагивался к еде. Эта манера начала проявляться в сильной степени со времени переезда в Москву, хотя и до того у него всегда была склонность питаться в одиночку. Стремление к этому у Эди выявилось ярко уже в детстве – и тогда ему подавали есть одному. Со временем эта привычка становилась все более выраженной.
Багрицкий требовал, чтобы подаваемые блюда не были перемешаны между собой, а подавались в раздельности, например, мясо отдельно от картофеля, каши. В то же время он ел бутерброды. Одновременно с раздельностью еды Багрицкий требовал также и раздельности посуды и столовых приборов. Например, нельзя было ложку, вилку или нож, употребляемые для одного блюда, использовать для другого, пока они не были тщательно вымыты (это же касалось и приготовления пищи).
Багрицкий вообще был чрезвычайно подозрителен в отношении еды: не ел, если готовил обед кто-либо другой, кроме жены, которая знала его требования. Когда жена уезжала, он предпочитал питаться всухомятку. Прежде, чем есть шницель или котлету, он предварительно осматривал, что находится в ней, в середке. Вообще Багрицкий придавал большое значение еде. Всегда нужно было предварительно спросить, что ему приготовить. При этом нужно было каждый раз уточнять, раза три в день – перед завтраком, обедом и ужином, – что приготовить. Он предпочитал, чтобы съестное покупалось тут же. Из не спиртных напитков резко выраженных антипатий не отмечалось, правда, не любил кофе и молоко, а любил чай, к какао же был равнодушен.
Багрицкий очень любил сладкие блюда, какого бы рода они ни были. Затем рыбу, икру, всякие фрукты, из овощей – только редиску. Самое любимое блюдо было творог со сметаной и маслины. У него был всегда резко выраженный интерес к еде, к продуктам и стремление всегда покупать самое лучшее и дорогое. Никогда не пил один, всегда в компании.
Однажды Эдуард инсценировал следующий случай. Дома во время вечеринки, когда все гости были уже изрядно пьяны, он решил их разыграть. Притворившись также пьяным, начал представлять из себя ревнивого мужа. Вначале упрекал жену, а затем взял саблю и, выхватив ее из ножен, замахнулся над головой жены и ударил ею по спинке стула, на котором она сидела, чем привел в сильный испуг всех присутствующих.
Часто это стремление к инсценировкам проявлялось в мелочах. Багрицкий мог, например, с большой аффектацией заявить жене, что уходит из дому навсегда, и через минуту попросить стакан чая.
Примеров таких инсценировок (мы уже упоминали, что они имели характерное название «Эдины штучки») можно было бы привести очень много. Они представляют собой не что иное, как воплощение вовне игры его воображения. Он как бы сам устраивал себе игру, театр, причем играл то роль режиссера, то одновременно роль актера.
С особой теплотой Багрицкие в Кунцево встречали трех писателей – Исаака Бабеля, рыжего Н. Огнева, двоюродного брата Василия Розанова, автора чрезвычайно тогда популярной книги «Дневник Кости Рябцева», и В. Нарбута. Нарбут не бросил писать стихи – он их попросту перестал издавать. Огнева Багрицкий любил, Бабеля мало сказать любил – обожал, перед Нарбутом благоговел, называл себя его учеником.
Бабель довольно часто приезжал к Багрицкому. Чувствовалось, что они любят друг друга, хотя были на «вы». С комсомольскими поэтами Светловым и Голодным, с которыми познакомился гораздо позднее и гораздо менее был близок, чем с Бабелем, Багрицкий был на «ты». Катаева в Кунцево не видели. Может быть, из-за давнишнего рассказа Катаева «Бездельник Эдуард». В нем, как часто заключают, Багрицкий выведен в не очень привлекательном виде.
О чем беседовали Бабель с Багрицким? Часто о литературных делах того времени. Смеялись, любовно вспоминая смешные черточки одесситов. Бабель не одобрял вступления Багрицкого в группу конструктивистов, их лидера Сельвинского поэтом не считал, называл бухгалтером с усиками. Багрицкий и Бабель с тревогой наблюдали за действиями Сталина. Считали преследования Троцкого началом русского Термидора. Под впечатлением происходивших в стране событий Багрицкий углубился в чтение истории Французской революции.
В особенности Багрицкого привлекал характер Сен-Жюста. По его мнению, в Троцком было нечто от Сен-Жюста. Как свойственно многим истинным поэтам, Багрицкий делился с каждым пришедшим к нему своими соображениями по поводу прочитанного. Поделился он и с одним из друзей по Кунцево, Давидом Бродским. Багрицкий восторгался: «Сен-Жюст по дороге в Конвент зашел в редакцию «Друга народа» и сказал Марату: “Я терпеть не могу равнодушных”».
У Давида Бродского была феерическая фотографическая память. Он принадлежал к тем редким людям, которые, прочтя газету, могут ее повторить всю от первой до последней строки, в газету не заглядывая. У Бродского к Багрицкому отношение было не совсем обычное: смесь зависти, восторга и страстного желания сопротивляться его превосходству. Отсюда, естественно, было недалеко до подражания – с намерением затмить образец. Бродский тоже под влиянием злободневной темы Термидора приступил к чтению истории Французской революции. Уверенный в своей неслыханной, неестественной памяти, он заранее ликовал. И вот как-то возразил Багрицкому:
«Эдя, Сен-Жюст никак не мог зайти к Марату по дороге в Конвент. Вы что-то перепутали. Редакция «Друга народа» помещалась не между Конвентом и квартирой Сен-Жюста, а позади нее. Хотите, я вам нарисую планчик, гы-гы».
Багрицкий вознегодовал. Он был оскорблен. То, что волновало его душу, превращалось у Бродского, по его мнению, в некий спортивный азарт.
«Вы книжный крот. Вы не знаете жизни, – возмутился красный партизан. – У вас одна забота – сбыть свою халтуру. Вам нет дела до того, что сейчас переживает наша страна, что происходит в партии. Вы не можете отличить сосны от ели, соловья от щегла. Вы один из тех равнодушных, о которых говорил Сен-Жюст. Я терпеть таких не могу».
«Эдя, вы сердитесь, потому что ошиблись. Дайте сюда карандаш и бумагу, я начерчу…» – не сдавался Давид.
Багрицкий еще больше разозлился, так как хорошо знал, что память Бродского не знает поражений. Пришлось мобилизовать резервы:
«Севка, достань ружье и стреляй в этого талмудиста!»
Вихрастый Севка, узколицый, худенький, ловкий и крепенький, только того и ждал. Он вмиг освободил охотничье ружье из чехла. Бродский, большой, тучный, вылетел вон из избы. На бегу он успел выкрикнуть:
«Эдя, что вы делаете, ваш Севка водится с кунцевским хулиганьем, он взаправду может застрелить!»
Отходчивый Багрицкий торжествовал. Он весело затрясся всем своим полным телом:
«Ось бачте, який боягуз приїхав до нас з Одеси…»
«Дума про Опанаса». 1926
В начале лета 1926 года к Багрицкому приехала большая компания литераторов. Среди них находился Георгий Мунблит. Он сразу ощутил, что окололитературная суета была поэту чужда. Живя литературой, размышляя о ней дни и ночи, Багрицкий был бесконечно далек от всякого рода групповой и редакционной возни. Поглядывая искоса на своих гостей, тараторивших об очередном назначении или перемещении какого-то редактора или редакционного секретаря, он еле слышно подсвистывал крохотной птичке, прыгавшей с жердочки на жердочку в клетке, которая стояла перед ним на столе. Разговор понемногу стал замирать.
«Может, почитаем стихи?» – предложил Николай Дементьев, организатор поездки к Багрицкому.
«Предлагаю Блока», – отвечает Багрицкий.
Он начал декламировать «Шаги командора». В тех местах, где, словно звон погребального колокола, повторяется имя донны Анны, Багрицкий понижал голос. Почти пел, раскачиваясь и притопывая ногой. Завершив чтение, он обвел присутствующих взглядом и ухмыльнулся:
«Неплохих стихов, а? Как вы считаете?»
«У нас было принято в ту пору, для смеха, строить фразы в родительном падеже, – пишет Мунблит. – Одесситы высмеивали так своих земляков, а кроме того, печальную известность приобрела незадолго перед тем книжонка какого-то стихоплета, выпустившего ее в собственном издании и за собственный счет. Книжонка называлась «Твоих ночей», и это очень нас всех потешало. Но помню, как поразил меня тогда в Багрицком внезапный переход от взволнованного, увлеченного чтения великолепных стихов к грубоватой и непритязательной шутливости. Мне еще только предстояло узнать, что это была обычная его манера. Уж очень он боялся всякого проявления сентиментальности и по-юношески, путая чувство с чувствительностью, считал необходимым прикрывать растроганность ироническим балагурством».
«Прочтите ему «Стихи о соловье и поэте», – сказал Дементьев, указывая на Мунблита. – Я ему их читал, и они ему не понравились. Эдуард, это та самая критически мыслящая личность, которой не нравятся ваши стихи».
«Это не оригинально – считать, что я пишу плохие стихи, – ворчит Багрицкий. – Я знаю целую кучу людей, которые думают так же. Лучше я прочту Киплинга».
Вдруг, обращаясь к кому-то за перегородкой, закричал резким, пронзительным голосом: «Ли-да! Если придет Севка, не пускай его сюда!»
И, обращаясь к гостям, добавил: «Я хочу вам прочесть длинное стихотворение, чтоб вы знали, какие на свете бывают стихи, а если появится этот разбойник, цельность художественного впечатления будет нарушена».
«Цельность художественного впечатления» – тоже была цитата. На программках Московского Художественного театра было тогда напечатано, что публику просят не аплодировать до конца спектакля, чтобы не нарушать эту самую цельность, и это тоже казалось очень смешным.
Багрицкий откашлялся, подмигнул Дементьеву и сейчас же, словно сняв с лица одну маску и надев другую, начал читать.
Он читал «Балладу о Востоке и Западе» в переводе Елизаветы Полонской и читал так, что чтению этому мог бы позавидовать самый талантливый исполнитель. Но самое странное, что Мунблит с товарищами в ту пору не очень хорошо понимали это. Скажи им кто-нибудь, что через несколько лет Качалов будет подражать Багрицкому, читая его стихи, они бы ни за что не поверили. Хотя им навсегда запомнилась молитвенная тишина, какая воцарилась в комнате, когда, полузакрыв глаза, раскачиваясь всем телом и скандируя каждый ударный слог, Багрицкий прочел вступление к киплинговской балладе.
Потом было беспорядочное, совершенно студенческое чаепитие. Мунблиту Лидия Густавовна и Сева запомнились так: «…Худенькая молодая женщина в учительских, очень серьезных очках, внесла в комнату большой цветастый поднос, уставленный разнокалиберными чашками, кружками и стаканами. Она выглядела единственным взрослым человеком в нашей мальчишеской шумливой гурьбе, и мы сразу же присмирели в ее присутствии. Вслед за матерью в комнату ворвался смуглый, весь исцарапанный пятилетний чертенок, очень похожий на отца и очень по-взрослому разговаривающий».
После чая решили покататься на лодках. Кунцево в те годы, совершенно как Сокольники в чеховские времена, было дачей. Там имелся настоящий лес, лодки на реке, далекий горизонт, тишина. Уже начало вечереть. Багрицкий внезапно развеселился, принялся учить компанию грести. Потом запел песню: «То не черный ворон вьется, не соловушка свистит, – не хотелось, а придется кровью травку оросить…» Послушав эту грустную песню, все замолчали.
И тогда Багрицкий вдруг предложил:
«Хотите, я вам прочту свои новые стихи?» – и, не дожидаясь ответа, стал читать начало «Думы про Опанаса».
«Когда Багрицкий кончил читать, никто не проронил ни слова. Только через минуту все заговорили, но не о стихах, а о чем-то другом. И Багрицкий, словно это не он только что читал прерывающимся от волнения, идущим от самого сердца голосом свою удивительную поэму, принялся хохотать, рассказывать анекдоты, грубовато острить», – возвращается в тот вечер Мунблит. Его спросил Дементьев, наклонившись, поблескивая глазами: «Ну как?»
«Я ничего ему не ответил. Да и что мне было говорить? Ведь я впервые так близко, совсем рядом с собой, увидел Поэзию, а об этом простыми словами не скажешь».
Вскоре компания литераторов во главе с Багрицким нанесла визит Луначарскому. Они решили предложить издание серии переводной приключенческой литературы в адаптированных для массового читателя переводах. Для солидности в заявку решили включить наркома просвещения Луначарского как редактора.
Литераторы поднялись на пятый или шестой этаж старого московского «доходного» дома. Какое-то время препирались, кому нажать кнопку звонка. Робких авторов впустили в полутемную переднюю. Поначалу в ней образовалась небольшая свалка, возникшая из-за того, что никто не хотел стоять впереди. Багрицкому удалось обеспечить себе место в арьергарде, но в сутолоке он уронил с вешалки какую-то очень элегантную дамскую шляпу и наступил на нее ногой.
Именно в этот момент открылась дверь и из комнаты вышел Анатолий Васильевич в теплом вязаном жилете, без пиджака и в комнатных туфлях. Он как бы ничего не заметил – ни смущения гостей, ни возни, какую поднял Эдуард Георгиевич, извлекая из-под грубого своего сапога, отряхивая от пыли и водружая на вешалку злополучную шляпку, ни попыток верных товарищей прикрыть Багрицкого своими телами. Мило принял и побеседовал с мечтающими о сулящей баснословные для пришедших гонорары серии книг.
«Но для чего, собственно, эти книги сокращать? – выразил сомнение Луначарский. – Нужно просто выбрать из них лучшие и дать молодым читателям с хорошими предисловиями. Вам не кажется, что это было бы более правильно?»
Разумеется, это было бы более правильно. Но согласиться с Луначарским значило поставить под угрозу задуманное, такое хитроумное и такое прибыльное предприятие. Гости принялись убеждать его, да и себя самих, что не будут почти ничего сокращать. Тем временем Анатолий Васильевич пристальным взглядом обвел гостей, еле заметно улыбаясь их горячности и, очевидно, отлично все понимая. Потом вдруг спросил: «Кто из вас Багрицкий?»
Литераторы замерли. Правда, договариваясь с секретарем, они перечислили все свои фамилии. Но им и в голову не могло прийти, что они сразу же станут известны Луначарскому. Наконец Эдуард Георгиевич тоном человека, решившего чистосердечным признанием искупить свою вину, произнес: «Я – Багрицкий».
Луначарский внимательно посмотрел на него и, сняв пенсне, принялся протирать его. «Недавно прочел в «Красной нови» вашу поэму. По-моему, великолепная вещь!» – промолвил он веско. Его добрый хрипловатый голос, который собравшиеся вокруг привыкли слышать с трибуны, здесь, в комнате, был исполнен того же очарования, что и там.
Багрицкий встал, смущенно улыбнулся и вдруг рявкнул нечто среднее между солдатским «рад стараться» и пионерским «всегда готов». Впоследствии он яростно отрицал это, но факты – упрямая вещь. Все слышали его рявк своими ушами.
Луначарский сказал еще что-то лестное о «Думе про Опанаса». Багрицкий что-то еще смущенно пробормотал. После чего гости стали прощаться.
Спускаясь по лестнице, Эдуард Георгиевич упорно молчал, не отвечая ни на поздравления, ни на шутки. И только выйдя на улицу, промолвил:
«Франсуа Вийон тоже был бедный человек, но он бы себе этого не позволил».
«Чего бы себе не позволил Вийон?» – спросил кто-то.
«Кромсать хорошие книги – вот чего».
«Ну, а плохие? Плохие он бы позволил себе кромсать?»
«Не задавайте дурацких вопросов! К плохим книгам порядочный человек вообще не должен иметь никакого касательства», – назидательно заключил Багрицкий.
Виктор Шкловский подчеркивал, как старательно Эдуард Багрицкий учился у Бернса, Киплинга, Вальтера Скотта сюжетному стиху. «Сумел заговорить собственным голосом в “Думе про Опанаса”, – заключает Шкловский.
«Я написал «Думу про Опанаса», – делился в 1933 году Багрицкий. – В ней я описал то, что я видел на Украине во время гражданской войны… Я работал долго, месяцев восемь. Мне хотелось написать ее стилем украинских народных песен, как писал Тарас Шевченко. Для этого я использовал ритм его «Гайдамаков»… Эта вещь выдержала испытание временем: она была написана в 1926 г. и до сих пор еще печатается всюду».
В 1929 году Багрицкий рассказал о своем музыкальном образе гражданской и о том, как он пишет стихи. «Стихи возникают неожиданно. Ходишь часами по городу, бродишь с собакой и ружьем по лесу – ничего не получается. Но вот под ноги подвернулся камень. Ты спотыкаешься, цепь ассоциаций начинает работать. Первый образ возникает случайный. Как выстрел из-за угла – и машина задвигалась. Начинается творчество. Стихотворение – это прототип человеческого тела. Каждая часть на месте, каждый орган целесообразен и несет определенную функцию. Я сказал бы, что каждая буква стиха похожа на клетку в организме, – она должна биться и пульсировать. В стихе не может быть мертвых клеток. Аппендицит абсолютно невозможен. Стихотворение рождается без слепой кишки. Я работаю медленно. После столкновения с камнем я стараюсь тотчас записать все, что мне пришло в голову. Но через несколько дней все написанное кажется мне до того безобразным, что для приведения всей работы в более приличный вид приходится затратить несколько месяцев. Ритм ощущается, как подземный гул. «Опанас» был написан из-за синкоп, врывающихся, как махновские тачанки, в регулярную армию строк. «Камнем» была украинская песня. Которую мне спела жена. До «Опанаса» была написана «Песня об Устине» – вариант песни, спетой мне женой… Размер был тот же, что и в «Опанасе». Мне показалось, что таким размером лучше всего можно написать поэму о гражданской войне».
Мы слышим синкопы во второй и четвертой строках каждой строфы:
По откосам виноградник Хлопочет листвою, Где бежит Панько из Балты Дорогой степною… … Ходит ветер над возами Широкий, бойцовский. Казакует пред бойцами Григорий Котовский…«Дума про Опанаса» – поэма о войне в умах и руками украинцев, которой не видно конца. О бреде «украинства», которому нет переводу. В «Прогулке с удовольствием и не без морали» Тарас Шевченко пишет о сицилийской вечерне, которую служил ляхам Максим Железняк в 1768 году. В том году земляки Шевченко Варфоломеевскую ночь и даже первую Французскую революцию перещеголяли. В XX веке махновцы и григорьевцы пошли дальше. Но даже тирана Сталина вынудили встать на их защиту от безродных космополитов в конце 1940-х. Багрицкого обвинили в клевете на свободолюбивый украинский народ.
Киев. Владимирская улица, 57. Зал – амфитеатр Дома учителя. В 1917–1918 годах в нем заседает Центральная Рада. Ее попытка создать независимую Украину провалилась. А сейчас, в 1949 году, с 28 февраля по 1 марта здесь совещаются украинские мастера красного слова. Идет пленум Союза писателей.
М. Бажан: «Ці космополітствуючі сноби жили на нашій землі, користувалися всім – і платили зненавистю, презирством, зневагою».
О. Корнійчук: «Космополіти підкопуються під наш патріотизм: вони твердять, що в епоху атомної бомби немає, мовляв, місця національним рамкам».
О. Гончар: «їх симпатії там, їх антипатії ми завжди відчували на собі».
П. Тичина: «Що ж це за діло, коли на 32-му році революції доводиться пролетарське мистецтво захищати од них?»
М. Руденко: «Обвинувачення в космополітизмі – це обвинувачення в зраді народу».
С. Скляренко: «За роботою Пленуму стежить вся Україна. В цьому залі з нами тут партія і весь народ».
Из капиталистического далека постсоветской Москвы бурно приветствует выступавших и топчется по Багрицкому в блогосфере автор «Бесконечного тупика» Дмитрий Галковский: «Воровская поэзия высоких чуйств…»
Решения Пленума 1949 года целиком и полностью поддерживают вожди Союза писателей Украины XXI века. Они в красном углу на место сочинений Ленина водрузили роман Василя Шкляра «Залишинець» («Черный Ворон»). «Начитався Шевченка. Я часто питаюся у новачків: чого ти до мене прийшов? І чую: в того москалі хату спалили, того пограбували, у того дівчину зґвалтували… – начитаємся в «Черном Вороне». – У нас завсігди так було – поки заброда не заллє сала за шкуру, ми нічичирк. А цей мені каже: прочитав «Кобзаря». Ти таке чув коли-небудь? Щоб чоловік прочитав Шевченка і став «бандитом»? От де сила! Це я до того, аби ти знав, що треба часом почитати козакам уголос. Краще за всяку муштру… Це не означає, що нас переможено… Мусимо дочекатися тієї години, коли весь світ пересвідчиться, що таке жидо-московська комуна, і наш нарід, протверезівши, знову візьметься за зброю. Тоді ми здобудемо і нових союзників за кордоном, і нові свіжі сили на Батьківщині…»
Багрицкий отвечает в «Думе…»:
Украина! Мать родная! Молодое жито! Шли мы раньше в запорожцы, А теперь – в бандиты!И в 1926 году в стихотворении «От черного хлеба…»
Нам нож – не по кисти, Перо – не по нраву, Кирка – не по чести, И слава – не в славу: Мы – ржавые листья На ржавых дубах…В 1930 году харьковский филолог Александр Финкель (1899–1968) пишет пародию на Багрицкого «Дума про Веверлея». Он представляет, как бы поэт трактовал сюжет одноименного романа Вальтера Скотта:
Не загинул я от пули У Попова лога, Не изжарюсь и в июле — В дым, в жестянку, в Бога… Рассказать бы лучше надо, Да, жаль, не умею…В начале 1960-х Александр Финкель создает одно из лучших известных мне исследований творчества Багрицкого, статью о стихотворении «Происхождение». Опубликовали ее впервые только в конце 1980-х в Польше. Благо она доступна украинскому читателю в Интернете.
Вожди и Багрицкий. «Мои стихи сложны…»
Багрицкий – советский писатель, творчество которого не нуждается в том, чтобы его «просеивать». Он не нуждается в колдовских исследованиях начетников, которые любят угадывать, где и каких размеров имярек, славя в той, советской жизни вождей, зажимал «дулю в кишені». В 1926 году, вкусив московской атмосферы, Багрицкий пишет «Стихи о соловье и поэте».
Куда нам пойти? Наша воля горька! Где ты запоешь? Где я рифмой раскинусь? Наш рокот, наш посвист Распродан с лотка… Как хочешь — Распивочно или на вынос?«Мои стихи сложны, и меня даже упрекают в некоторой непонятности, – рассуждал поэт. – Это происходит оттого, что я часто увлекаюсь сложными образами и сравнениями».
Свои три книги стихотворений (первая «Юго-Запад» – в 1928-м, «Победители», «Последняя ночь» – в 1932 году) Багрицкий сознательно составляет как отражение своего мировоззрения и истории своего поколения.
«Я не пишу отдельные стихотворения, – читаем в стенограмме беседы Багрицкого в марте 1933-го. – Я пишу как бы серию стихотворений, которые тесно связаны друг с другом и зависят одно от другого, для того, чтобы после можно было их собрать в книгу. Вот, примерно, у меня «Смерти пионерки» предшествует «Человек предместья». Или вот мне очень интересно наблюдать, как одно и то же лицо будет выглядеть лет через пять. Вот, например, меня очень интересовало, как будет выглядеть индивидуум из «Юго-Запада», этот мелкий интеллигент, в «Последней ночи». Интересно было посмотреть его перерождение. В «Юго-Западе» он колеблется, сомневается, не знает, за кем идти, – как он в «Последней ночи» относится к этому, как повлияло на него время».
Не исключено, что название книги «Юго-Запад» возникло как ответ на волошинский «Северовосток». Багрицкий сознательно работал над трилогией. Настаивал на неизменности и единстве этого ряда. Как бы перекликался с Блоком, с его трилогией. «Работай, работай, работай», – Багрицкий напрямую цитирует Блока в «Песне о рубашке» (Томас Гуд).
В 1929 году Багрицкий создает стихотворение «ТВС» («Туберкулез»). Он строит его как двухголосную фугу. Сюжетно оно перекликается с написанным в том же 1929 году стихотворением Маяковского «Разговор с товарищем Лениным». Если последнее напоминает партийный отчет о проделанной работе, то у Багрицкого все глубже и страшнее. Он противопоставляет себя вождям и их девизу «все позволено».
Над столом вождя – телефон иссяк, И зеленое сукно, Как болото, всасывает в себя Пресс-папье и карандаши…Так писал Багрицкий в «Ночи» в 1926-м. Спустя три года к герою стихотворения «ТВС» зашел излить душу Феликс Дзержинский.
И стол мой раскидывался, как страна, В крови, в чернилах квадрат сукна, Ржавчина перьев, бумаги клок — Всё друга и недруга стерегло. Враги приходили – на тот же стул Садились и рушились в пустоту. Их нежные кости сосала грязь. Над ними захлопывались рвы. И подпись на приговоре вилась Струей из простреленной головы.Именно Железный Феликс готов к исполнению начертаний вождя: «Но если он скажет: «Убей» – убей». Почему-то эти слова упорно приписывают его собеседнику, поэту. Поэт Багрицкий неподвластен вождям, их затхлым идеологиям.
В 1930 году журнал «Новый мир» печатает стихотворение «Происхождение». Александр Финкель считает, что мечта и насилие над ней, познание и неверие, отвращение и любовь, затхлый мир и мир, «открытый настежь бешенству ветров», – основополагающие конфликты в творчестве Багрицкого. В этом «происхождение» его поэтики.
«Мир ловил меня, но не поймал» – эти слова Г. С. Сковороды мог бы повторить о себе и лирический герой «Происхождения», ибо в этом и заключается то содержание, внутренней логике и развитию которого подчинены все образные и языковые средства стихотворения, – пишет Александр Финкель. – Но вхождение человека в мир – это не только судьба человека, но в какой-то степени и судьба мира: это – новое его восприятие, это – его функция служить еще одной жизни, это – его возможность обогатить, развить, развернуть еще одну душу; и мир с рождением человека утрачивает свое безразличие, свое обычно плавное течение: из мира в себе он становится миром для человека».
Харьковский филолог разъяснил, почему так часто Багрицкий обращается к прилагательному «ржавый». Это образ, цвет – «рыжий». Это библейская история Исава и Иакова. Буйный и грубый охотник Исав родился рыжим. Поэтому рыжий цвет символизирует сильного и грубого человека. Поэтому и пророчил Хулио Хуренито у Ильи Эренбурга: «Вы увидите еще его (младенца) дикие глаза, рыжие волосики и крепкие, как сталь, ручки».
Но рыжий – ржавый для Багрицкого – это в то же время «покрытый ржавчиной», старье. Догматик либо его проповеди. Литературоведческие «эссеи». Выступления на пленумах писателей. То есть заржавевшие, устаревшие, когда-то чем-то бывшие, но ставшие уже негодными, для молодого и нового ненужные и вредные идеи. Но они к тому же и несут смертельную опасность. Их суть – беспрекословное повиновение вождям. Поэтому с такой легкостью советские украинские писатели превратились в одну ночь на независимой Украине в антисоветских украинских.
Приспособленцев Багрицкий презирал. В 1930 году он вошел в РАПП. Но это ничуть не изменило его. Все знали, что новообращенный, сидя по-турецки на своем топчане и вызывающе хохоча, высмеивает самые святые и основополагающие рапповские заветы, не щадя в своих глумлениях даже главу и теоретика РАППа – Авербаха.
«Как вам нравится этот свистун? – восклицал Багрицкий, комментируя очередное выступление – рапорт Авербаха по поводу все того же призыва ударников в литературу. – Он, видите ли, хочет у себя, в своем рапповском инкубаторе, вырастить собственных чистопородных пролетарских писателей! Федин у него – колеблющийся интеллигент, у Маяковского темное футуристское прошлое, Бабель – певец стихийного бунта. Его это все не устраивает. Его устраивает, чтобы писатель родился между молотом и наковальней, как это описано у Ильфа и Петрова. А то, что этот самый писатель пишет не пером, а той самой наковальней, на которой родился, это ему неважно!»
Последние московские годы. 1931–1934
В свою первую в жизни городскую квартиру, двухкомнатную, кооперативную, коммунальную, Багрицкий вселяется в 1931 году. В 1929 году обостряется его болезнь. Ему становится ясно, что долго он не продержится. Чувствовали это и товарищи. Виктор Шкловский пишет о поэте в 1929-м: «Голова поседела рано, потому что смерть сидела напротив, за письменным столом и считала оставшиеся строчки». В московской квартире Юрий Олеша проведывал Багрицкого: «От бронхиальной астмы лечатся так называемым абиссинским порошком, который курят, как табак. Запах этого курения стоял в московской квартире Багрицкого. Припадки астмы повторялись у него довольно часто, и, приходя к нему, я почти всегда застигал его в неестественной, полной страдания позе. Он сидел на постели, упершись руками в ее края, как бы подставив упоры под туловище, готовое каждую секунду сотрястись от кашля и, казалось, изо всех сил удерживаемое от этого человеком».
Багрицкие поселились на шестом этаже и соседствовали с Марком Колосовым, который, как Альтаузен и Светлов, состоял в группе комсомольских поэтов.
«Прошло 5 лет после нашей первой встречи, и неожиданно мы очутились совсем рядом – соседями в общей квартире Дома писателей в пр. МХАТа… – вспоминал Колосов. – Я не бывал у него в Кунцеве… И вдруг летом 1930 г. он приезжает ко мне. Тогда выстроили 1-ю секцию писательского дома в пр. МХАТа – 14 четырехкомнатных квартир. В каждой предполагалось поселить по две семьи. Не знаю, кто надоумил Багрицкого ехать ко мне с предложением стать его соседом. Помню, он был очень взволнован. Тяжело дыша (у него была астма), начал объяснять цель своего приезда.
«Видишь ли, – смущенно-торопливо говорил он, – я человек простой, без церемоний, но ты понимаешь… правила так называемого квартирного этикета! Боюсь, что мой утренний облик может шокировать дам. И вообще это невыносимо – все время быть настороже, как бы не нарушить какое-нибудь правило светской вежливости в коммунальной квартире. Мне сказали, что ты тоже простой, и жена твоя простая, как моя Лида. Так что мы очень просим вас стать нашими соседями».
Надо сказать, что за 3 года совместной жизни наши семьи не только ни разу не поссорились, но я не помню ни одного недоразумения, ни малейшей тучки на общеквартирном небосклоне».
Если в доме не работал лифт и приходилось подниматься пешком по лестнице, то весь подъезд слышал, как Багрицкий тяжело дышит, останавливаясь на каждом этаже и громко кашляя. Теперь у него имелась своя комната, светлая, солнечная, с балконом, правда, балкон был еще без перил – в те времена сдавали дома в эксплуатацию с очень странными недоделками. Но комната была в полном смысле слова своя, и это было самое главное. Здесь Багрицкий наконец устроился так, как ему хотелось. Зажил спокойно и счастливо в той мере, в какой это могло быть возможно для тяжелобольного человека, обуреваемого всеми страстями и сомнениями, положенными по традиции истинному поэту.
В комнате стоял жесткий топчан, прикрытый пестрой украинской плахтой, вплотную к нему были придвинуты квадратный стол и два стула. Его привычная поза на топчане – по-турецки, на персидский манер, поджав под себя ноги. Эдуард рассказывал, что приобрел эту привычку на Османском фронте в корпусе генерала Баратова. Даже когда он сидел на стуле, всегда старался при этом хотя бы одну ногу подобрать под себя.
Когда Багрицкий бывал очень доволен, он складывал руки ладонями вместе и перегибал одну другой в тыльную сторону. Приветствуя гостей, любил делать «под козырек». По утверждению Лидии Густавовны, манерности, вычурности, театральности в движениях никогда себе не позволял. Мимика и жестикуляция были выразительные, средние по живости, спокойные и сдержанные. Быстрых и частых смен выражений на лице не отмечалось. Наиболее выразительными были глаза, блестящие и лучистые, являвшиеся самой красивой чертой лица. Улыбался часто, улыбка обычно имела слегка ироническое выражение. Это же выражение было наиболее характерно для всего лица в целом. Любил смеяться и смеялся часто. Смеялся обычно громко, на «о» – «хо-хо-хо», смех был средней продолжительности, несколько приглушенный, как бы направленный внутрь себя. Склонности к гомерическому смеху у Багрицкого не отмечалось.
Спорить он не любил и спорщиком не был. Очень часто к нему обращались за советами самые различные люди. Даже по поводу своих личных дел, например, относительно семейной жизни. Обращались к нему как к очень умудренному жизненным опытом человеку, как к старшему. Сам Багрицкий любил говорить про себя: «Дядя Эдя все знает и понимает». Хранил в себе очень большой жизненный опыт, был значительно старше своих лет. Как выражалась Лидия Густавовна, убыстренными темпами прожил жизнь.
Еще в комнате Багрицкого частые гости видели книжный шкаф и два больших металлических стеллажа с аквариумами. Вот и все, если не считать электрической машинки для нагнетания в аквариумы воздуха и большой клетки с попугаем.
Попугай этот был склочной и крикливой птицей. В течение нескольких месяцев он отравлял жизнь самому Багрицкому и его домочадцам с упорством и изобретательностью вполне разумного существа. Самое же печальное было то, что от него долго не удавалось избавиться, потому что, прослышав о его буйном нраве, никто не желал не то чтобы покупать его, но даже и брать задаром. Между тем попугай был говорящий и, приходя в хорошее настроение, хлопал крыльями и кричал «ура». Кроме того, он умел при помощи своего огромного, зловеще изогнутого клюва извлекать из мебели обойные гвозди с той же легкостью, с какой взрослый человек вынимает травинки из рыхлой почвы. Однажды, пользуясь своим могучим инструментом, попугай напрочь разорвал туфлю у поэтессы и переводчицы Аделины Адалис (1900–1969), только чудом не повредив ей ногу. В конце концов попугая удалось куда-то пристроить, и, кроме рыб, в комнате у Эдуарда Георгиевича не осталось никакой другой живности.
На стене над топчаном в своей новой комнате он повесил казацкую шашку и, показывая ее, неясно намекал на какие-то необыкновенные ее достоинства, каких, судя по ее виду, никак нельзя было в ней предположить. Шашка была обыкновенная, в довольно потрепанных ножнах, ничем внешне не примечательная и, как это ни странно, очень мирная на вид.
Вообще же после переезда в городскую квартиру, расположенную в Камергерском переулке около МХАТа, у Багрицкого стало бывать очень много народа. И, к величайшему его удивлению, внезапно оказалось, что одни идут к нему, чтобы поучиться, другие – чтобы попросту познакомиться. Что, нежданная и незваная, к нему пришла слава, приход которой решительно изменил его жизнь, усложнив ее и лишив столь необходимой ему укромности.
Радостными в этом новом образе жизни оказались для Багрицкого только его встречи с молодежью. Как-то само собой случилось, что вокруг него образовался кружок молодых поэтов, приносивших свои стихи и молитвенно внимавших его указаниям. Его это очень смущало.
«Понимаете, они меня слушают как оракула, – жаловался он Георгию Мунблиту. – А я не оракул, я частное лицо и сам еще учусь писать стихи. И если говорить правду, в последнее время я не очень доволен своими успехами. А они смотрят мне в рот. Хорошие мальчики, а не понимают, что нельзя научить человека писать стихи».
«О чем же вы с ними беседуете?»
«Мало ли о чем?.. Научить писать нельзя, зато можно помочь научиться. Я и помогаю».
И он действительно помогал.
Рядом с лежавшей на его столе ученической тетрадкой, куда он вписывал огрызком карандаша, бесконечно перемарывая, строчку за строчкой свои собственные стихи, появилась стопка исписанных листков с творениями молодых стихотворцев. Иногда, отложив в сторону свою тетрадку, Багрицкий читал и перечитывал эти старательно переписанные стихотворные строчки, сопровождая чтение ритмическим гудением и по временам что-то отмечая на полях своим карандашным огрызком. Это он готовился к очередной встрече с молодыми поэтами.
Одним из них оказался Евгений Долматовский. Увидев Багрицкого на фоне диковинных рыбок, снующих в застекленной воде, Евгений, избегая возвышенных слов, улыбнулся:
«Какое симпатичное общежитие!»
Видимо, интонация была найдена нужная. Багрицкий живо откликнулся:
«Вот так и соседствуем. Как ответственный комендант этого общежития, заверяю – кухонных склок тут не бывает».
Вдруг Эдуард Георгиевич жутко закашлялся. Отдышавшись, он хрипло изрек:
Вот вижу я – идут коровы. Им хорошо. Они здоровы.И тут же добавил:
«Это я сочинил не сейчас и не здесь. По Москве буренки не ходят. А вот в Кунцеве, где у хозяина дома было немало живности, я увидел, как шествует по двору корова по имени Красотка со своим теленком. У меня был очередной приступ, и я разразился завистливым экспромтом. Ну вот, будем считать, что свое творчество я предъявил. А теперь послушаем, на что способны вы. Читайте свои катрены, терцины, стансы или что там у вас еще есть в запасе. Главное, не робейте. В Одессе у меня комната была полна птиц. Голосистая компания. Они запросто могли освистать плохие стихи. А рыбки – это тот народ, который безмолвствует. Так что их бояться не надо. Да и меня тоже».
«Я сразу почувствовал себя, как дома», – вспоминал Долматовский. Один из лучших фотопортретов Багрицкого был сделан им. Вместе с товарищем они принесли яркую лампу, потому что фотоаппарат был старомодный, с бромосеребряными пластинками, выдержка требовалась большая. Впоследствии этот портрет неоднократно публиковался. Острый взгляд, распахнутая блуза, седеющая шевелюра. За спиной на стене – охотничья винтовка и ягдташ. На столике – микроскоп. Антураж, соответствующий увлечениям поэта, охотника, рыбовода.
В микроскоп Багрицкий исследовал обитательниц аквариумов. Среди рыбоводов он был не менее знаменит и авторитетен, чем среди литераторов. Научился читать по-немецки, чтобы следить за специальной литературой. Один литератор побывал с ним в зоологическом магазине и был поражен. Записные знатоки этих дел, жилистые старики с прокуренными усами, с которыми и заговорить-то бывает страшно человеку, недостаточно осведомленному о свойствах и обыкновениях обитателей аквариумов, обращались к Багрицкому с почтительностью робких учеников. После смерти поэта немецкий специализированный журнал поместил некролог о кончине выдающегося российского ихтиолога.
Однажды в компании гостей у себя в Камергерском переулке Багрицкий с презрением отзывался об имярек, которого он считал классическим собранием всего пошлого, стяжательского. Он говорил, пародируя стиль научной лекции: «Можно считать вполне доказательным, что гипертрофированное увлечение материальными благами является главным интересом и основным содержанием жизни не только, как это принято считать, у работников торговой сети, но и у некоторых работников литературной сети». Кто-то более снисходительный заметил, что это прискорбные, но, увы, до поры до времени неизбежные пережитки капитализма в сознании. Багрицкий вскипел: «Почему в сознании? В барахле! С сознанием у него как раз все в порядке. Меньше чем на мировую революцию он не согласен. Но вы посмотрите на его коллекцию золотых часов!»
Товарищ Сталин разогнал РАПП 7 марта 1932 года. Литературный критик Бенедикт Сарнов (р. 1927) полагает, что некоторое представление о характере этой писательской структуры дает роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Там РАПП изображен под названием «МАССОЛИТ». Есть все основания предполагать, что шеф РАППА Авербах был прототипом одной из ключевых фигур этого романа – Михаила Берлиоза. Еще вчера «пролетарские писатели» были людьми первого сорта, а все остальные – «левые попутчики», «правые попутчики» (Бабель, Багрицкий, Пастернак, Пильняк, А. Н. Толстой), разные там ЛЕФы, конструктивисты, имажинисты и прочая шушера – второго, третьего и даже шестнадцатого. «Пролетарские» имели мандат на то, чтобы всю эту беспартийную сволочь цукать, гнобить, в лучшем случае – критиковать, учить, воспитывать. И теперь – что же? Все они, значит, будут равны? И даже «рабоче-крестьянский граф» Алексей Николаевич Толстой будет теперь не хуже наираспролетарского Безыменского и – страшно выговорить! – даже самого Демьяна Бедного?
Месяцем позже Багрицкий и Мунблит сидели на писательском собрании в зале бывшего Театра миниатюр на Никольской улице, где кающиеся рапповцы «отчитывались» в своих прегрешениях. Началось это собрание выступлениями рядовых рапповского воинства. Эти молодые люди, которые еще так недавно беспощадно громили, изгоняли и искореняли все, что стояло на их пути и мешало им превратить литературу в согласный хор поющих в унисон послушных РАППу писателей, нынче наперебой признавали свои ошибки. Потом на трибуну вышел один из главных рапповских заправил, безмятежно откашлялся и принялся в гладеньких, закругленных периодах поносить своего недавнего вождя и единомышленника Авербаха, с которым у него якобы никогда не было близкой дружбы и полного единомыслия и который ныне недостаточно самокритично признает свои ошибки. Короче, так сегодня вчерашние советские украинские писатели рассказывают о недостаточной степени своего диссидентства при советской власти.
В отличие от Авербаха, оратор все свои ошибки признавал и, видимо, очень этим гордился. Багрицкий возмущенно кивнул в сторону мастера покаяний: «Как ему не стыдно так гладко, в таких круглых фразах предавать друзей. Если бы он запинался, если бы было видно, что человек мучается, тогда – другое дело. Но так красноречиво, так спокойно. Честное слово, не понимаю!»
И, гремя сапогами, он пошел к выходу, потянув собеседника за собой. А в коридоре, с трудом отдышавшись, взволнованный гораздо больше, чем те, что выходили в этот день на трибуну, он снова развел руками и повторил:
«Не понимаю. Убейте меня, не могу понять!»
«И правда, где ему было понять этих кающихся грешников? Слишком все это было далеко от мира, в котором он жил, и от его представлений о том, каков должен быть человек, писатель, товарищ, – вспоминает Мунблит о своем товарище Багрицком. – Вероятно, и они не поняли бы Багрицкого с его нерасчетливым чистосердечием, с его любовью к литературе, любовью, вытеснившей из его помыслов все другие житейские побуждения, с его способностью жить поэзией так, как некоторые его коллеги живут стремлением преуспеть, прославиться, победить и затмить соперников. Врачи и сестры в больнице, где Багрицкий провел последние свои дни, говорили, что среди тяжелых больных они давно не видели такого мужественного, терпеливого и веселого человека. Сначала они полагали, что он не сознает всей серьезности своего положения, потом увидели, что он все понимает. И неизменное его спокойствие и шутливость – не от неведения, а именно от понимания неотвратимости и огромности того, что ему предстоит. Кто знает, может быть, в награду за честно и чисто прожитую жизнь человеку даруется эта способность – спокойно и с достоинством встретить смерть».
Вспоминает писатель, драматург Лев Славин (1896–1984): «В чем он действительно был скрытен – это во всем, что касалось его болезни. Он никогда не жаловался на свою астму. А если и говорил о ней, то только в подтрунивающем тоне. Даже ближайшие друзья не подозревали, как тяжко он болен. Багрицкий неспособен был сделать свое личное несчастье темой своих произведений. Этого не позволила бы свойственная ему целомудренность чувств.
Об этой целомудренности не догадывались люди, воображавшие Багрицкого чудаком, богемой, циником. Они были обмануты его ошеломительным остроумием, эксцентрической манерой выражаться. В сущности, он был скромным и застенчивым человеком, о чем, впрочем, догадывались немногие. Но, конечно, нельзя изображать Багрицкого этаким идейным монолитом. Приемы иконописной живописи не годятся для изображения этого страстного, иногда противоречивого человека. В тридцатых годах он вступил в РАПП. И он же был первым человеком, который позвонил мне и сообщил задыхающимся от восторга голосом, что РАПП распущен.
Так называемый цинизм Багрицкого был ненатуральным. Это была как бы маска, надетая на нежность. Он появлялся обычно после или во время душевного раскрытия и как контраст к нему».
Багрицкий скончался 16 февраля 1934 года. В семье у них жила домработница Маруся, женщина из Вологды, очень им преданная. Когда поэт лежал в гробу, она подошла к нему, наклонилась и что-то шептала про себя, да так и попала в объектив кинохроники…
Потом выяснилось, что Бабель занял у Багрицкого деньги и долго не отдавал. После смерти поэта Маруся отправилась к Бабелю домой в Николо-Воробьинский. Когда Бабель вышел к лестнице, ведущей на первый этаж, она закричала во весь голос: «Отдай сиротские деньги!»
На похоронах Багрицкого Бабель с остановившимся взглядом, беззвучно шевеля губами, шел по запруженному народом вестибюлю старого особняка Дома литераторов на улице Воровского, из которого только что вынесли гроб с телом Эдуарда Георгиевича. Потом он вслух промолвил: «Первая могила нашего поколения». Очевидно, Бабель только что встретился с Юрием Олешей. Тот все эти скорбные дни буквально носился с этой фразой. Выходя на улицу, Бабель добавил: «Ничего не вышло». Может быть, он вспомнил свой последний разговор с Багрицким о необходимости переселения в Одессу? Жить всем одесситам на родине – было любимой мыслью Бабеля.
Воспоминания Исаака Бабеля о Багрицком лаконичны. «Усилие, направленное на создание прекрасных вещей, усилие постоянное, страстное, все разгорающееся – вот жизнь Багрицкого….. Он был мудрый человек, соединивший в себе комсомольца с Бен-Акибой. Ему ничего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев…»
В стихотворении «Вмешательство поэта» Багрицкий пишет:
И бытием прижатое сознанье Упорствует и выжимает крик. Я вижу, как взволнованные воды Зажаты в тесные водопроводы, Как захлестнула молнию струна. Механики, чекисты, рыбоводы, Я ваш товарищ, мы одной породы, — Побоями нас нянчила страна! Приходит время зрелости суровой…В похоронной процессии тело Багрицкого по улицам Москвы сопровождал эскадрон кавалеристов.
Багрицкий умер до начала репрессий, в 1934 году, а вот его вдова Лидия Густавовна Суок-Багрицкая, как уже упоминалось, в 1937 году была репрессирована и вернулась из заключения только в 1956 году.
Багрицкого продолжают современные поэты. А мы читаем Елену Фанайлову:
«Я боюсь кричать, я боюсь людей. / Этих улиц их, площадей, колонн, / Где судьба свистит с четырех сторон. / Где она берет, как Махно, вагон, / Настигая нас впонахлест, вдогон. / Где ее конвой, получив приказ, / К городской стене провожает нас».
И Всеволода Емелина: «Страх зрачки не сузит. Нас бросала кровь/ На шатры арбузников, на щиты ментов».
Эдуарду Лимонову отец дал имя в честь Багрицкого:
«Политик в ЖЖ сталкивается с толпой кухонных Гамлетов, которые политику бесполезны… Я очень непростой тип, бессильные вы, мои чудаки! Вы же больны анемией, «бледной немощью заражены…» – это о вас».
Багрицкий оставил в черновиках поэму «Февраль». Он мыслил ее как первую в будущей трилогии. «Беда лишь в том, что ни те, кто проклинал поэта, ни его непрошеные защитники не удосужились над поэмой задуматься. Поэтому и не увидели они в «Феврале» ни цитат из «Мертвецов пустыни» Х.-Н. Бялика, ни отголосков «Мемуаров» Г. Гейне. Впрочем, еще хуже то обстоятельство, что никто из них не прочитал саму поэму Багрицкого по той причине, что бесконечно тиражируемый ее вариант составляет едва лишь треть того текста слегка неоконченной поэмы, который хранится в архиве», – утверждает современный исследователь творчества Багрицкого Леонид Кацис.
Багрицкий искренне ценил таланты. В Одессе он был душой «Коллектива поэтов», благословил на писательство, поддержал Веру Инбер, Владимира Сосюру, Ивана Микитенко. В Москве – Александра Галича, Александра Твардовского. Переводил Миколу Бажана: «Кровь полонянок», «Разрыв-трава», «Ночь Гофмана», «Здания». Перевод «Ночи Гофмана» подсказывает, что с Миколой Бажаном объединяло Багрицкого – любовь к музыке.
О, стиснуть бы аккорд бледнеющей рукой, Чтоб наливался звук и композитор бился!И свободолюбивый нрав Тиля Уленшпигеля и его друга Ламме.
И вот брюхан, раскрашенный лазурью и кармином (Домашняя идиллия фламандских маляров), Лукаво подмигнет ему за розовым овином, Схватив в охапку девушку, пасущую коров…Самому Багрицкому больше всего нравился Вагнер. Затем Моцарт, Бетховен. Чайковского он не воспринимал, говорил, что это «кисло-сладкая музыка». Любил две оперы: «Кармен», которую взял за образец для своего либретто «Думы про Опанаса», и «Катерину Измайлову».
Багрицкий воспитывал сына в мужественном духе. Закалял плаванием в осенних реках. Хождением босым на лыжах. Всеволод Багрицкий также начал писать стихи. Добровольцем пробился на фронт, хотя по состоянию здоровья был непризывным. Погиб 26 февраля 1942 года в маленькой деревушке Дубовик Ленинградской области, записывая рассказ политрука. Судьба оказалась беспощадной. За десять дней до своей гибели Всеволод пишет в дневнике:
«Сегодня восемь лет со дня смерти моего отца. Сегодня четыре года семь месяцев, как арестована моя мать… Вот моя краткая биография…
Теперь я брожу по холодным землянкам, мерзну в грузовиках, молчу, когда мне трудно…»
В 1929 году Багрицкий создал «Стихи о себе». Он обратился к своему читателю в своем представлении.
Черт знает где, На станции ночной, Читатель мой, Ты встретишься со мной. Сутуловат, Обветрен, Запылен, А мне казалось, Что моложе он… И скажет он, Стряхая пыль травы: «А мне казалось, Что моложе вы!» …По взгляду, По движенью рук Я в нем охотника Признаю вдруг — И я скажу: «Уже на реках лед, Как запоздал Утиный перелет». И скажет он, Не подымая глаз: «Нет времени Охотиться сейчас!» И замолчит. И только смутный взор Глухонемой продолжит разговор, Пока за дверью Не затрубит конь, Пока из лампы Не уйдет огонь, Пока часы Не скажут, как всегда: «Довольно бреда, Время для труда!»Примечания
1
Имеется в виду один из молодых писателей-одесситов.
(обратно)
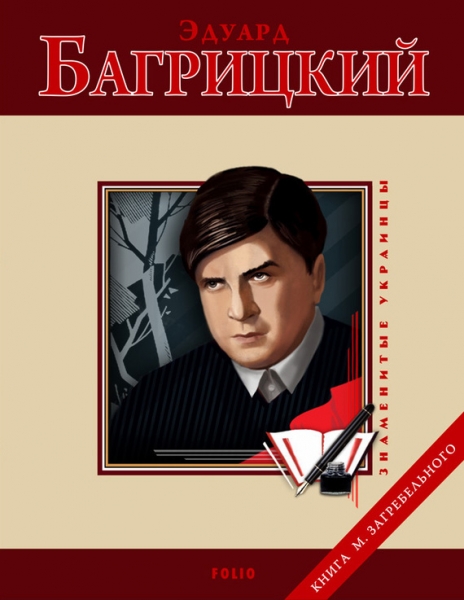


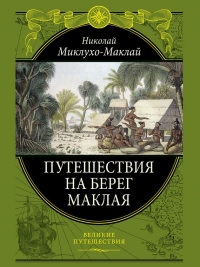

Комментарии к книге «Эдуард Багрицкий», Михаил Павлович Загребельный
Всего 0 комментариев