Сергей Алексеевич Андреев-Кривич, Николай Александрович Равич Повести о Ломоносове
© Андреев-Кривич С. А., наследники, 1960
© Равич Н. А., наследники, 1947
© Морозов А. А., наследники, вступительная статья, 1990
© Бритвин В. Г., иллюстрации, 2011
© Оформление серии, примечания. ОАО «Издательство «Детская литература», 2011
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Михайло Васильевич Ломоносов (Очерк жизни и деятельности)
…Как архангельский мужик По своей и Божьей воле Стал разумен и велик. Не без добрых душ на свете – Кто-нибудь свезет в Москву. Будешь в университете – Сон свершится наяву! Н. А. Некрасов. «Школьник»В ноябре 2011 года исполняется 300 лет со дня рождения великого сына нашей Родины Михаила Васильевича Ломоносова. Это имя, как имя А. С. Пушкина и многих других российских гениев, составляет гордость и славу России. Не было почти ни одной отрасли знания, куда бы не проникла его пытливая мысль и где бы ему не пришлось сказать новое слово. Химия, физика, металлургия, астрономия, естествознание, география, геология, история, искусство, поэзия – таково многообразие творческой деятельности Ломоносова. Его жизнь – это вечный пример неутомимого дерзания, бескорыстной любви к науке и самоотверженного служения своему народу.
Михайло Васильевич Ломоносов родился в деревне Мишанинской[1] на Курострове, одном из больших островов, образованных неподалеку от села Холмогоры рекой Северной Двиной, примерно в 150 км от впадения ее в Белое море. Днем рождения его принято считать (точно не установлено) 8 (19) ноября 1711 года.
Отец, Василий Дорофеевич Ломоносов (1681–1741), был черносошным или, иными словами, государственным крестьянином. Расселившись вдали от феодальных центров, русские поморы не знали личной крепостной зависимости от помещиков. На Севере варили соль, гнали смолу, добывали слюду и железо, строили и снастили морские суда. На беломорском Севере развивалась своеобразная народная культура. Северяне помнили и бережно передавали из рода в род эпические сказания о подвигах русских богатырей. Среди них была распространена грамотность и уважение к печатной и рукописной книге. Опытные кормщики знали основы навигации и умели пользоваться компасом.
В. Д. Ломоносов кроме сельского хозяйства занимался морским промыслом. Примерно в 1721 году он, один из первых на Севере, построил «новоманерный гуккор» – парусное судно нового типа, какими Петр I приказал обзаводиться поморам. На гуккоре вместе с отцом Михайло Ломоносов совершал дальние плавания вдоль берегов Белого моря и Ледовитого океана. Полные трудов и опасностей морские переходы закалили Михайлу физически, воспитали в нем твердость духа, решительность и неустрашимость, обогатили его множеством разнообразных впечатлений. В мальчике рано пробудилась любознательность и развилось живое чувство природы – непосредственный источник поэтического чувства.
Пытливо присматривавшийся ко всему юноша скоро пристрастился к книжному чтению. Грамоте он обучился у соседей и у знакомого дьячка. Вскоре ему удалось раздобыть лучшие по тем временам книги: «Грамматику» церковнославянского языка Мелетия Смотрицкого и «Арифметику» Леонтия Магницкого, которые он впоследствии называл «вратами своей учености». «Арифметика» Магницкого, изданная в Москве в 1703 году, отвечала потребностям петровского времени. Кроме курса начальной математики она содержала различные теоретические и практические сведения по физике, географии, астрономии и навигации.
Жажда знаний все сильнее овладевала Ломоносовым. И вот он задумал неслыханное дело. В конце 1730 года, запасшись паспортом, который он получил в Холмогорах с помощью земляков, Михайло, по-видимому против воли отца, ушел в морозную ночь пешком вслед за рыбными обозами, направляющимися в Москву. И он не только дошел, но и сумел поступить в единственную высшую школу того времени – Славяно-греко-латинскую академию, хотя для этого ему пришлось выдать себя за сына дворянина.
В академии обучение производилось на латинском языке, которого Ломоносов не знал. И девятнадцатилетнему юноше пришлось учиться «с малыми ребятами», которые над ним смеялись. Он терпел нужду и голод. «Имея один алтын[2] в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку[3] хлеба и на денежку квасу, протчее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил», – вспоминал впоследствии Ломоносов в письме к И. И. Шувалову.
Он овладел латынью и углубился в чтение античных писателей: Вергилия, Овидия, Горация, кроме того, увлекся философской поэмой Лукреция Кара «О природе вещей», содержащей изложение учения великих материалистов древности – Демокрита и Эпикура об атомистическом строении мира. Книги, вышедшие в петровское время, – «Космотеорос» нидерландского ученого Христиана Гюйгенса, популярные труды ученых Петербургской академии наук и иностранных исследователей по физике и философии познакомили Ломоносова с новейшим естествознанием, в частности с учением польского астронома Николая Коперника и физическими воззрениями Рене Декарта.
Обучение в Славяно-греко-латинской академии, где господствовала схоластика[4], не удовлетворяло Ломоносова. Его тянуло к практическим делам. И вот в самом конце 1735 года в его жизни наступает решительный перелом. В числе лучших учеников академии он был вытребован в Петербург и зачислен студентом при основанной в 1725 году Петром I Академии наук. Занимаясь в «физическом кабинете» Петербургской академии, Ломоносов обнаружил выдающиеся способности и вскоре (осенью 1736 года) был отправлен для изучения химии и горного дела в Германию.
Обучаясь в Марбурге у известного в то время ученого и философа Христиана Вольфа, отличавшегося энциклопедическими знаниями, Ломоносов почерпнул от него много фактических сведений в разных областях науки. Наряду с физикой и химией молодой ученый из России уделял большое внимание изучению иностранных языков и теории литературы, особенно вопросам стихосложения. Он усердно изучал приобретенный им незадолго до отъезда за границу трактат В. К. Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», вышедший в 1735 году. Это отразилось на его поэтической практике. Среди дошедших до нас студенческих тетрадей Ломоносова – переписанные им тексты оды древнегреческого поэта Анакреонта «К лире» на семи языках. Русский перевод сделан самим Ломоносовым и предположительно относится к 1738 году.
Летом 1739 года Михаил Васильевич с двумя товарищами, Виноградовым и Рейзером, переехал во Фрейберг (Саксония) к «горному советнику» Генкелю для изучения горного дела и металлургии. Ломоносов спускался в рудники, беседовал с опытными рудокопами и плавильщиками. Кроме того, во Фрейбурге он написал патриотическую оду о победе русских войск – овладении турецкой крепостью Хотин в 1739 году. По словам В. Г. Белинского, с нее, «по всей справедливости, должно считать начало русской литературы».
В мае 1740 года Ломоносов уехал обратно в Марбург для продолжения изучения теоретической физики. Здесь он женился на сироте, дочери бывшего местного пивовара Елизавете Цильх.
8 июня 1741 года Ломоносов возвратился на родину. Вскоре его зачислили адъюнктом[5] по физическому классу Академии наук. Работать ему приходилось в тяжелых условиях. Назначенное жалованье месяцами не выплачивалось или выдавалось… книгами. В 1743–1744 годах Ломоносов более полугода провел под домашним арестом, что было вызвано столкновениями с реакционными немецкими академиками, стоявшими во главе Академии наук.
Но эти годы были и чрезвычайно плодотворными. Одну за другой ученый представляет диссертации по важнейшим вопросам физики и химии. 25 июля 1745 года Ломоносов становится профессором химии и полноправным членом Петербургской академии наук. Но химической лаборатории в академии еще не было. После долгих хлопот Ломоносова в сентябре 1748 года она была построена по хорошо продуманному им плану.
Ломоносов был одним из крупнейших новаторов в химии как по смелости и глубине теоретического мышления, так и по экспериментальной работе. Он вводил в лабораторную практику различные новые методы физического исследования, в частности пользовался микроскопом для изучения структуры различных веществ и наблюдения за химическими процессами, а также разрабатывал рецептуру фарфоровых масс и пороховых составов. Увидев итальянские мозаики, он загорелся идеей создать «мозаичное художество» в своем Отечестве. Проделав около 4 тысяч опытов, он разработал рецептуру мозаичных составов – смальт, сверкавших как самоцветы и обеспечивающих большее разнообразие и глубину оттенков, чем у прославленных итальянских мозаичистов. Он построил небольшую фабрику для производства смальт и сам набирал большие мозаичные картины и портреты: Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины II и др.
Только в одном этом деле Ломоносов проявил себя как химик и техник, художник и историк. В работе над мозаиками сказалась одна из характернейших черт его творческой деятельности – многообразие интересов и вдохновенный практицизм.
При всей широте и многообразии научная и практическая деятельность Ломоносова отличалась большой целеустремленностью. Он стремился постичь единство законов, управляющих природой. Он изучал мир во всей безграничности его проявлений, начиная от незримых атомов, составляющих все тела природы, и кончая небесными светилами, рассеянными в необъятной Вселенной.
Глубокий подход к изучению природы, материалистическая направленность мысли позволили Ломоносову прийти к гениальному обобщению – сформулировать «всеобщий закон природы», впервые изложенный им в письме от 5 июля 1748 года к знаменитому математику Леонарду Эйлеру, позднее – в своем труде «Рассуждение о твердости и жидкости тел», напечатанном на русском и латинском языках в 1760 году. «Все перемены, в Натуре случающиеся, – писал Ломоносов, – таково суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому, так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте… Сей великий всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения; ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает…»
Истинное познание было возможно для Ломоносова только на основе единства теории и опыта. Физики и химики XVIII века представляли себе материю в отрыве от движения. Свойства само́й материи объяснялись существованием неких особых посторонних и неуловимых материй. Ломоносов был убежденный атомист, он утверждал, что все многообразие мира можно постичь, только изучив строение вещества, подчеркивал необходимость проникнуть в тайну атомов – первоначальных частиц, составляющих основу мироздания.
Не было почти ни одной отрасли естествознания того времени, где бы Ломоносову не удалось сказать новое слово или сделать какое-либо важное открытие. Ученый разработал теорию теплоты, рассматривая ее как особый вид внутреннего движения частиц самой материи. В своем гениальном сочинении «О слоях земных» он выдвинул идею изменяемости природы и определил геологию как науку о непрестанном изменении Земли. 26 мая 1761 года Ломоносов сделал открытие в астрономии: «Планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою». Он первый высказал мысль об электрической природе северных сияний и разработал учение о движении воздуха в верхних слоях атмосферы, заложив тем самым основы новейшей метеорологии.
Вместе со своим другом, петербургским академиком Георгом Вильгельмом Рихманом, Ломоносов занимался изучением атмосферного электричества и производил опыты, опасные для жизни. 26 июля 1753 года Рихман погиб при проведении таких опытов во время грозы.
Чем бы ни занимался Ломоносов, какие бы великие и общие законы природы ни устанавливал, какие бы открытия ни совершал, он стремился обратить достижения науки на благо своего народа, посильно содействовать своим трудом «приращению общей пользы». Он прокладывал множество путей для развития русской науки и национальной культуры. «Он создал первый Университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим Университетом», – писал о нем А. С. Пушкин. Ломоносов занимался историческими разысканиями, обращался к древнейшему периоду русской истории – периоду образования Киевской Руси. Большое место в его деятельности занимали филологические науки. Он впервые на русском языке составил печатные труды: «Риторика» (1747) и «Российская грамматика» (1755).
Ломоносов настойчиво опровергал суждения, намеренно распространявшиеся иностранцами, что Россия бедна полезными ископаемыми или даже не может ими обладать в силу особенностей своего климата и географического положения. Он один из первых указал на исторические преимущества России, на ее неисчерпаемые возможности. С удивительной прозорливостью он указывал, что основой развития страны и залогом ее независимости является металл, и обосновал это в предисловии к своей книге «Первые основания металлургии, или рудных дел» (1763). Он поддерживал свои идеи и поэтическим словом:
…Воззри в поля свои широки, Где Волга, Днепр, где Обь течет; Богатство в оных потаенно, Наукой будет откровенно… В моря, в леса, в земное недро Прострите ваш усердный труд, Повсюду награжу вас щедро Плодами, паствой, блеском руд.Ломоносов видел нужду и горе народное, темноту и дикость нравов. Ломоносовская программа прогрессивного развития страны на началах науки и разума отвечала интересам народа. Однако, выдвигая эту программу в условиях феодально-крепостнического строя, он чрезмерно надеялся на государственные мероприятия, которые, как он искренне полагал, могли быть направлены «к приращению общей пользы». Одной из таких попыток было его знаменитое письмо, представленное И. И. Шувалову, «О размножении и сохранении российского народа» (1761), в котором он требовал от правительства принять неотложные меры для охраны здоровья населения, борьбы с детской смертностью и т. д. и указывал: «Побеги бывают более от помещичьих отягощений крестьянам…»
Ломоносов стремился сделать науку всеобщим достоянием, и ему удалось положить этому блистательное начало: в 1755 году он добился открытия в Москве первого университета. Ученый-патриот приложил большие усилия к тому, чтобы открыть доступ в университет самым широким слоям народа, без различия происхождения или сословия, чтобы в университет принимали не только дворян, но и разночинцев, даже «положенных в подушный оклад», в том числе и крестьян. Он писал:
О вы, которых ожидает Отечество от недр своих И видеть таковых желает, Каких зовет от стран чужих, О, ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны Раченьем вашим показать, Что может собственных Платонов[6] И быстрых разумом Невтонов[7] Российская земля рождать.И по его настоянию в Московском университете были открыты две гимназии: одна – для дворян, другая – для разночинцев.
В конце жизни Ломоносов отдал много сил на всестороннее изучение нашей страны. В 1759 году он стал во главе Географического департамента Петербургской академии наук, где велись большие работы по составлению генеральной карты России. Большое внимание Ломоносов уделял морскому делу. Он написал «Рассуждение о большей точности морского пути» (1759), где подробно исследовал вопросы навигации и предложил разработанные устройства различных приборов, в частности высказал мысль о создании самопишущего компаса.
В сентябре 1763 года с целью побудить правительство к организации большой полярной экспедиции Ломоносов представил в Морскую российских флотов комиссию «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».14 мая 1764 года экспедиция была разрешена и на нее были отпущены средства. Ломоносов принял деятельное участие в ее снаряжении новейшими приборами, составил подробную инструкцию для командиров, поставил научные задачи, связанные с изучением Полярного бассейна. Но экспедиция ушла в море уже после его смерти.
Ломоносов был подлинным преобразователем русской поэзии. «Петром Великим русской литературы» назвал его В. Г. Белинский. Для этого нужен был гигантский труд и талант Ломоносова. Потребовалось не только решительно порвать с прежней традицией стихосложения, обновить поэтический словарь и синтаксис, ввести новые значительные темы и т. д. Русская поэзия обрела неведомую ранее звучность и живописность. Это было новаторство необычайной силы.
Поэзия Ломоносова выросла на прочной народной основе. Необыкновенное чувство русского национального языка, во всех его оттенках, позволило ему расчистить и обновить пути русской поэзии и указать ей верное направление. Ломоносов был замечательным знатоком русского языка, он заботился о его чистоте, боролся против засорения его иностранными словами. В своей «Российской грамматике», первой научной грамматике русского языка, он впервые четко разграничил русский общенародный и старославянский языки. В «Риторике» он разработал вопросы стилистики, имевшие большое значение для развития русской поэзии.
Ломоносов написал несколько десятков похвальных и духовных од, стихотворения, а также прозаические произведения. Форму од он выбрал, ссылаясь на пример античной поэзии, и продолжал в своих «похвальных словах» традиции придворного панегирика[8] петровского времени. Но гений Ломоносова сумел вложить в оды страсть и пафос нового содержания: они полны праздничности, необыкновенной энергии, грандиозных образов и сравнений, четкого и выразительного ритма, движения, чувства природы, но в то же время и мотивов демократического протеста.
Открылась бездна, звезд полна; Звезда́м числа нет, бездне – дна. Никто не уповай вовеки На тщетну власть князей земных: Их те ж родили человеки, И нет спасения от них.Творчество Ломоносова отразило рост национального самосознания русского народа. Поэт воспитывал своей поэзией в русских людях чувство национальной гордости и патриотического долга. Его поэзия в итоге была обращена к народу и служила народу, отражая стремительное развитие могущественного русского национального государства, и как бы воплощала в себе бурную энергию и созидательную силу великого русского народа.
Ломоносов умер 4 (15) апреля 1765 года в Петербурге. Его смерть отозвалась глубокой скорбью по всей стране. Похороны состоялись 8 апреля 1765 года в Александро-Невской лавре при невиданном стечении народа.
Имя Ломоносова проникало в самые отдаленные уголки России, оно увлекало и звало за собой, окрыляло мечтой о науке выходцев из народа, поддерживало и ободряло их на тернистом пути к знанию и культуре.
Александр МорозовОт редакции
Эта книга о великом русском гении состоит из двух повестей: «Крестьянский сын Михайло Ломоносов» С. А. Андреева-Кривича и «Повесть о великом поморе» Н. А. Равича.
Русский советский литературовед Сергей Алексеевич Андреев-Кривич (1906–1973) родился в Пятигорске. После окончания школы он поступил на филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и окончил его в 1930 году. Уже в 1931 году он начал печататься. Много внимания в своем творчестве он уделял исследованиям о жизни и деятельности знаменитых людей России: М. Ю. Лермонтова, М. В. Ломоносова, А. И. Герцена.
Сергей Алексеевич прошел фронтовые дороги Великой Отечественной войны. После окончания войны выходят в свет его основные книги, посвященные творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Он выяснил исторические источники поэмы «Измаил-Бей», обнаружил новые данные о кабардино-черкесском фольклоре, отразившемся в творчестве Лермонтова. Этой теме писатель посвятил книгу «Нарты. Кабардинский эпос» (1957), в которой опубликовал произведения кабардинского народного творчества. В книге «Тарханская пора» (1963) он мастерски соединил подлинные рассказы о жизни поэта в Тарханах и научное исследование его творчества. Писатель впервые опубликовал в ней записанные им уцелевшие народные песни, бытовавшие на родине поэта. В книге «Всеведенье поэта» (1973) он закончил свои исследования и разыскания о М. Ю. Лермонтове.
Перу С. А. Андреева-Кривича принадлежат две повести о жизни и деятельности Михаила Васильевича Ломоносова: «Крестьянский сын Михайло Ломоносов» (1960) и «Может собственных Платонов…» (1968). Первая посвящена отрочеству Михайлы Ломоносова и периоду, когда он выбирал свой жизненный путь вопреки всем преградам. Писатель долго изучал крестьянскую жизнь поморского Севера, фольклор рыбаков, народные песни и сказания. Он привлек новые материалы и приоткрыл завесу над такими обстоятельствами биографии Ломоносова, которые долго оставались неясными. Сергей Алексеевич собрал все данные, что известны об этой поре жизни Ломоносова, и построил повесть на документальном материале. Вторая повесть рассказывает о тернистом пути гениального «архангельского мужика» и становлении и деятельности ученого.
«Повесть о великом поморе» принадлежит перу русского советского писателя Николая Александровича Равича (1899–1976). Он родился в Москве в семье врача. В молодости был участником Октябрьской революции и Гражданской войны; в 1921–1926 годах находился на дипломатической службе. В мемуарах «Молодость века. Война без фронта» (1960) писатель рассказал о событиях, свидетелем которых был в период Гражданской войны, о подпольной работе в Белоруссии, оккупированной Польшей, о службе в штабе Юго-Западного фронта, а также о работе в Афганистане и Турции в годы национально-освободительного движения в этих странах, когда по роду деятельности ему приходилось встречаться со многими выдающимися людьми.
Н. А. Равич начал печататься с 1926 года. Он автор многих пьес: «Шестая мира» (стихи А. Жарова; 1931), «Завтра» (1932), «Чай» (1933), «Ошибка профессора Воронова» (совм. С. Никифоровым; 1935), «Снег и кровь» («Машинист Ухтомский», 1934) и др., – а также киносценариев: «Торговцы славой» (1936), «Суворов» (совм. с Г. Гребневым; 1940). Роман «Две столицы» (1962) писатель посвятил А. Н. Радищеву и Екатерининской эпохе. Большое место в творчестве Равича занимают очерки о зарубежных странах: «По дорогам Востока» (1958), «Размышления в пути» (1961), «В новой Германии» (1961), «В центре Европы. Чехословацкие зарисовки» (1962), «Австрийская мозаика» (1964), «По дорогам Европы» (1964), «Из голландской тетради» (1965), «Румынская весна» (1967) и др. Некоторые произведения писателя переведены на иностранные языки.
Н. А. Равичу принадлежат также очерки в жанре литературного портрета известных людей его времени: А. Н. Толстого, М. Кольцова, А. В. Луначарского, А. М. Коллонтай, Ф. Э. Дзержинского и др. Он был также переводчиком книг с французского и польского языков.
«Повесть о великом поморе» написана в 1947 году. Автор рассказывает в ней о борьбе гениального русского ученого против засилья немецких ученых в Петербургской академии наук, за открытие университетов в России и доступ в них самых широких слоев народа, без различия сословий. И эта деятельность Ломоносова дала всходы: талантливые русские люди стали учеными – химиками, физиками, географами. При его поддержке появилась плеяда замечательных русских художников и скульпторов (многие из них были крепостными, и без помощи Ломоносова их талант пропал бы напрасно). Н. А. Равич дал очерк жизни и деятельности ученого в основном во время царствования Елизаветы Петровны и красочно описал деятелей ее эпохи и придворных.
С. А. Андреев-Кривич КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ
Великий характер, явление, делающее честь человеческой природе и русскому имени.
В. Г. Белинский о М. В. ЛомоносовеГлава первая КАПИТАН БРИГАНТИНЫ ОШИБСЯ
Ранней весной легли на курс от Ку́рострова поморские суда. Отчалив от крутого берега Куропо́лки, на котором стоит сбегающая избами к воде деревня Миша́нинская, пошел по Северной Двине на Архангельск и ломоносовский гуккор*[9] «Чайка», на Архангельск и дальше – к Белому морю и за Святой Нос, в океан. Новый мореходный год, 1728-й, начался.
Идет в плавание ломоносовский корабль. На курс легли рано, с зарей. Жесткие, набухшие влагой от проморосившего поутру дождя паруса выдались вперед крутыми полукружьями; подавшись на правый борт, гуккор роет носом волну, поднимается на встречный большой вал, оставляя за кормой пенную гряду.
Большая двинская вода спала, река посветлела и легла в берега. По заплескам* разбросан обломанный и обтертый льдом выкидной лес-плавун и спутавшиеся корнями лохматые пни-выворотни, обсохла нанесенная в половодье на кусты прибрежного тальника трава.
По левому борту осталась Курья, погост* и церковь. Идут двинские берега, то устланные у крутого ската дресвою*, то плавно врезающиеся в воду отмелями из тонкого наносного песка.
Вот уже в последний раз вспыхнул весенний солнечный свет по влажной гряде Палишинского ельника*. Речная излучина, поворот – и родной берег пропадает за густой порослью уже набравшегося листвой прибрежного ивняка. Река пестреет серыми тугими парусами.
Тихо на судах. Идут поморы* на нелегкий и опасный морской промысел. Как-то вернутся они домой? Ведь почти каждый год бывает, что, не встретив среди возвратившихся куростровцев мужа, или отца, или жениха, вскинет высоко руки и зарыдает жена, или дочь, или невеста…
Думается плывущим в море о своей жизни и судьбе. Но больше чем кто-либо другой думает об этом Михайло Ломоносов.
Уходя в плавание, Василий Дорофеевич Ломоносов, Михайлин отец, был особенно озабочен.
Михайле уже шестнадцать, семнадцать, и не в первый раз он идет с отцом в море. Шесть лет он помогает отцу на судне. И давно Василий Дорофеевич решил, что хороший у него помощник растет. Еще как в первый раз ходил Михайло на море на только что состроенном тогда гуккоре «Чайка», случилась за Святым Носом буря. Когда с севера краем стала заноситься в небо аспидная* океанская туча, вдруг налетел вихрь. Не все паруса успели снять, и в неубранный парус так ударило шквалом, что судно сразу же достало до воды бортом. Когда стали рвать парус, веревка застряла высоко на мачте. Никто не успел еще опомниться, а Михайло уже залез на мачту и срубил топором веревку. Парус упал. Гуккор зашатался с борта на борт, выровнялся, опасность миновала.
«Хорошо носишь свое имя, Ломоносов, – сказал ему в тот день отец, – хорошо. – И, осмотрев Михайлу с головы до ног, добавил: – Человеку на море первое испытание».
А когда Василий Ломоносов видел, как ловко Михайло справлялся и дома по хозяйству, и в поле, еще больше тогда он убеждался, что сын в делах ему – первый пособник.
Перед самым отплытием Василий Дорофеевич заперся с сыном наедине. Беседуя с ним, он сказал:
– Вот что, Михайло. Мы, Ломоносовы, вековечные здесь, в Двинской земле, на Курострове и в Мишанинской деревне, где и ты родился. Вон об Артемии Ломоносове, что при Грозном еще царе[10] жил, по старым памятям знают у нас. Ну а никогда в нашем ломоносовском роду того, чего достиг я, не бывало.
Хозяйство Василия Дорофеевича пошло от общего ломоносовского, во главе которого долгие годы стоял самый старший Ломоносов – Лука Леонтьевич. Но прошло время, и отделился Василий Дорофеевич. Размежевали они старинный ломоносовский надел пахотной земли, поставил Василий Ломоносов свой дом и стал сам по себе, своим разумением, счастья и прибытка искать. Минул недолгий срок – пошло его хозяйство в гору, состроил он себе новоманерный гуккор. Большое по здешним достаткам дело. Глядят, бывало, на ладное судно Василия Ломоносова куростровцы и похваливают: добрый, мол, корабль. А хозяин при этом довольно промолвит: «Помалу в труде достатка прибывает».
Вот стоит на идущем по Северной Двине гуккоре перед Михайлой Ломоносовым его отец – высокий, крепкорукий, смелый. Со всяким делом справится и не сдаст перед любой опасностью.
Однажды шли они по осеннему океану домой. К ночи упал резкий ветер, сразу заходила волна. Чуть ли не сутки носил и метал океан «Чайку», и все это время не отходил от румпеля отец, не пил, не ел и вывел-таки судно, спас и людей, и корабль от гибели. Хорошо запомнилось Михайле лицо отца в свете качающегося во все стороны корабельного фонаря, склоненное над компасом, мокрое от холодных водяных брызг, серое, каменное. Только тогда снял отец с румпеля* занемевшие руки, когда вогнал гуккор промеж двух узко сошедшихся скал, вогнал точно посредине, меж ходивших у их подножия бурунов, и ввел его в спокойную губу*.
Что же, жизнь у отца под рукой. Но только ли в отцовской жизни мера? Может, есть и еще какая другая жизнь? Бо́льшая?
Продолжая разговор с сыном в тот день перед отплытием, Василий Дорофеевич сказал ему еще:
– Ныне я, сам знаешь, при особом еще занятии. В «Кольском китоловстве»* состою и к Груманту* на китовый бой хожу. В прошлом годе, как там на корабле «Грото-Фишерей» был, на всякое довелось наглядеться. Не без опасности дело. В этом году туда же на китобое «Вальфиш» пойду. С кораблем всякое случается. «Грунланд-Фордер», к примеру, помнишь?
Про это все хорошо помнили. Несколько лет назад «Грунланд-Фордер», принадлежавший «Кольскому китоловству», разбился у Зимнего берега*. Все люди погибли.
– Ну и с гарпуном* около кита нелегко… – вздохнул Василий Дорофеевич. – По морскому делу и с жизнью и со смертью запросто. Ты же мне наследник. Ну, это так, про всякий случай. А вот что хочу тебе сказать: пора уже тебе к делу полностью поворачиваться, руки на него класть. Делу нашему, ломоносовскому, ход должен быть.
То, что происходит с Михайлой в последнее время, – это ничего. Так думалось отцу. С кем подобного не случалось? Мечтание… Вот эти новые его книги. Перегорит… Ведь от тринадцати лет до пятнадцати был Михайло в старой вере*, сам к ней пришел. Ну и ушел обратно. Перегорело. Голова-то у парня на плечах есть. Поймет он, что его, Василия Ломоносова, правда крепкая.
Отцовская правда – правда ли? В чем же его жизни быть? Есть о чем задуматься сейчас Михайле Ломоносову.
Идет на Архангельск гуккор «Чайка». Под всеми парусами вышел он на Северную Двину у Спасского погоста. Это приметное для поморов место.
Выше по течению Северная Двина разбилась на рукава-поло́и*, самые большие из которых Курополка, Быстрокурка, Богоявленка. Пройдя по полоям у намытых течением песчаных кос и поросших густым тальником отмелей, пробившись через угористые глинистые берега, здесь, у Спасского погоста, двинские воды снова собираются в одно русло. Вновь Северная Двина одним течением идет от берега до берега через матерую землю, и по всей речной ширине в ветровую погоду опять от края до края катится одна шумящая косая волна. Здесь начало большому плаванию.
Еще шесть лет назад Лука Леонтьевич Ломоносов, знаменитый беломорский кормщик*, дал Михайле подержать здесь руль корабля – окрестил его поморским крещением, самый старший Ломоносов самого младшего.
Вот уже с далеко видными старинными монастырскими церквями показалась за придвинскими лесами на высоком берегу Ля́вля. Завтра «Чайка» будет в Архангельске.
Свечерело. Некоторые суда отвернули к берегу на ночевку. Те, что продолжали еще идти в падающих сумерках, зажгли корабельные огни, вытянулись в одну линию и сторожко шли друг за другом. По ночной реке плыть под парусами непросто.
Прокладывает путь ломоносовский гуккор. Стоя у руля, ведет его всматривающийся в сгустившуюся над водой мглу Михайло Ломоносов, кормщик.
В Архангельске пробыли недолго. Взяв поручения на компанейском дворе «Кольского китоловства» к директору китоловства, бранденбургскому торговому иноземцу Соломону Вернизоберу, гуккор «Чайка» пошел на Колу.
Отчалив от Гостиного двора*, опять идет «Чайка» по Северной Двине. Подкатывает под нос корабля встречная невысокая волна, скрипят мачты, тихим шумом шумят паруса.
Отец подошел к стоявшему у борта Михайле.
– Сомневаешься? Отцовской правде не веришь? Так вот, когда срок подойдет, примешь, стало быть, мое, а там, давай Бог тебе удачи, и дальше пойдешь. Достатку-то и еще прибудет. На тебе, Михайле Ломоносове, наш старый ломоносовский род самой большой высоты и достигнет.
Отец говорил о таком, что должно было его, Михайлину, жизнь решить. Кем же ему, Михайле Ломоносову, быть?
Минуло два месяца.
Китобой «Вальфиш» делал последние приготовления перед отплытием из Кольского острога к Груманту, и вместе с кандалакшанином[11] Степаном Крыловым и иноземцем Аврамом Габриэльсом, которые также в этом году должны были участвовать в китовом бое, готовился к выходу в океан Василий Ломоносов. «Чайка» же шла к Курострову, спеша домой к сенокосу. Делу не должен быть ущерб, рассудил хозяйственный Василий Дорофеевич и, готовясь к уходу на китобойный промысел, распорядился, чтобы сын плыл домой и справлялся бы уже в сенокосную страду сам.
В эту пору из Голландии, Англии, Испании и других заморских стран сходились к Архангельску груженные товарами купеческие корабли. В большом караване, который вел под охраной военный многопушечный фрегат*, плыла к Архангельску и голландская двухмачтовая бригантина*.
Капитан бригантины в русский порт пришел впервые. Еще в Амстердаме много говорил он со своим старым другом, долго жившим в России. И сейчас, когда бригантина медленно подтягивалась к настланной от берега в Двину корабельной пристани, голландский капитан не отрываясь смотрел в подзорную трубу на открывавшуюся его взору русскую землю.
Ему вспоминалось то, что говорил его амстердамский друг. И так же как и тогда, он отрицательно покачивал головой и повторял ту же фразу: «Piter. Kaptein Piter»[12]. Так он отвечал в Амстердаме старому приятелю, рассказывавшему ему о России.
Все сделал Петр. Один. Но он умер. Об этом говорил капитан. И что? Россия победила Швецию? Полтава?* Гангут?* Да! Но победа в войне – не полная победа. Она иногда может быть даже обманчивой. Даже вредной. Народ должен уметь победить в труде. Вот настоящая победа! Созидание. А для этого нужны науки. Есть они в России? Только тот народ достоин будущего, который способен рождать собственных Платонов, Ньютонов. Да и есть ли у Петра преемник?
И недоверчивый капитан качал головой.
Нет…
Все это и вспоминается ему сейчас. Он медленно обводит подзорной трубой все протяжение берега и снова качает головой. На его лице надменная усмешка.
Нет…
Капитан поворачивается к реке. Первый, второй, третий парус прошли в кругу подзорной трубы. Ненадолго взгляд капитана бригантины задерживается на двухмачтовом судне, ловко сделавшем сложный маневр. Но уже через мгновение взор его безразлично скользнул по фигуре стоявшего у руля молодого кормщика, даже не остановившись на выведенном по борту названии «Чайка». И снова немало на своем веку повидавший голландский капитан отрицательно покачал головой.
Нет…
Глава вторая ОБОЖЖЕШЬСЯ – ТОЖЕ УЧЕНИЕ
Пройдя полосу до того места, где луг упирался в частый низкий кустарник, Михайло поднял косу, отер ее пучком срезанного осота, положил на плечо и пошел по скошенному полю вниз, к дороге.
Над лугом стоял запах только что упавшей под косой росистой мягкой травы. Открывшаяся земля сильнее отдавала сыростью. От корней тянуло застоявшейся прелью и сладким духом почвенных соков. Поднявшееся уже высоко июльское солнце провяливало длинные ряды травы, которыми вплоть до леса был уложен луг.
Время близилось к полудню, надо было кончать на сегодня сенокос. Роса с травы уже сходила.
Дойдя до ветвистой ветлы, которая стояла у самой дороги, Михайло присел отдохнуть, выпил квасу из глиняного запотевшего кувшинчика, вытер губы рукавом холщовой рубахи, смахнул соленый пот, который каплями струился по лбу и ел глаза, и устало и сладко потянулся.
На соседней пожне*, не замечая, что Михайло уже кончил работу, широко махал косой деревенский сосед Ломоносовых, Шубный.
– Эй, эй! Иван Афанасьевич! Кончать пора!
Когда Шубный и Михайло уже вышли на дорогу, которая изгибом подходила почти к самой ломоносовской усадьбе, из-за поворота навстречу им показался одетый в заплатанную рубаху старик. За спиной на двух веревках у него болтался заплечный мешок. Старик шел тяжело, опираясь на посох. Михайло и Шубный не сразу его узнали.
– Э-э, Михайло! – приветливо сказал старик.
– Дядя Егор…
– Чай, не признал?
– Да малость ты…
– Верно, верно. Полтора года странствую. И в стужу, и в мокрядь. Не красит, не красит… Ох, нет! В скитах был, в скитах*. Спасался. От мерзости. Отдохну теперь – опять пойду. В Выговскую пустынь* пробираться буду. Там, у Денисовых, древлее благочестие[13] блюдется. Пойдешь со мной?
– Зачем Михайле в Выговскую пустынь? – спросил Шубный.
Старик только хмуро поглядел на него, не удостоил ответом и продолжал:
– Был я в Пустозерске, где протопоп Аввакум* жил и в огне преставился, не желая принять никонианскую ересь. Мученическую смерть прияв, во блаженстве теперь обретается. Вот щепу от ограды дома, в котором Аввакума сожгли, несу.
Он снял заплечный мешок, достал из него кусок дерева и бережно протянул Михайле щепу.
Что бы сделал сам Егор при таком случае? Осенил бы себя крестным знамением. А не то припал устами. Может быть, след руки великого страстотерпца запечатлен на этой щепе!
Михайло не двигался.
– Давненько ты, дед, здесь не бывал, давненько… – сказал Шубный. – Михайло уж когда раскол оставил.
Дед недоуменно поглядел на Михайлу. Потом раскрыл мешок, чтобы положить туда щепу.
– Э-хе-хе-хе! Стало быть, Михайло, ты вроде той маха́вки*, что по ветру то туда, то сюда поворачивается? Выгоды, что ль, больше у никониан? Это ты тогда рассудил правильно. У нас-то, кто древлего благочестия держится, кроме страдания, ничего…
– Страдание вели́ко правдой…
Дед посмотрел на щепу. Что это – не кровь ли святого страдальца выступила на ней? Вот и лйца Михайлы и Шубного поплыли в сторону в красном тумане, расплываются… Будто смеются Михайло и Шубный… Смеются?
Ни тот ни другой не смеялись.
Страшный крик вырвался из груди деда.
– А-а-а! Кощунствуешь? Нет правды в древлем благочестии?
Дед высоко занес посох и изо всей силы опустил его на Михайлу. Но Шубный успел схватить старика за руку, удар не пришелся в голову, и палка, лишь скользнув по руке, с силой ударилась о землю и отлетела в сторону. Михайло стоял бледный, но спокойный, не двинувшись с места.
Рубаха Шубного распахнулась, и из-под нее выбился нательный крест.
Сумасшедшими глазами дед смотрел на серебряный крест – четырехконечный, никонианский!
– Крыж! Крыж! Латинский!
Ведь святой крест только об осьми концах! А это – крыж! Так называют крест поляки – католики! Этот четвероконечный крест чтут и никониане, ругающиеся над истинной верой!
– Никонианы! На лбу кле́йма! Огненные! Вот! Вот! Горят!
Дед отшатнулся. На лице его изобразился ужас, он весь затрясся.
– Меченые! Меченые!
Несколько мгновений все трое стояли неподвижно. Наконец дед рванулся вперед, к Шубному, чтобы сорвать с его груди четырехконечный латинский крест, сорвать и истоптать ногами, вколотить в дорожную пыль! Но нога его попала в глубокую колею, он покачнулся, не устоял и со всего размаха упал на землю. Михайло бросился поднимать деда, но тот лежал не двигаясь, закрыв голову руками.
Шубный тихо тронул Михайлу за плечо:
– Пойдем…
Как Михайло ушел в раскол?
И на Курострове, и в Холмогорах было много старообрядцев – и явных, и тайных. В 1664 году, направляясь в далекую ссылку, более трех месяцев прожил в Холмогорах сам глава раскола, неистовый протопоп Аввакум.
По всему Северу шла яростная пря[14] о старой и новой вере*.
В зимний день Михайло возвращался из Холмогор. По верхней куростровской дороге он подъезжал к своей деревне. В Екатерининской церкви только что отошла обедня, и под колокольный звон прихожане выходили за церковную ограду.
Лошадь бежала рысью. Крепко упершись ногами в устланное соломой дно саней, Михайло во весь рост стоял в розвальнях*.
Собравшуюся у ворот толпу он увидел издали.
Толпа обступила что-то возбужденно говорившего старика. Михайло узнал деда Егора. Тот «обличал»… «Никониане» улыбались, раздавался смех, деда стали теснить к ограде, понемногу поталкивать. Но смеялись далеко не все. У некоторых загорался злой огонь в глазах. Вот уж к деду потянулись руки.
Когда Михайло подъехал вплотную, дед уже стоял прижатый к ограде. Высоко подняв руки для защиты, он продолжал выкрикивать обличения. Михайло подоспел вовремя.
Он ударил кнутом лошадь, и она пошла грудью на людей. Толпа раздалась. Соскочив с саней, в большом овчинном тулупе, не выпустив из рук кнута, он прошел через толпу. Когда Михайло, посадив в сани старика, тронул лошадь, никто еще не успел опомниться. Михайле было в то время около 14 лет, но у него были уже широкие плечи и не по годам он выдался ростом. И все хорошо знали нешуточный нрав молодого Ломоносова.
Михайло отвез старика домой и в следующие дни несколько раз к нему заходил.
Дед был старообрядцем-беспоповцем. Беспоповцы не признавали не только попов, но и вообще церковь.
Старик хорошо помнил самого Аввакума. Многие годы просидев в срубе, в пустозерской земляной тюрьме, протопоп 14 апреля 1682 года был вместе с попом Лазарем, иноком Епифанием и дьяконом Федором сожжен «за великие на царский дом хулы».
Рассказывая как-то Михайле об Аввакуме, о том, как люто боролся он против патриарха Никона, который ввел в богослужение неслыханные новшества: отрекся от двуперстного крестного знамения, заставил креститься тремя перстами и молиться по кощунственно исправленным книгам, – старик обмолвился теми словами, которые произвели глубокое впечатление на молодого Ломоносова: «Не думай, Михайло, будто только тем и живо проповеданное Аввакумом истинное благочестие, что супротив отступника Никона он поднялся. Нет. Супротив тех, кто неправо над народом властвует, Аввакумова проповедь воздвигнута. Походил я по Руси. Случилось мне. Народу-то не везде легко-весело. А проще сказать: тяжко. Так-то».
Задумчивый шел Михайло в тот день домой. «А может, и в самом деле, – думал он, – в старой вере та правда, которая и для народа, и для каждого человека все решит?»
И Михайло Ломоносов стал ходить к раскольникам в их часовню, слушать надрывные и страстные раскольничьи беседы.
Темны были эти беседы… И того, что хотел узнать Михайло, испытующий правду старой веры, он так и не узнал.
«Да теми ли руками беду народную разводить? – думалось ему. – Старая ли вера своей правдой всю неправду на земле истребит?»
Он еще усерднее стал читать книги, которые с трепетом раскрывали искавшие истины неистовые Аввакумовы ученики.
И одну за другой, ничего не решив, закрывал Ломоносов тяжелые крышки этих больших книг.
В ту пору все более громкой становилась слава о Никольской пустыни*.
За лесами, в еловой чаще, на отшибе, отдалясь от сел и деревень, стал огородившийся частоколом скит, в котором учил справедливости умудренный в жизни и в старой вере старец Исаакий.
Туда-то и отправился Михайло Ломоносов.
После первых же Михайлиных слов, даже не дослушав до конца, старец сказал:
– Ты веры ищешь гордыней. Хочешь ее постигнуть сначала разумом. И ежели разум к ней приведет, тогда к подлинной вере и полагаешь обратиться. А веры искать надо смирением, не мудрствуя лукаво. – Старец усмехнулся: – Вдруг разумом веры-то не найдешь? А? Может, у разума и силы такой нету, и зрения такого? Бог дал человеку разум, но не дерзновение. И пойми ты, умная голова, что человеку прежде всего нужно. Что? Утешение ему нужно. Страдания человеку много. Утешение же в вере. Побудь у нас, однако. Приглядись. Искатель, видно, ты.
В Никольской пустыни в хорошо срубленных и толково поставленных кельях* в ту пору жило уже около восьмидесяти человек – мужчины, женщины, дети. Большей частью это был бедный люд. Здесь они были сыты, обуты, одеты.
Находясь в пустыни, Михайло встречал спокойные взоры людей, которые жили, не боясь завтрашнего дня. И разные мысли стали приходить в голову Михайле Ломоносову.
И вот наступил тот день…
Уже когда упали сумерки, в огороженный высоким частоколом двор Никольской пустыни с быстрого хода ворвался конный гонец. Сорвавшись с тяжело водившего боками взмыленного коня, гонец без промедления и доклада бросился прямо в келью к Исаакию. Выслушав прискакавшего из деревни Гаврилихи, что была в 15 верстах* от скита, Исаакий поспешно отправился к Максиму Нечаеву, также пустынножителю, богатому мужику из той же Гаврилихи, снабжавшему пустынь за свой счет хлебом и другими припасами.
Встревоженные скитники с беспокойством поглядывали на келью, в которой совещались Исаакий и Максим.
К Никольской пустыни подступал большой воинский отряд.
На раскольничий скит уже давно косился шенкурский воевода Михаил Иванович Чернявский. И когда до него дошла весть, что из деревни Гаврилихи в Никольскую пустынь ушло еще несколько семей, он решил не откладывать более дела.
Снарядив воинскую команду, Чернявский отправился в путь.
По путаным лесным тропам, взяв в Гаврилихе понятых, шенкурский воевода ранним утром подступал к тревожно насторожившейся пустыни.
Исаакий и Максим, посовещавшись между собой вчера, уже все решили. И потому безо всякого ответа отдали обратно посланцу Чернявского письмо, в котором воевода требовал сдачи всех раскольников.
Солдаты обложили пустынь.
Вновь Чернявский потребовал сдачи. Ответом ему было только молитвенное пение собравшихся в часовне пустынножителей.
Исаакий и Максим приступили к совершению страшного обряда.
Раскольники стояли безмолвно на коленях, рядами, в белых чистых рубахах. Оба учителя прошли между ними и наложили на каждого, не обойдя ни одного человека, ни взрослого, ни малолетнего, бумажные венцы, на которых красными чернилами был обозначен праведный восьмиконечный крест.
Проходя по рядам и благословляя ставших на свою последнюю молитву, Исаакий и Максим повторяли:
– Мы за старую веру в часовне сгорим все, и в сих венцах станем все пред Христом.
– Сгорим все до единого человека! – неслось под своды часовни.
Берёста, сухая солома и черное горючее смолье были заранее подложены снизу под всю часовню. И как только Максим Нечаев, выйдя из двери наружу, бросил под часовню пылающий факел, все вспыхнуло в одно мгновение.
Поспешно вернувшись в часовню, Нечаев крепко изнутри закрыл ее замком, чтобы не было греха тем, кто вдруг усомнится в огненном крещении. Наружу были выставлены только четыре человека, которые должны были оборонять дверь от солдат, стреляя в них из ружей.
Именно выстрелы и услышал Михайло, когда быстро шел по дороге к пустыни.
Еще вчера вечером Исаакий сказал Михайле:
– Чуть рассвенёт, уходи отсюда, иди домой. Учению твоему у нас конец. Иди и думай. Покуда еще не вполне наш. И к тому, что случится, пока еще не готов ты. А это требует всей души.
О чем темно и намеком говорил Исаакий? Трудно было понять. Но, слушаясь приказания, Михайло ушел.
Пройдя коротким путем к Гаврилихе, откуда лежала дальнейшая дорога, Михайло узнал о том, что к Никольской пустыни направилась воинская команда. Как можно быстро он и пошел обратно.
Пламя гудело вокруг всей часовни, выплескивалось выше креста жирными багровыми взмахами, когда Михайло оказался у частокола.
Около двери уже никого не было. Пытавшиеся ее выломать солдаты толпились в стороне, обивая руками тлевшую одежду и протирая изъеденные дымом глаза.
Михайло взбежал по ступеням, схватил лежавшее подле убитого выстрелами раскольника ружье и стал прикладом бить в окованную железом дверь.
Удар, еще один удар, третий…
И не выдержавший страшных ударов приклад далеко отлетел в сторону. В руках у Михайлы остался ружейный ствол.
Закрывая рукавами глаза, он бросился вниз по ступеням.
Особенно надрывно кричала девочка. Ей было всего лет семь-восемь. Она мало еще что понимала и любила слушать сказки, которые рассказывала ей мать. Это ее голос. Вот он совсем ослабел…
Сбоку у разбитого окна суетятся солдаты. Им удалось вытащить из огня какую-то кричащую старуху.
Уже близко около часовни стоять невозможно. Цепь солдат раздается.
Слышны еще стоны и крики. Но кто-то громким, задыхающимся голосом читает молитвы.
Очнувшаяся старуха безумным взглядом поглядела на Михайлу и назвала его по имени.
Двое солдат подступили к нему и схватили за руки. Но Михайло так швырнул их, что они разлетелись далеко в стороны. Никем больше не удержанный, Михайло пошел прочь по лесной тропе.
С пригорка хорошо был виден скит. Остановившись на возвышении, Михайло смотрел на пожарище – вплоть до того мгновения, когда рухнувшая крыша бросила высоко над елями багровый вихрь огненных искр.
Сколько же их, крещенных огнем, осталось под сводами часовни – стариков, молодых, детей, мужчин, женщин? Больше семидесяти… В живых остались только трое из оборонявших дверь от солдат да старуха Анна Герасимова.
«И это всё, это всё? – думал Михайло, пробираясь тайными лесными тропами к себе домой. – Вот это и есть самая высокая правда, которой достигает Аввакумово учение?»
Ему припомнилось то, что услышал он в тот вечер.
«Враги же сами и помогут нам, – говорил Исаакий Максиму Нечаеву. – Труден тот подвиг, но, однако, Господу любезен. Блажен час сей, когда человек сам себя своей волей сожжет».
Михайло тогда не понял этих слов. Теперь он их понимает.
«Это и есть самое высокое утешение человеку на земле?» – без конца повторяет он, думая о том, что привелось ему повидать.
Прошло несколько месяцев, прежде чем отец однажды тихо сказал Михайле:
– Вот что. Не только что прямым учением человек учится. Обожжешься – тоже учение.
Глава третья ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ ЛОМОНОСОВА
Расставшись с Шубным, Михайло через боковой вход вошел на обнесенную изгородью усадьбу.
Он прошел мимо вырытого посреди двора небольшого прямоугольного пруда и направился к сараю.
Надо было отбить косу к завтрашнему дню. Он и принялся за дело. Но скоро дробный стук молотка об отбиваемую косу прекратился. Отложив в сторону косу, Михайло задумался.
Настланные по торфянику мостки заскрипели под быстрыми женскими шагами.
– Все думаешь? – спросила мачеха, подходя к пасынку.
– Все думаю.
– Ну и до чего-либо уже додумался?
– Покуда не до всего.
– И ума палата, а все еще не удумаешь?
– Случается.
– Дед-то Егор чуть было не убил тебя? Рассказали уж мне. Вот и пришла тебя проведать. Что, думаю, с сыном?
– Спасибо, матушка. Знаю: всегда добра мне желаешь.
Мачеха метнула на него косой, недобрый взгляд.
Первая жена Василия Дорофеевича Ломоносова, мать Михайлы, умерла уже давно. Недолог был и второй брак: умерла и вторая жена. И теперь Василий Дорофеевич был уже в третьем браке. Ирина Семеновна, вторая мачеха Михайлы, женщина недобрая и гневная, не любила пасынка. А как пришел этим летом Михайло с моря на сенокос, вроде как уж хозяином и распорядителем, мачеха и особенно стала злобиться.
В самом деле, случись что с мужем – все достояние к Михайле перейдет. Он – хозяин, она – горькая вдова.
– Прежде чем сюда прийти, в твою светлицу заходила я, в ту, где думы свои великие думаешь да книги читаешь свои новые. Не там ли ты? Нету. Гляжу – и книг нету. Не в сундук ли ты кованый, что в углу там стоит, их спрятал да замок пудовый навесил? К чему бы их под замок?
– Про всякий случай. Думаю: никого вдруг дома, а тут – лихой человек?
– Лихой человек разве на книги твои позарится? Золото, что ль?
– Не золото, а все цена им есть. Уследит – все ушли, даже и ты, матушка, некому постеречь, ну и… – Михайло развел руками.
Ирина Семеновна не спешила, обдумывая ответ на Михайлину насмешку. Значит, он узнал о тех словах, которые она на днях сказала своей подруге, – что, в случае чего, она просто возьмет да и сожжет эти дьяволовы книги. Ведь к чему они? А к тому, что, научившись по ним, Михайло еще крепче за отцовское дело сумеет взяться.
– Смотри, Михайло, на смех не всегда ответом смех бывает.
– Уж кто как может…
– Узнал, стало быть. Что ж, это ты правильно: с наушниками да соглядатаями оно способнее. Так всегда и поступай. – И Ирина Семеновна пошла прочь.
«Темная страсть в мачехе дела себе ищет – и в чем-то найдет?..» – вздохнув, подумал Михайло.
Когда уже наступили поздние июльские сумерки, Михайло достал из кованного железом и закрытого на крепкий замок сундучка книгу и зажег свечи.
Он раскрыл ее на той странице, где были напечатаны слова, над которыми он так часто задумывался.
«И от твари творец познаваем», – прочитал он будто и незаметно между другими втеснившиеся в ровную строку слова. Они были помещены в самом конце предисловия, в котором объяснялось, для чего книга назначена. Теперь он их хорошо понимает. Но не так-то легко это далось.
Эту книгу, что сейчас лежит перед ним, ему дал почитать Василий Христофорович Дудин в начале прошлого года, после того, как порвал Михайло с раскольниками.
Вслед отцу и деду, известным холмогорским книжникам, таким же книжным человеком стал и Дудин. К нему-то, в недалеко от Мишанинской стоявшую Луховскую деревню, и зашел однажды Михайло уже после того, что он увидел в Никольской пустыни. В те дни он подолгу одиноко бродил по Курострову.
«Зайду к Дудиным, потолкую с Василием Христофоровичем, умный он, книги читает», – подумал Михайло, оказавшись однажды в зимний день на околице Луховской.
Когда Михайло стал рассказывать Дудину, почему он ушел от тех, кто держался старой веры, и сожалеть, что вот он прочитал много книг, а никакого ответа на то, что его так занимало, он так и не узнал, Василий Христофорович молча встал, подошел к полке, на которой плотным рядом стояли собранные дедом и отцом книги. Он выбрал из них две, одну тяжелую и большую, другую маленькую, крепко сжатую переплетом.
Передавая книги Михайле, Дудин сказал:
– Почитай-ка еще, особенно вот эту. – И он указал на большую книгу, стянутую медными застежками.
Что же это за книга, вот эта большая, и почему она так не нравилась раскольникам?
Когда Михайло уже оставил старую веру, он, случалось, при встрече с каким-либо раскольником вступал с ним в прения.
Однажды при таком случае он сказал своему собеседнику, седому старику:
– Вот в тех книгах, которые я когда-то читал, веру и Божественное деяние все страхом обороняют. Разве большая вера чего бояться должна? Все говорится: не смей постигнуть того, что постигнуть тебе не дано, не тщись*. Верь и не рассуждай. Страхом всё. А разве на страх так уж всегда уповать можно? Полная ли в нем истина?
– Так ли уж плох страх? Он, Михайло, часто человеку ко спасению. Вот возьми: случится тебе, к примеру, опасность, от которой и жизни решишься, а страх возьмет да и подскажет: берегись. Ты и остережешься. И спасен.
– Да ведь в таком разе не страх нужен, а разум.
– Это как когда. И разума твоего не на всех станет. Страх-то попроще и покрепче.
– И так ли уж никогда и не обманывает?
Раскольник подозрительно посмотрел на Михайлу:
– Это ты о чем же? А? Ой, смотри, Михайло! Беседуем мы сейчас промеж себя, а при ком другом подобное что не говори. Ни при наших, ни при никонианах. По головке никто за такое не погладит.
– Да ведь я только спрашиваю.
– Покуда спрашиваешь… – покосился на Михайлу раскольник.
И вот опять листал Михайло свою книгу. Зорко вглядывался он в напечатанные двумя красками – черной и красной – большие ее страницы, испещренные цифрами, столбцами, исчерченные фигурами, пересеченные секущими линиями.
Где же в человеческом понимании тот предел, за который разуму переступать нельзя и грешно? Что должен оборонять страх? И истине ли разума бояться? Кому от этого польза? Где же в знании начинается грех?
Вот эти слова: «И от твари творец познаваем».
И вдруг Михайле припомнились другие слова, сказанные ему еще дедом Егором: «Творец тебе во всем является: и человек, и зверь, и птица, и коловращение времен, и всё, что вокруг тебя, – всё дело рук Творца, во всем Он. И все им направлено к одной цели. Ты же то грешным разумом постигнуть не дерзай».
«Ну а тут, в книге, что говорится? – подумал тогда Михайло. – А тут говорится как раз противное тому. Все, что вокруг тебя, весь мир человек познавать может. Нет запрета! Наука не грех!»
Рассказывая после этого как-то о новой книге Семену Никитичу Сабельникову, дьячку местной церкви, у которого еще грамоте учился, Михайло сказал:
– В той книге все числом пройдено. И твердь небесная, и земля, и воды – все в числе находится. На первое место оно поставлено. А число и мера к человеческому делу в ней прикладываются. Ведь нужны и час, месяц, год, и вес, и длина пути, и счет дней жизни. И работа тоже мерой меряется. Никуда от счисления не уйдешь. Оно все проймет. Через него весь мир узнаешь. И через число он в твоих руках окажется.
– Навострился ты по своей новой книге, – вдруг раздался в полутемной трапезной* голос отца Василия, священника Екатерининской церкви, которого в сумерках ни Михайло, ни Сабельников не заметили. – Навострился. Только смотри, как бы твое число против Бога не стало.
– Оно не против Бога, а за жизнь человеческую. А хорошо человеку жить на земле – разве против Бога?
– Ну, ты не мудри, – ответил отец Василий. – А то мудрость еще заведет тебя куда не следует. Настоящая жизнь человеку на Небеси. Здесь же – юдоль*.
– А почему же страдание человеку в земной жизни настоящее, а настоящего блаженства, щедрот человек должен ждать в другой жизни?
– А ты думаешь, что страдание здесь настоящее? Вспомни-ка ад. В него и попасть нетрудно…
– Можно вспомнить и рай. В него попасть нелегко.
– Смотри, Михайло… – недобро покачал головой отец Василий.
«Страхом всё, страхом, – думал тогда после разговора Михайло. – И кто старой веры держится, и кто новой – всё одно. Разницы тут между ними никакой. Все считают, что разум против веры встанет. Разуму же должен быть широкий путь. А к делу он быстрее и лучше пройдет через науки».
Недолгая июльская ночь уже кончалась. Скоро по заре и на сенокос идти, а Михайло все сидит за книгами.
Склонясь к грифельной доске, он делает вычисления и чертит с особенным усердием.
Закрывая книгу, он еще раз пробегает стоящую на заглавном листе широко разогнанную надпись из больших красных букв: «Арифметика». Взглянув вниз, он читает отбитую двумя линейками строку: «Сочинися сия книга чрез труды Леонтия Магницкого».
Тугими медными застежками он крепко стягивает переплет этой большой книги, которая называлась «Арифметикой», но заключала в себе сведения и по алгебре, геометрии, тригонометрии, астрономии и многое другое.
Потом Михайло Ломоносов перелистывает маленькие, упругие, сухо потрескивающие страницы другой книги, тесно забитые мелкой четкой печатью.
Закрыв эту книгу, «Грамматику словенския правильное синтагма» Мелетия Смотрицкого, полученную им от Дудина одновременно с книгой Магницкого, Михайло любовно проводит рукой по ее корешку, где через желтую кожу выдались три шнура, на которых были крепко сшиты листы книги.
Когда Михайло Ломоносов закрывал «Арифметику», перед его глазами мелькнула фраза: «Потребно есть науки стяжати…»
Потребно? Кому? Может быть, вот и ему отдать себя этому? Ведь есть же такие люди – ученые… Может, ему по книгам и идти?
Эта мысль возникла как-то просто, сама собой и будто даже не остановила на себе внимания. Но, улегшись в постель, он все не мог уснуть, и, когда пришли его будить, чтобы отправляться на сенокос, он еще не смыкал глаз. Он догадывался, что понял чрезвычайно для себя важное, но того, что он сделал первое свое великое открытие, Михайло Ломоносов еще не понял.
Глава четвертая ЧЕРЕЗ ГОРДОСТЬ СВОЮ ПЕРЕСТУПИТЬ НЕЛЕГКО
«Арифметика» лежала на перевернутой вверх дном бочке. Михайло сидел подле на толстом обрубке дерева.
В сарае пахло смоленым корабельным канатом и тянуло промысловым поморским духом – смесью запахов рыбного соления и копчения, прожированных бахил*, снастей, пропахших водорослями и горькой солью. Читая, Михайло слегка покачивался – запоминал.
Кто-то сзади кашлянул.
Михайло быстро обернулся и поспешно встал. Перед ним стояла мачеха. Погрузившись в чтение, он не заметил, как она вошла.
Ирина Семеновна прикрыла глаза веками, едва заметно, в угол рта, дернулись губы. Но спокойствия своего мачеха явно не хотела нарушать. Совсем спокойно она сказала Михайле, направляясь в угол сарая:
– А ты не пужайся, Михайло, не пужайся. Вон бочку свою чуть было не свалил. Не на воровстве, чай, застигнут. Дело благое: света-учености ищешь. Не пужайся…
– Да уж как не испужаться! Шутка ли?..
Темный огонь так и полыхнул в недобрых глазах Ирины Семеновны. Однако она сдержалась.
Мачеха села на бухту корабельного каната. Михайло стоял.
– Сядь!
Он сел. Оба молчали. В сарай вошел петух и привел кур. Увидев людей, он зло порыл землю и далеко отбросил ее когтями. Затем он нацелился одним глазом – для верности – поочередно на Михайлу и мачеху, нахально заворчал и вдруг, далеко выбросив голову, так пронзительно кукарекнул, что перепуганные куры даже упали от страха. Став на одну ногу, петух поднял хвост торчком и застыл как каменный. Тогда куры закрыли глаза и присели в пыль на мягкие грудки.
Ирина Семеновна кивком показала на раскрытую «Арифметику»:
– Даже в сарае ты предаешься, вникаешь. Приворот в науке есть, сила великая. Зашла я к тебе – тебя нет. И сундук не заперт. Открыла – книг в нем и нету. Ай жалость! Давно уж хотела в руках их подержать. Думала, может, пойму, чем они берут.
– А тут ты, матушка, как случилась? Ведь сарай-то этот от нас две версты без малого. Гулять, видно, шла, ну и зашла? Проведать?
– Проведать. Отец в море, ты – один.
– И как ты сразу нашла? Ведь никому не сказывал.
– Свет не без добрых людей. Сказали, что ты к Петюшке, своему другу сердешному, в их сарай повадился.
– Да. Вольготно тут. В стороне. Никто не мешает. И книги свои я теперь тут храню. – Михайло указал на стоявший в углу крепкий ларь с большим железным засовом. – Понимаешь, матушка, кто-то заходил к нашему кузнецу да просил сделать ключ – как раз такой, как у замка, что дома у меня на сундучке. Кто бы это мог быть? А?
Игра сразу кончилась. Злой дурман ударил Ирине Семеновне в голову. Когда она шла сюда, то еще не совсем понимала, что, собственно, будет делать. Но теперь она решилась.
Мачеха поднялась в рост, мгновенно выпрямилась. Яркий красный платок сорвался с головы на плечи, открыл лицо этой еще не старой, высокой, красивой и сильной женщины.
– А-а-а! Ты что же, не пужаешься? Больно смел? Бесстрашный? – Она яростно двинулась вперед, отбрасывая в стороны душивший ее платок. – А я тебе говорю: при тебе возьму! Понял?
Глаза у Михайлы сделались узкими. Он бешено заскрипел зубами и преградил мачехе дорогу.
На яростном лице Ирины Семеновны изобразилось презрение, и она рукой отстранила пасынка.
Михайло схватил мачеху за запястье.
Ирина Семеновна отдернула руку, отступила назад.
– Ты, ты!.. Что? На мать руку поднял? – Она задыхалась. – А-а-а! Вон что!.. Да пусть тебе и роду… который от тебя пойдет… пусть… ух… пусть до скончания времен…
Но проклятие не успело сорваться с мачехиных уст.
Из угла сарая, из стойла, уже давно смотрел на ярко-красный платок стоялый холмогорский бык. Когда же Ирина Семеновна двинулась вперед и ее платок пламенем взвился вверх, бык бешено надавил на дверь стойла, щеколда не выдержала, сорвалась, дверь распахнулась – и бык выскочил.
В то же мгновение еще новая беда приключилась.
Открывшаяся наотмашь дверь ударила изо всей силы петуха. Сумасшедший кочет гаркнул, от испуга сиганул под потолок, ударился о балку, тут он еще больше обезумел, еще раз по-сумасшедшему гаркнул и полетел к выходу. Куры издали оглушительный вопль, разом снялись с места и взвились за петухом.
Михайло невольно повернулся и все увидел. Бык быстро шел прямо на мачеху, нагнув могучую шею, по которой ходили желваки.
Бык шел на Ирину Семеновну со спины, она ничего не видела. И поняла она все только тогда, когда Михайло, успевший схватить обрубок дерева, служивший ему сиденьем, нанес быку по рогам удар. В это мгновение она обернулась, следя за Михайлой глазами. Если бы он не успел ударить быка, тот попал бы мачехе рогами прямо в живот. Опешившему быку Михайло быстро набросил на глаза лежавший рядом армяк* и налег на него изо всех сил плечом, стараясь сдвинуть с места и втолкнуть в стойло. Бык бешено замотал головой, стремясь освободиться от накинутого на голову армяка.
– Уходи, уходи, матушка!.. – закричал Михайло.
Ирина Семеновна стояла белая как полотно, но с места не сдвинулась.
– Уходи!.. Вырвется!..
Мачеха словно окаменела.
Тогда Михайло так налег на быка, что тот все-таки подался назад. Затем Михайло закричал на него. Бык взвыл зло, а потом задом попятился в стойло. Схватив веревку, Михайло стал завязывать захлопнутую им дверь. Мачеха стояла не двигаясь.
На бочке лежала раскрытая книга. Михайло был в стороне. Ирина Семеновна посмотрела на книгу, потом перевела глаза на Михайлу. Книгу она не тронула. Вдруг ее посеревшие губы искривились.
– Изрядно, Михайло, изрядно! Ты за один раз спас и душу свою – от проклятия, и тело свое – от погубления. На себя опасность принял. На роду, видать, у тебя удача. – Мачеха кивком указала на книгу: – Твое, Михайло, твое. Заслужил. Высотой духа христианского. Боле не притронусь.
Она повернулась и не торопясь вышла из сарая.
Михайло стоял у входа в сарай и смотрел вслед мачехе. «Через гордость свою переступить не смогла», – подумалось ему. Он усмехнулся.
Глава пятая ЧТО ЗАДУМАЛИ УЧИТЕЛЯ МИХАЙЛЫ
Иван Афанасьевич Шубный отправился к Сабельникову.
– Семену Никитичу…
Сабельников стоял у верстака и строгал доску. Ответив на приветствие Шубного, он отложил рубанок в сторону и, пригласив гостя сесть на сложенные у стены сарая бревна, сам сел с ним рядом.
– Покалякать с тобой, Семен Никитич. Дельце есть.
– Ну что ж…
– Вот о чем тебя спросить хочу. Как Михайло из раскола вернулся, тебе в церкви пособлял читать псалмы* и каноны* и жития святых, в Прологах* напечатанные.
– Как своему лучшему ученику, я ему и давал читать.
– Что-то давненько не слыхал я Михайлы в церкви.
– Стало быть, не усерден ты стал в посещении храма Божьего, Иван Афанасьевич. Редко бываешь…
Под густыми усами Шубного проскользнула еле заметная усмешка.
– Может, и так… Однако давай-ка, Семен Никитич, говорить напрямки. Блуждает парень и может так сорваться, что и костей не соберет.
– Может.
– Так вот про что я хотел тебе рассказать. Был я третьёводни* в Холмогорах, в канцелярии, дело случилось. Ну вот, сижу я, стало быть, и дожидаюсь. Приказный* вышел, и никого в комнате нет. Прискучило это мне сидеть. Дай, думаю, похожу, ноги затекли. Пошел я, а на столе книга большая раскрытая лежит, исповедная книга по холмогорскому соборному приходу. Взглянул я по любопытству; переложил один лист, другой. И вот вижу – Ломоносовы. И там значится, что Василий Дорофеевич Ломоносов и законная его жена Ирина Семеновна были у исповеди. И тут же проставлено, что Михайло Ломоносов в сем году, 1728-м, у исповеди не был. И написано, почему не был. По нерадению. Прямо так и написано. Запись та не для всех глаз, вроде тайная. И думаю так: дело о Михайле пошло куда повыше. Там ему решение и будет. Коготок увяз – всей птице пропасть. Видел я ту запись два дня назад. Ты мне ничего не сказывал. Стало быть, ничего о ней не знаешь?
Сабельников молчал.
– Ты что же? – спросил его Шубный.
– За такие дела наказание немалое.
– Вот и я так думаю. И по-всякому дело повернуть можно. А как ты да я – мы учителя его, которые грамоте еще наставляли и потом наукам обучали, то нам его и остеречь. Вот и давай совет держать. Потому к тебе и пришел.
– По этому делу?
– Мало ли?
– Нет.
Ни к кому не обращаясь, Сабельников сказал:
– Человеку в жизни к настоящему его месту приставать следует.
И, сказав это, он задумался. Вот он – дьячок местной церкви. И столько уж лет. Ему теперь пятьдесят шесть. Так, значит, всю жизнь на том и провековал. А ведь когда в подьяческой и певческой школе при Холмогорском архиерейском доме учился, первым учеником был. Ему эти мысли в голову часто и раньше приходили. И когда сам себе говорил он: сыт, мол, обут, одет, жена и дети не по миру ходят, будто успокаивался. Но, однако, ненадолго: червь начинал точить ему сердце, и понимал он, что не только такая, как его, жизнь и бывает.
Шубный же будто еще нарочно разбередил рану:
– И по книгам ты умудрен, читал много книг и умом суть проницать любишь.
– Что ж, помалу мудрствуем. Не грех.
В голосе Сабельникова слышалась скрытая досада. Посмотрев искоса на Шубного, он спросил:
– Исповедуешь меня, что ли?
– А не только на исповеди правду говорить.
– О какой правде думаешь?
– О той, Семен Никитич, в которой человек, не боясь, сам себе признаётся. Самая большая правда.
– Ага! Ну-ка, прямо по ней, Иван Афанасьевич, теперь сам и признайся. Ты сам на своем месте ли? Достиг?
Шубный рассмеялся. Он смеялся долго и невесело.
– Эх, Семен, Семен!.. То ли ты, значит, больше преуспел, то ли я. И не разберешь. Не тягаться нам промеж себя, стало быть, – чья удача боле и чья пересилит. В Михайле-то крепкая хватка. Многое может осилить. Но что?.. Однако стороной мы пошли. Давай про дело, с которым к тебе пришел. Беду-то от Михайлы не отвратить ли как?
– А беды Михайле не будет.
– Это почему же?
– Михайло по весне болел и у исповеди быть не мог. Вовсе не по нерадению случилось это.
– Болел? Что-то не припомню. Какой такой болезнью?
– Обыкновенной.
– И, значит, ходить не мог?
– Как же это ходить, ежели он как в огне горел?
– По соседству живу-у, – протянул Шубный.
– Да и я недалеко. Как в Холмогорах я был, где нужно, о Михайлиной болезни и сказал. Делу и конец.
– У тебя, Семен Никитич, сколько душ всего семейства-то?
– Сам восьмой. А ты что?
– Просто так. Ежели от службы тебя отрешат, что, думаю, будет?
Глава шестая СЕ ЕСТЬ ПЕТР
В прошлом году, на исходе зимы, собралась в одно из воскресений около деда Луки мишанинская и из соседней Денисовки молодежь, и стали его просить рассказать о царе Петре. Был здесь и Михайло.
Петр три раза бывал на Двине и Белом море. Деду Луке доводилось его видеть. Об этих встречах Лука Леонтьевич Ломоносов любил рассказывать. Особенно охотно вспоминал он об одной встрече с царем.
– Царей у нас до Петра не случалось, – начал дед Лука свой любимый рассказ о том, как еще в первый раз к ним на Двину и Белое море царь Петр приходил. – Видно, недосуг им был. Да и что на нас глядеть? Диковина какая?
Вот и достигла до нас весть: идет к вам царь Петр, русский государь, идет и скоро будет. С чем, думаем, идет царь? Не провинились ли? Не взыщет ли на чем? Цари-то со страхом ходят.
Уж потом вызнали. Задумал он об то время свое дело: державу Российскую на морях ставить. И приходил он к нам Белого моря смотреть, каково оно есть. Тридцать да еще с лишком годков тому уже.
Море наше Белое одно в то время было, по которому отпуск заморский российский совершался, по нему только корабли чужеземные к земле российской и плыли. Учрежден заморский торг был при Грозном еще царе.
В наших Холмогорах тому управа спервоначалу находилась, а потом, как Архангельский город состроили в 70 верстах оттуда, там всему торгу место основалось.
В июле приплыл от Вологды на стругах* царь, шел по Су́хоне, Двине, Курополке нашей, мимо Курострова и к Холмогорам приставал. Повидать его тогда мне не довелось. А как обратным ходом от Архангельска через Холмогоры шел на Москву в том годе царь, по осени уже то было, лист падал.
Пришел царь на Холмогоры к самой ночи. А наутро на малом карбасе* не со многими людьми в Вавчугу плыл как раз мимо нас по Курополке. К Бажениным, ради смотрения их пильной мельницы.
Снарядил я карбасок и поплыл тоже в Вавчугу. Авось, думаю, царя повидать удастся. Никогда не видал. Каков он? Такой ли, как все люди, или другой?
Пристал я к тому месту, где вода через пильную мельницу идет, а потом ручьем в Двину падает. Поднимаюсь на угор, на котором наковальня большая баженинская стоит. Тут прямой путь к палатам баженинским. Прохожу мимо наковальни – двое высоченных парней молот в молот по якорному копью бьют. Железо красное, из огня только, на подвесе висит, а наковальня баженинская стопудовая, что в землю вросла, гудит и будто под молотами припадает. Парни так и секут. В кожаных фартуках до плеч, руки заголены. Не иначе для самого царя стараются.
Прошел я мимо наковальни и к дому баженинскому, что на белом тесаном камне поставлен, иду. Тут и случись мужичишка наш куростровский, что службу Бажениным служит. «Скажи, – говорю, – нельзя ли как мне на государя нашего Петра Алексеевича, всея Руси, одним хоть глазом поглядеть, сподобиться? Больно уж надобно. Только боюсь: сунусь – а стража топориками изрубит да бояре громов намечут. Пособи – не чужие ведь, земляки». А он как посмотрит на меня, будто ума решился я, и говорит: «С неба ты, что ли, Лука, свалился?» Я и отвечаю: «Нет. Зачем мне с неба валиться? С Курострова приплыл я, а государя своего всякий поглядеть может». – «Приставал ты под угором, чай?» – «Там. Где же иначе». – «И мимо наковальни шел?» – «Шел». – «И ничего тебе на ум не вспало?» – И смеется. «Вспало: вижу – парни, двое, по кузнечному делу хорошо справляются. Аж толпа собралась и глазеет. Хорошо, думаю, работают». – «Вот и говорю, что с неба ты свалился». – И опять смеется.
Тут осерчал я, за плечо его легонько тронул, а рука в то время у меня тяжелая была, не стар еще был. И говорю ему так: «Ты, милый человек, знаешь, это вот как петухи встренутся, так один на другого, будто ума решились, наскакивают и гогочут, а я тебе не петух, и ты мне как человек человеку отвечай!» А он руку мою снял, тоже не пустяшный малый был, царство ему небесное, и говорит: «Я тебе как человек человеку и отвечаю: прямым путем ты сюда с неба. Мимо государя шел – и не признал». – «Как так – не признал? Что ты такое сказал? Креста на мне нет, что ли, государя не признать чтоб? Отец он нам всем!» – «На парней, что копье якорное выбивают, хорошо смотрел?» Тут я и схватился: «Ай-ай-ай! Никак, там царь стоит да на работу и любуется?» – «А работа добрая?» – «Ничего не скажешь, понимаем в этих делах». – «Так вот, Лука, спасай тебя Бог, тот, что изо всей силы, молот заведя, по наковальне отмахивает, вон всех выше который, тот царь и будет».
Наслышан я уже был, что царь никакой работой не брезговает, и на руле умеет стоять, и топор держать. Однако в затылке я себе почесал. Поглядел на царя, потом на земляка взор перевел и говорю: «Ведомо мне, что государь Петр Алексеевич, всея Руси, с кузнечным делом хорошо справляется. Слыхивал. Только вот что ты мне скажи – не чужой ты мне человек – зачем это государю всея Руси по наковальне молотом что есть мочи выколачивать? Кузнецов, что ль, у нас не стало? Не хватает ли? Сколь хочешь. Выходит – тешится царь, силушка по жилушкам переливается. Не для дела. Пошто руки царские надрывает?»
А мужичишка-то наш, прими, Господь, душу его в царство праведных, умственный человек был, любил про всякое думать да умом доходить. И говорит он мне таковые слова: «А ты угадай». А сам ухмыляется. Отвечаю ему: «Сам ты угадал ли?» – «Покуда не до конца. Думаю. Вот и ты умом раскинь».
Пошел я к реке, по пути на царя поближе поглядел, сел в карбасок и поплыл к Курострову, домой. И, прости, Господь, мою душу грешную, думаю это я себе: «Все-таки балуется просто царь. Двадцать ему годов с одним. Дело молодое, перегорит. И что это такое земляк сказал: „угадай“?» В яствах сахарных, винах сладких ли у царей недостача? Покой да сон труд да заботу когда не побеждали? Надоест. В палаты каменные сядет да на перинах пуховых сладко задремлет.
А вышло не то. Всю жизнь на той струне продержался, на той мете простоял. И не понял я тогда: глаза незрячие открывает людям царь. Увидал, значит, он: сон да покой в царстве, с места ничто не идет. Нужно поднимать жизнь. Петр с самого низу и взял и с низу и до верха все прошел дел ом-то своим. А не боясь черной работы, делал ее по любви и понимал: царским примером хоть кого проймет.
Тридцать годов и еще с лишком минуло. Государя Петра Алексеевича уже нет. Молоды вы, а я давно живу. Видел, что было до Петра, вижу, что им сделалось. Не похоже. И на многих боях был и по-другому державу устроил, морей и земель вон какую громадину прибавил. И имя русское другим сделал. Жизнь Петрова, что гроза, над всей нашей землей прошумела…
В тот день и произошел памятный Михайле разговор.
– «Над всей нашей землей прошумела…», – повторил Михайло последние слова деда Луки. – От петровских дел складнее жизнь на земле русской? Стало быть, к тем делам Петровым всем одинаково усердно и приставать?
– Приставать к ним можно и в великом и в малом.
– Это как же?
– А очень просто. Не каждый другому ровня. Есть бояра, есть дворяна, купечество живет, наш брат мужик. Один, стало быть, выше, другой ниже. Так уж поставлено. Мужик-то, может, и не меньше умом вышел, да вот…
– А дело-то Петрово по всем одинаково прошло?
– Вроде… Только, знаешь, кто ежели наверху сидит, до своего не так уж чтобы пускать любит. Охотой. Наверху-то послаще.
– Дедушка, – вмешался в разговор самый молодой слушатель, востроглазый парнишка лет двенадцати, – слыхать слыхал, а видать не видал. Каковы они-то, бояра да дворяна?
– Да люди как люди. И не отличишь. Только мужик трудами живет, а у них этого нету.
– А как же вот в Писании*, к примеру, сказано, что без трудов нельзя? Они что, не понимают?
– Ишь ты, Писание читаешь! Коли поймут, кто что делал на земле, от того злее станут.
– А по правде такая жизнь?
– В одной сказке сказывается: взял мужик суму, пошел мужик правды искать. Искал-искал и притомился мужик, искавши. Может, прошел недалеко и не достиг до той земли, где мужицкое счастье живет? Правда мужицкая не простая, да и мужицкие пути короткие.
– Мужицкие пути короткие? – спросил Михайло. – А кто их мерил?
– Было кому…
– Будто всем одинаково от Бога отпущено! И не только что перед знатными господами или какими земными владетелями, но даже перед самим Богом Всевышним дураком быть не хочу!
Наброшенный на спину кафтан сбился Михайле на правое плечо, кумачовая* рубашка была стянута кушаком. Лицо было хмурое, глаза недобрые.
«Распалился! – подумал Лука Леонтьевич. – Голова непоклонная». А вслух сказал:
– Нож бы тебе еще за пояс, ровно атаман…
– А как, значит, про то, чтобы к его делу всякого звания людям приставать, как об этом сам царь Петр, великий государь, рассудил? – спросил Михайло. – По мне, ежели кто, к примеру, учится да больше научился, тот и почтеннее, а чей он сын, в том нет нужды.
В много повидавших глазах Луки Леонтьевича Ломоносова пробежала усмешка.
– Это как раз та правда, которую не все так-то уж и любят.
Глава седьмая В ДРУГУЮ ЖИЗНЬ
Дни становились короче, и все длиннее делались спускавшиеся над Двиной мглистые ночи.
Солнце заходило, оставляя над задвинскими еловыми лесами багровую вечернюю зарю. Теперь уже не сразу рядом с ней вспыхивали светлые полосы рассвета. Ненадолго зажигались большие звезды, две-три, и становилось видно, как по небу идет ущербная луна. Это еще не ночь, но уже и не день, и дневные птицы чайки беспокойно летают над рекой и громко кричат.
В это самое время поднимается с Белого моря семга и идет на двинские устья. Миновав стерегущих добычу тюленей, плывет она вверх по Двине до устья Пинеги и далее, пробираясь на нерест. Тихо в речной глубине проходят косяки драгоценной красной рыбы. В эту пору начинается долгожданный семужий промысел.
Над Двиной падали сумерки. В свете костра у берега были видны деревянные поплавки сети-трехстенки*, поставленной на ночь наперерез течению. Поплавки тихо била волна. Докатываясь до берега, волна бежала на песок и под ветлой, нависшей над водой, чуть слышно пела в корнях дерева.
На дальнем болоте глухо ухала выпь*.
По соседнему высокоствольному осиннику пролетал лиственный шорох.
Когда костер вспыхивал и из него в темнеющее небо с искрами полыхал огненный язык, в красном свете выступали тонкие стволы деревьев и тускло блестели жесткие трепещущие листья осин.
Темнело. Сходила ночь. В озерных зарослях ситника* и хвощей затрещит чирок-трескунок*, не поладив с соседом по ночевке, свистнет умостившийся на кочке свистунок, подаст голос кряковая утка, забеспокоившаяся о своих утятах. По воде ударит большая щука, прошедшая по кругу за ночной добычей. Из-за реки по гладкой поверхности воды долетит волчий подлаивающий вой. И снова умолкнет уходившаяся за день птица, перестанет биться ушедшая в водяную глубь рыба, затаится и утихнет зверь, прислушиваясь или что-то выглядывая в темноте.
Нальостров на юго-западной, поросшей лесом излучине которого облюбовал место Михайло, тонул постепенно в темноте и дымившихся от маленьких озер туманах. На низком, с заливными лугами и сочными травами острове этих озер было разбросано множество: Рушалда, Лыва, Паритово, Овсянка и другие. Лежавшие наискось через двинский рукав Холмогоры пропадали во мгле. Противоположное Нальострову нагорье, или матера́ земля, – берег, за которым тянулись двинские земли, – уходило в сумеречную даль.
Михайло сидел у костра и смотрел в огонь. Под горевшими ветвями лежала красная груда жара, по краям она подернулась рыхлой кромкой пепла, по которому пробегали вспыхивающие огни.
По ночной реке долетела с другой стороны песня. Кто-то затянул протяжную. Слов слышно не было, только напев медленно уходил в ночную тишину, замирал у лесной темной опушки.
Михайло прислушался. «Один, видно, поет, – подумалось ему. – Сел где на берегу и поет».
Так и в самом деле поет одинокий певец: закрыв глаза, останавливаясь иногда на каком-либо слове, прислушиваясь к нему.
«Ночь темна, а бывает, будто дальше как-то ночью видится и в своем дневном деле, случается, больше поймешь. Ночью судьба к сердцу ближе». Михайло лег на подостланный овчинный тулуп и стал смотреть в ночное небо.
Певец продолжал петь.
«И никто ему не нужен. Сам себя он слушает. Слова не доходят, а понятно: о судьбе поет. – Михайло закрыл глаза. – Судьба? В чем она, судьба?»
И ему стало припоминаться, о чем он говорил на днях с Шубным и Сабельниковым.
Когда Михайло и Шубный уселись у ветлы, что одиноко стоит на берегу, Шубный сразу приступил к делу:
– Вот что, парень. Деется с тобой что-то. Скажись. Таиться от меня не след.
– От тебя, дядя Иван, никак мне не таиться. Дело мое такое. Книги я свои, «Арифметику» и «Грамматику», читал и учился по ним. Ну нравилось, занятно было. А вдруг понял, что вся моя жизнь в том, в науках. И больше ничего мне не надобно.
Шубный побил хворостиной о сапог.
– Как в старую веру ходил, помнишь?
К чему бы это Иван Афанасьевич?
И Михайло ответил осторожно:
– Почему не помнить?
– Так вот – сторона это. Разумеешь? Не настоящее.
– То другое. Науки не то.
– Другое. Верно. А почему в старую веру ходил? Как думаешь?
– Ну как – почему…
– А вот я тебе растолкую. Страстей в тебе много. А страсть может в сторону сшибить. Очень просто. Не холодом на нее – не говорю тебе этого – а рассуждением. Прежде чем ступить на новую дорогу, ногой потрогай. Страсть – одно, поспешность – другое… Теперь вот скажи: Семену Никитичу в церкви давно уже не пособлял?
– Есть грех…
– А ретив был. Стало быть, второе уже пробовал – и отстал. Не в укор говорю, не подумай. И не от бессилья отстаешь. Куда там! Только сила твоя поперек пути тебе становиться не должна. Годы твои молодые, и потому, что кипит в тебе, вдвойне тебя берет. Вот и порешили мы с Семеном Никитичем потолковать с тобой. Нам-то на нашем веку повидать довелось, тебе, молодому, и послушать нас.
– Великие дела, значит, задумал? – спросил Михайлу Сабельников, когда на следующий день они встретились уже втроем: он, Михайло и Шубный.
– Тесно мне тут. Куда ни повернешься, все плечом во что-нибудь упрешься. Мало мне того, что вокруг.
– Мы же в этом живем, – заметил Шубный.
– Да, случается, еще и похваливаем! – усмехнулся Сабельников.
Наступило молчание.
– Вот что, Михайло, – заговорил наконец Сабельников, – слушай меня. Присоветовать хотим тебе. И мне, и Ивану Афанасьевичу тоже в свое время желалось такое, что, может, и не сбылось. И мы-то знаем, как от того на сердце нелегко. Дело, о котором задумался, на большой высоте, и, в случае чего, падать тебе с нее так, что и самой жизни решишься.
– Бери, Михайло, свое, бери. Не отговариваем. Напротив. Но – осторожно. Не рывком. Спокойной силой.
И Шубный крепко сжал в кулак большую мозолистую руку.
– Да… Жить-то, Михайло, человеку как надобно? – спросил Сабельников. – А так ему надобно жить, чтобы, доживши, к примеру, до моего – пятьдесят мне уже шесть – и оглянувшись назад, не запечалиться. Чтобы не казалось тебе, будто жизнь стороной обошла, тенями, не по свету прошла. Горше этого нет. Придумана пословица: «Прожил век за холщовый мех». Жизни-то всякой на земле много. И какое хошь, Михайло, дело человеку не заказано. По себе всё и бери. Поднимешь – твое. И обида сердце чтобы тебе не грызла. Бывает, Михайло, и так: счастье твое пройдет мимо тебя, рядом, и ты его не заметишь. Жить надобно набело, а не начерно. Не думай, что живешь ты и к жизни своей только еще примеряешься, а потом, примерясь, ловчее с ней справишься. Нет. Двух жизней человеку не дано. Потому в одной своей не ошибайся. Как жить после будешь, вспоминай, что тебе говорили. И от сбывшегося оно, и от несбывшегося. А как свое не исполнится, душа в человеке навсегда надорванная остается. Каждому угадать себя надобно, судьбу свою увидеть. Человек под судьбой не без силы.
Вот обо всем этом Михайло сейчас и думает. Судьба? Какая она, его судьба?
Он стал смотреть на лохматые от пепла гаснущие угли. Тишина. Только слышно, как позванивают в темноте цепями стреноженные лошади.
Опять из-за реки долетела далекая песня. Проплыла лодка, тихо всплеснули воду весла, скрипнули уключины. Качнулись у берега деревянные поплавки сети под набежавшей от лодки легкой волной.
Михайло подбросил в костер сучьев, из него полетели искры и белые хлопья золы, огонь побежал по еловым смолистым сучьям, затрещал, красные языки со свистом полетели вверх.
В осиннике раздался шум, и вслед за тем громко и беспокойно закричали всполошившиеся галки. Тревожно зафыркали кони, зазвенели цепями.
У костра спали два пса. Они развалились, блаженно разморенные теплом. Когда раздался тревожный галочий крик и фырканье встревоженных лошадей, один пес, который и во сне тихо водил ухом, на всякий случай прислушиваясь, отчаянно вскочил сразу на все четыре лапы, мотнул головой, взвыл и, толком не разобрав дела, со всех собачьих ног бросился в темноту. Другой пес очнулся, со сна ничего не понял, замигал, осмотрелся и помчался за приятелем.
Михайло встал, приготовил ружье. По ночному делу всякое бывает.
Псы пофыркали, полаяли, поискали, ничего не нашли и быстрой иноходью выбежали из леса. Один, побольше, с клочковатой бурой шерстью, на ходу все наскакивал на другого, рычал, норовил схватить его за шею; другой в ответ скалил зубы и огрызался. Наконец псы подбежали к костру. Большой, оскалясь и опустив хвост, ткнул морду в колени севшему опять к костру Михайле.
Михайло почесал пса за большими мягкими ушами, тот еще глубже просунул морду в колени, разомлел, приник брюхом к земле, раздвинул передние лапы и радостно побил тугим, сплошь утыканным репьями хвостом о землю.
Другой пес угрюмо улегся на старое место и отвернулся, видимо недовольный своим приятелем, который безо всякого дела устроил переполох.
– Ну ладно, ладно. Иди, иди, – сказал Михайло лежащему около себя псу.
Тот встал, лизнул в ухо Михайлу, повилял хвостом. Затем он отошел в сторонку, присел, приподнял быстро заднюю лапу, подрал когтями шею, то место, куда давно впилась блоха, потом согнулся в дугу, поискал на ляжке другую тревожившую его блоху, порычал на нее. В конце концов пес успокоился, подошел к своему ворчливому, но верному собачьему другу и лизнул его в морду. Тот не удостоил его ни малейшим вниманием. Покрутившись несколько раз вокруг себя, потоптав место, пес свернулся калачиком, привалился спиной к приятелю, вздохнул и задремал.
Снова все тихо.
Сидя у костра и упершись руками в подбородок, Михайло смотрел, как тонкое пламя бежало по веткам и, вспыхнув, гасло на кончиках сучьев. Он снова лег на тулуп и закрыл глаза. Ему вспоминался давний разговор.
– Теперь ты вот что скажи, – проговорил Сабельников. – Стало быть, ты решил про себя: науки. А науки – куда? Для чего?
– Науки для того, чтобы человеку было все меньше страху и все больше понимания и разумения. А от того жить много легче и лучше.
– Значит, науки для лучшей жизни?
– Да, – ответил Михайло.
– Жизнь чтоб поскладней была, уж как нужно, – покачал головой Шубный. – Неслаженного ой как много! А от наук жизнь будет лучше для всех? Как думаешь?
– От наук всем выгода, – кивнул Михайло.
– Правильно думаешь, – заметил Сабельников. – Одно – верить, другое – знать. Тут ты руками возьмешь. Сам для себя устроишь.
– Дядя Семен, спросить тебя хочу…
– Ну спроси.
– Помнишь, как отец Василий числа́ испугался? Об «Арифметике» Магницкого тебе я тогда рассказывал.
– Помню. Это отец Василий числа боится: может, оно ему во вред станет, беспокойство причинит. Опасается, значит. А Богу-то чего ж числа бояться? Ну и, по мне, так: что числу полагается, пусть оно то и возьмет.
– Будто, дядя Семен, не сказал ты того.
– Э, брат, что я, тогда при отце Василии все должен был выложить? Запомни: противное тому, что думаешь, не говори, но всего, что думаешь, тоже не говори. И вот еще что. Путь, который ты выбрал, трудный. А по трудному пути сторожко идти. А ты, видим, бережешься мало. Нужен глаз да глаз. Ты же иногда по самому краю идешь не остерегшись. Да. И острые углы – видать, они у тебя в нраве – обламывай. Ни к чему они. В жизни, знаешь, вроде как на войне, в бою. А в бою главное – не намахаться руками, а верх взять. В какой миг и остеречься нужно, от удара уйти. А потом вдвойне ты получишь.
– Ежели кто против тебя хитрый, то и над хитростью верх возьми. Разгадай ее. Ни к чему от чужой хитрости страдать.
Сабельников сказал задумчиво:
– В жизни не оплошать надо. Не ниже своего брать. Ты, Михайло, сказал: Магницкий и Смотрицкий. А за ними для тебя что-нибудь есть?
Михайло ответил:
– Надо думать, есть.
– Что?
– Еще бо́льшая наука.
После этого Шубный и произнес те слова, о которых думал Михайло неотступно:
– Ты сказал, что и сейчас тебе тут тесно. А с большими науками каково будет? Здесь ли тебе судьбу свою пытать?
Шубный ли впервые заронил в душу Михайлы Ломоносова эту мысль или, может, она пробуждалась и у самого Михайлы? А кто позже наставлял другого куростровца – Федота Шубина, куростровского крестьянина и костереза, ставшего великим русским скульптором? Кто натолкнул будущего профессора и академика, члена Болонской академии художеств на его смелый путь? Не его ли отец – тот же Иван Афанасьевич Шубный?
Северная мглистая ночь кончалась. Поредела темнота, по зеркальной воде прозыбил дорожку ветерок, сорвался с воды и полетел в осинник, всколыхнул и растревожил беспокойную листву. Внизу, у земли, еще густела мгла, в которую вплетался сырой туман, поднимавшийся с поросших осокой и ольшаником низин, а на высоте уже золотом горели края чистых облаков. За двинскими рукавами по небу светились розовые полосы утренней зари. Из долов снялся ночной туман, развалился в сырые клочья; они разошлись в стороны и дымно растаяли в утреннем воздухе. В озерных зарослях проснулись утки, сбились в пары и стайки и дружно полетели над водой. Из трав и лесных гнезд поднялась всякая птица. Солнце красным краем показалось над задвинскими лесами, и по речной мелкой волне пробежали теплые золотые блики.
Михайло спустился к реке, отплыл от берега и принялся выбирать из холодной, дымящейся утренним паром воды большую ставную сеть*.
Глава восьмая СИНУСЫ, СЕМИДИАМЕТРЫ, РАДИКСЫ
Когда по осенней холодной Двине, берега которой уже припорошил снежок, отцовский гуккор поднимался от Архангельска к Холмогорам и, разбив хрусткие ледяные забережни*, подходил к Курострову, тогда кончалась мореходная страда и Михайло Ломоносов обращался к наукам.
В сентябре похолодает, пойдет засиверка*, посыплет с неба ледяная крупа, прошумит по тесовым крышам; а там незаметно подойдет и зима, замельтешит над Куростровом первый крупный снег, поднимутся над избами теплые зимние дымы, лягут под лед двинские рукава, и наступит зимняя досужная пора.
Шелестели под бережной рукой большие страницы «Арифметики», бежали строчки, теснились плотные столбики цифр, Михайле Ломоносову открывалась численная наука. В тайны синтакси образной*, просодии стихотворной* и прочей мудрости шаг за шагом вникал он по Смотрицкому.
Гудит в печной трубе ветер, посвистывает за окном сухая поземка, поднимает мелкую снежную пыль и несет ее наугад в темноту. Зимние дни короткие. Тяжело поднимется солнце, пройдет по далекому низкому полукружию и опять западет за небосклон в багровые густые облака. И снова ночь.
Михайло сидит у стола, придвинув к себе большую книгу. Он отложил в сторону густо исписанную грифельную доску* и внимательно рассматривает рисунок, который помещен в самом начале книги. Вспоминается ему, что говорилось в старых книгах о еллинских борзостях*, которых следует страшиться всякому, кто исповедует истинную веру. А вот на этом рисунке как раз и изображены провозвестники еллинских борзостей: Пифагор* и Архимед*.
Пламя свечи колеблется от дыхания, по рисунку пробегают тени, и лица двух мудрых эллинов как будто оживают. Основатели науки чисел окружены атрибутами своей науки и изображениями, которые указывают на ее всеобщее значение.
Около фигуры Архимеда нарисован земной шар с кораблем на Северном полюсе; в правой руке Архимед держит небесный глобус – знаки, что Вселенная и Земля находятся под властью его науки. Делительный циркуль, клещи (закон рычага), прямой угол у левой руки и тут же на развернутой хартии* алгебраическое умножение – другие знаки достижений ученого. У Пифагора в руках весы, развернутая хартия со вписанными в нее числами, внизу – линейка, циркуль, перо и чернильница, треугольник. Рядом – изображения монет, товары.
Михайло переворачивает несколько страниц. Вот эти строки, которые он давно знает наизусть.
Оный Архимед и Пифагор, излиша, яко воды от гор, Первии бывше снискатели[15], сицевых[16] наук писатели. Равно бо водам излияша, многи науки в мир издаша. Елицы[17] же их восприяша, многу си пользу от них взяша. Сия же польза ко гражданству требна кождому государству.Он повторяет вслух последнюю строку и снова смотрит на рисунок. Над фигурами Пифагора и Архимеда распростерся Герб Русского государства.
«Петров знак, – думает Михайло. – Науки к нам вступили, и по ним всей нашей жизни строиться».
Еще несколько страниц. Вот начало изложения заключенной в «Арифметике» науки. Здесь изображен храм мудрости. На престоле сидит женщина – богиня мудрости. В руке у нее ключ – ключ истинного познания мира, человека, всех вещей. На ступенях трона начертаны названия арифметических действий. Иного пути для познания нет, только число открывает истинную сущность вещей. На колоннах храма перечислены названия наук и искусств, которые подчинены счислению, – геометрия, стереометрия, астрономия, оптика, география, фортификация, архитектура.
А под рисунком большими красными буквами заглавие: «Арифметика-практика, или деятельная».
Михайло листает книгу. Вот конец. Здесь помещены локсодромические таблицы*.
«Математическое и физическое учение прежде чародейством и волхвованием считали. Ныне же ему благоговейное почитание в освященной Петровой особе приносится», – думает он. И рука его прилежно пишет на грифельной доске цифры. Он их выравнивает в столбцы, ставит знаки извлечения корней, а потом снова перебирает плотные страницы «Арифметики», на которых мелькают геометрические треугольники, рассекающие окружности прямые, разбитые вдоль и поперек, сверху вниз, красной сеткой локсодромические таблицы. А вот на трех языках – итальянском, латинском и славянском – названия ветров: трамонтана-бореус – северный; сцирокко-эронотус – восточно-южный; либекцио-зефиронотус – западно-южный и другие. А на следующей странице, со стрелой на норд, – несколько вписанных одна в другую окружностей и по кругу расположенные названия, которые так часто приходилось слышать в Архангельске, когда сойдутся туда со всего света крутобокие заморские корабли, – ост, вест, норд-ост, норд-вест.
Вот перед ним «Арифметика-логистика, или Астрономия». И ему кажется, что он приблизился взором к самому Солнцу. Взгляду открывается вечно горящий океан – пылающая поверхность Солнца. Стремятся не находящие берегов огненные валы. Над ними проносятся пламенные вихри. Камни кипят, как вода. Шумят горящие дожди.
Шел 1730 год. Уже почти все листы тяжелого тома «Арифметики» были взяты упорным, прилежным трудом, пройдены были трудные, находившиеся в конце гла́вы: «О извлечении радиксов»[18], «О извлечении биквадратного радикса» и другие, и в «Грамматике» вся премудрость была преодолена.
Однажды отец, тихо открыв дверь, вошел в комнату, где Михайло сидел за книгой. Почти громким голосом Михайло читал:
– «Проблема[19]. Дану синусу правому дуги меншия четверти колесе, синус дополнения, или комплемент, изобрести. Правило: квадрат синуса данного вычти из квадрата радиуса, или семидиаметра, и оставшаго радикс будет синус комплемент».
Положив перед собой книгу, Михайло взял в руки грифельную доску и начал решать задачу, делая нужный чертеж.
– Будет радиус АВ 10 000 000, синус BD 5 000 000 тридесяти градусов, и квадрат радиуса…
Увлекшись задачей, Михайло не услышал шагов подходившего к нему отца. Отец взял в руки «Арифметику». Перелистав страницы, он остановился на том месте, где находилась решаемая сыном задача. Взяв правой рукой оставшиеся до конца страницы, он сравнил эту тонкую пачку с объемом уже пройденных Михайлой страниц.
– К концу дело-то идет. Синусы, радиксы, семидиаметры. И не выговоришь! Так. Учение. Давай-ка, Михайло, завтра утром потолкуем. Утро вечера мудренее.
Глава девятая БЫТЬ ЛИ СОГЛАСИЮ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ЛОМОНОСОВСКОМ ДОМЕ?
Стоит большой ломоносовский дом над самой дорогой, что прошла через Мишанинскую и соседнюю Денисовку к сельской околице, над проезжей дорогой, которая, прорезав весь Куростров, идет к Ровдиной горе, где островной берег лежит уже по Большой Двине.
В зиму, когда до крыши, бывает, заносят снегом вьюжные ветры многие куростровские дома, высится дом Василия Ломоносова своей крышей над округой. А в двинский разлив, когда река покрывает Холмогоры и нагорье до самых Матигор, двинская большая вода не заливает поставленного на высокую подклеть* ломоносовского дома.
По всему окружью дома, под крышей, пущена узорная резьба, будто крупное деревянное кружево; на точеные столбы поставлена крыша большого крыльца; украшена узорными балясинами* лестница, и на самую дорогу выпущен по князьку* гордо вскинувший голову конек*.
А внутри по полкам расставлена добротная медная, до блеска начищенная посуда: большие и малые братыни*, в которых пенятся при гостях брага и пиво, медяники*, чужеземная утварь – узкие с длинным носиком кофейники. Старинные иконы в красном углу – в серебряных окладах. В сундуках есть и бархат, и парча, и шелка.
По усадьбе, огороженной не слегами*, а изгородью, прочным частоколом, толково расставлены клеть*, скотный сарай, хлебный амбар, баня, овин – крытое гумно*. Посредине усадьбы вырыт пруд – ломоносовское новшество, над прудом низко склонились ивы. В летний вечер чуть не целое стадо тучных коров подходит с выпасных лугов к скотному сараю.
Хорошо поставлено ломоносовское хозяйство, крепко срублен дом, весело смотрит он на дорогу. Все должно говорить людям о ломоносовском довольстве и веселье.
Веселье?
Вот этого-то и нет теперь в зажиточном доме Василия Дорофеевича. Все сильнее хмурится отец, все более молчаливым делается сын.
Что и как решится сегодня утром?
– Ну, Михайло, будто кончаются твои науки. К чему же они тебя привели? Какую правду открыли? – спросил Василий Дорофеевич, начиная хороню обдуманный разговор. – Ты сядь – беседа не короткая.
– Какую правду? Такую, что человеку потребно всегда идти вперед.
– Правда хорошая. Только новая ли? Еще в запрошлом годе, как на Колу мы шли, про то же тебе я говорил. Однако почему ты с твоей книжной правдой от меня прячешься? Сумрачен стал, говоришь мало. Не пристало с правдой прятаться. Да еще от кого – от отца родного. Я вон чую в своем истину – прямо и говорю. Ты-то почему молчишь?
– Не потому, что моя правда мала.
Отец крякнул.
– Так… Обиняками-то у тебя навык говорить. Вроде троп ты в жизни нехоженых ищешь. А мало ли уже по жизни троп прошло? Вот об одной для тебя и думаю. Слушай. Зверя я промышлял, рыбу ловил, по морю ходил, в «Кольском китоловстве» состоял. Делал все, к чему помор приставлен. А кроме того, купишь на свои деньги соль, муку или иное что в другое место, к другим людям перевезешь, там продашь, смотришь – прибыль сама идет. Деньга деньгу делает, деньга к деньге катится. Дело-то вокруг деньги́ вертится.
– А не всякое, батюшка. И вот еще что. Несытая алчба* имения и власти род людской к великой крайности приводила. Какие только страсти эта алчба не будила в сердцах! И многое зло она устремила на людей. С ней возросли и зависть, и коварство. Дело, что вокруг деньги вертится, не всегда доброе.
– Во всем можно недоброе совершить, ежели к тому охота. Баженинское дело – недоброе разве? Посмотри на Бажениных. Из наших черносошных* крестьян, а каково справляются! Немалое дело раздуто – Вавчужская верфь. На всю Двинскую землю… Что Двинскую! На все Поморье ставят Баженины суда торговые – галиоты* и гуккоры. И военные суда Баженины для казны делают. А каков почет им! Сам великий государь Петр Алексеевич, как жаловал к нам, у них, в Вавчуге, гостем был и милостьми миловал. Ну, до Бажениных далеко, однако в купцы выйдешь. Не вперед ли?
– По книгам идти вперед – к свободе.
– А мое-то, о чем говорю, не свобода ли?
– По книгам – свобода разуму.
– Ежели руки и ноги у тебя, к примеру, связаны, какая свобода разуму может выйти? Ты вот скажи мне: кто ты таков есть?
Михайло не понял.
– Мужик ты есть. Сын крестьянский. И как же тебе полную свободу книги дадут? А мое-то – даст. Купеческая жизнь другая, свободная.
Михайло молчал.
– Как же ты думаешь идти со своими науками вперед у нас, в здешнем? Ежели не в наше дело, не в хозяйство, то во что с книгами и науками становиться будешь?
– Вроде не во что. У нас.
– A-а… Вон что. Только запомни: без моего дозволения никуда не уйдешь. Пашпорта не получишь. А без пашпорта если где окажешься, то нашего брата мужика кнутом бьют.
Хотя Михайло и сам знал об этом, но под сердцем у него закипело.
– Кнутом? Мужика?
– Уж так учреждено. Вот такая свобода и выйдет тебе по твоим книгам. Понял? Иди и раскинь умом. Тебе вон на архистратига Михаила[20] девятнадцать. По-взрослому и думай.
Надев полушубок, Михайло вышел наружу.
Стоял солнечный весенний день. Тонко пели ручейки, промывшие себе узенькие кривые дорожки в наледи. Уже сухо пестрели бурые проталины на буграх и около стволов деревьев, по которым поднялись теплые весенние соки. В глубоко проезженных дорожных колеях белела галька. Около изб черный бугристый лед покрывался у краев мягкой земляной кромкой.
Михайло сошел к Курополке. Лед на реке еще не пошел, но уже кое-где, между берегом и краем льда, сделалась щель, и в ней узкой полосой под солнечным светом блестела вода. Время от времени река надрывно ухала: на ней трескался лед, змеистая щель рассекала всю толщину льда от берега до берега.
На костре* из толстых, крепко вбитых в землю бревен стоял ломоносовский гуккор, втянутый на возвышение еще по осени. Михайло сел на канат, протянутый от верхушки грот-мачты* на берег. Было тепло. Михайло распахнул полушубок. Подперши голову руками, он смотрел на реку.
Ветер доносил холодок тающего речного льда. Михайло поднялся и вышел по откосу на деревенскую улицу.
Весна брала свое. Забившиеся под застреху* с подсолнечной стороны снегири, разомлев от тепла, оглушительно галдели на низкой, густой ноте, беря разом, как будто ими командовал особенно раздувший огненно-красную грудь снегирь, который умостился впереди стаи и сам для примера закатывался что есть мочи.
Крупным шагом вдоль дорожных обочин вышагивали вороны, выглядывая первых червяков.
Хитро, на самой тоненькой верхушке ели, умостившаяся сорока, раскачиваясь по ветру, особенно сильно, чуя тепло, кричала своим старушечьим голосом.
Быстроногий поползень* обега́л ветви ветлы, зорко рассматривал кору, стараясь различить выползшую на солнце козявку, и, наконец найдя ее, резко откидывал головку, а потом – раз-два-три! – колотил острым клювиком, как маленьким топориком.
На раскинувшихся по бугру вербах и ивах уже потрескались почки, и из них выползли кончики мягких серых пушков.
Навстречу Михайле, нырками, по-воробьиному, припадая к земле, промчалась стая зябликов, на лету стрекоча свою веселую весеннюю песню.
Шла весна.
Глава десятая ОПАСНОСТЬ
В этом году Василий Дорофеевич принанял сенокосное угодье, которое находилось много ниже Курострова, уже у Большой Двины.
Когда подоспела сенокосная пора, вниз по Двине отправились всем семейством: Василий Дорофеевич, Ирина Семеновна и Михайло.
С того времени, когда произошло столкновение между мачехой и пасынком, немало воды утекло. Прошли два года, шел 1730 год. Михайло учился по своим книгам. Они лежали у него открыто, и Ирина Семеновна лишь презрительно кривила губы, когда видела книги у пасынка на столе. Она их не трогала. Через гордость свою мачехе действительно переступить было трудно. Однако она смогла переступить через другое…
Ирина Семеновна полоскала белье, с размаху ударяя о воду мокрым тяжелым полотном. Прополоскав, она складывала отжатое белье горкой на подложенные чистые камни. Повернувшись к реке и опустив в воду рубаху, она не заметила, что сложенная от нее справа горка белья опрокинулась набок и упала в воду. Когда платки и полотенца уже плыли по реке, только тогда мачеха заметила беду.
Пока она отвязывала стоявшую невдалеке лодку и вставляла в уключины весла, белье уже уплыло далеко.
Собрав разбежавшееся по реке белье, Ирина Семеновна подогнала лодку к берегу и, сильно ударив в последний раз веслами, направила ее прямо к глубоко вросшему в песок якорю.
Когда лодка со всего хода ударилась носом о якорное копье, что-то вдруг хрустнуло. Выйдя на берег, мачеха увидела, что верхняя доска, которая полукружьем была заведена под носовую скрепу, отскочила в сторону. В носу зияла дыра.
Ирина Семеновна сильно прижала отошедшую доску, просунула ее обратно под скобу, вдела на гвозди, с которых доска соскочила, так как отверстия в дереве раздались, проржавев от старых гвоздей. Доска опять держалась, и ничего снаружи видно не было.
«Опасное дело, опасное!..» – подумала мачеха. Она сообразила, что, если кто-либо, не зная, поплывет далеко на лодке, а тут вдруг волна поднимется и начнет сильно трепать и швырять лодку, доска может отскочить. Вода в лодку так и хлынет.
Кончив полоскать белье, Ирина Семеновна тугими жгутами сложила его в таз, поставила таз на плечо и пошла к разбитому невдалеке за песчаным холмом стану.
«Хорошо, что заметила! – подумала она. – Наши-то собирались как будто сегодня ночью на рыбную ловлю».
Избоченившись, она ловко и быстро шла по поднимавшейся на пригорок тропинке. Вот уже и стан их виден. Около шалаша пасутся стреноженные лошади. Вон Василий Дорофеевич хлопочет у телеги с высоко поднятыми оглоблями.
Ирина Семеновна села перевести дух, занявшийся от быстрой ходьбы. Передохнув, снова поставила таз на плечо и пошла. Вдруг она резко остановилась, пораженная пришедшей ей в голову мыслью.
«Михайло-то вовсе один собирался идти на ловлю. Василий занят, – мелькнуло в голове у мачехи. – Один, один, – билась мысль у нее в мозгу, – один… Это так…»
На лице Ирины Семеновны изобразилось волнение. К щекам ее приливала кровь, и они горели. Вдруг губы сильно сжались. Она решилась. Женщина повернулась и пошла в другую сторону, туда, где виднелся стан их соседей по сенокосу.
Увидев Ирину с тазом на плече, Алена, ее подруга и землячка, удивилась:
– Ты что?
– А так… Ничего. В гости пришла. – Ирина усмехнулась и добавила: – Душу свою испытать. Крепка ли.
– Ох, Ирина, и непонятная же ты!..
– Часом случается – сама себя не понимаю… – Будто вспомнив свое дело, она спросила: – Да, вот что: нет ли вестей каких из Матигор, от наших?
– Это что ж – сюда, в стан, вести нам слать будут?
– Ах да, да. Я и забыла… В стан… Ну конечно, в стан…
– Ты сядь, Ирина. И таз свой сними да поставь на землю.
– Какой такой таз?
– А вот тот, что у тебя на плече…
Ирина Семеновна удивленно посмотрела на таз.
– A-а… таз… Да, да… Я и забыла…
Вдруг она опомнилась. Сбросив таз на землю, она почти закричала:
– Я могла не видеть! Ничего не заметить! Все бы само собой случилось. И потом, необязательно же волна по реке пойдет.
Ирина говорила что-то совсем для Алены непонятное.
«Порченая!» – мелькнуло в голове у той. Так Ирину нередко называли за глаза еще в детстве, удивляясь странности и дикости ее нрава.
Ирина Семеновна села. Стали беседовать. Но разговор не клеился. Необычная гостья то замолкала, хмурилась, то вдруг задавала вопрос, а ответ не слушала. И как-то странно она смотрела на склонявшееся к горизонту большое солнце.
– Ночь… Скоро ночь… – некстати сказала Ирина Семеновна.
Алена все больше и больше удивлялась:
– Не пойму я тебя, мать! Беда, что ль, какая стряслась?
– А ты не во всякую душу старайся заглянуть. Смотри, ненароком испужаешься!
Алена вздохнула и больше уже ничего не старалась выведать у Ирины.
Когда Михайло к ночи уходил один на рыбную ловлю, мачеха еще не вернулась в стан.
Глава одиннадцатая МАЧЕХА СПАСЛА СЕБЯ ОТ ГРЕХА
Когда Ирина Семеновна возвратилась, Василий Дорофеевич встретил ее недовольный:
– Где же ты была?
– Дела обдумывала: как жить с тобой будем да поживать да добра наживать. На то время нужно.
– Добро-то я наживаю.
– Оно мне и досадно.
– И придумала что?
Ирина Семеновна бросила на мужа сумрачный взгляд:
– Придумала.
Она пошла к телегам, но, отойдя, бросила через плечо:
– У Алены была. Заговорились. Ну вот и задержалась. С детства ведь подруги мы. Есть что вспомнить.
Ночь Ирина Семеновна спала плохо. И как только развиднелось, она встала и пошла к реке.
За частым тальником, густо обсевшим речной берег, Двины видно не было. Быстро пройдя по вившейся среди кустов тропке, Ирина Семеновна вышла к тому месту, где берег обрывом падает к намытой рекой песчаной полосе. Она раздвинула в стороны сизые хлысты тальника. По серой еще воде Двину била частая подветренная волна.
– Ты что, мать, рано поднялась? – встретил жену только что проснувшийся Василий Дорофеевич. – Что на реку ни свет ни заря ходила?
– А искупаться – по прохладце.
– Будто ране поутру купаться не ходила.
– А вот теперь взяла да и пошла.
Ирина Семеновна вздела на перекладину чайник и медяник с кашей, запалила хворост и села у костра, неподвижно глядя на побежавшее густыми желтыми языками пламя.
– Вроде забота у тебя на сердце, Ирина. О чем думаешь?
– О чем? Да вот о том, как это человеку на этом грешном свете да без греха прожить. И стоит ли?
– Вдруг да без греха не до всего дойдешь? Так?
– Может, и так.
– А тебе все на высоту хочется?
– Плохо ли?
– Ну, станется, и придумываешь себе грех, который полегче?
– Не так уж чтобы…
– Малых грехов, от которых большая польза, не так уж много…
– И то…
Чайник зафыркал, поднял крышку, из носика в огонь побежала тоненькая водяная струйка. Через некоторое время поспела и каша.
– Без Михайлы, что ли, завтракать будем? – спросил Василий Дорофеевич.
– Без Михайлы? Как хочешь…
Уже и поели и попили, а Михайлы все не было.
– Припозднился где, – не без думы заметил Василий Дорофеевич. – Припозднился. Да.
– И раньше случалось.
– Пойти к реке поглядеть. – Накинув на плечи армяк, Василий Дорофеевич пошел к Двине.
Волна сильно брала в глубину, закипала лохматым пенным гребнем. К берегу гнали косые, во всю речную ширину валы; подкатив к лежалому береговому песку, они зло вертелись на нем туго скрученными громадными водяными столбами и зашипевшим краем бросали воду все дальше и дальше.
Василий Дорофеевич вгляделся в разбушевавшуюся реку. Лодки на волнах не видно. Еще раз хорошенько поглядел Василий Дорофеевич. Ничего. Покачав головой, он сел на вывороченный из земли лохматый от корней пень. За шумом воды он не расслышал, как подошла Ирина Семеновна.
– Что это тебя, Ирина, все к реке сегодня тянет? – спросил Василий Дорофеевич, когда, обернувшись, увидел стоявшую позади жену. – Двина-то вон! – кивнул он на разбушевавшуюся реку. – А лодчонка у Михайлы не ахти.
– Не впервой он на воде. Поймет, что, может, и переждать чуток надо.
– Отчаянная голова!
– Рассудит.
С севера черным густым валом шли тяжелые облака. Взвывший ветер пронесся над рекой, захлестал заметавшиеся кусты тальника и высоко в небо метнул сбитые листья. Он стал рвать с воды длинные тонкие струи, рассыпал их в воздухе, гнал водяную пыль. Как будто над водой летел густой мелкий дождь. Так зимой от ветра летит над землей снежная поземка.
С высоты падали на воду чайки, вскрикивали и в сильном воздушном течении взмывали вверх, косо под ветром раскинув острые, как два ножа, крылья. Река, казалось, хотела вырваться из душивших ее берегов.
Через гряду облаков рвался ветер, под его ударами они тревожно метались на высоте. Так в небе мечутся дымы, взмывшие над землей от стоверстных лесных пожаров.
Темнело. На нижний слой облаков где-то вверху накатывал новый облачный вал. По краям туч зажглась едкая огненная грозовая кайма.
Ирина Семеновна из-под ладони смотрела на реку. И вдруг – это ей не показалось – она что-то различила. Вдали по волнам под верной рукой приникала к воде тяжело шедшая к берегу востроносая лодка.
Василий Дорофеевич спросил вскрикнувшую жену:
– Ты что?
Она молча указала на реку.
– Ни к чему удальство, переждать бы. Это Михайло, – сказал Василий Дорофеевич, вглядевшись в даль.
Михайлина лодка с трудом держалась на воде, как чайка, которая вдруг с косого быстрого полета скользнет вниз и с криком врежется в волну.
Михайло чувствовал малейшее трепетание лодки, под его рукой она держалась на воде как живая. В мгновение, которое грозило гибелью, Михайло одним рывком вёсел, движением туловища наклонял лодку, и волна, которая грозила перевернуть лодку, захлестнуть ее, завертеть в плотной воде, улетала за его спиной.
Вот лодка уже недалеко от берега.
Ирина Семеновна глубоко вздохнула:
– Спас Господь душу от греха!..
– Какую душу?
– Человеческую.
Мачеха быстро пошла тропинкой в сторону от реки. Все-таки она не могла сразу взглянуть Михайле в глаза.
Упали первые большие капли дождя. И вдруг сразу раздался низкий могучий гул. Это под прямым ударом ливня загудела земля.
Последним рывком Михайло повел лодку на гребень. Она замерла на переломе волны, затрепетала и полетела на водяном изгибе со всего маху на прибрежный песок.
Глава двенадцатая МИХАЙЛО ВСЕ ЗНАЛ
По тому, как пасынок посмотрел на нее при встрече, Ирина Семеновна заподозрила, что он о чем-то догадывается.
Когда, уже к вечеру, они оказались с глазу на глаз, мачеха спросила Михайлу:
– Примечаю я, будто сказать что-то мне хочешь. Тайное, что ли? Говори. Одни мы. Как скажешь, что до времени таишь, на душе легчает… – И насмешливо посмотрела на пасынка.
– Понимаешь, матушка, чуть было не искупался я, а может быть, и того боле.
– Что так?
– Да лодка с течью, и с хитрой какой! Доска одна разболталась, а с виду и не скажешь. Хорошо, что заметил.
– А как же ты в такой лодке по реке выплыл? Волна-то вон какая была!
– Крутая.
– Как же ты?
– А я лодку зачинил. Сидел я на берегу, у края лозняков, не заметила ты меня. Как белье, которое у тебя расплылось, ты изловила да лодку подогнала, гляжу издали это я: вроде ты у носа лодочного что-то поправляешь. Как ты ушла, я к лодке – ну и благодаря тебе, матушка, все и увидел. Пришлось хорошенько гвоздями забить да еще и посмолить. Для такого случая и всю лодку проглядел, чтобы где не просаливала. Неровен час… Сама, матушка, о повреждении, видно, сказала бы мне, ежели встретились бы. Да не вышло. В гости, что ли, ввечеру куда ходила?
Мачеха вплотную подошла к Михайле, схватила его за рубаху у плеч, притянула к себе. Тихо и бешено прямо в лицо Михайле просвистели сквозь сжатые зубы ее слова:
– Да ты что, в кошки-мышки, что ли, играешь?!
Михайло схватил мачехины руки, изо всей силы сжал их. Хрустнули кости, но мачеха не издала ни стона. Сдавленным, глухим голосом Михайло крикнул:
– Не утонул! Нет! Жив – видишь?
Ирина Семеновна отвела в сторону глаза и криво усмехнулась.
Сняв со своей груди мачехины руки, Михайло отпустил их.
– Великий гнев у тебя, матушка, в душе живет! Так гневливо и дела как следует не сладишь.
Теперь терять Ирине Семеновне было уже нечего. Все открылось. Она села на корягу, скрестила на груди руки, подтянула края платка и с наглым спокойствием спросила:
– Так. Отцу уж сказался?
– Нет.
– Почему? Не поспел?
– Не потому. Нужды нет.
– А ты не побрезгай.
Обидные Михайлины слова так и резанули мачеху по сердцу, но она только скривила губы.
– «Нужды нет»! – продолжала Ирина Семеновна. – Притворяешься. Не боюся я ни твоего рассказа, ни твоего оговора. Понял?
– Понял. Правда, не боишься. Да и не след такого бояться. Гнева только своего бойся. В нем слепой становишься.
– Не уразумею я тебя, Михайло. Это ты по христианству, по-доброму? Как тогда с быком? Или просто так – струсил?
– Когда человек сильно сердится, случается, без веры говорит. И слова ему тогда не для правды, а для утешения самого себя.
– Мудрость, мудрость… Глубина, ой глубина!
– А в слове самая суть – правда. Для того оно и придумано.
– Все-таки не пойму: с чего бы?
– Ненадобен тот рассказ. Ни к чему.
– Так вот я же объясню тебе. К тому хотя, чтобы подобный нынешнему случай когда не повторился. Уразумел? А?
И мачеха, подняв голову, бросила на Михайлу насмешливый взгляд.
– Уразумел, уразумел! Как не уразуметь. Вот и говорю, что подобное не случится боле.
– Это ты откуда же ведун таков выискался, что в чужой душе как по писаному читаешь? В твоих книгах, что ль, про то описано?
Михайло молчал и что-то обдумывал.
– Аль такая линия одолела тебя – все добром и добром, покуда добро само собой верх возьмет? Не потонет ли в мирском зле твое одинокое добро?
– Будто мое добро одинокое?
– Каждый за свое стоит, и то людей делит. Свое добро чужому добру друг невеликий. Как те два добра столкнутся, нетрудно и злу загореться.
– Ну, матушка, уж если ты по такой высоте повела, то на ней и будем дело решать.
Ирина Семеновна молчала.
– Вот что. У тебя, матушка, разум…
Мачеха перебила:
– Благодарствуем на добром слове.
– Потому ты и поймешь…
– Ой ли, дойду ли?
– Дойдешь. Только не сразу поверишь. Зло, матушка, широко разошлось. Много неправды над народом.
– Мятеж, что ль, какой замыслил? Аль в ушкуйники* собрался? Атаманом учиниться захотел? Пытали, пытали до тебя. Многие головы сложили.
– А я новым делом займусь – науками.
– Не впервой слышу. Ежели и так, то что? В науке, что ль, на мятеж подниматься?
Михайло усмехнулся:
– Я говорил, матушка, что у тебя разум! Вроде…
– Ну, одно дело мы решили. Растолковал мне, к чему науки лежат. Без тебя бы и невдомек. Ты-то что в науках творить будешь? Ты, что ль, учнешь тот свет по земле разливать? Это вроде как Ермак – тот Сибирь под руку брал, ты теперь – науки. Что ж замышляете, Михайло Васильевич?
– Теперь, матушка, к тому, что у тебя на сердце лежит, и подхожу. Большим наукам у нас здесь обучиться негде.
– А ты здешние, значит, вполне уже постиг? До самого дна? Теперь к самым высоким стремишься?
– К самым высоким.
– И не страшно? Где же тем наукам быть? Стой, стой… – Мачеха морщила лоб. – Стой… Вон оно что!.. Это ты говоришь, что за теми науками тебе в дальний поход. И нам, стало быть, к расставанию себя готовить. Ой, плач и воздыхание!.. И куда же думаешь подаваться? Сам ли или, может, с какой ратью на науки ополчаться будешь?
– Сам.
– Ну богатырь!.. Как одолеешь, обратно сюда, нам, темным, на удивление?
– Какое дело у нас есть ныне здесь для больших наук?
– A-а… Разумею. В помышлении своем от родного гнезда совсем отлететь замыслил? Ровно птица вольная.
– Вот ты, матушка, правду и угадала. И слава богу. И еще знаю: о намерении моем батюшке сказывать не станешь.
– Ясновидец, ясновидец! Правильно говоришь. Мозги не корова сжевала. И чем там брать будешь?
– Надо терпением.
– Для терпения кому храбрости недоставало? – Ирина Семеновна глубоко и устало вздохнула: в сердце у нее не было ни торжества, ни радости. – И как это только случается: одолеешь в чем, ждешь – взыграет от того дух, глядишь же: ничего нету, и в сердце пустота.
– Когда не в добром деле одолеешь.
– Много ли их, добрых дел-то?
– А ты, матушка, поищи.
– Не пустая ли забота?
– Там и видно будет.
– А думал ты, хитрец-мудрец, что бабе дел никаких-то и нету? Не придумано еще. Скучно мне, ох скучно!
Ирина Семеновна откинула голову, платок сдвинулся, и густые косы ее упали на плечи.
– И что мне, бабе, нужно? А?
И, обращаясь к Михайле, она сказала:
– Ты говоришь: добро. А в добре для меня дела мало. И знаешь что? Я ведь ни добрая, ни злая. Сказала: просто скучно мне.
– Скука – она часом и опасная бывает. Невзначай кого и погубишь…
Ирина Семеновна метнула на Михайлу быстрый взгляд, снова враждебный и злой.
– Всё занятие.
– Не через меру ли?
– Как для кого.
– Тебе-то дешево ли дается? Поутру, как вернулся я, заметил, будто лицо у тебя как после дурной ночи. Не спала, что ли?
Ирина Семеновна пренебрежительно посмотрела на улыбающегося Михайлу и ничего не ответила. Она не спеша убрала разметавшиеся косы; вынимая по одной зажатые в зубах костяные резные шпильки, закрепила волосы и накинула на голову платок.
– Так, Михайло Васильевич, на великие дела, стало быть, поднимаешься. Так-так… Что ж, дай Бог нашему теляти волка задрати.
– Не поперек, значит, твоей дороги стою. И душу твою понимаю.
– Мою, может, и понимаешь – нехитрое дело. Свою понимаешь ли? Так ли легко она от деньги́ да достатка отпадет?
– Вот, матушка, и хотел сказать тебе… Малость потерпи. На скуке своей смотри не сорвись. А то как еще да не вполмеры возьмешь…
– Кто ж его знает – может, и на полную меру хватит.
– Вот и хочу остеречь тебя. Против самой же себя.
– Еще спасибо на добром слове. Вроде душу мою спасти хочешь. И долго ль, стало быть, в надежде нам жить да ожиданием томиться?
– Нет, недолго.
Повернувшись спиной к мачехе, Михайло пошел по косогору в сторону леса. Отойдя немного, он обернулся и сказал:
– И знаешь, матушка, земля от стыда еще никогда не проваливалась.
Михайло шел твердой морской походкой, покачиваясь из стороны в сторону, крепко ставя ноги в рыхлый песок, и скоро его высокая фигура скрылась за кустистым тальником, у поворота идущей по песчаному откосу дороги.
А Ирина Семеновна все сидела и думала и никак не могла решить, правду ли ей сказал Михайло, в самом деле куда-то он там собирается или смеха ради говорил? А коли так, то пусть бы уж он лучше не смеялся… Ну а если сказанное им и в самом деле правда, то все-таки какая-то странная и мало ей понятная.
Глава тринадцатая «КНИГА БОГОМЕРЗКАЯ АЛЬВАРУС»
Вернувшись по осени с моря, «Чайка» на несколько дней задержалась в Архангельске.
Проходя как-то по набережной, Михайло остановился около подогнанной к самой пристани ладьи, груженной гончарной посудой. Хозяин ладьи, холмогорец, только что приведший ее в Архангельск, рассказывал собравшимся на палубе последние холмогорские новости.
Слушатели негодовали, поддерживали рассказчика возгласами, перебивали возмущенными вопросами, заставляли еще раз пересказывать. Михайло сел поодаль на лежавшее на берегу бревно. На него не обратили внимания.
Собравшиеся на ладье были раскольниками.
Было от чего прийти в ярость! Как же! В Холмогорах, в славянской школе, что при Архиерейском доме, с этой осени будут обучать чему? Латыни! Сам, сам, своими собственными ушами он это слышал! И рассказчик обводил слушателей негодующим взором.
Вот до чего дожили! Сегодня людей заставляют латинский язык учить, на котором кто молится? Католики! А завтра и крест четырехконечный, латинский, отверженный, над землей Русской поднимут. Вот к чему ведут никониане! А когда рассказчик сообщил, по каким книгам будут учить латыни, это и еще подлило масла в огонь.
Своими глазами Михайло видел несколько таких книг в Холмогорах. Как откроешь эту книгу – тут же намалеван ангел: не наш. Глаза у него в сторону смотрят, хорошо приглядишься – смеются. Под ангелом же, что глаза скосил, он самый и есть – крыж! Крест четырехконечный! Вот и смеется ангел этот, крылышками двумя помахивает: глядите, мол! Да разве то ангел? Бес! А по бокам, пониже, какие-то хари богопротивные, носы у них длинные-предлинные, вроде даже языки показывают эти хари!
И, слушая это, раскольники дружно плевались.
Кто сочинил ту книгу? Кто! И-е-зу-ит!*
И когда слушатели недоуменно переглянулись, рассказчик им пояснил, кто такие иезуиты. Он бывал в Выговской пустыни, где и поднаторел во всем, что нужно знать истинному блюстителю древлего благочестия. Да, сочинил ту книгу иезуит Альварус.
– Сжечь бы ту книгу богомерзкую Альварус! – мечтательно проговорил один из раскольников.
– Сжечь! Поди, и в огне не горит: дьяволова!.. – вздохнул другой.
В Холмогоры привезли книги, по которым можно научиться латыни! Эта новость поразила и обрадовала Михайлу.
Еще весной Сабельников как-то сказал ему: «Ну, брат, на высоте ты уже – „Арифметику“ и „Грамматику“ назубок взял. Чтобы еще выше в науки пройти, требуется знать язык латынь. К высоким наукам без него не подступишься».
Как научиться латыни? Хоть немного. С этим и в Москве легче будет. А именно туда и решил уже пробиваться Ломоносов. Теперь же ясно: по возвращении надо попытаться раздобыть в Холмогорах книгу Альваруса. Но как это сделать?
Вернувшись домой, Михайло узнал, что для обучения наукам в преобразуемую холмогорскую славянскую школу из Москвы присланы два новых учителя: Лаврентий Волох и Иван Каргопольский. О последнем и его необычной судьбе Ломоносову рассказали немало.
Но как же все-таки добыть книгу?
В осенний день спозаранку Михайло отправился в Холмогоры. Он знал дьякона, у которого можно было бы попытаться получить книгу Альваруса. Дьякон состоял при Архиерейском доме и был близок к славянской школе. Как к этому дьякону приступиться – это Михайле было известно, и потому он взял с собой полтинник, скопленный правдами и неправдами.
Ломоносов приступил к делу прямо. Сказав, что хочет получить книгу Альваруса, он вынул из кармана деньги.
– Вот за книгу ту заплачу.
Дьякон не без благосклонности взглянул на полтинник. Что же делать? Дело неплохое – полтинник, но вот как все-таки отдать книгу? Ведь все на счету.
Хитрый дьякон погладил бороду, пустил ее тыльной стороной ладони лопатой вперед и задумался. По достойном промедлении сказал:
– Вот что, Михайло. Знаю твоего отца. Усердный христианин. Его прилежание великую помогу воздвижению нового каменного храма, Дмитровской церкви, оказывает. Знатное рвение употреблено Василием Дорофеевичем для сбора денег среди земляков на построение сего блистательного дома Божьего. И Василий Дорофеевич сам усердный жертвователь. Сыну сего достойного христианина от нас должен быть почет.
Михайло молчал. Дьякон не торопился продолжать, видимо что-то обдумывая. Оглядев сидевшего напротив Михайлу, он сказал:
– Достойный сын Василию Дорофеевичу. Ну, отец-то безбеден, потому и сыну такому, чтобы с честью имя носил, видно, сколько нужно денег дает?
Михайло сразу понял, куда клонит дьякон.
– Отец дьякон, боле ничего нету. Одна только полтина. Батюшка деньгами не балует.
– А-а-а! В скромности и воздержании растит отрока. Деньги что? В деньгах и пагуба таится.
«Нет – что же полтинник? Стоит ли? Не стоит…»
– А для какой надобности Альваруса иметь желаешь?
– Книги латинские хочу читать научиться.
– А хорошо ли обдумал, каков будет плод стремления твоего?
– Отец дьякон, боле полтины нету.
– Не о том говорю, криво толкуешь, – строго сказал дьякон. – Нехорошие мысли. Не подобают тебе… Греховные помышления. Если бы можно было, то и без платы отдал. Но книги сии Архиерейскому дому принадлежат. Помыслю ли за мзду отдать? Как обо мне думаешь?
– Неподкупность всегда в вас чту, отец дьякон.
Косо и подозрительно глядя на Михайлу, дьякон сказал:
– Хочу открыть очи твои. Прозри! – Дьякон учительно поднял перст. – Наукам предаешься, знаю! Язык латинский усугубит познание твое. А помыслил ли ты, каковая горечь проистечет для тебя от наук? Вроде овцы заблудшей окажешься. С латынью ли за сохою идти? А?
Дьякон смотрел на Михайлу почти грозно.
– Разумен ты, потому помысли и о большем. Господь, творя человека, создал его так, что каждый член в нем и каждая способность – для своего дела. Руки – для труда и созидания, очи – для лицезрения величия творения, речь дана человеку, чтобы всечасно славить Господа. В человеке все определено высшей мудростью и промыслом[21]. И захоти кто нарушить Божеское предустановление, разрушится все и получится полное нарушение естества. Так и в государстве. Все в нем мудрым разделением держится. Правитель печется о благе народном и во главе боярства и дворянства оберегает родную землю от супостата. Духовенство усердно молит Господа о ниспослании благодати[22]. Крестьянство трудится и в поте лица добывает хлеб насущный, чтобы пропитать себя и своих соотечественников. Многие же люди предаются различным рукомеслам и пекутся об одежде, жилье и всем прочем, потребном для всего народа.
Дьякон прервал течение мысли и предался размышлению по поводу столь возвышенных предметов. По окончании размышления он продолжал:
– Ежели преступить границы дозволенного, то получится великое смятение всего и раздор. Обратимся к уподоблению. – Дьякон опять поднял учительно перст. – Ежели, к примеру, крестьянство, пекущееся о хлебе насущном, потщится выйти из своего состояния, то зарастут плевелами* поля и оскудеют житницы*, учинится запустение великое, и глад поглотит весь народ купно же с крестьянством. И колико[23] мудро предустановлено все сие Господом, обнаруживается через то, что ежели когда таковая дерзкая и с разумом несовместная попытка возникает, то Господь наказует сих преступающих Его закон и обрушивает на них кару.
– Отец дьякон! Достоин ли я столь высоких размышлений!
Дьякон метнул в Михайлу уже злой взгляд. Но он умел держать себя в руках.
– Оные крайности, за которые все одно карает Господь, могут быть предупреждены, ежели со тщанием и неотступно наблюдать порядок, учрежденный промыслом. И кому же, как не нам, всечасно молящим Господа о ниспослании благодати, кому же, повторяю, как не нам, воссылающим Ему молитвы, следить за тем, чтобы сей установленный порядок блюлся свято?
Дьякон застыл в положении восторга и умиления. Глаза его были устремлены горе[24].
Когда благодать отпустила дьякона и он снова сошел мыслию к сей бренной[25] жизни, то сказал Михайле:
– Ты, Михайло, крестьянский сын, в подушный оклад* положен. Возмечтал, Михайло! Смирись!
У Михайлы начинало закипать под сердцем.
Дьякон продолжал:
– По лицу твоему пробежала как бы тень. Вижу! Но да не ляжет тебе на душу горечь. Говорю тебе: в крестьянской доле – великий почет. Ведь через крестьянство, через его святой труд, доставляется людям всяческое пропитание, чем и продлевается жизнь рода человеческого. Душа возвышается, когда помыслишь о сем! Твое дело – крестьянствовать у двора. Всякому свое: нам, служителям церкви, воссылать молитвы Господу о прощении грехов всех людей и наших собственных!
Дьякон приблизил одна к другой отверстые[26] ладони и устремил их вверх, подняв ввысь и очи. Так он и оставался в умилении, смотрел в угол, как бы возносясь мыслию.
Михайло посмотрел, куда устремлял взор дьякон, и спросил:
– Это что, отец дьякон, вы там разглядываете?
– Как – что? Благодать узреть устремляюсь.
– Это, стало быть, она из того как раз угла на вас нисходит?
Дьякон побагровел. Мутным злобным взглядом он уставился на Михайлу и вдруг – куда девался бархатный голос! – завизжал:
– A-а! Что говоришь? Кощунствуешь? За подобное-то знаешь что?
– Знаю! Не в ад. Длинно, отец дьякон, говорили. Не короче ли было бы, если бы о Качерине вспомнили?
Дьякона под самый корень подрезало. Он ведь думал, что уж так-то тайно качеринское дело ладит, что никому о том и слыхом не слыхать. А вот оказалось, что благодарственные воздания Качерина, крестьянина, сын которого учился у них в школе, куда крестьянским детям доступ был закрыт, известны… Дьякон захлопал глазами, засопел, что-то хотел сказать, но только непонятное прохрюкал. Даже лисьей дьяконовой хитрости дело оказалось не под силу.
– Отец дьякон, – продолжал Михайло, – вы говорите, что крестьянство тем взяло, что хлеб взращивает, чем споспешествует продлению жизни рода человеческого на земли?
Дьякон ответил зло и грубо:
– Говорил. Так оно и есть.
– Однако отец мой и я – мы поморы, по воде ходим, а хлеб растим только что для себя. Мы, значит, из общего установления уже и выступили? А? Посему учрежденное для крестьянства, которое хлеб взращивает, нас уже и не касается?
– А ты не мни, что я глупее тебя разумом случился. Когда тебе еще сопли мать подолом утирала…
Но тут дьякон вовремя заметил, как бешено сверкнули глаза у Михайлы, как он потемнел лицом и двинулся вперед. Как-то невольно голова дьякона нырнула в плечи.
– Опомнись, опомнись! – крикнул дьякон.
Михайло косо посмотрел на съежившегося дьякона и процедил сквозь зубы:
– Видно, отец дьякон, духом приуготовились стать за проповедуемую истину?
Он круто повернулся и пошел к двери.
Глава четырнадцатая «ПАРИЖСКИЙ СТУДЕНТ»
Но Михайло не успел выйти. Дверь распахнулась, и на пороге появился высокий плечистый человек в одном кафтане и без шапки. Он окинул глазами перепуганного дьякона, взглянул на разъяренного Михайлу.
– Эге! Никак, баталия?
– Никакая не баталия! – И остановившийся при появлении неизвестного Михайло взялся за ручку двери.
– Дерзости преисполнен, – заявил приободрившийся дьякон, – дерзости. Грамотей здешний знаменитый.
– Кто? – насторожился вошедший.
– Михайло Ломоносов.
– А-а-а… Ломоносов. Слыхал.
Вошедший преградил путь Михайле.
Михайло сделал еще шаг вперед.
– Погоди! Потолкуй с Иваном Каргопольским. Давно пора. Еще когда следовало прийти.
Михайло с удивлением уставился на этого высокого человека в потертом кафтане. Лицо его густо заросло сивой щетиной, волосы были разметаны, из-под нависших густых бровей насмешливо и умно поглядывали внимательные цепкие глаза. Иван Каргопольский! Вот он каков!
– Садись, дьякон, садись, Ломоносов, – кивнул обоим Каргопольский, усаживаясь на скамью.
Дьякон и Михайло сели.
– Вышел я из дому, вдруг слышу: ты, дьякон, кричишь. «Не беда ли? – думаю. – Соседи ведь, рядом живем. Ну всё, оказывается, слава богу. – И вдруг на чистейшем французском языке Каргопольский добавил: – Et le combat cessa faute de combattants![27] Не понимаешь, Ломоносов? Ничего, скоро поймешь. Ума искатель.
– Вот именно, вот именно, – зачастил дьякон, – ума искатель! Справедливо сказал. А чего ищет, и сам толком не знает. Явился ко мне – и с ножом к горлу: давай, мол, книгу Альваруса! Латынь по ней постигать буду! Очень уж надобна! В науки спешу! И опоздать боюсь! Говорю ему разумное: установлено – крестьянину быть у двора. Разъярился! Айв Писании про такое найти можно. Ежели и не прямо, то по смыслу узришь.
– Почему же не прямо? А? Почему? Так в Писании и сказано: Михайле Ломоносову, куростровскому крестьянину, в науки вступать не должно.
У дьякона зло сверкнули глаза.
– А-а-а… Что-то не встречал я такого в Писании-то, Иван Иванович.
Вдруг по еще пунцовому от волнения Дьяконову лицу поплыла сладенькая усмешечка. Он зажмурил от удовольствия рысьи глазки, в горле у него что-то ёкнуло от смеха, и елейным голосом дьякон уже неспешно проговорил:
– Значит, усердно Писание читаешь, Иван Иванович, ежели такое там вычитал.
– А ты поищи, дьякон, поищи. Там на всякий вкус есть.
– Угу, угу! – посопел довольно дьякон. – Вот именно. Да что это я? Попотчевать дорогого гостя! Не выпьешь ли чего?
– Спасибо, дьякон.
– Как знаешь, как знаешь… Была бы честь оказана. Видно, не любишь этого зелья. А насчет Писания и в самом деле тебе виднее. Науки вон как постиг: философию и богословие. За морем, слыхали, был. А теперь сюда, в Холмогоры, к нам пожаловал – рвения, видно, исполнен свет наук по земле по российской по всей рассеять. Слава тебе, Господи, явился к нам, темным. Холмогоры наши сам небось выбрал, в Санкт-Петербурге да Москве не желавши остаться? А?
Дьякон длинным носом давно уже многое пронюхал и кое-что успел-таки узнать. «Парижский студент» Иван Каргопольский и в самом деле не по своей воле в 1730 году попал в Холмогоры.
Было это уже давно – в 1717 году.
Ранней весной, как только позволили льды, по Балтийскому морю в Голландию, в Амстердам, пошел шнява* «Святой Александр». Он взял на борт девять учеников Московской славяно-греко-латинской академии: из риторики, из синтакси, из грамматики, а также из поэтики.
Еще в Москве им дали прочитать указ Петра, присланный из Амстердама: «По получении выберите немедленно из латинской школы лучших рабят, высмотря гораздо которые поострея, человек 10, и пришлите морем на шнаве, который будет отпускать генерал-фельдмаршал и губернатор кн. Меншиков».
Проучившись недолгое время в Голландии, трое из выбранных для иноземного обучения, Каргопольский, Постников и Горл едкий, были отправлены для сугубого учения дальше – в Париж. Саморучно царь писал своему резиденту при версальском дворе, барону Шлейницу, чтобы наблюдал он за учением российских юношей.
Годы парижской жизни… Сорбонна*, Монмартр*, Корнель, Расин*, Мольер*, студенческая нищета…
Наконец в 1722 году пришел указ: «парижским студентам» вернуться домой.
Не один канцелярист в Петербурге усмехнулся себе в ус, потолковав с «парижскими студентами», которые сразу захотели приняться за великие дела. Погодят с заморскими своими науками!
А новоприбывшие взяли да и ударили челобитную* на государево имя, прося поместить их, куда его императорское величество заблагорассудит, сообщая пока, что они «безместно и бедно скитаться принуждены».
Пока дело дошло до Петра, немало воды утекло, но, получив челобитную сорбоннских выучеников, Петр повелел Синоду* определить их к делу.
Больше всех преуспел Горлецкий. Преподнеся Екатерине I составленную им грамматику французского языка, он через некоторое время был определен адъюнкт-профессором в Академию наук. Каргопольский же и Постников делали по поручению Синода переводы, и только осенью 1725 года они получили постоянные места преподавателей Московской славяно-греко-латинской академии. Постников удержался на своем месте и впоследствии дошел даже до должности директора Московской синодальной типографии. Каргопольский же в служебной деятельности не преуспел. В следующем году он был уволен из преподавателей академии и перешел на «иждивение» Московской синодальной конторы. И наконец строптивый и неуживчивый «парижский студент» оказался в Холмогорах – подальше от Москвы и Петербурга. Но и здесь он недолго удержался. Через год его отрешили от должности.
– Значит, заморскими науками нас просвещать прибыли, – продолжал юлить дьякон. – Как славно! За морем науки, чай, глубоки?
– Хоть куда!
– У нас таких и не найти?
– Покуда нету. Будут. Вот, к примеру, Михайло Ломоносов в них преуспеет. А? Каково, дьякон?
– Ежели рассудить, то что ж? Хорошо. И давно ты отправился в… Уж не обессудь, названия не упомню.
– Немалое время тому назад. Около четырнадцати уже годков.
– Как к хорошему делу пристанешь, – продолжал дьякон, – и оно к тебе добром обернется. Достатку у тебя за это время набежало от наук? Ведь четырнадцать лет! И почести, что за труды ученые полагаются, на тебя снизошли?
– А как же! Снизошли.
– Ну и слава богу. За морем долго ли обретался?
– Пять лет и еще немного.
– Хорошо за такое время все постиг. Многому научился. А как сюда явился – сразу же тебе почет и всякое богатство? Или немного повременя?
– Повременя.
– Что так? – участливо спросил дьякон.
– Мерзавцев на свете много.
Дьякон насторожился:
– Вон как! Это в Петербурге да Москве?
– Везде хватает.
Игривости в голосе у дьякона поубавилось.
– Значит, нерадостно приняла родная сторонка? А ты бы, Богу помолясь и крестным знамением себя осенив, самому государю челобитную подал.
– Да подавал.
– И что же?
– Государь Петр Алексеевич что нужно приказал. Да «жалует царь, да не жалует псарь». Промеж государя и подданного много насело такого, что не особо о деле печется. А потом Петр Алексеевич помер.
– Помер. Да. Ну и тебе без государя хуже?
– Ну тут, дьякон, всякое пошло.
– Да-да, – участливо покачивал головой дьякон, – всякое. Ну ты, стало быть, новым правлением и недоволен? Чем же быть довольным? А? Где уж теперь правда и справедливость?
Дьякон выжидающе уставился на Каргопольского.
Тут сказал Михайло:
– Отец дьякон, все ли, что Иван Иванович говорит, хорошо упоминаете? На всякий случай.
Сделав вид, что ничего не понял, дьякон ответил:
– Памятью Бог не обидел.
Вдруг дьякон приблизился к Каргопольскому и с удивлением стал разглядывать его кафтан.
– Иван Иванович! Не нов, уж совсем не нов… – Он сочувственно потрогал сильно потертый кафтан Каргопольского и развел в изумлении руками. Потом сделал вид, что о чем-то догадался. – Кафтанец-то который получше, бархата рытого*, золотом шитый, серебром стеганный, каменьями изукрашенный, что науками себе промыслил, видно, к какому случаю бережешь. А покуда попросту ходишь. Смирения ради. Нет! Не то! Еще из Москвы не все сундуки прибыли. Не весь обоз доставлен! Спешил к нам!
– Не ношу покуда дорогого кафтана, дьякон. Случая нет. Вот ежели меня у отпуска съестных припасов из Архиерейского дома на нужды школы каким начальством поставят, тогда уж по должности придется приодеться, чтобы не срамиться.
Дьякон позеленел. Ему сегодня не везло. Сначала Качерин, теперь вот этот… Ведь он-то и стоял близко к отпуску съестных припасов из Архиерейского дома. И кое-что ему перепадало. И откуда этот черт знает? Дьякон даже засопел от злости.
Сдержавшись, сказал:
– Не Михайлу ли Ломоносова ныне хочешь наставить на ученый путь, на котором сам столь преуспел? Видно, надеешься, что он по ученой дороге дойдет до знатности и богатства. Вон как ты! Хорошо бы, хорошо бы… Дай-то Господь, Иван Иванович, тебе у нас подоле пожить, отроков наших в школе добру и правде наставляя. Ежели от меня что будет зависеть, то уж порадею, чтобы у нас остался доле и куда дальше, к примеру, не поехал.
Каргопольскому вся эта комедия наконец прискучила.
– Ну, дьякон, перестань юлить: надоел! За доносы-то тебе платят или ты просто из усердия?
Выйдя из дьяконова дома, Каргопольский и Ломоносов прошли по косогору к притулившейся на юру* избушке.
Глава пятнадцатая ПОЧЕМУ ОПЛОШАЛ В ЖИЗНИ ИВАН КАРГОПОЛЬСКИЙ
Услышав, как проскрипела на несмазанных петлях входная дверь, с русской печи сползла старушонка. Нащупав обутыми в валенки ногами скамью, она сошла на пол.
– Постоялец жалует. И гостя, никак, привел. Кого Бог посылает? – кряхтела старуха, приставив к подслеповатым глазам ладонь. – Никак, Михайло?
– Михайло, Михайло. Взбодри-ка нам, бабка, угощеньице какое. Попотчевать гостя.
Бабка вздула в горнушке* огонь и поставила на шесток* сковородку с шаньгами*, а Каргопольский, подойдя к полке, стал перебирать стоявшие на ней скляницы*, разглядывая их на свет. Выбрав наконец одну, поставил ее на стол.
– Ведь вот сказываю ему, хорошему человеку, – присев на лавку, заговорила бабка: – И что это ты к этому зелью проклятущему пристал? – Она кивнула на полку, где рядком выстроились скляницы с водкой. – Что? Нешто от зелья от этого польза какая?
– А не во всем, бабка, польза есть, не во всем. Если бы в свете одна польза жила, то куда бы вреду деваться? А ему ведь во как жить надобно!
– Вот так всегда: скажешь ему дело, а он тебя на смех.
– А что думаешь – в смехе правды, что ль, нет?
– Почему нет? Есть. – И старуха проскрипела: – От той правды сюда, к нам, и пожаловал?
– Ой, Дмитриевна! На три аршина* сквозь землю видишь!
Шаньги поспели. Елена Дмитриевна подала их на стол.
– Не приложишься ли? – спросил ее Каргопольский, открывая пробку. – Для бодрости.
– И без того бодра, – прошамкала старуха.
Михайло тоже отказался.
Каргопольский налил себе. Понюхав хорошо настоявшуюся на мяте водку и прихлебнув сначала, он начал медленными глотками пить.
Старуха смотрела на него неодобрительно.
– Ну – огонь глотает! И ничего! А ведь человек-то какой? Все остальное для него – возьми да брось. Просто тьфу! А зелье свое настаивает, бережет. Ежели траву ему не ту принесешь, то и заругает.
– А к этому со вниманием быть следует. Непростое дело. Вот мы, к примеру, называем: водка. А французы говорят: жизненная вода.
– Ка-ак? – протянула Елена Дмитриевна. – Для какой же такой жизни она надобна?
– Случается такая, случается…
Старуха поглядела на Каргопольского исподлобья.
– Да уж, видать, да… – Она покачала головой. – Знаешь, Михайло, как выпьет Иван Иванович, так тут тебе и беседы. Говорит-говорит, а потом сам с собой учнет разговаривать, будто в нем кто второй сидит.
– А в человеке, Дмитриевна, всегда два человека должно быть. Один делает, другой его судит. За ним присматривает.
– Сидит это Иван Иванович, – продолжала Елена Дмитриевна, – руками в разные стороны двигает, размахивает ими, до дела никак договориться не может.
– А это оттого, что разговор, который кто сам с собой ведет, не всегда легкий.
– А потом вскинется, вскликнет что да по горнице как зашагает, аж половицы ходуном ходить станут! А то и ночью со сна говорит.
– А ты, бабка, не всякое слушай.
– И то не всякое слушаю. Креста, что ль, на мне нету – все, что говоришь, слушать? Такое, случается, скажешь – и про властей предержащих, и про духовных каких особ. Хоть святых выноси!
Старуха обратилась в красный угол, густо увешанный иконами в золоченых окладах, и положила на себя крестное знамение.
– Будто, Дмитриевна, и сама в том не без греха?
– Ежели когда и случится, то в какой крайности… – вздохнула Елена Дмитриевна и еще раз перекрестилась. – Грехи, грехи!
Она встала со скамьи, надела шушун*, накинула на голову платок и увязала его концы за спиной.
– Корову доить время. Пойду. Да и место опростать. Видать, разговор с Михайлой промеж четырех глаз вести хочешь.
– Непростая у нас Елена Дмитриевна! – сказал, усмехаясь, Михайло, когда старуха вышла с подойником за дверь. – Знахарка. Все видит!
– Ну вот, Михайло Ломоносов, давай-ка потолкуем. Значит, ты у дьякона книгу Альваруса хотел добыть?
– Да.
– И что?
– Не дал дьякон. Полтинник у меня всех денег. А ему мало. Ну и стал он проповедь читать: крестьянский сын, в науки вступать тебе не до́лжно, смирись.
– Ты и осерчал?
– Не без того.
– На сердитых воду возят. Сердиться можно, только по злобе дела оставлять не надо. – Каргопольский глубоко вздохнул. – И в обиде утешения не ищи.
Он встал из-за стола и пошел в угол, где на сундуке лежали книги. Взяв небольшую, но довольно толстую книгу в желтом кожаном переплете, он, подойдя к столу, отдал ее Ломоносову:
– Вот тебе Альварус.
Осторожно, будто боясь, чтобы маленькая книга не пострадала от его больших рук, Ломоносов взял ее и стал оглядывать со всех сторон. Раскрыв книгу, он крепкими заскорузлыми пальцами начал листать страницы, всматриваясь в непонятные латинские буквы, в бежавшие в край страниц туго набранные строки.
Вот она, прямо перед глазами, эта латинская мудрость, которая может повести его далеко, изменить всю его жизнь. И так же осторожно, как взял, Михайло положил книгу на стол.
– Вот что, однако, скажи ты мне, Михайло. Самому перед собой покрасоваться куда как приятно. Так вот – не казалось ли когда тебе, что ты себя вроде придумываешь? Понимаешь, о чем я говорю?
– Понимаю, понимаю, Иван Иванович. Иногда будто и думалось. Но нет. От придуманного недалеко уйдешь.
– Ни здесь, в Холмогорах, ни в Архангельске, ни в Вологде больше для тебя наук нету. И знаешь ли, что только в Москве? Известно тебе?
– Известно.
Когда возвращались по весне из Москвы большие беломорские рыбные обозы, Михайло подолгу расспрашивал земляков о Москве. И он давно уже знал, что там есть две школы – Цифи́рная, что на Сухаревой башне, и Славяно-греко-латинская, которую называли Спасскими школами. Каргопольский же, рассказывали ему, во второй учился, а потом и учительствовал.
– Каким наукам обучают в Спасских школах в Москве? – спросил Михайло Каргопольского.
– Значит, туда и хочешь поступить? А знаешь ли ты, что поступить в Спасские школы тебе нельзя?
– Это почему же?
– А потому, что вышел указ: крестьянских детей туда не принимать.
Нет, Ломоносов этого не знал. Заметив, как подействовала на Михайлу нежданная новость, Каргопольский сказал:
– Ну, не горюй. Подумаем. Может, и справимся. Друг у меня там в учителях. Постников. Вместе в Париже в Сорбонне учились. Думаю, как-нибудь поможет. Раскинем умом. О другом хочу с тобою потолковать.
Каргопольский налил себе еще водки.
– Вот о чем хочу поговорить с тобой, Михайло Ломоносов. Ты приготовился в большой путь. А я на том пути оплошал. На том самом. Вот и полезно тебе послушать. Ты небось думаешь, что оплошал я в жизни из-за таких вот, как дьякон? Из-за прямых врагов и ненавистников? Нет, не из-за этого сдал Иван Каргопольский. У него хватит и силы, и сноровки на врага. Оплошал я, Иван Каргопольский, обучившийся всем наукам, по своей вине. Против самого себя не выстоял. Вот я бабке сказал: в человеке всегда двое – один делает, а другой его судит. Так второй этот во мне насмешник. Понял? И сомневающийся. Понял? Не выстоял я против сомнения, которое сердце мне грызло и веру холодом обдавало. Понимаешь?
– Понимаю.
Каргопольский выпил еще.
– Это хорошо, что понимаешь. Значит, ты умный. Только умному не всегда легче на свете жить. А меня ты не жалей. Не люблю. И, значит, то, что я оплошал, не от бессилья – это понимаешь? – повысил голос Каргопольский. – Ну, говори!
Михайло ответил, что все хорошо понимает.
– Ну вот и не жалей! Я и сам себя пожалеть могу! Думаешь, нет? Напрасно! Жалеть себя каждый может. Никому не запрещено! Никому! Станется, у человека это самое большое право. А? Как думаешь? Нет! Ошибаюсь я! Не самое большое! А может, как раз наоборот: человеку следует запретить жалеть самого себя? А? Тогда он крепче будет. А? Как думаешь?
Михайло смотрел на метавшегося по комнате Каргопольского. Он задавал вопросы, сам на них отвечал, на мгновение останавливаясь, потом опять начинал метаться.
– Иван Иванович… Зачем это вы? Сто́ит ли?
– Что-о-о?! – загремел Каргопольский, останавливаясь перед Михайлой. – Стоит ли? Да как это так – стоит ли? Да ты мне кто – друг или враг? Не смей мне быть врагом, не смей! Мои враги – только негодяи. Ты не можешь быть мне врагом. Понял? Потому что честный на честного подниматься не должен. Честные между собой всё поделят.
Каргопольский сел за стол, взял перо, подвинул к себе чернильницу и стал писать. Он писал долго, грыз кончик пера, осматривал острие его на свет, сам с собою рассуждал.
– Нет! Ничего не получается. Пьян я! Потом напишу. Как придешь в Москву, прямо иди в Спасские школы и спрашивай там, значит, Постникова Тараса Петровича, учителя. Говорил уже тебе. Отдашь ему письмо, которое я напишу. Он поможет. В письме про все сообщу. Вот. А на словах ты ему, Постникову, скажи еще так. Видел, мол, я, Михайло Ломоносов, Ивана Каргопольского, говорил с ним. И понял, мол, я, что это за птица такая – Иван Каргопольский. Много на своем веку встретивший врагов и не убоявшийся их. И понял, мол, я, что нельзя сомнение допускать в самое сердце. А пусть оно живет около сердца, не входя в него. А в сердце, в самой его глубине, должна жить вера в правду и силу того, что делаешь. Враг не всегда перед глазами, а сомнение, ежели допустишь его к себе, будет всегда здесь. Проснулся, к примеру, а оно уж тут как тут и шепчет тебе на ухо. Тихо, как ржа[28], источит оно веру и стремление. И останешься хоть и сильный, да нетвердый. А этак-то ничего по-настоящему и не совершишь. Ни при чем останешься.
Каргопольский подвел Ломоносова к окну.
– Вон ты каков, значит. Крепок. И глаза настоящие: вдаль глядят. Стало быть, мелочи, что возле, не видят.
Он сел за стол, облокотился на него. Обхватив голову руками, тяжело задумался.
– Пью, привержен, – сказал он, указывая пальцем на водку. – Пью. А почему пью? Думаешь, не горько мне? Горько. Выпьешь – полегчает. Будто веселее на душе становится. Бабка мне как-то сказала: «Когда ты выпивши – веселый, веселье тебе для того, чтобы прятать под ним что другое». – Каргопольский глубоко вздохнул. – Посмотрел я на тебя, Михайло, и припомнил молодость свою и жизнь свою всю, что потом была, припомнил. Свою-то жизнь мне уж поздно исправлять. Так вот, думаю, от моей неисправной, может, его исправная пойдет? Человек умирает, а жизнь его с земли уходить не должна, к другой ей идти, помогать. Вот и запомни хорошо, что скажу тебе: цени всё настоящей его ценой – радость, горе, веру и стремление. Намеренно холода в душе у себя не ищи, пламени не гаси. Теперь иди.
Они пошли к выходу. У самого порога Каргопольский остановил Михайлу:
– Погоди-ка… – Он был как будто озадачен. – Погоди… Нет ли… Хм!.. Да… Может, есть такая вера, которая никакого сомнения не боится? – Каргопольский был в недоумении. – Высокая. А?
О себе ли подумал сейчас Каргопольский, когда говорил это? Или о Михайле? Ежели о себе, то что же – значит, во всю свою жизнь о чем-то самом важном он так и не догадался?
Нет, не о себе…
И как будто тяжесть ушла с сердца. Каргопольский рассмеялся и, облегченно вздохнув, сказал:
– Видно, от зависти это я. Вон как! Твоему будущему позавидовал. Ну, если бы не поверил в него, то и не завидовал бы.
Глава шестнадцатая МИРСКОЕ ДЕЛО
Сойдя с Куропольского посада, на котором стоит Спасо-Преображенский собор, и пройдя по дощатому мосту через Анашкино озеро, Ломоносов, миновав главную улицу Холмогор, вышел к крутому берегу Курополки, к месту, где он падает к воде земляными щелями.
Внизу в намытых песчаных берегах широко текла медленная и холодная река. За Курополкой, против высокого холмогорского берега, лежал Куростров. Над Нальостровом, Нижней Юрмолой, двинским полоем[29] Ухтостровкой и дальше, к Вавчуге, низко нависли облака. На островах разбросались островерхие стога. Упавший уже мороз покрыл свежей изморозью бурое от дождей сено. Прямо под низкие облака взлетали, и метались в стылом воздухе, и кричали бездомные галочьи стаи.
Глубокая осень была в той поре, когда вдруг к какому-либо утру со всех сторон откроется глазу белая земля, которую сплошь за ночь покрыл упавший тихо в темноте снег, и станет зима.
Склонив голову, Михайло шел по похрустывавшей под ногами, прохваченной морозом дорожной обочине. Шел он медленно, сбивая на ходу носком сапога то кочку, то заиндевевший куст ромашки.
Что же это сказал в конце Каргопольский? Может, по слабости не выстоял он в жизни? Не похоже… Нет. Просто тревожится. Привык к своему страданию и будто тешится им. Рану нарочно бередит.
И Михайло вспомнил разговоры с раскольничьим дедом Егором. «А ты полюби, полюби свое страдание, – говорил ему дед Егор, – полюби. Вдруг правды в нем больше, чем в радости».
Больше? Нет. Страдание – боль, от боли – уходить. Разве что живое намеренно боли хочет?
Постояв на берегу, под который подкатывала холодная двинская волна, Михайло пошел дальше.
Вот и еще одна зима подходит. Последняя здесь. Все готово. С «Арифметикой» кончено, с «Грамматикой» тоже. Больше здесь делать нечего. Латынь теперь. Но это уже нездешнее учение, тут ему лишь бы начать. Без знания того, что в «Арифметике» и «Грамматике», в Спасские школы не поступишь совсем, знание же латыни просто облегчение при поступлении. Значит, пока что налечь на латынь. Каргопольский поможет.
Михайло пощупал лежавший у него в кармане тщательно увернутый в тряпицу тугой томик Альваруса.
По тропке, пробитой в косом скате оврага, Ломоносов спустился к реке и вышел на берег, покрытый плотным лежалым песком.
На берегу снаряжалась к ночной ловле семги рыбацкая артель. Это были куростровцы. На воде покачивались карбас и лодки, на которых рыбаки собирались идти на тоню* вниз по Двине. Куростровцы суетились у карбаса и лодок, укладывали сети, боты*, ворот* для вытягивания грузно набивающихся рыбой сетей. У костра сидел Фома Шубный, брат Ивана Афанасьевича Шубного.
Над костром в черном, закопченном котле бурлила уха. Белые буруны ходили по котлу, иногда выбиваясь вместе с пеной и вымахивая наружу.
– С Каргопольским о чем разговоры умные разговаривал? – спросил Фома Шубный подошедшего Михайлу.
– А ты откуда, дядя Фома, знаешь, что я у Каргопольского был?
– Видел, как вы в дом бабки Иванихи, где Каргопольский стоит, шли.
– Ну что ж, говорил я с ним. Про всякое и про латинский язык. Научиться ему хочу.
– Душа-то в нем, в Каргопольском, видать, в тревоге, в смятении. Совсем неспокойная душа. У нас, гляди, кто и нехорошее о нем скажет.
– Нечего о нем говорить нехорошее.
– Будто? Каков он, думаешь, в самом деле?
– Он? Добрый и умный. Только непростой. И незабывчивый. Одному – что случилось с ним – как прошло, так и забылось, и опять он весел. Я о том говорю, что душу тяготить может. Другому же того нет. Вспоминается ему все, беспокоит.
– Ну и у него, Каргопольского, видать, не все одно с одним в жизни сладилось, к точке сошлось?
– Ага. Дела себе настоящего вровень с добротой и умом своим не нашел.
– Ну так. Так и есть. На свое место не стал. Не достиг то есть.
– Думаю я, дядя Фома, вот о чем, – сказал Михайло, усаживаясь на узловатую корягу. – Вот о чем думаю я. Может, Каргопольский одинок в чем своем оказался? В трудном одинокому нелегко.
– Куда как! Держаться способнее в своем-то, ежели помогу от людей чувствуешь, даже и не прямую, а так, только мнением и одобрением твоего дела. Народ-то миром, соединясь, берет.
В костре вспыхнул огонь, уха заплескалась. Фома разгреб палкой жар под котлом, отогнал деревянной ложкой пену, зачерпнул ухи, подул на нее, попробовал, пожевал губами, потом добавил в котел горсть соли.
– Готова.
Обращаясь к Михаиле, Шубный сказал:
– Говорили мы с братом о тебе, говорили. Да.
– Ивану Афанасьевичу многим добром обязан. Самую грамоту от него узнал.
Шубный покричал рыбакам. Артельщики, оставив работу, гурьбой направились к котловинке, где Шубный готовил обед.
– Э, Михайло!
– Смотри-ка!
– Каким ветром?
Еще не все видели Михайлу после его прихода с моря. Ему задавали вопросы, разглядывали. Наконец рыбаки уселись вокруг дымящегося котла.
– У Каргопольского хлеба́-то, верно, не ахти какие? – спросил Михайлу Шубный, отрезая ломоть черного хлеба и подавая ему деревянную ложку. – Похлебай-ка с нами ушки.
– А Каргопольский кто таков?
– Да учитель московский, что недавно приехал. В школе, что при Архиерейском доме, учить будет.
На время всякие разговоры прекратились. Ели медленно, степенно подносили ложки над большими ломтями хлеба к котлу и, почерпнув ухи, осторожно несли ко рту. Наконец Фома Шубный постучал по пустому котлу ложкой – знак, что трапезе конец.
Когда поели и напились сбитня*, один из рыбаков спросил:
– Про что же с учителем московским беседовал?
– Про латынь-язык, – ответил Шубный.
– Это что же такое?
– Был такой древний народ – латыняне. Вот их язык, – сказал Михайло.
– А одного русского для наук уж не хватает?
Михайло ответил:
– Народов-то много, и у каждого наука, а латынь – общий для наук язык.
– А-а-а, вон как! И ты, стало быть, латынь-язык превзойти хочешь?
– Без него в учении вперед идти нельзя.
– Ты же еще дале хочешь пройти?
– На половине пути не след останавливаться.
– Ага. – Разговаривавший с Михайлой рыжебородый куростровец погладил бороду и, вздохнув, добавил: – Так.
Михайлу Ломоносова хорошо знали во всей округе. И когда он с усердием начал заниматься учением, об этом было немало толков. Многие одобряли, кое-кто с сомнением покачивал головой: «Для чего мужику науки? Вроде не особо уж нужны. Не видать, чтобы правды или добра от них для крестьянства могло прибыть. Зачем мужику в них входить? Ежели другой кто занимается – пусть». Находились и такие, которые, покачивая головой, говорили, что, занявшись чужим делом, Михайло и от своих вон отстает, друзей да приятелей оставляет. «Так-то Михайло или кто другой, – говорили они, – в науках высоко пройдет, а потом, с высоты, сверху вниз на своих смотреть станет: мы, мол, учены и больше вам не ровня».
Рыжебородый рыбак, задававший сейчас Михайле вопросы, и был из тех, кто не одобрял его.
– Одинокое и гордое дело наука, в сторону от мужика она ведет. Вот.
– Сегодня уж мне такое говорили, – ответил Михайло. – Только тот, кто сказал это, мужику враг.
Рыжебородый даже поднялся со своего места.
– Да ты что?! – почти угрожающе сказал он.
Общий смех заглушил его слова.
– Одинокое и гордое дело, – продолжал Михайло. – Так. Вот у меня книги есть: «Арифметика» и «Грамматика»…
– Знаем.
– Слыхали.
– И в той и в другой – наука. А кто пользуется? Все. Люди, много людей. Стало быть, одинокое ли и гордое ли дело?
Рыжебородый не хотел сдаваться:
– Э, брат, это ты не туда гнешь! Люди! Мало ли что люди. Мужику-то, нашему брату, для какой она надобности?
– А мужик не такой же ли человек, как и все?
Рыжебородый даже поперхнулся.
Уже давно внимательно и встревоженно прислушивался к разговору маленький сивый дед. Время от времени он вставлял свои замечания. Когда Михайло произнес последние слова, дед изо всей силы ударил кулаком по колену.
– Да как же это так мужик не человек, ежели он самый человек и есть! А? – Наведенные, как струнки, кончики дедовских усов заходили от негодования. – Не человек! А?
Дед был личностью примечательной. Уже давно за малый рост, но притом громадные усы его прозвали «Сам с пёрст, усы на семь вёрст». Однако в глаза так называть его опасались: дед был отчаянная голова и мог впасть в ярость.
– Ты, Прохорыч, потерпи малость, – сказал Шубный, – потерпи. Говори-ка, Михайло, дальше.
– «Арифметику» сочинил Магницкий, «Грамматику» – Смотрицкий, – продолжал Михайло. – И тот – один и другой – один. А одиноки ли они? Что было раньше, людьми что придумано, в те книги сошлось, а книги, которые будут дальше, на этих и подобных им стоять будут, а в настоящем книга – для множества людей. Вот и выходит, что в науке человек вместе с тем, что было, с тем, что есть и что будет дальше. Большая ему жизнь в науке. И никакая не одинокая.
– Да что там говорить, – опять вырвался егозивший от нетерпения «Сам с пёрст», – великое дело наука!
– А откуда ты это знаешь? Ты что, в каком-либо большом учении преуспел?
– А в таком большом, – ответил Шубному дед, – что я и неграмотен и вовсе не учен.
– Откуда же знаешь, что такое великое дело наука?
– А вот как раз оттуда и знаю, – под самый корень подрезал Прохорыч.
– Да-а, – почесал в затылке Шубный, – лучше этого тебе, Михайло, никто ничего не скажет.
Рыжебородый подошел к Михайле.
– Ты, Михайло, не сердись. Не со зла ведь. Обиды нашему брату мужику немало. Вот и остерегаемся. Чтобы не было мужику лишнего смеха и поругания.
– Куда же твой путь ученый лежит? – спросил Михайлу Шубный. – Не в Москву ли?
– Да уж как не туда?
Дед одобрительно сказал:
– Не мене чем туда; за большими-то делами завсегда туда. Бывал я там, бывал, как же! – И дед важно погладил усы и покрутил их концы, отчего они стали уж совсем как иголки. – Живал, – добавил он.
Всем было хорошо известно, что «Сам с пёрст, усы на семь вёрст» и в самом деле жил в Москве и служил там. Однако служил он, собственно говоря, дворником. Но и на этой небольшой должности он подолгу не засиживался, так как страдал за правду. То купцу-хозяину в глаза правду-матку резанет, напомнив о проданном им мясце, которое-то того, с тухлинкой, то он перед кем с дороги не сходит или шапки не ломает, а то и какого приказного, который неправедно над кем измывается, так шуганет, что хоть святых выноси.
За строптивый нрав да за правду-матку Прохорычу иногда влетало по первое число, и он, еле опомнясь, являлся домой, кляня и купцов, и бояр, и приказных, и весь белый свет, что не на правде стоит.
– И ты, Михайло, стало быть, свое-то там и ломи, – продолжал дед, – как, к примеру, я. Ломи. Ни в чем не сдавай! Я не по ученой части в Москве обретался, однако не при легком деле там находился. А блюсти себя умел. Да.
«Сам с пёрст» покрутил усы.
– Дедушка, а по какой же части ты в Москве обретался? – не выдержал парнишка, который до того молчал и слушал, что говорят взрослые.
– А по такой, что какого постреленка и выпороть при случае мог.
И дед так зажевал губами, что концы усов у него снова страшно задвигались.
Парнишка хмыкнул и зарылся носом в воротник.
– Вот, Михайло, и смотри, – продолжал «Сам с пёрст», – чтобы кость наша мужицкая в тебе крепка была. Понял? Стой за мужицкую правду, как я за нее в жизни своей стоял.
– Что же, дед правильно говорит, – сказал Шубный. – Ляжет снег, устроится зимний путь, пойдут на Москву семужьи, наважьи да тресковые обозы. А с теми обозами и из наших кое-кто, что здесь сейчас перед тобой, пойдет. Смекнул?
– Как не смекнуть!
Два-три рыбака утвердительно кивнули Михайле.
– А кто уже на Москве к приходу твоему случится, те там пособят, да и с нашими, что там живут, сведут. Пяту хины, чай, тебе пособят.
– Пятухины? – опять встрял в разговор «Сам с пёрст». – Да как не пособить! Правильные мужики Пятухины-то. Ух ты! – Дед закипал. Сжав крепко кулак, он им снова долбанул колено. – Ах ты, пострелило бы тебя горой! Какое дело! А?
Дед уже никого не слушал. Рваненький полушубок его разлетелся в стороны, обнаружив совсем не первой молодости порты и повязанную узеньким ремешком заплатанную рубаху.
– Стало быть, уйдешь ты, Михайло, на совсем-совсем другую жизнь. И опасно там. А вдруг, к примеру, и такое, что не мене как голову сложить? А?
– Напрасно не отдам, а за свое стоять до конца буду. Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
«Сам с пёрст» с восхищением смотрел на Михайлу.
– Ну парень! Отец-то, известное дело, не хочет, так ты тайком? А?
Михайло усмехнулся.
– И все богатство, что у отца, все его оставишь? Побоку?
– Мне в жизни к одному, а это богатство отцово меня к совсем другому поворачивать будет. Вот и ни к чему оно мне.
Дед был уже в полном восторге.
– Ха-ха-ха! – сгибаясь и хватаясь за живот, покатывался он. – Ха-ха-ха! Православные, а? – Он приложил правую ладонь к щеке. – Ведь посудите. Василий Дорофеевич, богатей-то наш знаменитый куростровский, говорит это сыну: «Вон сколько у меня денег-то – и не считано, богачества всякого, видишь!» А сын ему и отвечает: «Не надобны мне, батюшка, ни богачество ваше, ни деньги ваши!» А? Ха-ха-ха! Это деньги-то не надобны! – Дед даже как-то взвизгнул. – У-хо-хо! Умора! Не надобны! Страшенные деньжишши! Ну удружил, парень!
Вслед деду кое-кто тоже начинал похохатывать. Парнишка, который задал деду ядовитый вопрос, теперь, раскрыв от удивления рот и беспрестанно поправляя съезжавшую на нос отцовскую шапку, переводил глаза с деда на Михайлу. Наконец поняв суть, он шмыгнул носом, утер его рукавом и радостно ухмыльнулся:
– Ух ты!
Фома Афанасьевич попробовал остепенить деда:
– Ты, Прохорыч, путем ли развеселился? Михайле-то деньги, думаешь, не нужны?
– Деньги? Да на кой черт они, ежели отчаянное дело?
– Ну, есть-пить человеку надобно, как думаешь?
– Чего? Есть-пить человеку? A-а, вон что, – опомнился «Сам с пёрст». – Есть-пить, всамделишное дело, надо. Без этого нельзя. Когда человек живет, пропитание ему должно идти. – Дед вздохнул: – Это мне известно…
– А для пропитания деньги-то нужны, – настаивал Шубный.
– Чего? Деньги для пропитания? Деньги для пропитания беспременно нужны. Потому – бесплатно никто ничего не дает. Это я знаю.
– Да ты, Прохорыч, вспомнись! Значит, без денег Михайле невозможно?
– Чего? Михайле-то без денег? Нет. Невозможно. Никак. Только такое отчаянное дело! – И, схватившись опять за щеку, «Сам с пёрст» снова залился хохотом. – Дорофеич-то, а? Богачество! А Михайло-то ему: «Не надобно мне ваше, тятенька, богачество!» Ой-ой-ой!
– Ты, дед, погодил бы хоть. Михайле-то деньги нужны! Ты это понимаешь?
– Деньги Михайле нужны? A-а… Как же это я не понимаю? Ясное дело, понимаю! – Дед почесал затылок. – У, черт!.. Деньги… Ну и дела!.. У тебя свое что есть? – обратился он к Михайле.
– Полтина всего.
«Сам с пёрст» неодобрительно покачал головой:
– Да-а, невелик запас! Вон у меня рубль есть. Как же это? – Тут на его лице изобразилось истинное изумление: – Православные!
Дед быстро наклонился, залез правой рукой глубоко в карман штанов и вытащил оттуда тряпицу. Дрожащими от нетерпения пальцами он стал развязывать узел. Узел не поддавался. Тогда дед схватил зубами, растянул его, выхватил рубль и, сняв шапку, со всего маху брякнул в нее рубль. Затем он подбросил шапку и поймал ее на лету:
– Эй, давай, православные! Шуми! Эх!
У кого что было – посыпалось в шапку. У кого было серебро – бросал серебро, у кого были только медяки – тот бросал медяки. Рыбаки толпились, расстегивали тугие кожухи и вытягивали из-за пазух хорошо припрятанные кровные денежки, вытряхивали деньги из тряпиц, из мешочков.
Как падала монета, дед подбрасывал вверх шапку и покрикивал:
– Эх!.. Эх!.. Эх!
«Сам с пёрст» уже обошел всех, оставался только рыжебородый. Пока дед собирал с других, этот последний тщательно обыскал карманы и все, что нашлось, сложил в правую руку. Зажав деньги, он держал их наготове.
– Вот тебе на латынь, – сказал он Михайле, кладя все свои деньги в шапку. – Поворачивай ее к мужику.
Дед шагнул к Михайле.
«Сам с пёрст, усы на семь вёрст» был гол как сокол и жил бобылем. Все понимали, что рубль для деда – великое дело. Может, больше ничего у него и не осталось…
– Ты, Прохорыч, – сказал ему Шубный, – того, знаешь… Ну, боле всех ты положил: рубль. Может, помене дал бы?..
– Чего?.. – «Сам с пёрст» метнул в Шубного такой бешеный взгляд, что тот невольно отступил в сторону. – Да ты что, мое богатство считал, что ли? А? Может, у меня такими рублями пруд пруди! А? Знаешь ты это?
Шубный вздохнул:
– Как не знать? Знаю…
Дед подал Михайле с поклоном шапку.
– Прими, Михайло, мирское. Крепкие наши денежки, соленые, бедняцкие. По́том прошли. От того силы в них больше.
Михайло подставил руки, и дед вытряхнул в них деньги.
Надев шапку, «Сам с пёрст» изо всей силы ударил по ней рукой.
– Ух ты, отчаянное дело! Отец-то Михайле, значит, говорит… А Михайло ему и отвечает… Ух-хо-хо! – И дед, схватив голову обеими руками, покатывался со смеху. – Отчаянное дело!.. Ой-ой-ой!
– Ну, – обратился к Михайле Шубный, – ты сказал: в трудном одинокому нелегко. Вот ты теперь и не одинокий.
– Потому мир, значит, с тобой, пособляет тебе, – размахивая руками, разъяснил «Сам с пёрст». – Понимаешь?
– Как не понять, – ответил Михайло.
Рыбаки обступили Ломоносова со всех сторон.
– Вроде мы с тобой все, – сказал один из них, похлопав Михайлу по плечу.
– Это так, так уж, – подтвердили хором другие.
– Постойте, постойте, православные, – проговорил Шубный. – Честь по чести давайте на путь-дорогу Михайле что скажем.
– Уж это беспременно. Без этого никак нельзя, – подтвердил дед. – Ото всех ему наставление. От мира.
Рыбаки расселись по своим местам.
– Так, Михайло. Нашему брату мужику покуда ходу нет, – начал свою речь Шубный.
«Сам с пёрст» вскинулся:
– Это как же так? – Но, сразу опомнившись, вздохнул: – Да… Что уж говорить…
– Потому – кто в силе, по одному пробивайся, – сказал Шубный.
– Ну уж так. И ничего не бойся. Тогда и достигнешь всего. Вот подобно как я.
Фома скосился на деда:
– Ты, Прохорыч, стало быть, так уж многого достиг?
– Чего? А будто нет? Я только богатства не достиг. А оттого, что себя соблюдал.
Шубный продолжал:
– Иди, стало быть, в Москву, ну и в науки проходи. Как поднимешься ты науками высоко, с той высоты на всю нашу Русскую землю гляди. И рассматривай, где на ней правда и где неправда. За правду стой, против неправды бейся, жизни не жалея.
– Что есть силы за правду стой! – добавил Прохорыч и еще ударил себя кулаком в колено. – Ух!
– Вот и иди на свое дело, крестьянский сын Михайло Ломоносов!
Провожая Михайлу, рыбаки сошли к самой воде. На прощание все разом ему что-то говорили, перебивая друг друга. Но больше всех шумел Прохорыч. Он никого не слушал, вывертывался из толпы и подсовывался к Михайле.
– Ты-то смекнул? – теребил он его за рукав. – А? Понимаешь?
– Понимаю, дедушка, хорошо понимаю.
– Ага. Так. А правде мужицкой путь прокладывай. Настоящая она.
– В большой мир идешь, парень, в большой! Ну, надо быть, сдюжишь. – Шубный подмигнул Михайле. – А в том мире умом доходить, ухом приникать да глазом смотреть. Без того доля тебе в руки не дастся.
– И соблюдай себя. – «Сам с пёрст» рубанул кулаком. – Без этого – ничего. Соблюдай!
Михайло вел лодку через Курополку. Огибая выдавшийся мысом Нальостров, он держал на Куростров. Быстро сорвавшийся ветер погнал холодную волну, припавшие к воде сырые облака разорвались и задымились, затем они быстро пошли вперед под ударами ветра. Двинский рукав широк в этом месте. Вот уже и не слышно стало рыбаков, махавших Михайле шапками.
Вот уже и хуже стало видно их: далеко. Но вдруг порывом ветра донесло:
– …а-а-й! …а-а-а!..
Еще раз просвистел ветер, и повторенные слова можно было расслышать яснее:
– …лю-дай!.. се-бя!..
Это все никак не мог успокоиться «Сам с пёрст». Он-то хорошо знал, какая непростая эта его мудрость.
Глава семнадцатая ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
Шел декабрь. По большой двинской дороге, мимо Курострова, через Холмогоры, по зимнему пути шли тяжело груженные рыбой беломорские обозы. День и ночь скрипели широкие розвальни, в которых плотно, одна к одной, лежали серебряные семги с красным маслянистым мясом, навалом грудилась покрытая серебряным инеем навага или была сложена дешевая рыба треска. Обозы спешили в Москву к Масленой и Великому посту. Сбивались и поднимались рыбные обозы и с Курострова.
Михайло думал свое, Василий Дорофеевич – свое. Отец все подозрительней поглядывал на сына, все озабоченнее становился сын. Кто возьмет верх? Не было согласия в хозяйственном ломоносовском доме.
Василий Дорофеевич задумывался часто. Как же это смог бы Михайло уйти из дому? Ведь ясное дело: без его, отцовского, дозволения никак. И, подумав об этом, Василий Дорофеевич успокаивался. А вдруг… Что – вдруг? Вдруг Михайло что-нибудь придумает? Что придумает? Ничего не придумает. Однако тревога не покидала сердца Василия Ломоносова.
Паспорт должны были выдать в Холмогорах, а чтобы там его получить, требовалась от волостного правления справка. Правление должно было письменно подтвердить, что подушная подать* в отсутствие того, кто уходит по паспорту в иное место, будет продолжать идти.
Как же получить в Куростровском волостном правлении такую справку, если отец дома? Никак ее не получишь, пока отец в Мишанинской. Но вот в начале декабря Василий Дорофеевич должен был ехать в Архангельск. Михайло и ждал отъезда отца. Но и отец готовил свое. В его отсутствие Михайло никак не уйти – так решил Василий Дорофеевич.
А почему отец собирался ехать в Архангельск? В это время ведь никогда не ездил?
Еще летом, когда они были на Коле, на промыслах, Василий Дорофеевич поначалу тайно разговаривал с одним тамошним промышленником. У того была дочь на выданье. Вот Василий Дорофеевич и прочил ее сыну в невесты.
Не беден был отец невесты, дочка у него пригожая – хоть куда. Чем плоха будет жена Михайле? Сговорившись обо всем – о приданом и о прочем, – Василий Дорофеевич объявил о невесте сыну. Ничего тогда летом не ответил Михайле отцу, и, нахмурившись, отец сурово сказал, что выбор невесты – дело родительское и что готовиться ему, Михайле, к свадьбе.
Но почему же собирался отец сейчас в Архангельск-то? Ведь не по этому же делу?
Михайло не знал, что именно по этому…
К этому сроку отец невесты должен был приехать в Архангельск. Так еще по осени столковались. Там и свадьбу играть порешили. Василий Дорофеевич настаивал на Холмогорах, невестин отец хотел, чтобы свадьба была в Коле. Сошлись на Архангельске. Без обиды и одному и другому.
«Женитьба Михаилы все планы его порушит, – так думал Василий Дорофеевич. – Когда женится, куда уж там уходить? Другие разговоры пойдут. Скорее надо все кончать. Идет декабрь, скоро и Рождество. Там, гляди, и мясоед*. Свадебное время».
До Василия Дорофеевича дошел какой-то глухой слух, будто от кого-то Михайле есть поддержка.
«От кого? Что думают старые Михайлины радетели[30] – Иван Шубный и Семен Сабельников? Мудрецы… Что-то Фома Шубный как-то не так стал поглядывать. Почему? – спрашивал себя Василий Дорофеевич. – А „Сам с пёрст, усы на семь вёрст“ как встретится где, так и старается, окаянный, прошмыгнуть мимо.
Что вокруг делается? Ну уж нет… Не таковский Василий Ломоносов, чтобы шутки со мной шутить. Не выйдет!.. Надо кончать…»
Как-то отец будто невзначай сказал сыну:
– Сегодня иду по деревне, вдруг навстречу Фома Афанасьевич Шубный. Раньше, бывало, увидит – тары-бары-растабары, а сегодня торопится. С чего бы это? Какие такие у него важные да спешные дела, не знаешь ли?
«Что известно отцу? Неужели кто начисто проговорился? Не может быть… Если так, совсем нехорошо. Быть ли мне в Москве? Вся жизнь решается», – билась в голове Михайлы тревожная мысль.
– Слушай-ка, – продолжал отец, – на большое дело деньги потребны. Большое дело крепче всего на деньге́ стоит. Да. А сколь у тебя денег? – И Василий Дорофеевич усмехнулся. – Жива ли у тебя та полтина, которую ты скопил?
«Нет! Ежели отец не знает о тех деньгах, значит, ничего в ясности не знает. Не узнал бы про тех рыбаков, что должны были идти в Москву и обещали меня довезти», – облегченно подумал сын.
– Время-то бежит, – заключил Василий Дорофеевич разговор. – Вот и Варварин день[31] минул, завтра уж Никола[32]. После Николы в Архангельск поеду. Срок.
Какой срок?
– Завтра мне пособишь в путь-дорогу изготовиться. – Василий Дорофеевич широко зевнул и перекрестил рот. – Поздний час. Спать…
Заутра начались сборы. Надо было подковать лошадей, починить сбрую, хорошенько осмотреть сани. Неближний конец. Да и в грязь лицом не ударить перед отцом невесты.
Когда в санях были размещены припасы, уложен мешок с овсом, Василий Ломоносов, туго забив сани сеном и накрыв рогожами на случай снега, вышел со двора и пошел по деревенской улице.
Михайло смотрел вслед отцу. Вот он прошел мимо христофоровского дома, дальше мимо некрасовского, чуть поворачивает и останавливается перед крыльцом большого, глядящего на дорогу дома.
Да, Михайло не ошибся: отец шел к Баневу.
Глава восемнадцатая МИХАЙЛО ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ БАНЕВА
Едва забрезжил рассвет, Василий Дорофеевич уехал.
Простились наскоро, как прощаются, расставаясь на несколько дней. Василий Дорофеевич, закутавшись по утреннему морозу в тулуп, взяв в руки вожжи и хорошенько усевшись в санях, так уж больше и не обернулся и не взглянул на провожавших его жену и Михайлу. Ирина Семеновна тут же ушла, а Михайло все глядел вслед отцу, на припорошенную свежим ночным снежком дорогу, терявшуюся в густой заросли промерзшего тальника.
Отец… И горя, и опасности немало они вместе изведали на море. Не без гордости смотрел, бывало, Михайло, как отец в тревожную минуту спокойно распоряжался на «Чайке». Любо было поглядеть, как спорится в ловких отцовских руках всякая работа, как толково он ладит дело. Отец был добрый, простой, к нужде отзывчивый, людям помогал. Но вот, в своем успев, свое только и видел. А ему, Михайле, по другому пути.
Отец… Родная кровь…
И вот, может быть, они больше никогда не увидятся – отец и сын.
Последний раз взглянув на дорогу, Михайло вошел в ворота и заложил их поперечиной. Он обошел вокруг дома, вышел к занесенному снегом пруду, поднялся по взгорку к тому месту, где стояли хлебный амбар, скотный сарай, гумно.
Выйдя за ограду, он обошел всю усадьбу. Родной, отчий дом… И все это он теперь видит в последний раз… В последний? Да. Так должно быть…
Что-то не едет Банев. Михайло уж давно поглядывал в ту сторону, откуда должны были показаться его сани. Не едет что-то…
Скорее бы уже все решилось, скорее! С Баневым следует сегодня же поговорить, успеть надо сегодня и в волостное правление, а затем и в Холмогоры. Всё в один день. Так лучше и вернее. Никакие слухи не успеют разойтись… А не то и без отца, может, кто помешает.
И что это не едет Банев? Опаздывает?
В Холмогорах в соборный большой колокол отбили часы. Медленный гул долетел до Мишанинской и заглох дальше, в снегах. Раз, два, три… Двенадцать… Двенадцать часов. Нет, Банев не опаздывает. Раньше и не думал быть обратно. Просто не терпится Михайле.
Подняв овчинный воротник, Михайло ходил по дороге, с речного берега смотрел в ту сторону, куда легла Московская дорога.
Уж не однажды переглянулся кое-кто из односельчан и соседей-денисовцев: что это молодой Ломоносов будто тревожится?..
Колокольчик!
На раскатанной деревянными полозьями дорожной излучине показалась ходко бежавшая, почуявшая дом, заиндевевшая до глаз баневская гнедая.
Ну, приниматься за дело.
Михайло вчера знал, что отец опаздывает к Баневу. Когда он водил лошадей к кузнецу, ему встретился Банев, подъехавший поправить разболтавшуюся у лошади подкову. Он уезжал в Вавчугу и сказал Михайле, что приедет завтра к полудню.
Издавна повелось, что за неграмотного Василия Ломоносова в волостном правлении расписывался Иван Банев. Случалось, что и в отсутствие Василия Дорофеевича приходилось Баневу за него расписываться по срочному и важному делу. Все знали о полном к нему доверии Василия Дорофеевича.
Не предупредит ли, уезжая, отец Банева, чтобы тот не подписывал поручительства, если бы он, Михайло, его попросил? Как обернется все дело, если отец предупредит Банева? Лучше, если они не увидятся. И он не сказал отцу о том, что Банев собирается уезжать. Отец опоздал к Баневу.
Не застав своего приятеля и подосадовав по этому поводу, Василий Дорофеевич строго-настрого приказал жене Банева, чтобы она передала мужу о его деле, как только тот приедет. Чтобы Банев ни в каком случае не подписывал Михайле поручительства! Хотя на сердце и не было спокойно, но откладывать свой отъезд Василий Дорофеевич не захотел.
Михайло вошел в избу Банева, снял шапку, поклонился хозяину и сказал:
– С делом к тебе, дядя Иван.
– С делом? Хорошо. Как по делу, стало быть, и потолкуем. Сядь-ка.
Михайло сел.
– Ты бы полушубок снял.
– Тороплюсь очень.
– A-а… Вон как… Торопишься. С каким же делом пожаловал?
– В Москву собираюсь.
– Ну, дело немалое. – И, окинув Михайлу подозрительным взглядом, добавил: – Прощаться пришел?
Михайло не отвечал.
– А с чем же в Москву собираешься? Будто я не слыхал, чтобы отец рыбный обоз на Москву поднимал.
– Я не по торговому делу.
– По какому?
– Учиться.
Банев молчал.
– Дядя Иван, от тебя помога большая нужна. Сам грамоте учен и книги читаешь и не раз меня за усердие хвалил. И обещал, коли случится нужда, в ученом деле помочь.
– Сказывал.
– Вот и подошел срок.
– В чем же тебе от меня будет помога?
– Чтобы идти в Москву, потребен пашпорт, а чтобы его получить, нужно из волости поручительство: что подушная подать, когда меня здесь не будет, продолжаться станет.
– Все это хорошо знаю. А кто за тебя подушный оклад исполнять будет?
– Как и раньше, отец. Для волости в том расписаться надо.
Банев посмотрел на Михайлу внимательными глазами.
– Надо твоему отцу ко мне с той просьбой.
– Отца нет дома: в Архангельск уехал.
– A-а… Незадача для тебя какая. Обождать-то его не хочешь ли? Почему бы не обождать? А?
– Дядя Иван, отец-то неграмотен. Ты за него всегда расписывался. Так повелось. Ежели бы он и был здесь, все одно тебе подписывать.
– Скажи пожалуйста! Ведь правда! Истинная правда! Делать-то мне что?
Банев встал, прошелся по избе и остановился перед Михайлой:
– Отец твой вчера был у меня, сказывал, что в город уезжает, и просил, чтобы я пока доглядывал за тобой. Он так и думал, что ты, пока его не будет, уйти постараешься. И сказал, чтобы поручительства тебе я не подписывал. Понял?
Лицо Михайлы было спокойно: он ничуть не удивился.
– Будто не удивлен?
– Нет.
Тогда удивился Банев:
– А есть с чего!
– Я знаю, что отец у тебя, дядя Иван, был, и знаю, о чем должен был с тобой говорить.
– Хм! Голова-то на плечах. Откройся-ка.
– Что отец шел – видел, о чем должен был говорить – догадался.
– И после всего этого ко мне пришел?
– Да.
– Почему?
– Потому, что верю тебе, дядя Иван, и знаю: добра мне хочешь.
– Ты хитрый, Михайло!
– Это не хитрость. Просто на добро прежде всего считаю, им меряю.
– Смотри-ка! Не ошибешься ли на том в жизни?
– Думаю, что нет.
– Это, значит, я тебе подпишу отпускную. А Василий Дорофеевич об том и просил, чтобы того не делать.
– А ты этого, дядя Иван, не мог бы ему обещать.
– Ну, брат, этак от тебя ничего не утаишь!
– А разве пообещал бы?
– Нет.
– Давно знаю: правду в моем деле видишь.
– Как улещиваешь-то!
– И знаю: перед правдой не отступишь.
– Так-так… Еще меду добавляешь.
Банев остановился перед Михайлой. На лице его изобразилось внезапное и сильное подозрение.
– Погоди-ка, погоди. Ты отцу-то вчера сказал, что я уезжаю? Чтобы он поспешил ко мне с разговором? А?
– Дядя Иван… Ведь я тогда еще не знал, что отец к тебе пойдет…
– Ага… Вон как. Когда же узнал?
– Когда отец уж пошел к тебе, дядя Иван.
– Ну, другое дело, другое. – Банев рассмеялся: – Так не хитрый? А?
– Дядя Иван… Всей моей жизни сейчас решение…
У Банева изменился голос:
– A-а… Вот… Ну ладно, ладно! – Он тронул Михайлу за плечо. – Ты ничего. Ты не печалься. Все образуется. Так. На Москве-то как устраивать свое дело будешь?
– В школу поступать буду. Есть там Цифирная школа, что на Сухаревой башне, и Славяно-греко-латинская академия. В академии науки-то глубже, да недавно новое препятствие к поступлению туда вышло.
– Какое?
– В ту школу был доступ крестьянским детям. А ныне указ вышел: запрет.
– Так. Почет оказан. Это, стало быть, новая власть уже после смерти государя Петра Алексеича жалует. Да-а… – Банев подумал. – Ну вот, скажем, уйдешь ты в Москву. Ладно. А, думаешь, отец до Москвы не достигнет?
– Самое трудное дело – это пашпорт да отпускную здесь получить. Все остальное легче.
– Тебе пашпорт, а мне к отцу твоему да и к Богу с ответом.
Михайло вздохнул:
– А в хорошем Господь не выше ли земного?..
Банев улыбнулся:
– Хитрый, хитрый! – Он взял шубу, надел шапку, кивнул Михайле: – Эх, беда, беда! Лошадь-то только лишь отложил, а теперь опять закладывай. И отдых бы костям с дороги нужен: не молод. Да вот поди ж ты!
В волостном правлении Банев потребовал книгу для записи поручителей.
Когда в книгу все было вписано, он сказал:
– Вот послушай-ка. – Он прокашлялся и с расстановкой начал читать: – «1730 года, декабря седьмого дня отпущен Михайло Васильев сын Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца предбудущего 1731 года, а порукою по нем в платеже подушных денег… расписался…» Да. Вот и расписался старый простофиля Иван Банев. И что это я раскис, сам в толк не возьму!
Они вышли и направились к саням.
– Ну, иди на свое дело. Господь с тобой.
– Спасибо, дядя Иван.
– Теперь ты в Холмогоры?
– Да. В Холмогоры, в воеводскую канцелярию за пашпортом.
– К примеру, пашпорт получишь. А как же с указом? – спросил Банев.
– С каким?
– С тем, что вышел о крестьянских детях.
– Ивана Ивановича Каргопольского, дядя Иван, знаешь?
– Слыхивал. Будто доброй души.
– Вот у него друг в Спасских школах учителем. Каргопольский ему напишет письмо. Тот пособит.
– А вдруг не пособит?
Михайло молчал.
– Хм! Знаешь ли, через кого твое дело в Холмогорах решается?
– Через Ивана Васильевича Милюкова, который ведет в Холмогорах земские дела. Как не знать!
– Многое может сделать. Ловок. Но деньгу любит. Так вот, Михайло, ежели бы ты добился, чтобы в пашпорте не было того сказано, что ты есть крестьянский сын… – сказал Банев.
– Воевать так воевать! – И Михайло рассмеялся.
Спрятав справку, он пошел в сторону Холмогор.
– Погоди!.. – окликнул его Банев. – Ты что же, пеший?
– Пойду побыстрее.
– Час-то уж не ранний. Вдруг да опоздаешь. Бери-ка мою лошадь.
Когда Михайло уселся в сани и взял в руки вожжи, Банев сказал:
– Ну, вот и достигай своего. Голова-то у тебя на плечах. Меня, парень, кругом обошел. И, Михайло, запомни: не на тебе грех, на мне, старом. Замолю.
Глава девятнадцатая ЧТО БЫЛО УКАЗАНО В ПАСПОРТЕ
У входа в холмогорскую канцелярию мялась толпа мужиков. Они кого-то поталкивали в спину и потихоньку подсовывали к двери.
– Ступай, ступай, ну-ко!
Но мужик упирался и не хотел идти в дверь.
– Привел – так первый и иди. Говорить смел! Дело теперь покажи!
Вдруг мужик обернулся лицом к толпе, сделал бешеные глаза, замахал длинными, как жерди, руками и закричал высоким отчаянным голосом:
– A-а? Что я вам, козел, что ли, – вперед идти!
Дверь открылась изнутри, и, подтолкнутый своими, мужик влетел в канцелярию. За ним сразу по нескольку, сталкиваясь в проходе, просунулись вперед и остальные. Войдя, мужики сгрудились, и из толпы пошел какой-то тихий гул, вроде как в улье гудело.
Михайло вошел, сел на скамейку. За толпой его не было видно.
– А, ваганы-шенкурцы жалуют! С каким делом? – спросил сидевший за столом Иван Васильевич Милюков.
Шенкурских мужиков с реки Ваги отличают с первого взгляда. Самый простой народ, по простоте всякий норовит их обидеть. Поэтому ваганы всегда и держатся «ара́ушкой» – скопом.
– Ну, с какой нуждой-то? – спросил опять Милюков.
Ваганы переглядывались, часто моргая, и охали.
– Ну?! – крикнул наконец Милюков.
Тогда тот ваган, которого толкали в спину, снял шапку, выставил вперед правую ногу, подтянул к ней левую, будто неживую, и, поклонившись, сказал Милюкову тонким голосом:
– На обидчика, значит, челом бьем! – И вдруг, повернувшись, рявкнул каким-то нутряным басом на араушку: – Ну, вы!
Араушка сняла шапки, поклонилась и загудела:
– Рассуди!
– Будь милостивец!
– На тебя – как на каменну стену!
Милюков важно погладил усы:
– Ну, ну! Говорите! Где, как не у нас, защита.
Простаков ваганов ловко обошел продувной архангелогородец. По весне они порядились к нему в покрутчики*. Лето и осень ходили на его каюках*. Подошла осень – расчет получили вполовину. Остальное хозяин обещал выдать на зимнего Николу, на Холмогорской ярмарке. Вот ваганы и явились к хозяину за своим. А купец-то возьми и откажись. Еще крик поднял: что, мол, за люди, не знаю, не ведаю, видом не видывал и слыхом не слыхал.
– Бумага есть ли у вас? – хмурясь, промолвил Милюков.
По араушке прошел шепот:
– Слышь ты, бумагу спрашиват.
– От и думай.
– Эх, сказал – лучше не пытать. Еще беда стрясется.
Один из ваганов, посмелее, спросил:
– Это про каку ж бумагу спрашивать изволите?
– Ну, когда с купцом рядились, бумагу-то писали?
Араушка зашумела. Вперед выступил оратор:
– Бумагу-то? Нет, нет, родимой! Нету. Не писали бумагу. Для ча нам бумага-то? Как заручались хозяином да по ложке деревянной каждому от него дадено было, так и пошли. Заливной[33] рубль выдаден – и в путь. На словах, на словах всегда в покрутчики идем.
– Эх, сказано – ваганы! Ищи теперь ветра в поле, – с досадой сказал Милюков.
Араушка заговорила:
– Бумагу-то, зачем бумагу? Всяка бумага супротив нас становится. По бумаге и подать идет, по ней и в войско идти. Знаем. Мы по-хорошему. Без бумаги. А злой человек не то что с бумагой, а и без бумаги изобидит.
– В бумагу-то всякое поставить можно, во!
– Значит, как по ложке деревянной каждому дадено было…
– Теперь вам с вашими деревянными ложками и оставаться, – проговорил Милюков.
Ваганы разом высоко подняли пятерни и мерно опустили их в густые загривки. Крепко подрав затылки, они вдруг повернулись друг к другу и зашептались. Слышно было, как коновод шипел на остальных: «Говорил, с этого и начинать». Он достал из кармана тряпицу, в которой были увязаны деньги. Потом вышел из толпы и поклонился Милюкову:
– К вашей милости. От обчества, значит.
Милюков метнул быстрый взгляд на зажатую в руке у мужика тряпицу.
– А-а… – Затем он обратился к мужику: – Вот что, пойдем-ка в другую комнату. Про одно дело еще спросить надо.
Они вошли туда и через минуту вышли обратно.
– Знаю вашего хозяина, не впервой на таком деле мне попадается. Хитер больно! Сегодня же управлюсь с ним.
– Будь милостивец!
– На тебя – как на каменну стену!
И араушка, спотыкаясь, кланяясь, потянулась к выходу.
Когда все вышли, Милюков увидел Михайлу.
– Ага, – сказал он сумрачно, – ты, значит, тут был.
– Тут.
– С делом пришел или так просто, с проведаньем?
– С делом. Ловко вы это с ваганами управились. В самом деле, что ли, в их сторону дело решите?
– Как по закону выйдет, так и решится.
– Купец больше заплатит?
– А ты говори прямо свое дело.
– А ежели, Иван Васильевич, повыше про такие ваши дела узнают?
– Да не так уж и удивятся.
– Может, и верно. Пойду-ка я восвояси.
Милюков удержал Михайлу:
– Ты постой, постой-ка! Ловок! Скажи свое дело. Посмотрим, не много ли запрашиваешь.
«В жизни, знаешь, вроде как на войне, в бою. А в бою – не намахаться руками, а верх взять», – вспомнились Михайле слова Сабельникова. Припомнился ему и ответ Шубного: «Ежели кто против тебя хитрый, то и над хитростью верх возьми».
– Когда шел сюда, Иван Васильевич, не знал, как к делу приступиться. Ну, ежели какую тайну хотите сохранить…
– Не велика тайна-то.
– Сам знаю. Да и дело мое невелико тоже.
– Ну рассказывай.
Когда Михайло был уже далеко от воеводской канцелярии, он вынул паспорт, чтобы еще раз посмотреть на него. Паспорт был выдан «города Холмогор церкви Введения Пресвятыя Богородицы попа Василия Дорофеева сыну Михайле».
Глава двадцатая ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
Густая и медленная лавина снега падала на Куростров, когда в вечерней тишине возвращался Михайло домой.
Глухо стучат копыта о мягкую снежную дорогу. Легкой рысцой бежит хорошо знающая дорогу баневская крепкая лошадка. Устроившись в углу саней, Михайло плотно укутался в тулуп. Ночью все решится. Когда все уснут, погаснут огни в окнах, он выйдет из дому, в последний раз пройдет по деревенской улице, спустится к реке и пойдет к дороге, которая через Вологду легла на Москву.
Михайло потрогал спрятанные под полушубком паспорт и письмо. Из воеводской канцелярии он заехал к Каргопольскому попрощаться и взять обещанное письмо в Москву, к Постникову.
По склону Палишинской горы Михайло доехал до Ильинской деревни, дома которой сгрудились около Екатерининской церкви. По косогору лошадь дошла к сельскому кладбищу.
Неогороженное кладбище стояло занесенное снегом. Голые кусты ивняка разбросались меж могил.
Привязав лошадь у въезда на кладбище, Михайло по высокому рыхлому снегу прошел между крестами к могиле матери.
В еловых ветвях перекликнулась увидевшая человека галочья стая. Несколько птиц снялись с мест и в темноте, сбивая с ветвей снег, перелетели подальше.
Вот большой деревянный крест…
Михайло сел у могилы. Вспомнилось ему детство, мать, а потом похороны. Грубее и проще стал вокруг него мир после смерти матери. Часто обращался он мыслью к тому, что говорила когда-то мать, передавая сыну накопленную день за днем трудную жизненную науку и правду.
Чуть поскрипывают полозья саней. Недалеко уже баневский дом.
«…А от отца иначе, – думалось Михайле. – Жила бы мать – по-другому случилось. Мать легче угадала бы. А отец в сердце не почуял моей правоты и правды. И не потому, что сердце в нем недоброе, нет. Просто свое глаза ему застит. Не понимает отец того, что не на своем деле, на его дороге, не в силе окажусь. Отец-то крепок в своем стремлении; какой хотел, такой жизнь ему и вышла. А вот свою кровь-то и не признал».
– Когда же в путь? – спросил Михайлу Банев, отдавая ему паспорт.
– Этой ночью. Как все дома и на деревне уснут. До утра далеко уж успею уйти.
– Так. Правильно. Нечего медлить. Каргопольскому паспорт показывал?
– Да.
– Что он сказал?
– Сказал, что хороший сын у холмогорского попа Василия Дорофеева…
– Будто неплох, совсем неплох. И Постникову, стало быть, Каргопольский о крестьянстве уж не писал?
– Больше уж ни к чему.
– Дело.
Когда хлопнула за Михайлой дверь, Банев долго ходил по скрипевшим половицам, смотрел в окошко, садился к столу, опять вставал. На душе у него было тревожно.
Михайло вырос у него на глазах. Мальчик, совсем еще ребенок, бывал первым среди деревенских ребятишек. Кто мог ловчее влезть на высокую ель? Смелее сесть на невыезженную лошадь? Ночью пойти через заснеженное поле, когда встают с лёжек волчьи стаи? А позже, когда стал учиться, кто был понятливее его, смышленее? Кто лучше мог постоять за себя? Кто выдался всем: и умом, и смелостью?
И давно уж Баневу казалось: невровень с ним, с Михайлой Ломоносовым, здешняя жизнь. Что ж, пусть идет, счастья-доли ищет. Мир велик.
Банев открыл книгу, засветил свечу, стал читать. Но чтение не шло. «Ненастоящая для Михаилы эта жизнь, ненастоящая… – думал Банев. – Да. А что такое настоящая жизнь? Жизнь бывает счастливая и несчастливая. И в этом многие разбираются. А что такое настоящая жизнь – это, видно, узнать не так уж легко. Пусть по большой мере Михайло это и изведает».
Банев так задумался, что не услышал, как скрипнула отворенная дверь. Холодный воздух пахнул из сеней, пламя свечи дрогнуло. Банев поднял глаза. На пороге стоял Василий Дорофеевич Ломоносов.
Глава двадцать первая ВСЕ РЕШИЛОСЬ
Не раздеваясь, а только сняв шапку, Василий Дорофеевич Ломоносов сел на скамью подле двери.
– Как ты здесь? Будто уехал? – спросил Банев.
– Уехал. Да вот опять завернул. Поначалу, перед Архангельском, нужда мне была заехать в Усть-Пинегу. В обратную сторону то есть. А потом, едучи через Холмогоры, решил домой все же завернуть. Тебя повидать. Потолковать.
«Знает ли уже обо всем Василий? Пока глазом не сморгнет… Поглядим…» И Банев выговорил спокойно:
– Что ж, потолкуем.
Василий Дорофеевич расстегнул тугие крючки овчинной шубы.
– Жена-то тебе передала?
– Как не передать.
– Точно ли передала? Понял, о чем я просил?
– Понял.
– Ну, тогда все хорошо. А то поспешил я утром, тебя не дождался. А потом и тревога взяла: вдруг да неточно тебе скажут? Вот и решил я вернуться. Самому сказать. Да и метель подходит. Заночую дома, а завтра, как рассветет, в путь.
Ничего еще не знает…
Василий Дорофеевич поднялся.
– Погоди, Василий… Охолодал, чайку попей.
– Ну и то. Попить чайку. Морозище-то! Ух!
Василий Дорофеевич снял шубу и сел к столу.
Пока жена готовила чай, Банев, достав бумагу и взяв перо, что-то стал писать.
– Что это ты пишешь? – спросил Ломоносов.
– Да тут дело важное. Вот и пишу.
Василий Дорофеевич поглядел на написанное, вздохнув, сказал:
– Не понимаю. Полезное дело грамота.
– И впрямь, полезное.
Кончив писать, Банев вышел в другую комнату, разбудил уже спавшего сынишку и тихо сказал ему, чтобы бежал со всех ног в дом Ломоносовых и передал Михайле записку. Да чтобы никто не видел…
Получив записку, Михайло схватил мешок, уложил в него книги, на ходу уже надел шубу, нахлобучил шапку и вышел из дому.
Начиналась сильная метель, и из темноты накатывали холодные клубы снега.
К дому Фомы Афанасьевича Шубного, стоявшему на отшибе, далеко от ломоносовского, Михайло прошел околицей по еле протоптанным кое-где тропкам, местами по глубокому снегу.
– Дядя Фома! Ухожу! – Михайло снял шапку. От быстрой ходьбы на лбу у него выступила испарина. Скинув шубу, он рукавом рубахи утер пот. – Ухожу, дядя Фома!
– Ну, в путь.
– Дядя Фома, вот что тебе сказать надо. Через неделю пойдет на Москву рыбный обоз, в котором будет и Христофоров Михаил Александрович, что до Москвы меня довезти обещал. Так передай ему, что в Антониево-Сийском монастыре* дожидаться буду… Фу! Немного вздохнуть! – И Михайло снова вытер пот.
– Все передам. Что ты так разгорячился?
– Отец нежданно вернулся.
– Что?!
– Вернулся. Банев его у себя задержал. А тем временем я из дому ушел.
– Вон как, вон как…
– С отцом-то никак встречаться не следовало.
– Еще бы!
– Ну, теперь-то уж всё. Из дому ушел. Малость передохну у тебя, дядя Фома, а потом в путь.
– Ох, беглец, беглец!.. Считаться нам всем с Василием Дорофеевичем. Ох, считаться! Пашпорт-то выправил?
– Да.
– Покажь.
Михайло вынул из-за пазухи тщательно увернутый в тряпицу паспорт. Подойдя к огню, Шубный прочитал, что в нем написано. Усмехнулся.
– Кто того добился?
– Случаем вышло.
И Михайло рассказал, как все произошло.
Шубный отошел от огня и передал паспорт Михайле.
– Стало быть, в путь. Денег-то, когда тебе собирали, сколько набежало?
– Пять рублей и еще немного.
– А кроме того у тебя что есть?
– Самая малость.
– Небогато идешь. В дороге чем кому пособи, деньги береги, в Москве ох как нужны будут! Пять рублей… Та-ак… – Фома Шубный открыл запертый на замок сундучок, порылся в нем. Вот к твоему богатству еще три рубля. – И он передал Михайле деньги. – В этом ли, как на Москву придешь, ученым людям показываться будешь? – кивнул на Михайлину холщовую рубаху.
– Больше ничего и не взял. Торопился.
Шубный снял с гвоздя китаечное полукафтанье*.
– На-ка.
– Спасибо! – Михайло стал укладывать полукафтанье в мешок.
– Малость узковато будет. Ишь, каков ты!
Михайло уложил полукафтанье, затянул мешок и привязал к нему оплечья из веревки.
– Много от тебя, дядя Фома, добра видел. Не забуду, дядя Фома.
– И не забывай. Не след доброе забывать. Доброта – она вроде в тепле землю держит. А без тепла от земли и жизни не будет, ничего из нее не поднимется. Вот это и помни. Мир – он большой. И много в нем всякого – и доброго, и злого. Ты еще не сказал, кто в волости поручился?
– Банев.
– На себя принял. Как с отцом-то поладит?
– Единственно он в таком деле с отцом добром и уговорится.
– Стало быть, сейчас. Ну, Михайло…
Шубный обнял Михайлу, и они трижды поцеловались. Вдруг Шубный прислушался и насторожился:
– Слышишь?
– Слышу.
Свистела вьюга. Шубный прислушался опять.
– Крутой полуночник* пал. По такому времени в поле не ходят. Может, только-то по весне и найдешь того, кто в поле один сейчас случится.
– Да. В прошлом годе застыл так-то один наш куростровец.
– Стало быть, вот что: оставайся пока у меня. Схороню так, что никто и не найдет. Как кончится буран, пойдешь. Случается, такой быстро к концу приходит. К утру тихо станет. Может, и раньше. Оставайся.
– Зачем же, дядя Фома?
– Михайло, поостерегись! – Шубный кивнул в сторону окна.
– Милостив Бог. Да и путь так-то уж знаю. И примета хорошая есть – всё двинского берега держаться.
Шубный молча смотрел, как Михайло плотно запахнул шубу, крепко повязал кушак и надел шапку.
– Всем, от кого добро видел, дядя Фома, поклонись.
– Поклонюсь. Плохо, что без родительского благословения, Михайло.
– У матери был.
– Ну, мать на хорошее дело благословила бы.
Михайло направился к двери, вскинул на плечи дорожную суму. Шубный взял со стола свечу, вставил ее в фонарь и пошел за Михайлой в сени.
Михайло открыл дверь и шагнул через порог. Ветер ударил с размаху дверь о стену, задул фонарь. Михайло наклонился против валившего с ног ветра, стал боком, прижал правой рукой к лицу поднятый воротник, круто ступил, забирая правой ногой, и пошел, упрямо наклонившись, вперед, шагая в темноте через метель.
Глава двадцать вторая В ЧЕМ НАСТОЯЩАЯ ПРАВДА?
Когда Василий Дорофеевич вернулся домой, жены не было. Она ушла к Некрасовым еще до возвращения Михайлы. Как только он вошел в дом и зажег огонь, ему сразу бросилось в глаза, что на том месте, где всегда висела, нет Михайлиной шубы. Василий Дорофеевич стал просматривать вещи Михайлы – и через минуту кинулся вниз, в конюшню.
Возвратившись домой от Некрасовых, Ирина Семеновна затопила печь и села подле нее за прялку.
Перед иконами в лампадах горели теплые огни. По темным образам пробегали от колеблющихся лампадных огней летучие блики.
За окном над землей в темноте летели поднявшиеся снега. Ветер бурунами поднимал высоко вверх снежные столбы. На высоте вихрь изнемогал; вращающийся, с круглой воронкой столб на вершине рассыпался и валился вниз густой снежной лавиной. Еще она не успевала упасть на землю, как ее поднимал новый порыв. Снежное мелкое крошево кипело над землей.
Порыв ветра загудел в печных переходах и с пламенем выбился из печи.
«Крута непогода! Впервой такая в этом году, – подумала Ирина Семеновна, прислушиваясь к метели. – Беды бы в поле не случилось». Она подошла к окну и прислонилась к нему лицом. За окном кружила метель.
– Об такое время в поле не ходят, – сказала вполголоса Ирина Семеновна и вновь села за работу.
В сенях изо всей силы ударилась о стену распахнувшаяся под порывом ветра дверь. Со стуком открылась и вторая дверь – из сеней в комнаты. Снаружи ввернулся белый дымящийся клуб метели. Тонкий, истертый ветром снежный прах ударился в углы и лег серебряным блеском на стены.
Ветер задул стоявшую на столе свечу и тревожно метнувшиеся вверх лампадные огни. Ирина Семеновна быстро обернулась.
В красном свете, падавшем в сени от жарко пылавшей русской печи, шел к распахнутой двери занесенный снегом человек. Не закрыв дверей, он шел через сени прямо в комнату. Воротник тулупа высоко поднят.
Ирина Семеновна встала и пошла навстречу вошедшему. Когда он уже переступил порог, она узнала Василия Дорофеевича, прошла через сени к наружной двери, закрыла ее на щеколду и заложила засовом.
Василий Дорофеевич вошел медленно, молча. Он протер руками ослепшие от снежной пыли глаза. Не глядя, сбросил шапку и, не обив веником обросшие снегом сапоги, сел у стола, облокотился и сжал руками голову.
Ирина Семеновна запалила в печи лучину, зажгла свечу и лампады. Василий Дорофеевич поднял голову и заметил зажженные лампады.
– А-а… – сказал он равнодушно и снял шапку.
– Василий, ты почему вернулся? Случилось что? Беда?
– Беда по свету рыщет да дела и случая ищет.
– Знать бы мне. Авось не испужаюсь.
И вдруг Василий Дорофеевич встал, уставился тупым, злобным взглядом на жену и закричал:
– Не испужаешься! Уж больно не пуглива! Может, своими бесстрашными глазами не все увидишь! Может, на что со страхом смотреть надо?
Ирина Семеновна вздохнула:
– Тебе виднее… – Она спокойно глядела на мужа. – Ты не злобись, Василий Дорофеевич. Чтобы злоба в силе была, другому понятна должна быть. А ты сам утешаешься…
– Растолкую. – Он махнул рукой в сторону окна: – Видишь? Ежели в такую погоду человек в поле – что? Хорошо ли?
– Нехорошо.
– То-то и оно. Михайло ушел.
Ирина Семеновна взглянула в окно. Там во мраке летели высокие белые снежные столбы. В окно скреблась тонкими обледеневшими ветвями рябина. И ей живо представилось, как, закрывая глаза от бьющего снега, идет через поле, пригибаясь к земле, Михайло.
– Правду, значит, говорил.
Василий Дорофеевич не слушал.
– Пробовал догнать. Нельзя. Конь становится. Нет пути. В такую-то метель! Ночью! Руки́ своей в темноте не увидишь. Как можно?
– А можно, значит.
– Тебе бы, а? Каково бы справилась?
– А я не хвалюсь. Ты как – на санях? Михайло-то, видно, пеший…
Василий Дорофеевич искоса смотрел на жену. Затем глубоко вздохнул:
– Эх!.. Что же, разговор с тобой, Ирина Семеновна, вести станем.
– Об чем бы?
– А ты вот слушай. Да. Ведомо, почему на сердце у тебя к Михайле вражда. Теперь в твою сторону решилось. Тебе верх.
– A-а… Догадлив.
– Как умру я – тебе добро.
– Чтой-то такая охота тебе, Василий Дорофеевич, себя хоронить? Не рано ли о смерти задумался?
Ветер изо всей силы ударил в бревенчатую стену.
– Не просто так-то сейчас в поле идти, – сказала, прислушавшись, Ирина Семеновна.
За прожитые годы Василий Ломоносов хорошо узнал нрав своей жены. Потому-то он удивлялся все больше. Неладно как-то.
– Ты что?
– А ничего. Думаю просто.
Ирина Семеновна поправила белый шерстяной платок, длинные концы которого, спускаясь с головы, были крестом перетянуты на груди и завязаны узлом за спиной. Села на скамью к печи.
Василий Дорофеевич еще попробовал начать разговор:
– Теперь прямая дорога – всему тебе в руки.
– Не погодишь ли потому со смертью?
– Было бы в моей воле!.. – Он усмехнулся. – Слушай, Ирина Семеновна, ежели вдруг я распоряжусь – после смерти моей все церкви, а?
– Все может быть. Умом ведь Бог тебя не обидел.
– Будто нет. Что у тебя к Михаиле, давно, к примеру, вижу.
– Да, тут не ошибся.
– Так вот, Ирина, церкви – на вечное поминовение души? Все добро?
– А ты думаешь, что крепче той силы на земле ничего нету? Превозмогло ли твое-то? – И Ирина Семеновна показала кивком на окно, за которым шумела метель.
– То Михайло. Не всякому дано…
– Только что об том же тебе и говорила. Видно, понял.
– Ага… Не завидно ли – на какой высоте Михайлино дело решилось? Дух и гордость. Тебе бы?
– Судей много. Тебе ли о том судить?
Тут Василий Дорофеевич не выдержал. Он бешено закричал:
– Жена!..
Ирина Семеновна засверкала глазами.
– Жена. Ну! – И встала выжидающе.
Ломоносов пошел против стоявшей во весь рост Ирины Семеновны. Она не сморгнула глазом.
Василий Дорофеевич заложил руки за спину, крепко сцепил пальцы. Скривив губы, сказал:
– Не велика победа и честь.
– Да и в самом деле…
Василий Дорофеевич отошел в сторону.
– Понимаю теперь, что тебе в тяжбе с Михайлой надобно было. Просто – чтобы верх. Гордыня.
– В чужой душе словно в потемках читаешь. Мне-то и невдомек!
– Видно, да. Одного, Ирина, не понимаешь. В миру живем. А в миру ежели брать верх, то не только для того, чтобы от того одному духу упиться. Это ежели, к примеру, в иночестве* – там одно на потребу: радость духовная. Потому как плоть умерщвлена должна быть. Но пока в миру – по-мирскому. А тебе не по нраву ли в инокини, а?
– Будто только по-твоему в миру жить-то? За примером недалеко ходить… Спать пойду, Василий Дорофеевич. Скучный ты.
Ирина Семеновна задула лампады и пошла в спальню.
– Погоди!.. – крикнул ей вдогонку муж.
Она не повернулась и не остановилась. Василий Ломоносов остался один.
«Та-ак. Со всех сторон обстало. В Михайле – молодость, молодая кровь кипит. С мое бы увидел, тогда бы и понял, где настоящая сила. Я-то видел, а посмотреть самому – лучшее разумение. Как стало у меня своего прибывать – и почет от людей начался другой, да и в себе самом иное чувствуешь. И народ к тебе с уважением, и сам ты себя признаёшь. У Михайлы – от молодости. А Ирина что? Женское дело – давно говорю. Настоящего-то мало в голове. Не в одно, так в другое собьется. А все к одному – всамделишного дела не разумеет. Всегда так думал. Женский разум».
Василий Дорофеевич задумался. Разные мысли шли ему в голову.
«Жизнь – она должна все шире идти, все больше захватывать. Одно к другому прибавляться должно. Тогда только дела и прибывает. К примеру, если народ не множится, куда государство идет? К разору и погублению. А ежели богатства в нем не прибывают, то тоже все под уклон катится. Так и в роду дело: из колена в колено с прибытком должно идти. Вот тогда всему настоящий рост и будет. Как государство, ежели в нем не идет по-настоящему вширь жизнь, от соседа-ворога неизбежно разрушится, так и роду, ежели в нем настоящая линия не ведется, пасть».
И вдруг Василий Дорофеевич быстро поднялся.
«А мой род, а? Правда – моя, а почему же я с той правдой один остался? Почему я один, как пень обгорелый?»
И он выговорил натужным шепотом:
– Иль ошибся? – Он встал и стоял неподвижно. Всю жизнь носил ту правду у сердца. Иль в самом деле в той правде силы великой, в которую верил, нету?
Глава двадцать третья КАК ВСТРЕТИЛИСЬ ВАСИЛИЙ ЛОМОНОСОВ И БАНЕВ
Часа через два Василий Дорофеевич вышел на улицу, направляясь к Ивану Баневу, ведь это его старый друг, с ним всегда советовался в трудный час… Он шел пошатываясь, на плечи, прямо на рубаху, был накинут тулуп. Шапка съехала на затылок.
Дойдя до баневского дома, Василий Дорофеевич широко расставил руки, пощупал пальцами бревна. Не снимая со стены рук, стал ощупью продвигаться к лестнице, которая вела на крыльцо. Поднявшись кое-как по ступеням, распахнул дверь и, пройдя в темноте сени, еще пошарил. Найдя вторую дверь, сразу обеими руками уперся в нее. Дверь подалась, и, сильно качнувшись, Василий Дорофеевич вошел в избу.
Банев сидел у зажженной свечи и читал. Увидев Василия Ломоносова, он встал ему навстречу.
– A-а, Иван… Вот я пришел к тебе, Василий Ломоносов. Понял? Второй раз пришел. Ежели так – значит, нужда.
Василий Дорофеевич грузно сел на скамью. От него сильно пахло водкой.
– Понимаешь ли ты – какое дело? Была у меня правда. Крепкая. А вот будто не выстояла. А? Как же это так может быть? Ежели правда крепкая, ее одолеть нельзя. Ни-ни-ни!.. Вот ты теперь, Иван, все и объясняй. Потому как я сам боле уже ничего не понимаю. Объясняй! Ты учен и должен все понимать. Ты должен все мне растолковать. Всё!
«Ушел ли Михайло?» – думал Банев. Еще ничего нельзя было понять.
– Читаешь? – показал Василий Дорофеевич пальцем на книгу.
– Читаю.
– Светская?
– Светская.
Василий Дорофеевич рывком повернул к себе книгу, сжал в руках и уставился в нее. Перед его глазами бежали ровные мутные строки, одно с другим слипались слова. Большими негнущимися пальцами он переложил несколько толстых книжных листов и, вновь приблизившись, посмотрел в книгу. Потом закрыл ее, повернул к себе корешком, обрезом, осмотрел переднюю крышку, заднюю, пощупал переплет, подержал ее в руках, как чужой, незнакомый и враждебный предмет.
– Вот она, книга-то. Э-хе-хе!.. – Василий Дорофеевич вздохнул. – Стало быть, из таких вот книг большой ум, премудрость. И умудренные на высоту недостижимую поднимаются. Нам же то непонятно. Темным то есть.
Он снова повертел в руках книгу, переложил из руки в руку, потом зло бросил ее на стол.
– И почему она поперек нашей жизни стала? А?
– А ты думаешь – поперек?
Василий Дорофеевич ответил быстро, злобно и почти трезвым голосом:
– Что? Нет? Михайло-то почему ушел? Вот она! – И Василий Дорофеевич оттолкнул книгу. – Ух!
– Михайло? Ушел? Значит, успел?
Как ни был хмелен Василий Ломоносов, но он сразу насторожился.
– Что-о-о?! А ты почему знаешь, что он мог успеть или не успеть? А? – Застыв в ожидании, он подозрительно смотрел на Банева. – А? Ты что? Давно замечаю: заговор какой-то вокруг меня. Сеть плетется! Что ты?
Банев ответил спокойно:
– Потерпи малость. Скажу.
– Ну потерплю. Потерплю. Ты мне отвечай вот все-таки. Ежели правда крепкая, она не должна порушиться. А тут она с двух сторон будто сбита. Ирина… Тоже ведь туда же…
– Ирина? Про что, Василий, говоришь?
И Василий Дорофеевич начал длинно и путано объяснять, как он в правде своей против Ирининой тоже сражен оказался.
Переспросив несколько раз, Банев умолк, что-то соображая. Наконец спросил:
– Значит, и Ирина против твоей правды?
– Ух! Аки ангел со мечом огненным!
Банев продолжал:
– Михайло-то почему? От книги, говоришь?
– Истинно. От нее. – И он ткнул в книгу пальцем.
– Ну а Ирина что же – тоже, что ли, книги читает?
– Бог миловал.
– Почему же тогда она-то?
Василий Дорофеевич недоуменно уставился на Банева.
– Постой, постой… Это ты что же? Пьян я, что ли? Ты постой…
– Значит, может, не от книги только твоя правда порушилась? Во всем ли в ней сила-то есть?
Вдруг Василий Дорофеевич криво наклонился, приподнялся, замахал руками и закричал:
– A-а!.. Так вот я покажу, какова сила в моей правде! И сейчас не пуста мошна*. А теперь приналягу – еще набежит. Всех под себя подомну! Согну! Эх! – И он сжал в кулак свою большую руку. – Захрустит! Сок изо всех, как из клюквы, давить буду. Ежели все супротив меня, поглядим! Вот только приналягу на свое дело.
– Налегать теперь тебе уж одному придется. Сын-то не принял? Ушел?
– A-а… В сердце метишь? – Василий Дорофеевич отодвинулся от Банева и уставился на него мутными глазами. – Да ты что, враг мне, что ли?
– В первые люди, Василий, намечаешь выйти, и не для того, чтобы в пользе и утешении показаться, а для того, чтобы под себя сгрести. Вон оно как наружу выходит. Твоя деньга добрая ли? Всю жизнь ты вокруг нее ходил. И теперь думаешь, будто деньга сильнее всего на свете, будто в ней одной сила скопилась, в нее только она и положена. И кажется тебе: никак стороной мимо деньги не пройдешь. Ведется она – значит, у тебя и сила. Первое дело – запомни: покуда над деньгой на нашей земле чин стоит. И деньга под началом у него. Мошна под чином дворянским да боярским состоит. Нету ей настоящей воли. Не все она может. – Банев отрицательно покачал головой.
– Не впервой ту песню поешь, – равнодушно ответил Василий Дорофеевич.
– Вот. В первые люди тебе, значит, и не выйти. По твоей дорожке-то.
– Хм-хм-хм! Загадки загадываешь. Ты, значит, про жизнь, про устройство общее. A-а!.. Вот это хорошо. Давай потолкуем. Люблю про жизнь! Эх, люблю! – Василий Дорофеевич сильно качнулся. – Ха-ха-ха! Иван! Говоришь, боярство да дворянство. А где оно у нас, в северной земле? Черносошные мы. Государю только повинны. А ни вотчины, ни поместья на земле на нашей не стоят и сроду не бывали. И в крепость[34] никогда мы не попадали.
– Так. А пройдешь ли ты по нашей земле с дворянским правом? А ежели подашься в другие русские земли, то и совсем не вправе окажешься, совсем под зорким глазом очутишься.
– Пьян я, а соображаю. О! О чем это? Да! Вот! Говоришь, в других землях совсем теснота? А Михайло, а? Куда пошел? В другие земли. А кто он таков есть? Мужик! В подушный оклад положен! Ха-ха-ха! – Василий Дорофеевич смеялся торжествующе. – Только как же это ушел он без пашпорта? А? – Вдруг ему в голову пришла тревожная мысль: – А ежели с пашпортом? Как же это без меня его получить мог? Что? Пашпорт? Получить? Да всякого в бараний рог согну! Ух!
– Пашпорт Михайло выправил. И в нем не сказано, что он крестьянский сын. Поповский. А справку в волости он тоже получил. В платеже подушного расписался я.
Василий Дорофеевич не понимал. Он откинулся на спинку скамьи и смотрел во все глаза на Банева. Открыв рот, хотел что-то сказать, но не сказал, только глотнул воздуха, будто что-то неподатливое в горло протолкнул.
Вдруг в лицо Василию Дорофеевичу кинулась кровь, и из бурого оно стало багровым. Он поднялся со скамьи, пошатнулся и, громадный, с мутными глазами, в распахнутом тулупе, растрепанный, дурным голосом закричал:
– А-а-а!.. Вот что! – И пошел на Банева.
Банев встал и стоял спокойно.
Но тут из соседней комнаты выскочила жена Банева, разбуженная криком.
– А? Что содеялось? Аль беда?
– Не вмешивайся, жена, не женское дело.
Тогда она бросилась между ними.
– Ай! Что вы, петухи, задумали! Постыдились бы! Грех какой!
– Уйди, жена, говорю!
Но Василий Дорофеевич, как подрубленное в корень матерое дерево, рухнул на скамью и обхватил голову руками.
Банев показал жене глазами на дверь. Она вышла.
Василий Дорофеевич наконец выпрямился, огляделся, будто присматриваясь к чему-то новому и незнакомому. По лицу пробежала судорога, как от сильной боли.
– Сын у меня ушел. Кровь моя. В нем надежда была. Пусто сердце осталося. Из груди все ушло. – И он снова погрузился в хмельную дремоту.
Банев подошел к Василию Дорофеевичу, тронул его за плечо.
– Слышь-ко, Василь! Слышь! – Банев стал трясти его за плечо. – Слышь ты! Очнись! – Потом склонился к самому уху своего приятеля: – Важное скажу. Слушай хорошо.
Ломоносов насторожился.
– Жив будет Михайло, жив. Понял?
– А? Откуда знаешь?
– Не было случая, чтоб Михайло когда в поле сбился.
Василий Дорофеевич приблизил к Баневу свое лицо.
– Не собьется, думаешь, а? Не застынет?
– Нет.
– Ах… У тебя хмельного чего нет? Душа горит.
Банев взял с полки бутыль с брагой, налил в небольшой, ярко начищенный медный братынь. Василий Дорофеевич трясущимися руками выхватил братынь из рук Банева и, расплескивая брагу на пол, через край, стал жадно глотать круто сваренный хмельной напиток. На мгновение он отрывался, переводил дух и опять пил. Потом поставил братынь на стол, отодвинул его рукой. Будто какая-то темнота снова набежала на Василия Дорофеевича, и снова недобрыми стали у него глаза.
– Другом мне всю жизнь был. Эх ты!..
– Был другом. И останусь – так думаю. И еще вот что, Василий, скажу: не от одного меня Михайле помога была. И те не враги. Народом поднимался.
– Народом? Зачем встревать в чужое дело?
– Стало быть, почуяли: не чужое.
– Не враги… А пошто сына у меня отняли?
– Василий, не отняли – спасли.
– От кого? От чего?
Но Банев не отвечал.
– A-а… понял, – недобро сказал наконец Василий Дорофеевич и взял со стола книгу.
– Что тут?
– Научное.
– К тому Михайло и ушел?
– Да.
– А науки-то всё одно к делу прикладывать?
– Не иначе.
– У меня же дело.
– Не то, значит. Есть поболе.
Тут Василий Дорофеевич не выдержал и яростно ударил по книге кулаком.
– Что? Боле моего нету! Живем мы – и что того важнее? А мое дело – для жизни.
Василий Дорофеевич мерил комнату большими, грузными шагами, размахивал руками и, не слушая спокойных ответов Банева, возбужденно говорил:
– Что задумали! А! И какие такие у вас права? Все равно все в моей правде живете. Только я-то сноровистее – вот и весь сказ. Не объясняй мне ничего. Все сам понимаю.
– Василий! – И, подойдя к своему другу, Банев крепко взял его руку повыше локтя. – Василий… А как Михайло, мужик наш куростровский, и всему нашему крестьянству, и роду твоему ломоносовскому на славу книгою надо всем, что есть, поднимется? – очень медленно, тихо и пристально глядя ему в глаза, говорил Банев. – А? Вдруг мужик на первое место наукой возьмет да и вывернет? А?
Василий Дорофеевич удивленно посмотрел на Банева.
– Как же это, чтоб мужик надо всем поднялся? – Он покачал головой. – Нет. В сказках про то услышишь только.
– А вот как да не в сказке сбудется?
Ломоносов сел.
– Ха! – как будто обрадовался он. – Это ты раззадорить меня хочешь. Соблазнитель! И думаешь, что я, как дитя неразумное, сразу взял да и поверил? Нет, брат! Все равно Михайлу верну. У моего ему стоять! А то вот помру я, а добро, которое потом кровавым нажил, чужие придут да расхитят. Хватит забот Михайле и здесь. А то что придумали! Надо всем! Верну.
– Почему раньше не вернул?
– Хотел… Метель… Не нагнал.
– А ежели бы не метель?
– Кончится метель – нагоню.
Банев валко пошел к маленькому слюдяному окошку, закрытому занавеской.
– Смотри-ка, Василий, – сказал он, отодвигая занавеску.
Василий Дорофеевич не заметил, что метель уже кончилась. Сейчас с неба смотрели чистые, светлые звезды, и их зеленый свет сиял на утихшем и легшем на землю снегу.
Как раз в это время Михайло выходил к Матигорам, на прямую Московскую дорогу. Отсюда, с возвышения, он в последний раз посмотрел на свою родную деревню.
– Ну? Пойдешь? – спросил Банев.
Василий Дорофеевич подошел к окну, уперся широко разведенными руками в стену, придвинулся к оконнице, стал смотреть. Смотрел долго и молча. Потом отошел, сел, сгорбился. Вдруг, поглядев с вызовом на Банева, он хитро сказал:
– Ты что же, Иван, все вроде в западню меня ловишь? Напрасно! Эх, напрасно! Ха-ха-ха! И на какую приманку? На гордыню. Да знаешь ли ты, что над гордыней разум поверх должен быть? А? А без него она вроде как парус в море без руля.
Ломоносов еще хлебнул браги.
– Мужик! Надо всем! Где слыхано? Михайлу нагоню. Понял? Не сейчас же только. Далеко не уйдет. Рассветет – тогда.
Но ни тогда, когда рассвело и больше уже не поднимался над дорогами беспокойный снежный вихрь, ни позже, в морозные ясные дни, не настиг в пути своего сына Василий Дорофеевич Ломоносов.
Всякие мысли шли ему в голову, когда он собирался идти вдогонку за сыном, – собирался, но так и не пошел. Что же остановило его?
Казалось ему и так: минет месяц, другой, третий – и поймет Михайло, как круты для мужика дороги там, куда он ушел, поймет – и вернется обратно, в насиженное и устроенное гнездо. И не лучше ли потому оставить его в покое? Пусть сам испытает, чтоб по своей воле для него все решилось.
Это, что ли, остановило Василия Дорофеевича?
Другую же мысль он упорно старался от себя отогнать.
Придумал же Банев! На гордость всему ломоносовскому роду возвысится Михайло, его, Василия Ломоносова, сын! Он настойчиво отстранял эту мысль, а она все возвращалась и возвращалась, как будто и в самом деле взяла над ним власть.
Это ли остановило его? И понял ли Василий Дорофеевич разницу между гордыней и смелостью, перед которой разум открывает далекий путь?
Почему же все-таки ни в ту зиму, ни позже не попытался вернуть домой сына Василий Ломоносов?
А ведь когда по весне узнал он от вернувшихся из Москвы рыбаков, что Михайло там, в Спасских школах, сделать это было совсем просто. Заяви Василий Дорофеевич куда следует о том, какой паспорт у нового ученика и потребуй родительской волей возвращения сына, все бы и решилось. Силой закона Михайлу Ломоносова водворили бы в Мишанинскую.
Не сделал этого Василий Дорофеевич.
Почему?
Кто ж его знает? Не могли этого до конца понять земляки Василия Ломоносова.
Все угрюмее и молчаливее становился он. Да и в доме у него стало еще более одиноко. В 1732 году, недолго проболев, умерла Ирина Семеновна. По третьему вдовству не женился уже больше Василий Дорофеевич.
Сидя около Ирины, у изголовья, перед самой ее смертью, сказала ей старинная подруга Алена: «Жить бы тебе, Ирина, молода ведь еще». «Жить? – ответила умирающая. – Для каких таких великих дел? Метнуло меня из жизни, не при месте я. Ни чья беда, ни чья радость по мне, видать, не соскучится».
И хотя так же по весне из года в год уходила в море «Чайка», и все так же исправно шло налаженное дело, и достатка не убывало у сноровистого промышленника, но как-то равнодушнее стал он смотреть на деньги. Переберет в руках выручку, подержит монеты на ладонях, а потом ссыплет их в окованный железом сундучок да долго на них и не взглянет.
Старался Василий Дорофеевич не быть на людях, одиноко думал свои думы. И, вернувшись по осени с моря, в стариковские бессонные ночи подолгу бродил по опустевшему гулкому дому.
...Так шло время. Настал 1741 год. В этом году вернувшуюся с моря «Чайку» подвели к куростровскому берегу молчаливые спутники Василия Ломоносова. Хозяина на борту больше не было. То ли сердце не выдержало, то ли рука сдала – не выплыл по высокой волне сбитый за борт крутым валом старый помор Василий Ломоносов.
Эпилог
В июньский день 1741 года на всех парусах входило в Неву большое судно, пришедшее в Петербург из Германии.
К стоявшему на носу корабля человеку в зеленом суконном кафтане, который всматривался в открывающиеся берега, подошел немецкий купец, впервые привезший в Петербург свой товар.
– Осмелюсь спросить у господина ученого…
Купец во все время пути от Травемюнде с любопытством поглядывал на этого молодого человека, который подолгу разговаривал со спутниками по плаванию о горном деле, химии, математике, физике, беседовал о поэзии. В разговоре он часто употреблял латинские выражения, переходил временами на этот язык, некоторых авторов цитировал на память по-французски.
– Осмелюсь спросить…
Молодой человек с готовностью поклонился.
– Я впервые в России, в Петербурге, а господин ученый, как мне кажется, бывал уже здесь…
– Да. Случалось.
– Вот я и хотел спросить…
И купец стал обстоятельно расспрашивать своего собеседника о Петербурге.
Удовлетворив любопытство, он сказал:
– Господин так хорошо знает Россию…
– Я здесь родился. Я русский.
– Русский?! – удивился немец. – И так хорошо говорите по-немецки?
– Я несколько лет прожил в Германии. И теперь возвращаюсь в Россию.
– В каких городах на моей родине, осмелюсь спросить, господин ученый жил?
– В Марбурге и Фрейберге. Бывал и в других городах.
– A-а, Марбург… Там находится наш знаменитый университет.
– Вот я в нем и занимался науками.
– О-о-о! – с уважением протянул немец. – А в России господин ученый также будет предаваться наукам?
– Да. Это мое дело.
– Где же, господин ученый?
– В Академии наук.
– В России есть Академия наук?
– Есть.
Купец почтительно склонил голову. Глядя на кружевной воротник своего собеседника, он сказал:
– Науками имеют удовольствие заниматься те, кто принадлежит к благородному сословию…
– Я крестьянин.
Приятно осклабясь, немец поклонился и, поблагодарив за беседу, очень довольный, отошел в сторонку.
«Этот молодой ученый – большой шутник!» – подумал купец, бросив со стороны взгляд на молодого человека в зеленом кафтане, задумчиво смотревшего на берег.
Корабль шел против упорного невского течения. Скоро он подойдет к пристани. Михайло Ломоносов вновь ступит на родную землю. Годы учения кончились. Ждет работа.
Славяно-греко-латинская академия в Москве, затем пребывание в Петербурге, а потом отъезд в Германию вместе с двумя другими российскими студентами, Виноградовым и Рейзером, посланными за море совершенствоваться в науках. Десять с лишним лет, а теперь все это как один день, быстрые рубежи времени, разделившие прошлое.
Что ждет его в будущем?
С Невы хорошо видно здание Академии наук.
Пройдет несколько месяцев – и Михайло Ломоносов станет в ней адъюнктом физического класса, а через несколько лет станет профессором и академиком. Станет великим русским ученым, о котором узнает мир и которым его Родина будет гордиться.
Переведя взор со здания Академии наук на Неву, Ломоносов смотрит на берег. Ровная гладь, в дымке дальняя черта небосвода. Там – Россия… Русская земля…
Ломоносов вспомнил давно сказанные ему слова: «Как поднимешься ты науками высоко, с той высоты на всю нашу Русскую землю гляди. И рассматривай, где на ней правда и где неправда. За правду стой, против неправды бейся, жизни не жалея».
«Жизни не жалея…» – повторяет он про себя.
Н. А. Равич ПОВЕСТЬ О ВЕЛИКОМ ПОМОРЕ
Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей.
А. С. ПушкинГлава первая НОВЫЙ АКАДЕМИК
После скудного и мрачного правления Анны Леопольдовны*, Бирона* и Миниха*, когда запрещено было носить платья «дороже четырех рублей аршин», а все доходы казны шли в карманы немцев, с воцарением Елизаветы Петровны дух расточительства и легкомыслия повеял над городом Великого Петра.
В «Санкт-Петербургских ведомостях» появились объявления:
«Ко Двору Ее Императорского Величества потребно купить нижеописанных питей по знатному числу, а именно[35]: бургунского, шампанского, рейнвейну, секту, пантаку белого и красного и других вин».
«Ко Двору Ее Императорского Величества потребно купить по знатному числу[36] корицы, мушкатных орехов, сахару, Канарского самого чистого, кофию ливанского, смоквей, вишен сухих, винных ягод, миндалю сладкого, конфектов французских, сыру пармезану: того ради, ежели кто из оных вещей готовых имеет, то в придворной конторе немедленно явились».
«Для обиходу Двора Ее Императорского Величества надлежит поставить меду 1500 пудов*, хмелю 4000 пудов».
Улицы запестрели щеголихами с затянутыми, осиными, талиями, огромными фижмами* и прическами в виде кораблей, цветочных корзин и китайских беседок, ярко накрашенными и густо напудренными, с огромными мушками* на щеках и подбородках.
Даже на прислугу распространялись требования моды, и ее нанимали «на хозяйских румянах и белилах».
Дамы проводили целые дни за туалетами. Мужчины упражнялись в том, как вскидывать лорнет*, встряхивать цветной платок, пропитанный французскими духами, открывать табакерку и носить куньи и собольи муфты.
Приказано было ставить клейма на фалды* господ, явившихся ко Двору в старых или вышедших из моды несообразных кафтанах. Сама императрица меняла наряды много раз в день, и все-таки оставались неиспользованными пятнадцать тысяч новых платьев и несколько тысяч пар обуви.
По грязным улицам в каретах и экипажах проносились вихрем, распугивая прохожих, кавалеры в розовых, желтых или черных бархатных кафтанах, коротких штанах, стянутых под коленкой поверх белых чулок. Гвардейские офицеры, сопровождая едущих в экипажах дам, скакали карьером по Невскому.
Вся эта блестящая толпа знатных людей вертелась вокруг Двора. В Петербурге дворянин полностью зависел от места, которое он занимал, от его связей при Дворе, а во времена Елизаветы Петровны – и от того, в каких отношениях он был с «вошедшими в случай»* Разумовскими и Шуваловыми. И потому жизнь у него была такая: куда Двор, туда и он. Уезжала Елизавета Петровна – и за ней вывозили мебель и посуду из дворцов; вельможи и иностранные послы, большая часть Сената и множество чиновников ехали вслед.
Последний день июня 1746 года в Санкт-Петербурге выдался жаркий. Придворные кавалеры и другие знатные персоны пребывали в Петергофе, где, «вкушая приятности преизобилующия натуры[37]», находилась и сама императрица Елизавета Петровна.
Только мелкие чиновники Двенадцати коллегий* в потрепанных кафтанах и пропотевших париках скрипели перьями в канцеляриях огромного здания на Васильевском острове.
Но город жил своей обычной жизнью: торговцы квасом и студеной водой оглашали криками пыльные улицы, купцы зазывали прохожих в лавки, плотники с топорами за поясом и пилами за спиной шлепали в лаптях по торцовой мостовой в поисках работы.
Солнце играло тысячей бликов на ровной глади Невы. Застывшая сверкающая масса стекла улеглась в огромном лоне ее русла. Множество кораблей стояло у причалов и на якоре. Лодки сновали между ними, перевозя людей и товары. Голые по пояс грузчики, обливаясь по́том, бегали по сходням. То и дело раздавались крики и ругань на разных языках.
На набережной, около биржи, был рынок заморских товаров. С утра и до ночи предприимчивые капитаны и матросы продавали попугаев, обезьян, раковины, ароматические масла, цветистые шали, ковры и оружие из индийских и африканских колоний. Тощие, кожа да кости, негры, скрестив ноги, уныло сидели на земле под присмотром торговцев: их продавали под видом «отдачи в услужение» в богатые дома. Какой-то толстый провинциальный помещик, сопровождаемый женой и детьми, бесцеремонно ощупывал маленького черного мальчика и под конец даже открыл ему рот, чтобы посмотреть зубы, как у лошади.
К вечеру по дороге из Петергофа в столицу потянулись щегольские экипажи и дормезы*, крытые кожей; золоченые, с большими стеклянными окнами кареты вельмож, и рыдваны*, и одноколки*, сохранившиеся еще с петровских времен. Все они ехали на стрелку Васильевского острова.
На самом берегу Невы стояло трехэтажное здание Санкт-Петербургской Десьянс Академии[38], украшенное башней, вокруг которой вилась вверх деревянная галерея. Вместо шпиля на башне возвышалась позолоченная армиллярная сфера*.
Башня как бы делила здание на два флигеля; двери одного из них были широко раскрыты в ожидании гостей.
На верхней площадке лестницы гостей встречал правитель академической канцелярии – советник Иоганн Данилович Шумахер, в длинном парике и атласном кафтане. Он считал себя соратником Петра. Великий Петр не только назначил Шумахера хранителем библиотеки и смотрителем кунсткамеры*, но и однажды, восхищенный хорошо приготовленным обедом, решил женить его на дочери своего повара Фельтена. Петр сам приехал на свадьбу, привез своих дочерей, Анну и Елизавету, и всех приближенных. С тех пор положение Шумахера упрочилось; постепенно он превратился в полновластного вершителя академических дел.
Но в первые же месяцы царствования Елизаветы Петровны заведующий академической мастерской, бывший токарь Петра, Андрей Константинович Нартов вместе с канцеляристом Грековым, переводчиком Горлитским и студентом Шишкаревым подали на Шумахера донос о «похищении многой казны и о явном Шумахеровом на Россию скрежетании… За восемнадцать лет ни единого русского профессора Академии не произведено. Тщится, чтобы и впредь не было».
И по повелению Елизаветы Петровны взят был Иоганн Шумахер под стражу, а Нартову поручили временно управлять академией.
Пришлось Иоганну Даниловичу Шумахеру почти два года просидеть под арестом, давая длинные объяснения по многим вопросам председателю следственной комиссии, грозному адмиралу Головину. Но помогла «одна знатная иностранная персона при дворе». Подействовало и письмо одиннадцати иностранных академиков и адъюнктов, грозивших уходом, «если не учинят надлежащую сатисфакцию*», и тем, что «после их отъезда никто из иностранных государств впредь на убылые места приехать не захочет».
Поводом же к письму послужило то, что адъюнкт Михаил Ломоносов, явившись в конференц-зал, «имея на голове шляпу», Иоганну Мессеру «показал кукиш», а от адъюнкта Трескотта потребовал, чтобы он с ним разговаривал по-латыни. А когда тот пробормотал, что не умеет, оный Ломоносов ему ответствовал: «Кто тебя сделал? Шумахер. Ты никуда не годишься и недостойно произведен». После сего адъюнкт Ломоносов ушел, обозвав Шумахера вором и пообещав профессору Винсгейму «по-править зубы».
Правда, в академии и раньше бывал «шум», а однажды профессор Юнкер даже побил палкой физиолога Вейтбрехта за то, что тот упрекнул его в плохом знании латинского языка. Но все это были ссоры между немцами, кончавшиеся дружеской кружкой пива за круглым столом. Терпеть подобное от русского, да еще сына простого мужика, они не желали.
И посему последовало решение комиссии: Шумахера вернуть к прежней должности, «поелику правление Нартова может причинить Академии наук конечное бесславие, ибо он никакой ученый человек или знающий иностранные языки, но и по-русски лишь с нуждой может свое имя подписать». Шумахера же за то, что он «претерпел немалый арест и досады», представить в статские советники.
Так Шумахер по-прежнему стал управлять академической канцелярией. Однако он хорошо понимал, что дух времени в это беспокойное для иностранцев царствование был уже не тот, что раньше. Русские теперь и в науках стали сильны. Недаром великий Эйлер* писал, что «все труды адъюнкта Ломоносова по части физики и химии так превосходны и он с такою основательностью излагает любопытнейшие и совершенно неизвестные и необъяснимые для величайших гениев предметы, что я вполне убежден в истине его объяснений».
Пришлось Михаила Ломоносова избрать в академики, Степана Крашенинникова* – в адъюнкты, а Василия Тредиаковского сам Сенат назначил академиком в рассуждении того, что «ежели профессора-немцы ему путь заграждают, то их должность не в том состоит, чтобы не допускать до академической степени российского человека».
И сегодняшний день сулил мало хорошего. Было получено повеление через президента Академии наук графа Кирилла Разумовского начать публичные лекции и первую лекцию поручить Ломоносову.
«Сего от начала Академии не было, чтобы лекции читались на русском языке и для многих персон. Видно, Ломоносов в большую силу входить начал», – мрачно размышлял Шумахер, ласково кивая входящим гостям и приглашая их проследовать в палаты кунсткамеры.
В первом зале, откинувшись в кресле, сидел Великий Петр. Его лицо, сделанное Растрелли* из воска и снятое с алебастровой маски, было так тонко раскрашено, парик, одежда, все детали его облика, знакомые каждому жителю Санкт-Петербурга, так жизненно правдивы, гневный взгляд настолько грозен, что старые вельможи, срывая шляпы и бледнея, старались на цыпочках перебежать в другую комнату. К тому же возле его кресла стояла всем известная дубинка с набалдашником из слоновой кости. И не одна важная персона, поглядывая на нее, передергивала плечами, вспоминая о былых неприятностях.
Во втором зале посетителей встречали академики.
Это были круглый, приятный в обхождении Штеллин – воспитатель наследника престола[39]; надменный, изысканно одетый астроном Делили; аккуратный, сухой в обращении профессор натуральной истории Гмелин; анатом и физиолог Вейтбрехт, человек грубый и самолюбивый. Он давал объяснения о знаменитой коллекции голландского анатома Ф. Рюйша, названной современниками «восьмым чудом света», которая была приобретена Петром I.
Огромные банки были заполнены монстрами, залитыми спиртом. Это были младенцы с самыми странными головами, сросшиеся близнецы, двуполые зародыши, детская рука, державшая оплодотворенное яйцо морской черепахи. Банки были затянуты разноцветными пузырями, прикрытыми сверху мхом, диковинными бабочками и редкостными жуками.
На содержание «оных монстр, а также на трактирование* знатных особ, кои посещают кунсткамеру, проявляя особливый к наукам интерес», уходило у академии великое количество спирта, а также вин.
Академики-иностранцы привыкли думать на родном языке, а писать и делать доклады на латинском. И поэтому по-русски с гостями изъяснялись с трудом.
У чучела барана с двумя головами стояли анатом Вейтбрехт и старый генерал в зеленом мундире Преображенского полка.
– Сей баран с дфа голофа, но фее остальные органы был совершенно нормальный…
Генерал молча, со строгим лицом слушал объяснения академика. Когда тот закончил, он крякнул и сказал:
– Ничего нет удивительного! Захотел Бог сделать барану две головы – и сделал. Далее что?
Далее были выставлены рыба-меч, после нее «неизреченные два младенца, кои, сросшись спинами, отнюдь друг друга видеть не могут».
Подошел лакей с подносом в руках. Генерал налил анисовой водки в большую рюмку зеленого стекла, выпил, заел кренделем и повеселевшими глазами уставился на огромную жабу, лежавшую на особой подставке.
– Похожа, – сказал он.
– Как фы исфолили сказать, фаше префосходительстфо? – спросил удивленный Вейтбрехт.
– В персидском походе встречал оную. Сие есть точная копия с физиогномии кригс-комиссара* полковника Гергарда. – И генерал проследовал дальше, постукивая тростью.
Чем больше прибывало воинских и гражданских чинов, тем сильнее волновался Шумахер. Он нетерпеливо поглядывал на парадную лестницу, наконец не выдержал и подозвал унтер-библиотекаря* Тауберта.
– Такого превеликого стечения всех чинов никогда не было в академии. И заметьте, еще не прибыли сам президент и придворные особы. Ах, не вышло бы конфуза из сего первого публичного собрания!..
– Почему вы так полагаете, господин советник? – спросил Тауберт.
– Кто может поручиться за Ломоносова при его необузданном нраве и самых удивительных взглядах, которые он высказывает!
– Но ведь его сиятельство президент сам, с согласия ее величества, назначил публичную лекцию профессора Ломоносова.
– Назначил потому, что Ломоносов великую силу забирать стал и многих знатных персон убедил в том, что и русские люди не хуже иностранцев в науках разумеют и оные к пользе отечества распространять могут. Я великую прошибку сделал, что Ломоносова из адъюнктов в профессора пропустил…
Шумахер вздохнул, поправил длинные букли парика, вытащил табакерку, понюхал, чихнул…
Послышался шум подъезжающих экипажей. Двери широко раскрылись, впуская придворных.
Впереди шел президент академии, гетман* Украины граф Кирилл Григорьевич Разумовский, молодой, но уже располневший краснощекий человек с золотой цепью на шее, в роскошном кафтане, украшенном звездой, и парижском камзоле, коротком парике, с голубой лентой через плечо.
Его сопровождал секретарь-асессор* академической канцелярии Григорий Николаевич Теплов. Плутоватое выражение лица, мягкие манеры, изящный кафтан, вкрадчивый голос – все обличало в нем опытного придворного интригана.
За ним пестрой толпой следовали дамы и кавалеры. Одни приехали потому, что составляли свиту гетмана, другие – в надежде, что слух об их усердии дойдет до императрицы.
Среди этой толпы блестящих невежд немало было офицеров, действительно интересовавшихся наукой, из кадетского корпуса, управления главной артиллерии и фортификации, горного кабинета и медицинской канцелярии, куда были посланы приглашения. Многие пришли послушать первую лекцию о «натуральной философии» на русском языке.
Президент протянул два пальца Шумахеру и направился в конференц-зал. Человеческий поток устремился за ним. Наконец все кресла были заняты. Не было свободного места даже в проходах.
Посреди столов, где находились различные приборы, стоял человек могучего телосложения, строго одетый, и спокойно смотрел на зрителей.
Ломоносов обладал сильным голосом, доходившим до самых отдаленных уголков зала, и был опытным оратором. Недаром он составил учебник риторики, а речи Демосфена* и Цицерона* знал наизусть. К тому же, по-видимому, он прекрасно понимал, с кем имеет дело, и речь его носила образный характер. Ломоносов увлекал за собой слушателей, переходя от одного вопроса к другому, давая простейшие разъяснения.
Сначала Ломоносов говорил о необходимости науки не только для познания тайн природы, но и для процветания и обогащения Отечества.
– Смотреть на роскошь натуры, когда она в приятные дни наступающего лета поля, леса и сады нежной зеленью покрывает и бесчисленными родами цветов украшает, есть чудное и дух восхищающее увеселение. Ожидать плодородия от полей, в поте лица посеянных, – сладчайшая надежда. Собирать полные рукоятия благословенной жатвы – вожделенное удовольствие. Но все сии блаженства могут быть приведены в несравненно высшее достоинство, если подробно познать свойства и причины вещей, от которых они происходят.
Приятный голос, красивые обороты речи нравились слушателям и возбуждали их интерес.
– Из сего следует, – продолжал Ломоносов, – что блаженства человеческие и высшее достоинство приведены быть могут яснейшим познанием природы. Источник сего познания дает наука, называемая физикой. Сия полезная наука основана на опытах. Из них выводятся причины натуральных явлений. Без воздуха ничто живое существовать не может. А ведомы ли вам его свойства?
Элегантный кавалер, сидевший в первом ряду, улыбнулся, наклонил лицо к плечу соседки и что-то шепнул ей. Соседка – молодая дама, надушенная амброй*, – томно обмахивала плечи веером из страусовых перьев.
Ломоносов жестом указал на стеклянный колокол с боковой выходной трубкой, стоящий на отполированном медном круге. Потом взял бараний пузырь и показал слушателям.
– Пузырь завязан крепко, он пустой, воздуха в нем почти нет. Теперь я кладу его под колокол, из которого начну выкачивать воздух.
Он прикрепил поршневой насос к выходной трубке колокола и начал вращать небольшое колесо, приводившее в движение поршень. На глазах у зрителей пузырь стал оживать, вздрагивать, расширяться и превратился в шар, заполнивший почти весь колокол.
Зрители были удивлены.
– Когда я выкачал воздух из колокола, он перестал давить на пузырь. А то малое количество воздуха, что было в пузыре, расширилось. Стало быть, отсюда два закона вытекают: во-первых, воздух имеет вес, а во-вторых, он имеет упругость и расширяться способен…
Так, переходя от одного простейшего опыта к другому, он подошел к теории теплоты.
– Многие достославные физики полагают, что существует особая материя тепла, коя «флогистоном» называется, от греческого слова «флогиста», сиречь «горючее». Тогда как каждому ведомо, что ежели потереть руки, то оные нагреваются, ежели долго ударять молотом по железу, то оно накаляется, ударить кремнем по огниву – появятся искры. Все сие говорит об одном: основание теплоты каждого тела происходит от движения мельчайших частиц, из которых оно состоит, и прежняя теория «теплорода» – сущее заблуждение.
Сидевший рядом с Гмелиным профессор Рихман вполголоса заметил:
– На сие последует возражение, что в таком твердом теле, как железо, мельчайшие частицы не могут колебаться или передвигаться с места на место.
Ломоносов улыбнулся.
– В куске железа мельчайшие частицы, сиречь корпускулы, не могут передвигаться, так как связаны взаимным притяжением. Железо, однако, нагревается при трении вследствие того, что каждая частица, оставаясь на месте, вращается вокруг своей оси, как волчок. Все сие я доказывал много раз. Материи теплоты не существует, сколь ни утверждают это.
Присутствующие явно начали скучать. Спор давно уже вышел за пределы их понимания.
Ломоносов заметил это и прервал лекцию.
Кирилл Разумовский встал, расправил спину, огляделся. Его окружили придворные и генералы.
Гетман одернул камзол, погладил рукой ленту, крякнул, довольный:
– Ну что, какова ныне академия, а? Не та, что при прежних командирах?
Теплов наклонил голову, белые букли надушенного парика метнулись в воздух.
– Справедливо изволили заметить, ваше сиятельство. Сие впервые, что ученые из природных россиян о столь высоких материях свои собственные теории имеют.
Толстый вельможа, стоявший рядом, пухлыми пальцами, унизанными бриллиантовыми перстнями, постучал по золотой табакерке.
– Однако сие печально, что Ломоносов из низкой породы и многие продерзости ранее учинял...
Вельможа уже взял было понюшку табаку, чтобы заправить ее в нос, но руки его задрожали. Он увидел, как лицо президента академии начало краснеть.
Младший брат Алексея Разумовского, первого вельможи в империи, граф Кирилл Григорьевич Разумовский, восемнадцати лет от роду назначенный высочайшим указом президентом Академии наук «в рассуждение усмотренной в нем особливой способности и приобретенного в науках искусства», еще несколько лет тому назад был обыкновенным пастухом на Украине, и при нем-то о низкой породе говорить не следовало.
Вельможа уронил табакерку, схватил Кирилла Разумовского за руку и трясущимися губами произнес:
– Ручку, ручку, ваше сиятельство, пожалуйте…
Кирилл Разумовский хотя и был президентом академии, но по буйности характера ему более соответствовало звание гетмана Украины, которым он также являлся. Сжав мощную руку в кулак и показав его вельможе, он круто повернулся и пошел к выходу.
По дороге он увидел Ломоносова, окруженного студентами академии и офицерами инженерного корпуса. Тут же стояли географ и ботаник Крашенинников, астроном Попов и химик Виноградов*.
Президент подозвал Ломоносова:
– Я, господин профессор, большое удовольствие и обогащение разума от лекции вашей получил. Она доказывает, что и россияне о высоких материях свое суждение иметь могут.
Ломоносов улыбнулся:
– Не только могут, ваше сиятельство, но и суждения сии к познанию законов натуры во всем мире способствовать будут.
Глава вторая «ПРИДЕТ ВРЕМЯ…»
Первые годы царствования Елизаветы Петровны мало что изменили в Санкт-Петербурге. Городом со времени Петра никто не занимался.
Бревенчатые мостовые пришли в негодность, расползлись деревянные мосты, покосились одноэтажные дома. Только дворцы вельмож, вольные дома* да австерии* освещались по ночам. На всех перекрестках лежали груды мусора и отбросов, в них рылись стаи бездомных собак, бросаясь на одиноких прохожих. Днем унылые процессии голодных арестантов, водимых на цепи сторожами для сбора денег «на прокорм», наполняли улицы. С наступлением же темноты толпы беглых людей, грабителей и воров бродили по городу. Будочники прятались, закрывая рогатками перекрестки улиц, а фузилеры и драгуны*, услышав дикий крик: «Караул! Грабят!», сворачивали в сторону.
В одну из белых летних петербургских ночей вдоль линии Васильевского острова по деревянному мосту, переброшенному через канал, проходил высокий человек в парике, кафтане, голубом шелковом камзоле, белых чулках и немецких тупоносых туфлях. Он остановился, облокотясь на перила. Бледная луна отражалась в черной воде. Квакали лягушки. По берегу бежала одичалая собака, пугая блеском голодных глаз. С моря подул мягкий ветер. Прохожий перешел мост. Из-за развалившегося деревянного домика, почти засыпанного кучей щебня и мусора, вышли трое в матросских рубахах, круглых шапках и штанах до колен. Один из них, загорелый, бородатый, с каленым лицом и носом, похожим на бурак[40], подошел ближе.
– Ну-ка, скидывай одежду, сударь!
Двое других зашли по сторонам. Прохожий оглянулся. Серые глаза его смотрели спокойно и чуть насмешливо. Он пошел дальше.
– Стой! – закричал бородатый, выхватывая нож.
Прохожий вдруг повернулся и с неожиданной быстротой и силой ударил его кулаком в живот. Матрос упал, но двое других бросились на прохожего. Он вывернулся, схватил их обоих за шиворот и ударил головами друг о друга с такой силой, что они повалились как снопы. Потом подошел к бородатому, ткнул его ногой.
– Снимай штаны и рубаху!
Бородатый, охая, снял и уполз за угол. Прохожий постоял, посмотрел на двух других. У одного лицо было залито кровью, другой выплевывал выбитые зубы.
– Дурачье! – сказал прохожий. – Во всем Петербурге сильнее меня всего один человек – комендант Шванвыч.
И он пошел дальше. Светало. Сонные будочники открывали рогатки на углах. У Среднего проспекта прохожего встретил отряд фузилеров. Офицер в треуголке, мундире, ботфортах, при шпаге увидел в руках человека – по виду дворянина – рухлядь*, галантно поклонился и спросил:
– Кем изволите быть, сударь?
– Я профессор Десьянс Академии Ломоносов, иду домой из конференции.
Он вышел на 2-ю линию, свернул во двор. Во дворе, окруженный цветущими кустами сирени, смородины, малины, молодыми березками, стоял двухэтажный деревянный дом. Последние звезды гасли на молочном небе. В кустах зашевелились птицы. На траве блестели капли росы. Он постучал в дверь. По лестнице сбежала белокурая, голубоглазая женщина. Взмахнула руками:
– Ах, Mein Gott[41], я всю ночь не спала, волновалась! Где же вы были так долго?
– Ничего, Лизочка, я задержался в конференции, потом прошелся немного. Чудесная тихая ночь была!
И он незаметно бросил штаны и рубаху в кусты.
Часа два спустя он сидел в своей любимой беседке в саду.
Плющ свисал с решетчатых стен, пропуская теплые солнечные лучи, пахло сиренью, весело щебетали птицы. В траве копошились куры; важный петух разгуливал среди них, наводя порядок в своем хозяйстве. Было хорошо, и не хотелось уходить. Второй раз прибегала Леночка – вся в мать: белокурая, голубоглазая, крупная не по годам – звать отца пить кофе.
Посмотрел на нее рассеянно:
– Сейчас, сейчас!
На столе в беседке были разбросаны бумаги, корректуры книг, номера «Санкт-Петербургских ведомостей». Заглянул в дневник. Дела были разные: «С Рихманом* – продолжать обсервацию*», «В Синод на объяснение»; сбоку приписано было косо: «Где бы денег достать?»
Сидел и думал о причине возникновения молнии и грома – «воздушных явлений, от электрической силы происходящих». Второй год занимался этим. Вместе с академиком Рихманом сконструировал две «громовые машины». Установил на крыше железный прут шести футов*, проходивший через бутылку, от которого шла в комнату проволока, а на ней подвешена железная линейка. От верхнего конца линейки свисала шелковая нить.
Был случай во время грозы, и Ломоносов его описал: «Материя с шумом из конца линейки в светлые искры рассыпалась и при каждом осязании причиняла ту же чувствительность, какую производят обыкновенные электрические искры, а нитка за пальцем гонялась».
И второй. Однажды по небу проходили облака, но грома и молнии не было, а из линейки с треском посы́пались электрические искры. Следовательно, «электрическая сила в воздухе постоянно бывает». Ломоносов ждал настоящей большой грозы, чтобы «закончить электрические воздушные наблюдения». Сговори лея с Рихманом порознь наблюдать ее и подвести итоги тому, что увидят.
О том, что Ломоносов через электрическую силу «гром Божий» объяснить хочет, уже давно пошли разговоры. Народ собирался перед домом и видел, как иногда в сумрачный день искры ударяли в металлический прут над крышей и исчезали, уходя куда-то в землю. Люди покачивали головами, шептались. Петербургский архиепископ Сельвестр Кулябко в проповеди сказал, что «дождется Ломоносов Божьей казни»! Генерал Нащокин наговаривал при дворе, что, мол, и Петр I чинил жестокие казни хулителям веры.
Столовая была веселая, затянутая ситцем в цветочках, на стенах – голландские тарелки, на столе – голубые, «ломоносовского стекла» вазы с цветами. Вокруг хлопотала Елизавета Андреевна, розовощекая, цветущая. От нее исходил аромат душистого мыла.
Солнечные зайчики, пробиваясь сквозь разноцветные стекла балкона, падали на посуду, на белую скатерть, на золотые локоны Леночки.
Пока пил кофе в столовой и показывал Леночке фокусы – насыпанный в бумажный кулек порошок загорался адским лиловым пламенем, – пришел Георгий Вильгельмович Рихман, швед по национальности, родившийся в Пярну*, единственный друг среди академиков-иностранцев. Ломоносов любил его за необычайную добросовестность и усердие в науке. Георгий Вильгельмович из адъюнктов – «ввиду особливых трудов и доброго искусства, не в пример другим» – был в свое время назначен профессором физики. Он был еще сравнительно молод – всего сорок три года. Большой, молчаливый, суровый, в парике с буклями, он поздоровился и уселся в кресло за столом.
Неожиданно бумажный змей вылез из рукава Ломоносова, и Леночка громко засмеялась, откинув голову и взмахнув руками.
Рихман улыбнулся и сказал, закуривая трубку:
– Мне нравится ваш дом, Михаил Васильевич, и ваша дочь – такая здоровая, и ваша любезная жена.
– Да, Георгий Вильгельмович, мы, поморы, народ крепкий, да и жена моя ничего, – он подмигнул, – здоровьем не обижена: когда ходит, половицы трясутся.
Елизавета Андреевна ахнула, покраснела и встала.
– Ах, мой друг, вы всегда такое скажете!
Но, уходя, повела кокетливо округлым плечом и улыбнулась гостю.
Становилось душно. В открытые окна отвесно падали золотые лучи. Вдали по небу плыли рваные облака. По двору поспешно пробежала свинья, ткнулась мордой в землю, поискала тень под забором, легла. Откуда-то с моря пролетела стайка черных птиц. Все было в томлении.
– Мне кажется, будет гроза, – сказал Ломоносов.
– Это было бы хорошо. Может быть, мы сегодня закончим наши опыты. – Рихман выбил трубку, прислушался: доносились первые, отдаленные раскаты грома. – Пойдем по местам, – и, кивнув, вышел.
– Пойду и я, – сказал Ломоносов.
В саду и на дворе было пусто. Падали первые крупные капли дождя. Гроза шла стороной. Сквозь тучи прорывался солнечный сноп, потом снова ветер гнал облака. Ничего особенного не происходило. Иногда из линейки сыпались искры, дрожала шелковая нить, потом опять наступала тишина.
Ломоносов заскучал, взял книжку: попался под руку Тредиаковский – «Истинная политика знатных».
Учинить старайся мир, ссоры где злодейство. Инак и не отмщай, как чрез благодейство…Плюнул, бросил книжку – терпеть не мог и Тредиаковского, и его стихи.
Пришла Елизавета Андреевна.
– Друг мой, пора кушать, шти простынут.
Сели есть щи. Вдруг сразу стемнело, грянул гром. Ломоносов бросил ложку, побежал. Нить дрожала, линейка, как живая, металась во все стороны, извергая искры. Протянул руку, но, почувствовав, что его обхватили, сердито обернулся. Елизавета Андреевна, сильная, большая, красная от волнения, молча тащила его из комнаты. В дверях стояла Леночка. Из голубых глаз ее падали слезы. Она тоже молчала. Понял все: эти дни, пока ждали грозы, жена боялась за него, молча, по-женски, терпела. Выпрямился, сказал тихо:
– Идите. Я долг свой исполняю!
Покорно ушли. Знали его характер: рассердится – ничем не удержишь.
Опять все стихло. Теперь тучи разбегались во все стороны маленькими стайками, засияла золотом мокрая земля. Назад, к морю, летели черные птицы.
Робко заглянула жена:
– Есть когда-нибудь будешь?
Он вернулся в столовую. В щах плавало застывшее сало. Раздался топот, кто-то вбежал. Это был слуга Рихмана.
– Профессора громом зашибло!
Ломоносов вскочил, отшвырнул стул, бросился к двери. «Когда же это случилось? – думал он. – И почему я жив?»
У квартиры Рихмана стояла толпа: старухи, убогие, странники, пирожник с лотком. Соседний маленький приземистый домишко горел. Какие-то доброхоты, толкая друг друга, топтались на крыше, лили воду куда попало. Ломоносов остановился. Толпа затихла – все повернулись к нему лицом. Старуха в черном, похожая на монахиню, молча указала на него посохом. Толпа загудела. Ломоносов посмотрел вокруг, лицо его сделалось жестким, окаменело. Люди увидели глаза, серые, бесстрашные, мудрые. Каждый почувствовал: он видит всё.
Ломоносов пошел на них, все расступились.
В доме жена Рихмана и дети на коленях стояли около тела, лежащего на полу. На лбу профессора было красное пятно, башмак на ноге разорван – виднелись синие потемневшие пальцы.
Во время грозы раздался удар, подобный пушечному выстрелу, из железной линейки вылетел синеватый огненный шар, ударил в голову Рихмана, прошел по его телу, исчез в полу. Почти одновременно ударила молния в соседний деревянный домик, и начался пожар.
Пока лекарь пытался вернуть Рихмана к жизни, Ломоносов написал рапорт Шувалову и послал домой запрягать карету.
Толпа вокруг все увеличивалась. Уже суетились квартальные*, к дому шел караул.
Ломоносов обнял жену Рихмана, поцеловал детей:
– Мужайтесь! Георгий Вильгельмович умер прекрасной смертью, исполняя по своей профессии должность. Память о нем никогда не умолкнет в Отечестве!
Ломоносов вышел на крыльцо. Квартальные потеснили народ. В толпе раздалось:
– Вот он, вот он!
Красноносый дьячок в рваном подряснике* взвизгнул:
– Бойтесь гнева Божьего!
Ломоносов посмотрел на народ задумчиво: старушки, мужички в лаптях, Божьи люди – странники, и сказал не очень громко, как будто про себя:
– Придет время, и сия электрическая сила в руках человека, послушная и укрощенная, великую пользу приносить будет.
И тяжелой походкой шагнул к экипажу, уселся кряхтя.
Подошел караул, офицер скомандовал:
– Примкнуть багинеты*!
Толпа стала расходиться. Офицер подошел к квартальному, кивнул в сторону отъезжавшего экипажа:
– Ну как, не задели?
– Куда там, фундаментальная персона!
Леночка спрятала лицо, мокрое от слез, в коленях матери.
– Ну-ну, успокойся, Ленхен.
– Мне так жалко Георгия Вильгельмовича, он был такой хороший!
– Надо благодарить Бога, что мы спасли отца… Бедная госпожа Рихман, бедные дети!..
– Маменька! Я пойду туда. Я хочу на него посмотреть… Я боюсь за папеньку…
– Это совсем не зрелище… для девочки…
– Нет, маменька. Я пойду.
Она вскочила и, не помня себя, побежала к выходу.
– Куда, сумасшедшая? И это дочь уважаемого академика!
Елизавета Андреевна взмахнула руками, застыла на пороге. Леночка стремглав бежала по улице и скрылась за углом.
Елизавета Андреевна покачала головой:
– Что за дикий характер! Я всегда говорила: она вся в отца!
…Леночка еще издали увидела грузную фигуру отца, севшего в экипаж, и медленно тронувшихся с места лошадей. Посмотрела вслед, счастливо вздохнула, невольно слезы показались на глазах.
А вокруг горящего домика бегали люди, таскали ведра с водой. Падали балки, в воздухе носилась дымная гарь.
Из подвала, из окон и дверей первого этажа выбрасывали вещи, выносили детей, женщина с плачем тащила пустую детскую коляску. Леночка оглянулась: что-то звякнуло, упало на землю рядом с ней. Сверху бородатая голова закричала:
– Эй ты, подними ведро!
Леночка схватила ведро.
– Да отнеси его к колодцу-то, дура-а…
Экипаж, в котором ехал Ломоносов к первому кавалеру империи Ивану Ивановичу Шувалову, можно было назвать «драндулетом». Две серые лошади, потряхивая гривами, неторопливо везли большой дребезжащий возок, когда-то бывший каретой. На козлах сидел старик кучер, древний отставной бомбардир Скворцов в армяке, в шапке с облезшим павлиньим пером. Ломоносов завел экипаж, как стал академиком, и с тех пор не менял. Как и всякое франтовство, не любил щегольских золоченых карет с красными спицами, с лошадьми в сетках, с гайдуками* на запятках. Подскакивая на ухабах, Ломоносов думал с горечью, что приходится обивать пороги передних и терять часы в приемных у вельмож, доказывая необходимость основать гимназию и университет в Москве и отказаться от безграмотных учителей-иностранцев. «Большая часть оных не токмо учить наукам не могут, но и сами начала их не знают… Честь российского народа требует, чтоб показать способность и остроту его в науках и что наше Отечество может пользоваться собственными своими силами не токмо в военной храбрости и в других важных делах, но и в рассуждении высоких знаний».
Проект об основании Московского университета проходил с трудом еще и потому, что ломоносовские основные положения резко отличали его от всех университетов мира. По этому проекту Московский университет отмежевывался от религии: в нем не было богословского факультета. Преподавание намечалось вести на двух языках: русском и латинском, тогда как ранее в Академии наук обучение велось только на латинском языке. Предполагалось обучать студентов сначала три года гуманитарным и точным наукам, а потом четыре года на медицинском и юридическом факультетах. Чтобы обеспечить доступ в университет детям бедняков разночинцев*, при университете учреждалась гимназия («Университет без гимназии, – писал Ломоносов, – пашня без семян»), и все студенты не только должны были обучаться бесплатно, но и содержание их бралось на казенный кошт*. Университетом должна была управлять профессорская конференция, которая подчинялась только Сенату.
Все это делало Московский университет самым демократическим высшим учебным заведением того времени.
Наконец, чтобы оградить свое детище от влияния иностранцев, Ломоносов наметил первыми профессорами своих учеников: Н. Поповского, А. Барсова, Ф. Яремского.
У Шувалова среди бронзы, зеркал, шелков ожидал долго. Маленький калмычонок распахнул двери, и в комнату вошел Иван Иванович – красивый, галантный. Незримое облако французских духов «А-ля рень» плыло за ним. Он жестом указал на парижский «тет-а-тет» и стал читать рапорт.
Ломоносов с опасением посмотрел на хрупкий диванчик, сел с осторожностью и проговорил:
– Очень я тревожусь, чтобы случай с Рихманом не был истолкован противу наук.
Иван Иванович отложил рапорт в сторону, оправил на манжетах валансьенские кружева*, задумался.
– Уж как-нибудь поговорю с государыней.
– И еще я хотел, Иван Иванович, на прожект касательно университета Московского и гимназии ее величества внимание обратить: лежит в Сенате который месяц.
– Для такой протекции, Михайло Васильевич, предлог нужен. Впрочем, ведь ты великий стихотворец. Как праздновать будут годовщину восшествия на престол, вот и прочти ее величеству оду о пользе наук… Помнишь, ту, что начинается словами: «Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина…», или новую. Да перед этим и к Алексею Григорьевичу во дворец заехать бы не мешало.
Ломоносов молчал.
– Э, друг мой! Не хочешь ли ты закусить? Чу́дные устерсы[42] фленбургские прислали мне прямо с корабля, а бургунское – такого и во дворце не найдешь!
– Дигет[43] соблюдаю. Благодарствую.
– Ну, как знаешь. И перестань ты в академии воевать. Там такие баталии – шум на весь город!
Ломоносов засопел, вскочил.
– Преодоление всех препятствий к распространению наук в Отечестве для меня жизни дороже. А что есть у нас сейчас академия? Свиная кормушка для чужестранцев, кои только о том и думают, как бы русского человека к науке не подпустить. Не они ли и меня извести хотели? На гауптвахте* полгода сидел, жалованья не платили почти год, потом стали выдавать мне на прокорм книжками, кои в академической лавке никто покупать не хотел. Нет, благодетель мой, я о всех Шумахеровых злодействах на чистом латинском языке изъясняю во всех конференциях и тем в великое расстройство их всех повергаю.
Шувалов потянул носом: из раскрытых дверей столовой донесся ароматный запах. Слуги отодвигали стулья.
– Ну, как знаешь, друг мой. Только не шуми ты там, ради бога…
А во дворце генерал Нащокин, сидя на пуфах среди собачек и «достойного вида» сибирских котов, рассказывал Елизавете Петровне:
– В «Ифике» изложено, что афинейский стихотворец и астроном Евсхилий ради громового наблюдения влез на ясень. Летел в то время орел, держа в когтях черепаху, и, лысину Евсхилия приняв за камень, сбросил черепаху, убив его метанием сверху. То же и с Ломоносовым будет. Императрица заинтересовалась:
– Разве? Подай-ка мне Жужу, а то она вся дрожит.
Глава третья ВО ДВОРЦЕ
Жил на хуторе Лемеши у Черниговского тракта реестровый казак* по прозвищу Розум. А прозвали его так за то, что, выпив в шинке, любил он сам себя похвалить, схватившись за чуб: «Що то за голова, що то за розум!» И был у него сын Алексей – пас стадо, учился грамоте у дьячка из соседнего села Чемеры, играл на флейте, а пел так, что все дивчины, прячась за деревьями, замирая, слушали его песни. Лицом он был до того хорош, что жинки бледнели, глядя на него, а мужики только покачивали головами. Как-то, проезжая в Петербург через Чемеры, закутил здесь гвардейский полковник Вишневский. Три дня он пил, слушая песни чудесного парубка, дивился на него, а на четвертый велел связать и бросить в тройку. Он увез его в Петербург и сдал обер-гофмаршалу* Анны Иоанновны графу Левенвольду. Стал парубок петь в дворцовой церкви, удивляя всех своим голосом и красотой.
Елизавета Петровна часто ходила в церковь. Как-то она зашла к вечерне. В церкви колебалось пламя свечей, золотились лики святых, пахло ладаном.
И вдруг она услышала голос. Взглянула на певца – и влюбилась в него сразу и на всю жизнь.
Теперь Алексей Григорьевич стал графом и генерал-фельдмаршалом, жил во дворце рядом с покоями Елизаветы Петровны, но нисколько не изменился в своем характере.
Впоследствии Екатерина II писала о нем: «Разумовский чуждался гордости, ненавидел коварство и, не имея никакого образования, но одаренный от природы умом основательным, был ласков в обращении с младшими, любил предстательствовать за несчастных и пользовался общей любовью».
От великой удачи, выпавшей на долю сына, мать фельдмаршала, Разумиха, поправилась, завела корчму на проезжей дороге, хорошо выдала замуж дочерей. Но к сыну не поехала.
– Ну их к бису! Нехай она первая иде: я матка.
Императрица покорилась: приехала в город Козельцы, познакомилась со всей родней бывшего лемешинского пастуха. Вернувшись в Петербург, послала флигель-адъютанта* за Разумихой, поместила ее со всем имуществом во дворце. Разумиха прожила здесь недолго: ей не понравилось. Не было ни кур, ни свиней, ни дьячка, который за рюмкой горилки чего только не расскажет. Не было ни вишневых садов, ни коровников. Она пошумела немного на невестку и уехала назад, в Лемеши. Осенью 1742 года в подмосковном селе Елизавета Петровна негласно обвенчалась с Алексеем Григорьевичем Разумовским, с тех пор стали они жить во дворце вместе.
При Дворе все украинское стало входить в моду: вельможи завели украинские хоры, бандуристов.
Даже когда Иван Иванович Шувалов тоже «вошел в случай», положение Алексея Григорьевича нисколько не изменилось. Сам же Разумовский продолжал относиться к своей карьере с веселым добродушием лемешинского пастуха.
Когда Ломоносов подъезжал к заднему крыльцу Зимнего дворца*[44], уже смеркалось. Он порядком устал и был голоден, жалел, что не остался у Шувалова, но такой уж был у него характер: не мог остановиться, не закончив дела, да и настроение было неподходящее для веселого обеда.
Огромный дворец, длиной в 65 сажен*, строился при Петре, далее при Екатерине I, потом при Анне Иоанновне, пригласившей Бартоломео Растрелли, и заканчивался при Елизавете Петровне. Для этого были снесены соседние дворцы Апраксина и Рагузинских и переделана вся набережная у впадения Канавки в Неву.
Удивительная фантазия гениального зодчего сделала дворец состоящим из колонн – в нижней части ионических*, в верхней – коринфских*. Плоская крыша его скрывалась за бесконечными террасами, статуями, кариатидами*. Ажурное здание как бы висело в туманном воздухе.
Долго сидел Ломоносов в подъезде, пока дежурный офицер ходил с докладом. Наконец офицер вернулся, провел его на площадку мраморной лестницы и передал арапу в чалме, который бесшумно пошел впереди него по бесконечным проходным покоям.
Они прошли Золотой зал, отделанный в византийском стиле, с великолепными мозаиками на камине; Помпейский – с расписными стенами, богато позолоченным плафоном, дверями, колоннами, камином и вазами из малахита, канделябрами из лапис-лазури* и золоченой мебелью; Петровский, стены которого были покрыты малиновым бархатом с вышитыми золотыми русскими орлами, с императорским троном на возвышении, с серебряными люстрами; Гербовый – с позолоченными колоннами, группами воинов по углам, со знаменами, на которых были изображены гербы русских губерний.
Тут их встретил важный дворецкий с длинными усами и чубом, в малиновом кафтане, в синих шароварах, в мягких сапогах, молча поклонился и повел дальше.
В небольшой комнате, сидя на подушках перед низким столиком, Алексей Григорьевич Разумовский в полном одиночестве ел вареники с вишней и сметаной.
Он был в халате, с открытой грудью, в шароварах, в золотых турецких туфлях с загнутыми носами.
Вокруг стояло несколько золоченых французских стульев, перед окном висела золоченая же клетка. В ней, уныло нахохлившись, на жердочке сидел соловей. Дверь в соседнюю комнату прикрывала редкостной работы ширма: на шелку был выткан амур, пускавший стрелу в сердце прекрасной Психеи*.
Торжественный камер-лакей стоял около столика, бесшумно подкладывая вареники из серебряной миски на тарелку, как только она пустела, и подливая янтарное венгерское вино в большой венецианский кубок замечательной работы.
Алексей Григорьевич поднял на Ломоносова карие миндалевидные глаза с длинными ресницами. Его красивое лицо озарилось улыбкой, он поднялся во весь свой огромный рост, положил руки на плечи десьянс академика:
– Сидай, друже, будь ласков.
Второй такой же кубок появился перед гостем. Они чокнулись и выпили.
Алексей Григорьевич задумчиво смотрел куда-то вдаль, через голову собеседника, как будто хотел увидеть что-то за пределами комнаты, и заметил соловья в клетке.
– Вот, Михайло Васильевич, подарили мне соловья. Первый вечер, как принесли, пел. А потом перестал, не ест, не пьет, наверное, сдохнет. А как покроют клетку черным плотным бархатом, опять начинает петь. Я думаю, ему тогда кажется, что он один в ночной тишине – на воле. Ты как думаешь?
Ломоносов молча смотрел на него умными серыми глазами.
– Вот и у меня голос пропал. Тоскливо здесь, Михайло Васильевич, нет ни садов, ни яркого солнца, муть, слякоть.
– Пьете вы много, ваше сиятельство.
– Нет, немного – чарку-другую в день. А вот на охоте пью много, тогда злой делаюсь. Недавно Петра Ивановича Шувалова опять палкой побил. Жена его, Мавра Егоровна, каждый день свечки перед иконой ставит, как ему на охоту со мной ехать. И генерала Салтыкова побил тоже. Я на воле, среди лесов и полей, как дикий кабан, на придворных бросаюсь. С чего сие – и сам не пойму.
Разумовский, вздохнув, опять выпил.
Ломоносов посмотрел на него с любопытством.
– Верно ли, ваше сиятельство, что вы от графского титула и фельдмаршальского звания отказаться хотели?
– Когда меня фельдмаршалом назначили, я государыне сказал: «Неужели ты думаешь, что меня кто-нибудь всерьез хотя бы поручиком считать будет?»
– А ее величество?
– Смеется. «Ничего, – говорит, – у нас будут». Когда мне его величество Карл Седьмой звание графа Священной Римской империи пожаловал и в патенте всю генеалогию прописал, я посмеялся и матке домой, в Лемеши, послал: нехай там забавляются – читают.
Камер-лакей стал убирать посуду. Кофешенк* с важной медлительностью разливал кофе.
– Ты, наверное, просить чего-нибудь приехал?
– Уж и не знаю, как сказать, ваше сиятельство. Друга моего, академика Рихмана, во время грозового наблюдения электрической силой убило. Через то на меня и науку великие нападки.
– А не Бог его громом убил?
– Что вы, Алексей Григорьевич! В Синод меня, почитай, каждую неделю таскают на объяснения. Прошлый раз вызвали меня в Синод, спрашивают: «Не ты ли, безбожник, книгу французского вольнодумца Фонтенеля* о множественности миров, которую другой безбожник – князь Кантемир* перевел, похваляешь?» Ответствую: «Я». Они говорят: «Стало быть, и на Марсе живая жизнь может быть?» Ответствую: «Вероятности отрещись не могу, достоверности не вижу». – «Ах ты, – говорят, – еретик, Бога хулитель! Да если бы на планете, именуемой Марс, обитатели были, то кто бы их там крестил?» И так всякий раз лаются и к наукам привязываются.
– А знаешь, тот дьячок, что грамоте меня обучал, говорил, что Земля в центре Вселенной находится и Солнце вокруг нее ходит, сие и Птолемеем* доказано.
Ломоносов улыбнулся.
– Теория Птоломея, ваше сиятельство, сущая ересь, кою церковники и по сей день защищают, хотя уже весь ученый мир Коперниковой* теории придерживается, ибо давно известно, что Земля вокруг Солнца вращается. Извольте-ка послушать:
Случились вместе два астроно́ма в пиру И спорили весьма между собой в жару. Один твердил: «Земля, вертясь, круг Солнца ходит»; Другой, что Солнце все с собой планеты водит. Один Коперник был, другой слыл Птоломей. Тут повар спор решил усмешкою своей. Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье знаешь? Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?» Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, Я правду докажу, на Солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такова, Который бы вертел очаг кругом жаркова»[45].А духовные наши лица токмо трясут бородами и твердят: «Неведомо нам, кто сей еретик Коперник, и учение его суть языческое». Чаю, что это только начало, а настоящие баталии еще впереди. И неведомо мне, для чего учителям богословия в астрономию соваться?
Разумовский рассмеялся:
– А ты поступай так, как великий канцлер Бестужев с ними делает. Обратился к нему клир* Казанского собора в полном составе и стал уверять, что явилась им всем во сне Богородица и плакала и жаловалась, что по соседству с собором протестантская* церковь и сие для нее оскорбительно и поносно. И сказала Богородица, чтобы пошли-де священники к Бестужеву, пускай он передаст протестантское капище Казанскому собору. Тут великий канцлер задумался. «Хорошо, – отвечает, – приходите ко мне через три дня». Через три дня опять иереи* пришли к нему. Вышел к ним великий канцлер и говорит серьезно, нахмурив брови: «Вот что, святые отцы, и мне Богородица явилась во сне и сказала, что передумала и не желает больше этой протестантской церкви ввиду того, что сия протестантская церковь построена с севера на юг, а православному храму надлежит стоять алтарем с востока на запад». С досады иереи застонали, схватились за волосы и ушли ни с чем.
Лицо Алексея Григорьевича засветилось лукавой улыбкой, – он, видимо, представлял себе иереев, схватившихся за свои волосы.
Ломоносов был мрачен.
– Тяжело, стыдно, Алексей Григорьевич. В Европе смотрят, какой студент к науке способен, тому и преферанс[46] дается. У нас же прежде всего спрашивают, какого звания человек, а крестьян и подлых людей* совсем к науке не допускают. Иноземцев, проходимцев разных, кои и начала оной не знают, в профессора и учителя возводят. Нас же с вами от начала дьячки обучали – и ничего, вывели в люди.
Алексей Григорьевич оживился:
– Как же, как же! Мой дьячок отец Паисий из Лемешей ко мне сюда приезжал и с просьбой обращался.
– С какой же?
– Очень ему опера понравилась, захотел капельмейстером* сделаться. «Куда лучше, – говорит, – приходского хора».
– Ну и что же?
– Приказал сделать. И посейчас капельмейстером.
– А я сколько ни бьюсь, чтобы прожект мой о гимназии и университете ее величеству на подпись представили, – тянут сенаторы, говорят: денег нет. Как, говорю, денег нет, коли Петр Иванович Шувалов завел моду: вместо пуговиц на кафтанах бриллианты пришивать и ими застегиваться, а каждая такая пуговица целой гимназии стоит! В карты играют – десятки тысяч червонцев* летят.
– Э, постой, мосьпане[47], – остановил его Разумовский, – эдак ты и до меня доберешься!
– Доберусь. – Ломоносов ничуть не смягчил тона. – Вы, ваше сиятельство, обычай завели – после ужина перед каждым гостем ставить червонцы столбиками, чтобы никто не стеснялся играть. Так князь Иван Васильевич Одоевский полную шляпу золотых монет набрал и велел лакею домой отнести.
Разумовский помрачнел, встал.
– Оттого сие делаю, что деньги мне не нужны. И не хочу я, чтобы кто-нибудь думал, что я себя продаю. Нужны тебе деньги на науку, возьми сколько хочешь.
Ломоносов нахмурился.
– Науке не частные подаяния нужны, но государственное благорасположение. Об одном прошу – поддержать прожект мой перед императрицей.
Разумовский вскинул на него внимательный взгляд.
– Хорошо, поддержим. Дивлюсь я на тебя, мосьпане, ты – мужик, а ходишь по дворцам как хозяин, а я во дворце хозяин и томлюсь в тоске, места себе не нахожу!
Ломоносов встал.
– Потому я хожу гордо, что силу народа российского в себе чувствую и готов живот положить свой, чтобы защитить труд Петра Великого, чтобы выучились россияне!
В это время за ширмой что-то зашевелилось.
Разумовский насторожился:
– Кто там?
Женский голос ответил:
– Твой первый дишкантист*.
Алексей Григорьевич молча махнул Ломоносову рукой. Тот поклонился, вышел.
Проходя по залам, сообразил: «Стало быть, императрица весь разговор слышала!..» Недаром говорили, что она любила подслушивать разговоры во дворце.
Пока влезал в «драндулет» и ехал, все думал, как бы отбиться от генерала Нащокина и его компании. Губы его неслышно шевелились – сочинял про себя стихи:
Услышав в тишине внезапный треск и шум И видя быстрый блеск, мятется слабый ум, Дабы истолковать, что́ молния и гром, – Такие мысли все считает он грехом.Глава четвертая ОДИНОЧЕСТВО
Проходили день за днем, месяц за месяцем, но и в государстве, и в Академии наук делами как будто никто не занимался. Елизавета Петровна, занятая беспрерывными увеселениями, все управление государством передоверила Сенату и двум-трем приближенным лицам. Однако «господа Сенат» и «важнейшие персоны» старались больше бывать во дворце, чем заниматься делами. К тому же сенатские постановления и все важнейшие решения требовали санкции императрицы. Ежедневно обер-прокурор Сената – князь Никита Юрьевич Трубецкой приезжал во дворец для доклада и почти всегда получал ответ, что «сегодня доклада не будет».
Даже канцлер Бестужев и тот иногда месяцами не мог добиться от императрицы подписи на важнейших документах, адресованных иностранным державам.
Ненависть к делам, за редким исключением, стала придворной болезнью. Казалось, все забыли слова Петра о том, что в некоторых случаях «промедление смерти подобно».
Президент Академии наук – гетман Украины граф Кирилл Григорьевич Разумовский вовсе не собирался обременять себя академическими делами. Он назначил своего секретаря, адъюнкта Григория Николаевича Теплова, асессором академической канцелярии, чтобы тот вместе с Шумахером управлял академией.
Теплов, прекрасно понимавший, что карьеру можно сделать только при дворе, а не в канцелярии академии, быстро столковался с Шумахером. Фактически Шумахер по-прежнему правил академией. Ломоносов, с горечью наблюдая, что все остается по-прежнему, говорил: «Асессор Теплов президенту предводитель, а Шумахеру приятель».
Летний вечер, душистый, пряный и в то же время свежий от пахучего ветерка, дувшего с моря, манил людей из домов на улицу, в сады, на острова.
Елизавета Андреевна сидела на веранде, выходившей в сад, вязала кружевную мантилью. Спицы быстро мелькали в ее ловких пальцах. Леночка вслух читала книжку – трагедию Ломоносова «Тамира и Селим»:
Не ради слабых сил оставил я осаду, Любовь исторгнула из рук военных меч. Тамира, не полки была защита граду, Она мне шлем с главы и бронь сложила с плеч…Недалеко от них на ступеньках сидел Иоганн Цильх, брат Елизаветы Андреевны, покуривая трубку.
Цильх выпустил струю дыма, мечтательно поглядел на закат голубыми глазами.
– Ах, как прекрасно Михаил Васильевич пишет здесь про любовь!
В руках Елизаветы Андреевны быстрее замелькали спицы.
– Он только умеет писать про нее в книжках.
– Как, разве он тебя никогда не любил?
– В молодости, когда он жил в Германии и был студентом, в Марбурге он ухаживал за мной, и мы назначали друг другу свидания в городском парке. О-о! Там была чудесная беседка на обрыве, над рекой. Однажды я его прождала пять часов и чуть не умерла от страха. Я думала, что его кто-нибудь убил на дуэли – среди студентов это бывало. Наконец он прибежал потный, грязный, выпачканный в каких-то красках. «Mein Gott! – закричала я. – Михаэль, что случилось?» – «Ах, Лизонька, я так увлекся опытами, что о времени совсем забыл. Можно с достоверностью сказать, что вещества растворяются двояко: когда металлы растворяются в кислотах, то они выделяют теплоту и происходит нагревание, а когда соли растворяются в воде, то, наоборот, они поглощают теплоту и происходит охлаждение. А какова же механика химического растворения вещества – вот предмет для размышления…» Я тогда чуть не упала с обрыва.
Хлопнула калитка, послышались тяжелые шаги. Ломоносов схватил Леночку, подбросил вверх, поймал, поставил на ноги, Елизавету Андреевну поцеловал в лоб, Цильху протянул руку:
– Ну, как дела, Иоганн?
– Дела ничего, господин профессор, идут понемногу.
Ломоносов обернулся, посмотрел на далекую полоску заката, вздохнул:
– Как хорошо! Что может быть прекраснее натуры? Ты бы сыграла что-нибудь, Лизонька!
Елизавета Андреевна вошла в комнату, села за клавесин. Нежная и меланхолическая мелодия поплыла в воздухе.
Леночка села у ног отца.
– Папенька, а почему ты никогда не напишешь об этом в стихах?
Ломоносов посмотрел на Леночку, на ее сияющие глаза, золотые вьющиеся кудри, ямочку на щеке.
– А вот и ошиблась… – Полез в карман камзола, вытащил бумагу.
Прекрасны летни дни, сияя на исходе, Богатство с красотой обильно сыплют в мир; Надежда радостью кончается в народе; Натура смертным всем открыла общий пир; Созрелые плоды древа отягощают И кажут солнечный румянец свой лучам!Он задумался, поник головой – видимо, ему стало грустно.
Ты, будучи в местах, где нежность обитает, Как взглянешь на поля, как взглянешь на плоды, Воспомяни, что мой покоя дух не знает, Воспомяни мое раченье и труды. Меж стен и при огне лишь только обращаюсь; Отрада вся, когда о лете я пишу; О лете я пишу, а им не наслаждаюсь И радости в одном мечтании ищу.Он умолк, задумался.
– Леночка, сбегай в погреб, принеси две бутылочки рейнского, что прислал Шувалов.
Цильх поднялся.
– Мне пора, господин профессор.
– Куда спешишь? Выпей бокал.
– О нет, мне рано вставать.
– Ну, как знаешь. – Ломоносов не настаивал: ему хотелось остаться одному.
Леночка принесла бокал, две бутылки, покрытые плесенью. Ломоносов налил, осушил бокал с жадностью. Налил другой. Леночка смотрела молча, без улыбки, чувствовала: отцу грустно.
Ломоносов выпил, поморщился:
– Не люблю пить: нет в вине радости, а вот иногда приходится – от крайней горести. Потому что каждый думает только о своем прибытке и удовольствии. Что делается вокруг! Перед Шуваловым и Разумовским вельможи трепещут, а господа академики не знают, как угодить вельможам, и не о приращении наук стараются, а только о том, как через высоких персон протекцию получить. Об исправлении нравов, умножении изобилия и сохранении народа никто не думает – разве о своем брюхе и кармане.
Леночка смотрела на отца, чувствуя, как комок жалости подкатывается у нее к горлу.
– Папенька, разве у тебя нет друзей?
Ломоносов усмехнулся:
– Друзей нет! У меня знакомых много. Сегодня удостоюсь высочайшей улыбки – и число знакомых приумножится, все наперебой руки жмут и услуги свои предлагают. Завтра случится какая оказия – и они меня не замечают, проходят и кланяться забывают. Ну а Иван Иванович Шувалов – тот во всем мире покровителем наук прослыть хочет, так что сия дружба для него по необходимости. Что же касаемо Петра Ивановича, то я ему в одном важном деле надобен. А он такой человек, что ежели в ком интерес для себя увидит, то уже от него не отстанет. Да, горько, трудно жить в одиночестве…
Не выдержал – опять налил, выпил, зашагал по комнате.
– Каково читать в иностранных ведомостях, что-де «Петр Великий напрасно для своего народа о науках старался при его великой лености и тупом разуме его!» А я уже вижу в Семене Котельникове великого математика, о коем Эйлер пишет, что «ныне в Германии таких не сыщешь», в Андрее Красильникове – достойного астронома и геодезиста, в Константине Щепине – знатного химика и медика, в Николае Курганове – сведущего математика и астронома… А Степан Крашенинников – географ и ботаник, а Никита Попов – астроном, а Дмитрий Виноградов – химик… Разве не показали они свое достоинство? Каково же мне теперь глядеть, как первые побеги русской науки топчут равнодушные невежды!.. Да, боюсь, что все мои труды, чтобы выучились россияне, исчезнут вместе со мной…
В дверях показалась Елизавета Андреевна.
– Это так вы свой дигет соблюдаете, Михаил Васильевич? И потом, где ваш колпак? Я нашла его под кроватью. Вы хотите совсем простудить свою голову…
– Сейчас не в том суть!
– Как – не в том? Вы хотите, чтобы опять приходил доктор и пускал кровь?
– У меня по своей обязанности заботы…
– А у меня, герр профессор, по моей обязанности еще больше забот! Иметь такого мужа, как вы, этого мало? Ленхен, убери бутылки!
Ломоносов налил, выпил, потом хлопнул кулаком по столу.
– Ладно… Убирай! Умрет Ломоносов – другие Ломоносовы вырастут, из подлого народа появятся такие Невтоны и Платоны, каковых и мир еще не видел. Время лишь надобно!.. – Повернулся к Елизавете Андреевне: – Ну, Лизавета, кончай баталию, так и быть, надевай колпак на ломоносовскую голову!
Засмеялся, хлопнул ее по плечу, пошел в спальню.
Глава пятая В КУЗНИЦЕ БУДУЩЕГО
Елизавета Андреевна проснулась, потянулась и присела на кровати. В спальне было пусто и темно. Она поправила чепчик, надела туфли и, как была, в рубашке, подошла к окну, отдернула штофные занавески. Рассвет алой зарей поднимался над сонным Петербургом.
Елизавета Андреевна прошла в купальную и опрокинула на себя кувшин воды. Потом растерлась широким полотенцем и, надев платье, свежая и веселая, появилась в своем домашнем царстве.
В комнате Леночки, отделанной розовым ситцем, было темно. Леночка лежала на широкой деревянной кровати. В ногах у нее сидел большой полосатый кот. Он проснулся и, брезгливо облизывая шершавым языком шерсть, заканчивал утренний туалет.
В столовой никого не было, в кабинете тоже. В темной передней на сундуке дремал старый лакей Прошка. Дворовая девка, подоткнув подол, несла из кухни помои.
Елизавета Андреевна прошла через двор в сад. Беседка, закутанная в плющ, окрашенная в розовый цвет зари, была пуста. Елизавета Андреевна сердито топнула ногой, быстрой и легкой походкой пересекла сад, двор и направилась в лабораторию.
Мастерская и лаборатория отражали разнообразные занятия хозяина, беспокойная мысль которого неустанно пыталась проложить новые пути во всех областях науки и техники. Каждую свободную минуту Ломоносов проводил здесь.
Десятка полтора мастеров и рабочих и несколько лаборантов из числа студентов академии работали здесь целые дни, а иногда и ночи, когда Ломоносов стремился скорее добиться результатов какого-нибудь опыта.
Если же опыт не удавался, то все приходилось начинать сначала; трудолюбие и настойчивость великого помора приводили в изумление даже самых усидчивых немцев. Иногда новая идея его требовала подтверждения, но для этого нужны были новые приборы, инструменты. Приходилось их изобретать самому академику, и они изготовлялись в мастерской по его чертежам и расчетам.
Однажды, задумчиво глядя на фонтан в саду Аничкова дворца, он изобрел коленчатый приводной вал и привел им в движение все фонтаны на Неве. В другой раз, сидя в тени под деревом около мельницы, он решил заняться водяным двигателем и впоследствии создал у себя в Усть-Рудицком гидросиловую установку, которая приводила в движение лесопилку и мукомольную мельницу.
Когда Елизавета Андреевна вошла, шум станков, визг пил, стук молотков оглушили ее. В другой комнате, лаборатории, она увидела Ломоносова перед печью, где разогревали стекло на медленном огне. Стекло приняло сначала синеватый, потом фиолетовый оттенок, который начал переходить в розоватый и красно-пурпурный цвет, отражавшийся на лицах стоявших рядом Ломоносова и Цильха.
– Самое время для охлаждения, тогда останется чистый рубиновый.
– Господин профессор, – сказал Цильх умоляющим голосом, – но мы уже сделали более трех тысяч неудачных опытов по окраске стекла… Что же будет дальше?
Ломоносов посмотрел на него очень серьезно:
– Это очень хорошо, Цильх! Это весьма полезно, Цильх. Сие значит, что человечество будет избавлено от повторения трех тысяч ошибок. Будем продолжать дальше, пока не найдем секрета окраски стекла, – сказал он и, увидев жену, спросил: – Ты зачем пришла?
Он не любил, когда его отвлекали во время работы, и рассердился.
Елизавета Андреевна залилась краской и только хотела что-то ответить, как из темного угла вышла фигура в армяке, сапогах, с лицом старовера – борода лопатой, нос картошкой, волосы стрижены под скобку. Держа в руках картуз, фигура поклонилась в пояс.
– Мы к вам, Михайло Васильевич!
– Тебе что?
– Так что по приказанию генерал-фельдцейхмейстера* Петра Ивановича Шувалова я, старший мастер Сергей Пермяков, прибыл к вам с Олонецкого завода насчет пушек, значит, в ваше распоряжение.
Ломоносов оглянулся.
– Тише ты, дурак! – и повел его в дом.
Мастер пил чай, держа блюдечко на растопыренных пальцах. Ломоносов пил и ел рассеянно, как будто ничего не видел кругом.
– Так ты говоришь, что стреляют они дальше, только в цель не попадают… Так. А ты знаешь, что есть отклонение снаряда при полете?
– Никак нет…
– Сие отклонение происходит от сопротивления воздуха: чем расстояние дальше, тем отклонение больше, однако же сие в неравных пропорциях.
Вытащил из секретера чертежи, разложил на столе, сдвинул в сторону посуду. Вдруг вскочил:
– Как вы целитесь? Как целитесь, спрашиваю?
Мастер подул на блюдечко.
– Целимся обыкновенно – по целику прямо, и все офицеры так научены целить.
– Дурачье! Я же изготовил вам прицельную трубку с целиком влево.
Вбежала Леночка.
– Папенька, кареты подъехали – золоченые, с гербами, кавалеры пошли в сад!
Елизавета Андреевна пронеслась вихрем через столовую, бросила на ходу:
– Леночка, иди надень новое платье!
Ломоносов сложил бумаги, покряхтел, пошел, переваливаясь, в сад.
Возле мастерской встретил Ивана Ивановича Шувалова, который легкой танцующей походкой шел по аллее, посыпанной красным песочком, и Петра Ивановича, толстого, важного, со звездой, в роскошном кафтане и голубом камзоле, застегнутом на большие бриллиантовые пуговицы. Петр Иванович шел отдуваясь, с привычной важностью кивая направо и налево попадавшимся ему навстречу людям; с его красного одутловатого лица и длинного парика с буклями осыпа́лась пудра.
Ломоносов пошел навстречу. Иван Иванович отставил ногу, затянутую в тончайший белый шелковый чулок, помахал шляпой.
Петр Иванович молча кивнул – подбородок в складках затрясся, как у индюка. Они вошли в мастерскую. Ломоносов показал им «ночезрительную трубу», геликоптер*, пирометр*, прибор для определения вязкости жидкости. Гости перешли в лабораторию, остановились перед изображением Богоматери, сделанным из мозаики.
Ломоносов показал им цветные бокалы, чашки, дутые прозрачные фигурки, повел в сад – в беседку. Было жарко. Петр Иванович обмахивался шелковым надушенным платком, обдумывая, как бы перейти к делу, ради которого приехал, – производство стекла его мало интересовало. Иван Иванович улыбался, любезно склонив голову набок.
Подали в ведерке со льдом белое вино, фрукты.
– Я рад, – сказал Петр Иванович, осторожно сделав глоток вина, – что вы столь высокому предмету, как воинские дела отечества, внимание свое уделяете посреди многочисленных ваших занятий, и хотел бы услышать на сей предмет пропозицию[48].
Ломоносов крякнул.
– Мысли мои на сей предмет изложены в записке «О сохранении военного искусства во время долголетнего мира». Фридрихова армия* сильна дисциплиной, быстротой маневра, талантами своего полководца и…
– Еще чем?
Лицо Ломоносова стало хмурым.
– Она хорошо одета, обута, накормлена, сие про нашу сказать нельзя. Солдат наш разут, раздет и голоден, ибо каждый начальник долгом почитает воровать у него.
Петр Иванович сделал круглые глаза, открыл рот: знал, что не только в своем отечестве, но и во всей Европе имеет славу первого казнокрада.
– Господин десьянс академик…
– Погодите, ваше сиятельство, дайте закончить. Однако Фридрихова армия слаба разноплеменностью своих наемников, глупостью своих офицеров и своей самоуверенной наглостью. Наш солдат Отечество свое любит и смерти не боится… Народ наш, – Ломоносов встал, лицо его загорелось, грудь выпрямилась, – в любой баталии над неприятелем викторию одержать может, если только начальники будут его достойны… Отец наш и учитель Петр Великий воочию сие доказал…
Петр Иванович развел руками:
– Не могу в толк взять! Что же для сего нужно?
– Для сего нужно отдельный артиллерийский корпус и инженерный учинить и офицеров для них обучать денно и нощно. Для сего нужно генералам воровать меньше, а учиться больше, браться за науку, как Петр Великий ее сам с азов изучал… Далее следует Матвею Мартынову, Михаилу Данилову, Андрею Нартову и прочим русским инвенторам* всяческое поощрение делать, отнюдь иноземцев к сему делу не подпуская. Ныне мы имеем скорострельные трубки, зажигательные снаряды, светящиеся ядра. «Единороги» наши на десять пудов легче самого малого полевого орудия, вдвое быстрее заряжаются и стреляют снарядами всех видов. Осматривал я Андрея Нартова сорокачетырехствольную скорострельную батарею: она воочию доказывает, на что русский ум способен. Что же касаемо гаубицы*, то она за один выстрел двадцать пять фунтов* картечи выбрасывать будет… Помните, ваше сиятельство:
Кто мыслью со врагом сражается спокоен, Спокоен брань ведет искусством хитрых рук, Готовя страх врагам и смертоносный звук…Иван Иванович лукаво улыбнулся. Петр Иванович стал вертеть головой во все стороны. Сказал, отдуваясь:
– Артиллерийский и инженерный корпуса учиним и офицеров будем обучать непрестанно. Только беспокоит меня сие новое орудие – не осрамиться бы перед Европой!
Ломоносов нахмурил брови, вытащил чертежи, сложил.
– Орудие по дальности будет превосходить все существующие и стрелять разрывными снарядами. Пушки и лафеты по весу будут легче, дабы в походе перевозить их способнее было, однако же необходимо офицерам и прислуге орудийной непрестанно обучаться точной стрельбе, сокращая время зарядки и прицела. Для сего на Выборгском полигоне, не жалея казны и пороха, из «единорогов» и гаубиц пробовать все стрельбы: бомбами, ядрами, брандкугелями* и особо картечью всех видов. – Ломоносов прищурился, как бы к чему-то присматриваясь. – Надобно соединять сии орудия на поле боя по двести и более, так… – Он вскочил, ударил своим могучим кулаком по столу – на столе всё подскочило. – Так, чтобы неожиданным, быстрым и весьма точным огнем неприятельские колонны в ничто превращались, как бы их не было.
Чтоб прежде мы, не нас противны досягали, И мы бы их полки на части раздробляли, И пламень бы врагов в скоропостижный час От Росской армии, не разрядясь, погас.Шувалов вздохнул:
– Сие возможно ли?..
– Не токмо возможно, но только так и должно действовать. Изготовление же сих орудий и обучение стрельбе из них производить в величайшей тайне.
– О сем уже даны приказы по армии. Кто к орудию, кроме прислуги, приблизится, подлежит смерти. Сама гаубица специальным капотом покрывается, и никому, кроме как для стрельбы, снимать оный не разрешается. Вам ведомо, что для полевой артиллерии калибр длинных гаубиц введен по торговому весу сферического снаряда в четверть и полпуда. Однако же при стрельбе точное попадание не всегда возможным оказалось. Думаю я – нет ли тут прошибки в расчетах.
– Нет. Надобно только исправления некоторые к целику сделать и господ офицеров партиями на Олонецкий завод отправить для экзерциций*.
– Сделаем.
Иван Иванович опять улыбнулся:
– Ну, Михаило Васильевич, от сих больших воинских дел перейдем к малым. Просите вы у Сената четыре тысячи рублей на производство стекла. Нужно ли сие?
– Не токмо нужно, но и необходимо.
Ломоносов отошел к столу, открыл ящик, начал что-то искать.
Вошла Елизавета Андреевна – свежая, сияющая, с открытыми плечами, в платье с пуфами, затянутая в талии, за ней Леночка, стройная, причесанная на прямой пробор.
Елизавета Андреевна присела в реверансе.
– Не угодно ли вашим сиятельствам устерсов свежих откушать, а может быть, портеру со льдом?
Петр Иванович – толстый, важный, как индюк, затряс подбородком, выплыл из-за стола. Иван Иванович встал, сделал глубокий поклон.
– Благодарим, мадам! Спешим! Дела государственные требуют.
Ломоносов вернулся с переплетенной в сафьян тетрадью. На титульном листе ее было написано: «Письмо о пользе стекла к высокопревосходительному господину генералу-поручику, действительному Ее Императорского Величества Камергеру, Московского университета куратору и орденов Белого Орла*, Святого Александра* и Святые Анны* кавалеру Ивану Ивановичу Шувалову, писанное 1752 года от коллежского советника и профессора Михаила Ломоносова».
– Вот вам, Иван Иванович, и ответ. – Стал читать отрывок с листа:
Неправо о вещах те думают, Шувалов, Которые Стекло чтут ниже Минералов, Приманчивым лучом блистающих в глаза. Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса. Тем стало житие на свете нам счастливо: Из чистого Стекла мы пьем вино и пиво. Далече до конца Стеклу достойных хвал, На кои целый год едва бы мне достал. Затем уже слова похвальны оставляю, И что об нем писал, то делом начинаю.Иван Иванович засмеялся:
– Сие стихотворение одно четырех тысяч стоит!
Взял тетрадь, спрятал в карман камзола.
Провожали гостей всей семьей. Когда золоченые кареты с арапами на запятках, окруженные скачущими адъютантами, тронулись, поднимая пыль, Иван Иванович откинулся на атласные подушки, вздохнул, открыл табакерку, взял понюшку испанского табаку.
– Славная растет дочка у академика!
Петр Иванович махнул рукой:
– А что с того? Кому будет нужна бедная невеста? Разве мужик сей стремится к прибытку и роскошествам жизни? Ему бы только со своим стеклом, книгами да приборами возиться… О господи!
Глава шестая КАТАСТРОФА
Круглый конференц-зал академии казался призрачным в полумраке от синеватого табачного дыма, колеблющегося пламени свечей. Силуэты академиков, их головы в длинных париках с буклями и фигуры в черных плащах зловещими тенями отражались на стенах. За отдельным столом академик Гейнзиус вел журнал, вполголоса повторяя длинные латинские фразы.
Ломоносов стоял, заканчивая речь:
– Я спрашивал и испытывал свою совесть – она мне ни в чем не зазрит* сказать истинную правду, я бы мог молчать и жить в покое. В других странах тот студент лучший, кто больше учится, а чей он сын – до того дела никому нет. А по пункту двадцать четвертому нашего регламента не полагается крестьянина обучать, а лучше выписать из-за границы невежду иностранца…
Профессор Иоганн Фишер вскочил.
– Для крестьян есть фполне достаточно письмо, чтение и религия, дабы они усердно служили сфоим господам… Зачем им гимназия и униферситет?
Ломоносов повернулся к нему.
– Во-первых, удивления достойно, господин Фишер, что не впал вам в ум, как знающему латынь, Гораций* и другие ученые и знатные люди в Риме, которые были выпущены на волю из рабства, когда вы столь презренно уволенных помещичьих людей отвергаете? Не вспомнили вы и того, что они в Риме не токмо в школах с молодыми дворянами, но и с их отцами за одним столом сидели, с государями в увеселениях имели участие и в знатных делах доверенность. Сих и нынешних примеров, видно, вы знать не хотите!..
Тени академиков заметались, склонились друг к другу.
Тауберт откинулся в кресле, спросил насмешливо:
– Куда России столько ученых людей?
– У нас нет ни лекарей, ни аптекарей, ни механиков, ни людей, знающих горное дело. Ежели вам неведомо, на что надобны русские ученые люди, то мы сие без вас знаем.
Шумахер улыбнулся ехидно:
– Отчего же до сих пор русские люди сих наук познать не могут?
– От того, что в академии и в России правят науками люди, к науке равнодушные.
Встал Теп лов.
– Прошу занести в протокол, что господин Ломоносов его сиятельство президента академии поносит и на права его покушается.
Ломоносов побагровел, шагнул к нему, схватил за кружевной воротник.
– Природный россиянин, который честолюбия ради отечеству вред причиняет, вот чего достоин… – повернул его спиной, наддал коленкой в зад, вышиб из конференции.
Академики вскочили, схватились за парики, закричали все разом.
Ломоносов повернулся, посмотрел на них:
– Жалкие угнетатели наук, вы от просвещения россиян уменьшения своей силы опасаетесь. Я же жизнь свою положить готов за то, чтобы выучились россияне…
Повернулся, ушел, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка.
При роскошном дворе гетмана Украины Кирилла Григорьевича Разумовского чины были малороссийские, а обычаи французские.
Секретарь его, Григорий Николаевич Теплов, два казачьих полковника и правитель академической канцелярии Иоганн Данилович Шумахер были допущены к утреннему туалету.
Гетман сидел к ним спиной, лицом к зеркалу, француз-парикмахер поправил букли парика, стер пуховкой следы пудры на лице, отошел, посмотрел на гетмана, стал на цыпочки, отставил руки:
– Parfaitement![49]
Гетман пристально посмотрел в зеркало, ткнул пальцем в ухо:
– Волосы, не видишь?
Парикмахер подхватил пинцет, занялся ухом. По сторонам два лакея держали роскошный кафтан, шитый золотом, и голубую ленту с бантом и золотым ключом*.
Гетман кивнул Теплову в зеркало:
– Дела какие есть? Спешу: во дворец еду.
Теплов, шагая мягко, как кот в сапогах, приблизился к зеркалу.
– По причине великого озорства и шума, учиненного академиком Ломоносовым в последней конференции, и поношения им вашей особы господа десьянс академики ходатайствуют о запрещении оному Ломоносову посещать академическую конференцию. О том у господина Шумахера за подписями всех академиков петиция имеется. К тому же господин Ломоносов не столько о науке печется, сколько о приобщении подлых людей к оной, дабы их в чины возвести.
Гетман протянул руку; Шумахер, склонившись, подал свернутый лист пергамента. Гетман развернул, скосил глаза на подписи, буркнул Теплову:
– Изготовить указ…
В руках Теплова мелькнул исписанный печатным почерком лист.
– Прожект указа, ваше сиятельство, уже готов.
– Перо!
Гусиное остро отточенное перо мелькнуло в руках Теплова.
Гетман подписал указ, надел ленту с ключом, кафтан. Все склонились. Он вышел.
После «великого шума» в академии Ломоносов от крайней горести второй день болел: лежал в постели молча, почти не отвечая на вопросы Елизаветы Андреевны, только гладил Леночку по голове, когда та прижималась к его небритой щеке, и вздыхал. На третий день прибыл синодский служка с извещением о вызове Ломоносова в Синод. Ломоносов не поехал. Служка явился вторично, прорвался в спальню, поклонился в пояс:
– Святейший синод требует вас к ответу.
Пришлось ехать. Ехал молча; на ухабах, когда встряхивало, хватался за сердце.
В царствование Елизаветы Петровны церковь, введенная Петром I в рамки «духовного регламента», составленного по его указаниям Феофаном Прокоповичем*, когда черному духовенству* под страхом телесного наказания было запрещено писать книги, делать из них выдержки или иметь в кельях чернила и бумагу, а белому* – «мешаться в светские дела», вновь стала воинствующей и обрела силу. Монастырям были возвращены, правда ненадолго, все отобранные Петром земельные владения. Знаменитая своим фанатизмом и изъятая ранее из обращения книга Яворского «Камень веры» стала весьма модной, а Синод получил полную свободу в деле преследования и конфискации неугодных ему произведений.
Петербургское высшее общество во главе с первым кавалером Иваном Ивановичем Шуваловым уже было значительно заражено идеями Вольтера*, которому Елизавета Петровна даже намеревалась заказать написание истории Российского государства. Вельможи иронически относились к «неистовым попам», однако никто не решался говорить об этом вслух.
И вдруг в 1757 году по всему Петербургу стали ходить стихотворные списки под названием «Гимн бороде», причем имелась в виду не просто борода, а борода церковная: «Козлята малые родятся с бородами, как много почтены они перед попами», – и не церковная борода вообще, а именно холеная борода фактического главы Святейшего синода – архиепископа новгородского Дмитрия Сеченова.
В сводчатой полутемной комнате, за длинным столом, в высоких креслах восседали архиереи. Тяжелое черное распятие висело на стене. Древний писец сидел в углу перед толстой книгой, оправляя заплывшую свечу. Председательствовал неистовый в вере Дмитрий Сеченов.
Рядом сидели петербургский архиепископ Сильвестр Кулябко и вятский – Варлаам.
Ломоносов, тяжело ступая, вошел, согнувшись, в низкую горницу, поклонился, сел.
Сеченов погладил холеной рукой длинную расчесанную бороду, сказал строго:
– Слава Господу Богу нашему Иисусу Христу во веки веков!
Ломоносов мрачно ответил:
– Аминь!
– Ведомо ли тебе, раб Божий, что во многих списках пашквиль, именуемый «Гимн бороде», по городу ходит?
– Ведомо.
– В том пашквиле про бороду, коя есть знак христианского благочестия, поносно сказано… – Архиепископ глянул на свою бороду и снова погладил ее.
Ломоносов молчал. Сосед Сеченова, архиепископ Сильвестр Кулябко, тыча пальцем в список, подхватил:
– Здесь сказано:
Я похвальну песнь пою Волосам, от всех почтенным, По груди распространенным, Что под старость наших лет Уважают наш совет.А далее автор оного пашквиля как против земного царствия восстает, тако и на Небесное хулу возводит:
Борода в казне доходы Умножает по вся годы. Керженцам любезный брат С радостью двойной оклад В сбор за оную приносит И с поклоном низким просит В вечный пропустить покой Безголовым с бородой.Тощий иконописный Варлаам закончил дискантом, покачивая головой и вздыхая:
О прикраса золотая, О прикраса даровая, Мать дородства и умов, Мать достатков и чинов, Корень действий невозможных, О завеса мнений ложных!И, глядя на Ломоносова, спросил: – Каких же это мнений ложных – не о духовных ли особах тут речь?
Ломоносов молчал.
Сеченов встал, выпрямился грозно.
– Оный пашквиль, как из слога явствует, не от простого, а от ученого человека и чуть ли не от вас самих произошел. Такому сочинителю надлежит ожидать казни Божьей и отлучения от церкви.
Ломоносов оглядел всех своим ясным взглядом, на лице его мелькнула тень улыбки.
– Наука тут ни при чем. Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет Божескую волю вымерить циркулем. Таков же и в богословии учитель, если он думает, что по Псалтырю можно судить об астрономии и химии. В сатире сей о Боге и религии речи нет, а токмо толкуется, что иной дурак, длинной бородой прикрываясь, к наукам привязывается.
Сеченов вскочил.
– Кто же сему пашквилю автор?
Ломоносов встал.
– Я!
Архиереи ахнули, воздели руки, потом пошептались. Встал Сеченов, сказал грозно:
– Святейший синод ходатайствовать будет перед ее величеством о том, чтобы оный пашквиль публично сжечь под виселицей рукой палача, а автора его отлучить от церкви.
Ломоносов побледнел, потом сказал глухо:
– Ныне не времена Никиты Пустосвята*, и от столкновения с наукой церковь только великое ущемление получить может.
Вышел твердой походкой, но, когда сел в карету, сразу осунулся, невольно опустил голову…
Дома Елизавета Андреевна и Леночка ждали его с волнением – чувствовали, что решается судьба отца и всей семьи. По тому, как он вошел, поняли: плохо. Он рассеянно огляделся, пошел сразу в спальню. Вдруг увидел в руках у Елизаветы Андреевны большой, с сургучной печатью пакет. Не зная, как быть, она то смотрела на пакет, то хотела его спрятать. Ломоносов спросил усталым голосом:
– Откуда?
– Из дворца, офицер доставил.
Взял пакет, разорвал, прочел дважды, строчки в глазах его прыгали.
«За многие продерзости и нарушение устава приказываем академика Ломоносова Михайлу Васильевича от конференции отставить и впредь его туда не пущать.
Императорской Академии наук президент и кавалер граф К. Разумовский»Сел, уронил письмо. Устало провел рукой по лицу.
– Ну что же, враги мои торжествуют. Устал, Лизонька, сделай-ка пуншу горячего.
Леночка подняла письмо, пробежала глазами, вскрикнула, заплакала, схватила большую руку отца, поцеловала.
Слезы показались у него на глазах. Он положил руку на ее голову.
– Помни, Леночка, кто хочет трудами своими оставить память в потомках, через великие страдания пройти должен!
Ломоносов тут же пересилил себя, встал. Глаза его загорелись, лицо стало гневным.
– Сия баталия науки против суеверия еще не кончилась! Ныне государство нужду более в ученых, чем в попах, имеет…
В кабинете долго сидел задумавшись. Все, что наболело на сердце, просилось на бумагу. Он взял перо, и строки уже сами полились одна за другой:
О страх! о ужас! гром! ты дернул за штаны, Которы подо ртом висят у сатаны. Ты видишь, он за то свирепствует и злится, Дырявый красный нос – халдейска* пещь дымится, Огнем и жупелом* наполнены усы. О, как бы хорошо коптить в них колбасы!Яростному, язвительному началу сатиры соответствовало не менее насмешливое описание ада, которым грозят синодские заправилы, похожие на козлов.
Через несколько дней сатира во множестве списков разошлась по столице.
Никогда еще не было такого поношения Синоду. Оставалось одно: обратиться с всеподданнейшим докладом к императрице с просьбой «означенного Ломоносова, каковой клеветникам православной веры к бесстрашному кощунству явный повод подает, отослать в Синод для исправления» в надежде, что удастся его отправить на Соловки.
Но императрица молчала.
А в это время в Санкт-Петербурге по рукам стала ходить третья сатира, в которой высмеивалась вся история с вызовом Ломоносова в Синод.
Не Пари́сов* суд с богами, Не гигантов брань пою, Бороде над бородами Честь за суд я воздаю… Только речи окончала Борода пред бородой, Издалека подступала Тут другая чередой И с сердцов почти дрожала, Издалека заворчала Сквозь широкие усы, Что ей придало красы: – Я похвастаться дерзаю, О судья наш, пред тобой: Тридцать лет уж покрываю Брюхо толстое собой, Много я слыхала злого, Но ругательства такого Не слыхала я нигде, Что нет нужды в бороде. – После той кричит сквозь слезы Борода вся в сединах, Что насилу из трапезы Поднялась на костылях: – Сколько лет меня все чтили, Все меня всегда хвалили, А теперь живу в стыде. Сносно ль старой бороде! – Борода над бородами, С плачем к стаду обратясь, Осенила всех крестами И кричала, рассердись: – Становитесь все рядами, Вейтесь, бороды, кнутами, Бейте ими сатану; Сам его я прокляну! – Ус с усом там в плеть свивался, Борода с брадою в кнут; Тамо сеть из них готовят, Брадоборца чем изловят, Злобно потащат на суд И усами засекут…Сеченов попытался от имени всех членов Синода через пользовавшегося благоволением Елизаветы Петровны архиепископа Сильвестра Кулябко убедить ее, ссылаясь на 18-ю главу петровского Артикула воинского, предать Ломоносова суду за поношение православной веры.
В докладе Синода Елизавете Петровне Ломоносов обвинялся в «хулении таинства святого крещения» и в том, что «оный пашквилянт крайне скверные и совести и честности христианской противные ругательства генерально на всех персон, как прежде имевших, так и ныне имеющих бороды, написал и, не удовольствуясь тем, еще опосля того, вскоре таковой же, другой пашквиль в народ издал, в коем, между многими уже явными духовному чину ругательствы, безразумных козлят далеко почтейнейшими, нежели попов, ставит»…
И даже Синод просил императрицу: «Высочайшим своим указом таковые соблазнительные ругательные пашквили истребить и публично жечь и впредь то чинить запретить, и означенного Ломоносова для надлежащего в том увещевания и исправления в Синод отослать».
Елизавета Петровна была религиозна, суеверна и не очень грамотна, но, обладая от природы острым умом, понимала дух времени. И поэтому, усердно соблюдая посты и жертвуя большие суммы на монастыри, она в то же время щедро одаривала безбожника Вольтера, политическое значение которого в Европе правильно оценивала.
Академик Якоб Штеллин писал, что Вольтеру «посылали от имени Ее Величества императрицы подарки великой цены, полное собрание или коллекцию русских золотых медалей, изрядный запас драгоценных мехов, отборных соболей, черных и голубых лисиц, которые одни только даже в России оценивались в несколько тысяч рублей».
Не менее хорошо она понимала и значение Ломоносова и как человека, которому она может доверять (поэтому план «Истории Петра Великого», заказанный Вольтеру, был послан на просмотр именно Ломоносову), и как русского ученого и поэта, украшавшего ее царствование и известного за границей.
Императрица оставила ходатайство Синода без последствий и даже не удостоила его ответом. Наука «в баталии с церковью викторию одержала».
В этой победе поборники просвещения, современники Ломоносова, увидели конец неограниченному произволу церковных властей, и один из них написал, адресуясь к Синоду:
О вы, которых он Прогневал паче меры, Восстав противу веры И повредив закон, Не думайте, что мы вам Отданы на шутки! Хоть нет у нас бород, Однако есть рассудки…Глава седьмая ОСНОВНОЙ ЗАКОН
Иоганн Шумахер, как всегда, приехал в академическую канцелярию в девять часов утра без пяти минут и, пройдя через большую комнату, где сидело человек тридцать письмоводителей и переводчиков, вскочивших при его появлении, направился к себе в кабинет. Усевшись за огромный письменный стол, он вынул большую серебряную табакерку с портретом Петра Великого на крышке, щелкнул по ней пальцем, загнал порцию табаку в обе ноздри и чихнул.
Обычно ровно в девять часов утра к нему являлся с докладом секретарь канцелярии Мессер. Хотя делопроизводство академической канцелярии велось на двух языках, русском и немецком, и секретарей было двое, Волчков и Мессер, Шумахер предпочитал, чтобы о текущих делах ему докладывали по-немецки.
Дверь отворилась точно в девять часов, но вместо Мессера в кабинет вошел Тауберт с папкой бумаг в руках.
– Guten Morgen, Herr Staatspaat[50], – сказал Тауберт и раскрыл папку.
– Guten Morgen, – сказал мрачно Шумахер, указывая Тауберту на кресло с высокой резной спинкой.
– Господин советник, от профессора Ломоносова заявление на латинском языке поступило, что намерен он читать русским студентам курс практической химии, для чего многие инструменты и приборы потребно изготовить. А потому канцелярия на то средства должна ассигновать.
Шумахер задвигался в кресле, усмехнулся:
– Дабы на такой расход пойти, надо слушателей достаточно иметь. Студенты же, которые есть, по наукам распределены…
– Однако, господин советник, многие из них желают химии обучаться, и о том в канцелярии академии прошение имеется.
Шумахер покачал головой:
– Подлинно свет переменился. При основании академии Петр Великий насильно посылал сыновей русских бояр за границу обучаться, и через то был великий плач в семьях, как по покойникам. Ныне же сами в науку просятся. Где сие прошения?
Тауберт вынул из папки, подал бумагу.
Шумахер стал читать вслух:
– «Прошение студентов Михаила Софронова, Ивана Федоровского, Василия Клементьева, Ивана Братковского и Степана Румовского. Понеже[51] химия есть полезная в государстве наука, притом же и мы желаем обучаться оной, того ради всепокорнейше просим канцелярию Академии наук, чтоб соблаговолила дозволить нам ходить оной науки к профессору его благородию господину Ломоносову, который показывать нам эксперименты и лекции свои начать обещается. Что же касается до лекций, которые мы ныне слушаем, на оные как ходили, так и будем ходить, пока генерального развода по наукам всем не воспоследует».
Прочитав, вернул бумагу Тауберту, вздохнул:
– Придется деньги дать и этому делу благорасположение оказать. Иначе опять великий шум будет, что немцы русским в науку путь заграждают. Иметь дело с господином Ломоносовым мне не доставляет никакого плезира*…
Сам Ломоносов основательно подготовился к чтению лекций. Он не только написал «Курс истинной физической химии», который диктовал студентам в виде конспекта, но и показывал при том многие физические эксперименты.
Основная задача этого курса заключалась в изучении химии при помощи физики с изложением чисто научного объяснения состава тел.
В параграфе первом этого курса лекций давалось объяснение, что такое физическая химия: «Физическая химия есть наука, объясняющая на основании положений и опытов физических причину того, что происходит через химические операции в сложных телах. Она может быть названа также химической философией, но в совершенно ином смысле, чем та мистическая философия, где не только скрыты объяснения, но и самые операции производятся тайным образом».
Ломоносов тщательно записывал в свои отчеты о производимых им работах содержание занятий со студентами, описание опытов, которыми они сопровождались, и особенно насколько хорошо студенты усваивают теоретический курс для того, чтобы после него перейти к практическим занятиям в лаборатории.
Подводя итоги лекциям, которые читались в 1752–1753 годах, Ломоносов в рапорте в академическую канцелярию, поданном перед последними занятиями, писал:
«Что ж до моих химических лекций касается, то имеют оные быть окончены около майя месяца сего 1753 года, и по окончании оного явится успех каждого. Между тем могу засвидетельствовать, что на чинимые на лекциях моих вопросы способнее других ответствует Степан Румовский, который по соизволению Канцелярии с протчими студентами на мои лекции прилежно ходит; Иван Братковский также бы мог иметь равный успех, есть ли бы не часто лекции прогуливал. Василий Клементьев всех прилежнее и, как по обстоятельствам примечаю, изрядно понимает и помнит; однако на вопросы ответствовать весьма застенчив, так что иногда сказать не может того, что ему, конечно, памятно быть должно. Иван Федоровский хотя нарочитое понятие имеет, однако приметил я в нем невеликую к химии охоту.
Коллежский советник и профессорМ. Ломоносов»Уже в ранних своих заметках по химии Ломоносов высказывал мысль, что в основание всех химических превращений следует положить закон сохранения веса вещества. В письме к Леонарду Эйлеру в 1748 году он сформулировал этот закон совершенно четко, однако не торопился с его опубликованием, производя опыты, которые должны были доказать его практически.
Лаборатория Ломоносова была первой исследовательской учебной лабораторией в мире, где студенты применяли свои знания на практике и усваивали технику лабораторной работы. Там он читал студентам свои последние лекции по химии.
День уходил, и красноватые лучи заката окрашивали сад, здание лаборатории и сквозь небольшие окна отражались на приборах, инструментах и полках, заставленных лабораторной посудой. В небольшой комнате при лаборатории, где собирались студенты, Ломоносов, стоя около грифельной доски, говорил:
– Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что, сколько чего от одного тела отнимается, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте. Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своей силой другое, столько же оной у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает…
Сидевший впереди Василий Клементьев задвигался, хотел что-то сказать, но не решился.
Ломоносов взглянул на него:
– Опять в рот воды набрал! Ежели что неясно, о том спросить нужно…
Клементьев встал, покраснел, сказал негромко:
– Роберт Бойль* о сем другого мнения.
Ломоносов быстро повернулся к нему, глаза его загорелись, голос сделался резким.
– Славного Роберта Бойля мнение ложно. Запаяв кусок свинца в стеклянную трубку и превратив оный путем нагревания в порошок, он взломал ее, причем воздух со свистом оттуда вылетел. Взвесив порошок, Роберт Бойль нашел, что вес оного порошка больше куска свинца. И посему он решил, что особая огненная материя, сиречь теплород, к нагреваемому предмету присоединяется. Я же взял точно такой кусок свинца, в той же стеклянной трубке, предварительно взвесил как свинец, так и трубку, и путем нагревания свинец превратился в порошок. Вес оного от этого не изменился. Из того видно, что достославный Бойль впал в ошибку. Непрерывно текущий над обжигаемым телом и присоединяющийся к нему воздух увеличивает его вес. Между тем раз и навсегда следует принять закон о сохранении вещества при химических превращениях…
Впоследствии в тех же самых выражениях Ломоносов изложил закон сохранения вещества и движения на конференции в академии, а в 1760 году опубликовал его в «Рассуждении о твердости и жидкости тел».
Глава восьмая СЕМЕНА ВСХОДЯТ НА ПАШНЕ
«…И в знак преславной той годовщины в веселии поздравлять друг друга. По знатным проезжим улицам, у ворот и домов учинять некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых против образцов, каковые сделаны на Гостином дворе. Людям скудным хотя по дереву или ветви над воротами поставить. По дворам палатных, воинских и купеческих людей чинить стрельбу из пушек и небольших ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А где мелкие дворы, собрать пять или шесть дворов и зажигать худые и смоляные бочки, наполняя соломой или хворостом…»
Санкт-Петербург горел огнями, сотрясался от ружейной и пушечной стрельбы, ночные улицы его были заполнены оживленными толпами людей, стремившихся к Дворцовой площади.
На площади перед дворцом повара жарили целых баранов, раздавали калачи, обносили народ вином. Толчея была страшная! Перед Зимним дворцом, залитым светом тысяч разноцветных плошек, стоял огромный щит. На нем светящимися контурами была изображена окруженная двойными рвами и валом крепость с флагом и огненным вензелем императрицы. Под этим изображением – надпись, сочиненная Ломоносовым:
Явив щастливую премену, Чего желал российский свет, Прешла препятствий многих стену, Восшед на трон, Елисавет. На память для того и оной ночи в честь Мы тщимся праздничны сии огни принесть.Конные драгуны, расставленные шпалерами*, сдерживали толпу, охраняя проезд экипажам ко дворцу. Хотя уже стояла глубокая осень, снега не было, ночь была теплая. Одна за другой проносились кареты к главному входу. Бабы круглыми, испуганными глазами глядели на придворных, сияющих золотыми мундирами, в лентах и орденах, и ехавших с ними дам, полуобнаженных, с высокими прическами, на их драгоценности, сверкавшие в волосах, на шее, на пальцах.
– Голая, ей-богу, голая едет!.. Смотри, Ванька… – толкала толстая краснощекая баба в бок молодого парня, стриженного под скобку, в картузе.
– И ничего не голая, обыкновенное платье, как они во дворце ходят, – меланхолически сказал парень.
Вдруг в толпе прошло волнение. Среди блестящих экипажей медленно двигался «драндулет». В скромном кафтане и белом коротком парике ехал Ломоносов, рядом с ним сидела Елизавета Андреевна в белом бальном платье, но без всяких украшений.
– Ломоносов! – закричал кто-то в толпе. – Ломоносов! Ломоносов!..
Толкая друг друга, протискивались вперед ученики шляхетского корпуса*.
– Ура Ломоносову!.. – закричал какой-то юноша.
Глядя на светящееся ажурное здание, Ломоносов вспомнил, как несколько лет тому назад, тоже в годовщину восшествия на престол, ему пришлось читать торжественную оду.
Со времени основания академии составление од по поводу важных событий стало традицией. Раньше, когда их писал академик Штеллин, они имели характер простого поздравления в стихах. Оды эти, роскошно изданные, рассылались всем важнейшим сановникам, а императрице их преподносил президент академии. Их также продавали в академической книжной лавке. Таким образом, они читались и наиболее влиятельными лицами в государстве, и любителями литературы, и учащимися.
Ломоносов верил в могущество печатного слова, в то, что литература формирует мнение людей. И он в свои оды вложил новое содержание, пропагандируя идеи о пользе просвещения, о значении науки для развития производительных сил страны.
Хотя тогда еще «покровитель наук» Иван Иванович Шувалов не «был в случае», многие сенаторы и вельможи помнили, как Петр Великий стремился подготовить «собственных ученых людей» для строительства фабрик, верфей, заводов и рудников. Елизавета, вступив на престол, обещала править по заветам Петра. Поэтому Ломоносов мог в стихотворной форме напомнить императрице о том, как ее отец покровительствовал наукам и какое они имеют значение для использования неисчерпаемых природных богатств России.
Тогда божественны науки Чрез горы, реки и моря В Россию простирали руки, К сему монарху говоря: «Мы с крайним тщанием готовы Подать в российском роде новы Чистейшего ума плоды». Монарх к себе их призывает; Уже Россия ожидает Полезны видеть их труды.Но смерть Петра приостановила осуществление его замыслов. Теперь на Елизавету падает обязанность «восстановить науки»:
Воззри на горы превысоки, Воззри в поля свои широки, Где Волга, Днепр, где Обь течет; Богатство, в оных потаенно, Наукой будет откровенно, Что щедростью твоей цветет. Толикое земель пространство Когда Всевышний поручил Тебе в счастливое подда́нство, Тогда сокровища открыл, Какими хвалится Инди́я; Но требует к тому Россия Искусством утвержденных рук. Сие злату́ очистит жилу; Почувствуют и камни силу Тобой восставленных наук.Ломоносов вспомнил, что, когда он читал эти стихи, в зале стояла тишина и голос его отдавался на хорах.
Молчите, пламенные звуки, И колебать престаньте свет: Здесь в мире расширять науки Изволила Елисавет.Елизавета Петровна подняла брови – стала внимательней: к наукам она была равнодушна, но к славе весьма чувствительна.
Ломоносов вдруг повернулся к группе пажей, стоявших за креслом императрицы, а потом обратился к вельможам и сенаторам:
Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастной случай берегут; В домашних трудностях утеха И в дальних странствах не помеха. Науки пользуют везде – Среди народов и в пустыне, В градском шуму и наедине, В покое сладки и в труде.Ломоносов закончил – аплодировали все: императрица, министры, старики вельможи…
У самого дворца экипажи пропускали в один ряд. В подъезде дежурные офицеры в парадной форме следили за порядком. Сотни приглашенных толкались в залах: придворные и государственные чины, знатные люди из купечества и разночинцев.
В Бриллиантовой комнате ожидали выхода императрицы самые знатные особы: Кирилл Разумовский, Иван, Александр и Петр Шуваловы, Бестужев, Воронцов.
Иван Иванович Шувалов подозвал Кирилла Разумовского:
– Нельзя же, сударь, Ломоносова отставлять от конференции. И то срам, что на всю Россию – один академик русский…
Гетман виновато улыбнулся:
– Уж больно шумлив…
– Зато велик!
Двери открылись. Два герольда* подняли серебряные трубы…
Императрица – самая красивая женщина Европы того времени – появилась в дверях в мундире полковника Преображенского полка: она приехала прямо с полкового праздника. У нее были бархатные лукавые глаза, замечательный цвет лица, длинные красивые ноги… За ней шел Алексей Григорьевич Разумовский, следовали 14 пажей, за пажами – фрейлины с шифрами*, сияя драгоценностями.
Сквозь строй склонившихся придворных дам она прошла в Петровский зал. Там за столами сидела первая рота Преображенского полка, возведшая ее на престол и названная «лейб-кумпанской». При ее появлении толстый полковник, командир роты, вскочил, схватил большой чеканный серебряный кубок, закричал медным голосом, прорвавшимся через открытые окна на площадь:
– Да здравствует Елисавет, императрикс и всея России самодержица!..
С хоров грянули литавры и затрубили трубы, загремел пушечный салют – торжество началось...
Полночь. В огромном Гербовом зале во главе длинного стола сидела императрица в бальном платье. Рядом с ней – Алексей Разумовский, с другой стороны – Шуваловы: Иван, Петр со своей женой, очень некрасивой женщиной, Маврой Егоровной, Александр, Кирилл Разумовский, Бестужев, Воронцов, иностранные послы, старики вельможи петровских времен…
Императрица была полна сил, счастлива. Глаза ее блестели, щеки горели ярким румянцем.
Иван Иванович Шувалов наклонил к ней надушенную голову:
– По поводу такого торжественного случая не угодно ли будет вашему величеству приветственную оду заслушать, коя нашим великим стихотворцем десьянс академиком господином Ломоносовым написана?
Елизавета Петровна кивнула.
В бесконечной перспективе анфилады* залов постепенно приближалась исполинская фигура.
Ломоносов подошел, поклонился, развернул роскошный лист пергамента. Все стихло. Он начал читать:
Кто в громе радостные клики И огнь от многих вод дает? И кто ведет в перунах лики? Великая Елисавет Дела Петровы совершает И глубине повелевает В средину недр земных вступить! От гласа росския Паллады* Подвиглись сильные громады Врата пучине отворить! О полны чудесами веки! О новость непонятных дел! Текут из моря в землю реки, Натуры наруши́в предел! Уже в них корабли вступают, От коих волны отбегают, И стонет страшный Океан. Помысли, земнородных племя, Бывал ли где в минувше время Пример сего чуднее дан? Помысли, зря дела толи́ки И труд, что можем понести, Что может ныне Петр Великий Чрез дщерь свою произвести!Он подошел, свернул пергамент, с поклоном вручил его Елизавете Петровне.
Императрица улыбнулась:
– Чем наградить тебя, мой друг?
– Указом об университете, ваше величество, дабы наиспособнейшие русские юноши в лучшее время к учению не пропадали.
Елизавета Петровна посмотрела на Шувалова:
– Ты как думаешь?
– Сие весьма способствовать наукам будет.
Алексей Григорьевич Разумовский взглянул в глаза Елизавете Петровне, сказал мягко:
– Такому чоловику я бы сам дал карбованцив* сколько хочет, да он от меня не берет…
Елизавета Петровна милостиво улыбнулась академику. Шувалов что-то шепнул императрице. На лице ее появилось выражение любопытства.
– Господин десьянс академик, вы, кажется, супругу и дочку свою от меня скрываете?
Елизавета Андреевна вскоре застыла в реверансе перед императрицей.
Елизавета Петровна кивнула:
– Нам весьма приятно видеть супругу господина Ломоносова.
Протянула руку для поцелуя, встала и пошла переодеваться для маскарада, который начинался после полуночи.
А в конце стола один глухой вельможа кричал в ухо другому:
– О чем просит – Анну[52] или чин?
– Кажется, статского…
Третий, сердитый старик, закашлялся.
– Ничего не просит. На что ему? Мужик – он и есть мужик!
Прошло пять лет. В жаркое летнее утро Елизавета Андреевна в халате, в туфлях на босу ногу вышла на крыльцо, прикрыв рукой глаза от солнца, посмотрела вдаль. За двором начинался сад, за садом – зеленая лужайка на берегу Канавки, стекавшей в Мойку. Ломоносов очень любил свой сад, сам сажал фруктовые деревья и ухаживал за ними. Елизавета Андреевна быстро пересекла двор, сад, вышла на лужайку. Стая белоснежных гусей неторопливо шествовала к воде. Две коровы, большие, гладкие, в бурых пятнах, узнав хозяйку, замычали, подняв морды.
Немножко выше, на пригорке, лежали овцы. Несколько ягнят сбежали вниз, стали тыкаться мокрыми теплыми губами в ее руки. Она стояла среди всего этого мычащего, блеющего, гогочущего животного царства, вдыхая запах травы, морской свежий ветерок.
Недалеко, в тени берез, Елизавета Андреевна увидела мужа. Он сидел в китайчатом простом халате, в туфлях, без парика и читал какие-то листки. Она подошла к нему. Он встал, обнял ее за талию, поцеловал, засмеялся…
– Ты послушай только, Лизонька, мне стихи один юноша из Московского университета прислал:
Трон кроткого царя, достойна алтарей, Был спло́чен из костей растерзанных зверей. В его правление любимцы и вельможи Сдирали без чинов с зверей невинных кожи… И, словом, так была юстиция строга, Что кто кого смога, так тот того в рога…Ломоносов захохотал от удовольствия.
– И далее… Нет, ты только вникни!
Ты хочешь дураков в России поубавить И хочешь убавлять ты их в такие дни, Когда со всех сторон стекаются они… Когда бы с дураков здесь пошлина сходила, Одна бы Франция казну обогатила.Ах, молодец, до чего талантлив!.. А? Значит, семена, брошенные мною, произрастают… Недавно наилучшие ученики гимназии при Московском университете представлялись мне и куратору Ивану Ивановичу Шувалову. Был среди них и автор сего стихотворения – весьма приятный и остроумный молодой человек Денис Фонвизин*. Рассказывал, что был в одном спектакле и действие, произведенное на него театром, описать невозможно.
Подумай только, Лизонька, каким великим источником просвещения и распространения наук в отечестве становится Московский университет. Ныне там не только все три факультета действуют, но и гимназия, библиотека, типография и книжная лавка. И при университете первая в Москве газета издается – «Московские ведомости». Все сие объединит не только учащееся российское юношество, но и тех сынов отечества из разночинцев и людей низкого звания, кои раньше к науке доступа не имели.
Иван Иванович Шувалов и в Казани предполагает гимназию открыть и там по причине соседства этого города с инородцами преподавать также восточные языки. А поелику дворянские дети не очень до учебы охочи, в нашу Санкт-Петербургскую гимназию, помимо разночинцев, разрешено также солдатских детей принимать. Да… пройдет десяток-другой лет, и, несмотря на многие препоны, расцветут в России и музы, и науки…
Рассуждая таким образом, Михайло Васильевич направился с женой в столовую завтракать.
Пришла Леночка, поцеловала отца. Глядя на нее, Ломоносов подумал о том, как она выросла за последние годы и что, пожалуй, он не совсем прав в своем оптимизме. Быстро летит время, да медленно идет дело. Многие его проекты о расширении наук и воспитания юношества еще и до сих пор оставлены без внимания и полезного употребления.
Эти мысли не оставляли его и в кабинете, когда он работал над корректурой доклада «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее».
А между тем, если бы человеку дано было видеть будущее, то Ломоносов узнал бы, что потомки именно его заботам о просвещении припишут появление в Екатерининскую эпоху целого ряда выдающихся русских людей и, в частности, Фонвизина, Державина* и Новико́ва*, вошедших в историю русской литературы.
Хотя встреча их с Ломоносовым тогда не могда состояться, ведь они были в то время почти детьми и Ломоносов знал только одного из них – Фонвизина, но можно представить, как она могла произойти, насколько глубоко ломоносовские идеи проникли в сознание последующих поколений.
В этот день Михайло Васильевич был особенно хорошо настроен. Выйдя из кабинета, отыскал в саду жену, обнял ее.
– Сегодня, Лизонька, наилучшие юноши мне и куратору Ивану Ивановичу Шувалову представляться будут, так что к полудню жди гостей.
Елизавета Андреевна взмахнула руками:
– Что же вы мне раньше не сказали! Как же так можно?
– Ничего, Лизонька, народ молодой, необидчивый, лишь бы еды да пива побольше.
Ломоносов, радостный, взволнованный, помогал накрывать на стол, хлопотал, суетился.
– Да морошечки нашей северной с сахаром: она кисленькая… Ах, Лизонька, да поставь ты рейнского, ну что уж тут жалеть!
И он все поглядывал в окошко, даже выбегал на крыльцо.
Первым пришел высокий полный студент, круглолицый, румяный, с ямочками на щеках и с пухлыми губами. Серый студенческий кафтан и плоская треуголка были как с иголочки, запах модных тогда духов «Киннамона» – петушьих ягод – разнесся по комнате. Он церемонно поклонился:
– Московский студент, ныне зачисленный в лейб-гвардии Семеновский полк сержантом, Денис Иванович Фонвизин.
– Ах, мой друг! – вскричал Ломоносов. – Читал стихи ваши. Поздравляю, друг мой, слышал я о вас, слышал!
Он повел гостя к столу.
– Вот, Лизонька, давеча я тебе стихи читал… Так вот наш Буало*!
Вошел высокий плечистый молодой человек с открытым, гордым и властным лицом, в мундире, треуголке, при шпаге, с толстой косой.
– Окончивший Казанскую гимназию, ныне Преображенского полка солдат Гавриил Романович Державин, – отрекомендовался он на пороге, поклонился, сел.
Вошел третий гость – среднего роста юноша с приятным застенчивым лицом и умными черными глазами, подошел к Елизавете Андреевне, потом к хозяину:
– Измайловского полка солдат и бывший воспитанник гимназии университетской Новиков Николай Иванович.
Ломоносов встал, посмотрел на них, глаза его затуманились.
– Счастлив я, что дожил до сего дня, когда вижу, что взошли семена на пашне моей, и хочется мне каждого из вас спросить: в чем видите свое призвание?
Фонвизин задумался, потом сказал:
– Более всего я ненавижу невежество среди дворян и о том думаю написать комедию… – Он запнулся и замолчал.
Затем заговорил Державин:
– И я стихи пишу, только иного, чем господин Фонвизин, направления. Думается мне, что долг поэта – за правду бороться против несправедливости, против всякого воровства и мздоимства, и чем в нашем государстве особа выше, тем и взыскиваться с нее больше до́лжно…
Новиков долго сидел потупив глаза, потом сказал:
– При открытии учрежденного вами первого в России Московского университета ученик ваш и наш профессор Николай Поповский сказал: «Представьте себе, что на вас обратила очи вся Россия, от вас ожидает того плода, которого от университета сего надеется. Покажите, что вы достойны того, чтобы через вас Россия прославления своего во всем свете надеялась». И тогда забилось мое сердце, и подумал я, как умножить сии великие плоды от древа науки, которое вы посадили своими руками в нашем любезном отечестве. Мнится мне, что великость духа украшена простотой и что все недостатки наши происходят от невежества. Посему думаю жизнь свою посвятить просвещению, сиречь[53] издавать, переводить и распространять книги, а также учредить школы для переводчиков и типографских рабочих.
Ломоносов задумался.
– Хочу сказать вам, что каждый из вас прав, только знайте, что превыше всего стоит любовь к Родине и путь ваш будет весьма тернист… Претерпите, преодолейте все через терпение и труд, и народ вас не забудет…
Ломоносов прошелся по комнате, со столика, стоявшего в углу, взял книжечку, любовно погладил ее рукой, потом остановился перед Новиковым.
– Мысли твои, Николай Иванович, весьма правильные. До сих пор дворяне простого звания людей к науке не подпускали да и сами учиться не хотели. А сейчас уже великое множество россиян разного звания проявляют любопытство к экономии и купечеству, рудокопным делам и мануфактуре, к архитектуре, музыке, живописи и другим художествам. Хотят знать россияне также о жизни и обычаях других стран. И посему добился я, чтобы академия начала издавать «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». В оных мы за правило приняли писать таким образом, чтобы всякий, какого бы кто звания или понятия ни был, мог разуметь излагаемые материи. Сие – начало, но я верю, что вскорости другие подобные издания появятся, пробуждая любовь и интерес к наукам и художествам в российском народе.
Державин встал.
– Михайло Васильевич, верьте, что мы всегда вас в своих сердцах носить будем и любовь нашу к вам передадим потомкам!
Ломоносов закрыл глаза, всхлипнул, вскочил, опрокинул стул, обнял Державина.
– Спасибо, голубчик!..
Ломоносов работал над корректурой не отрываясь. Кое-что выбросил, некоторые фразы написал заново, добиваясь наибольшей точности формулировок и ясности изложения. Он не терпел пустых, пышных фраз и длинных рассуждений и однажды записал для себя: «Те, кто пишет неясно, или невежды, обнаруживающие свое незнание, или люди нарочно, но неудачно скрывающие его. Они смутно пишут о том, что себе смутно представляют».
Новая теория Ломоносова о цветовом спектре явилась результатом его многолетних работ над эфиром и опытов по окраске стекол. Доклад «О теории цветов, подтвержденной физическими и химическими опытами» произнесен был в прошлом году на торжественном собрании в академии. Теперь, работая над текстом, Ломоносов вспоминал, не было ли чего упущено, и решил просмотреть лабораторный журнал. Но в это время шум во дворе отвлек его. Ломоносов встал, посмотрел в окно.
У подъезда остановились две кареты. Из первой вышел граф Петр Иванович Шувалов; адъютант поддерживал его за локоть. Отдуваясь, граф направился в дом.
Ломоносов крикнул слугу Прошку, велел подать фрукты, рейнского, бокалы. Едва тот скрылся, в дверях показался Петр Иванович – озабоченный, встревоженный, нетерпеливый. Несколько офицеров артиллерийского корпуса прибыли с ним. На пороге, не решаясь войти, стоял мастер Олонецкого завода Пермяков в картузе и поддевке*.
Пришла Елизавета Андреевна. Слуга поставил на круглый стол вино в ведерке со льдом, фрукты, бокалы.
Петр Иванович поклонился в сторону Елизаветы Андреевны, метнул шляпой, шаркнул ногой, потом шумно вздохнул, обвел всех круглыми, выпученными глазами.
– Господин десьянс академик, вследствие враждебных действий короля прусского Фридриха II русские войска перешли границу и вступили в Восточную Пруссию. Весьма сожалею, что вынужден отвлечь вас от ученых трудов к предмету, сейчас для нас более существенному… – Он рукой указал на офицеров и Пермякова.
Ломоносов взял бокал, повернулся к жене:
– Налей всем вина. Прежде всего выпьем за то, чтобы через сию навязанную нам Фридрихом войну государство наше возвысилось еще больше и чтобы весь мир узнал силу и величие народа русского!..
Весь свет чудовища страшится. Един лишь смело устремиться Российский может Геркулес. Един сто острых жал притупит. Един на сто голов наступит, Восставит вольность многих стран!Глава девятая ВЕНЕРА ЗАКРЫВАЕТ СОЛНЦЕ
Война* шла кое-как. Вначале генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин двинулся было в Восточную Пруссию.
В то время эта область со своим городом Кёнигсбергом была как бы дальним островком, заброшенным среди польских земель. Она входила в Прусское королевство, и, по мнению Фридриха, не здесь, а на полях Богемии, Саксонии и Силезии должна была определиться судьба войны.
Поэтому он счел достаточным оставить в Восточной Пруссии лишь отдельную армию под командованием фельдмаршала Ганса фон Левальда, в которую входил пехотный корпус в 30 тысяч человек, части легкой конницы и гусарские полки, возглавлявшиеся прославленными генералами фон Штейном, Манте́йфелем, Дона́ и Рюшем.
Фридрих надеялся на то, что союзники никогда не сумеют объединить своих действий; на то, что в русской армии хаос и беспорядок; что она плохо снабжена, перегружена обозами и не имеет опытных офицеров.
Наконец, Фридрих считал, что при том количестве шпионов, которым он располагал в России и в русской армии и особенно при «малом дворе» Петра Федоровича и Екатерины*, он всегда будет знать о предпринимаемых против него операциях и сможет своевременно принять нужные меры.
На случай возможного сражения с войсками Апраксина Фридрихом была прислана подробная инструкция фельдмаршалу фон Левальду, состоявшая из двух частей: первая называлась «Сражение», вторая – «Последствия его».
Фридрих настолько не сомневался в полном уничтожении русских войск, что вторая часть инструкции начиналась словами: «Русский генерал, видя свое поражение, пришлет парламентера, чтобы просить выдачи тел убитых и узнать число взятых в плен…»
Король оказался прав во всем, кроме главного.
Союзники действительно не в состоянии были согласовать свои действия, и Франция ограничилась тем, что прислала к Апраксину д’Эона, одного из своих второстепенных уполномоченных, который, увидев за столом у русского главнокомандующего штабного врача, человека огромного роста и необъятной толщины, съевшего на его глазах за завтраком пятьсот устриц, написал французскому двору: «Русская армия состоит из могучих великанов и старых вояк».
В своих расчетах на симпатии наследника престола Фридрих по своей наглости зашел настолько далеко, что в письмах к нему и Екатерине просил: если они не могут остановить движение русской армии, то по крайней мере пусть сообщат ему точные данные о плане будущей кампании и численности наступающих войск.
Верным оказалось также и то, что снабжение русской армии было плохим, а многие командиры были в военном отношении весьма неграмотны. К тому же многочисленные шпионы Фридриха внушали всем в армии и в тылу, что немцы непобедимы и воевать с Фридрихом II и его генералами бессмысленно.
И когда русские войска с огромным обозом, перейдя 7 и 8 мая 1757 года реку Прегель, двинулись к Кёнигсбергу и 19 мая остановились в Гросс-Егерсдорфском лесу, а наутро, выйдя из него на Норкиттенскую равнину, услышали неприятельских трубачей и увидели всю выстроившуюся прусскую армию, поднялась паника.
Пруссаки двинулись в атаку по всему фронту густыми колоннами, сопровождая ее сосредоточенным артиллерийским огнем, и в несколько минут наполовину уничтожили Нарвский и Гренадерский полки. Русские были отброшены к лесу в беспорядке, генерал Зыбин убит, генерал Лопухин, смертельно раненный, попал в плен, но был отбит русскими гренадерами.
Прусский главнокомандующий – генерал фон Левальд уже считал сражение выигранным и обдумывал, как обеспечить преследование русских в лесу, но в это время случилось нечто странное.
Из леса со штыками наперевес выскочили 3-й Гренадерский и Новгородский полки и ударили по пруссакам. Вслед за ними бросились еще четыре полка, стоявшие во второй линии. А затем вся русская армия вышла из леса, во главе со своими офицерами бросилась в штыковую атаку на врага и опрокинула его.
Фельдмаршал фон Левальд, потеряв двадцать девять пушек и половину солдат, вынужден был оставить поле сражения, открыв тем самым дорогу на Кёнигсберг.
Теперь Апраксину оставалось, войдя в Кёнигсберг, протянуть руку шведам в Померании и вместе с ними занять Берлин.
Но он и не подумал этого сделать. Постояв некоторое время на месте, он повернул назад, к Тильзиту, а через несколько недель окончательно отступил и перешел, к удивлению европейских правительств, напряженно следивших за его движением, назад через Неман, в Россию.
…Май в Санкт-Петербурге в 1761 году стоял сухой, знойный. В жаркий полдень в конце мая мало было народу на улицах. Изредка проносилась карета вельможи, гремя колесами по бревенчатой мостовой, или карьером пролетал офицер из Сената во дворец.
В двенадцать часов раздался пушечный выстрел.
Старые петровские вельможи, дремавшие в креслах в своих деревянных дворцах, оживились, застучали о пол тростями. Тотчас такие же старые денщики, в домотканых кафтанах, вынесли им «бомбардирскую» чарку водки и крендель с тмином.
На площадях стало гуще. Рабочие с пилами и топорами за поясом, матросы в коротких штанах и всякий бродячий люд стали толпиться вокруг торговцев студнем, пирогами, киселем и брагой у входа в царские кабаки.
Господа сенаторы, прервав заседание и отодвинув в сторону папки с делами, важно шествовали к выходу, обстоятельно обдумывая, чем бы подкрепиться в полдник.
Александр Иванович Шувалов, начальник Тайной разыскных дел канцелярии, самый страшный человек в империи, которого Фридрих прозвал «великим инквизитором», худой и пожелтевший, одиноко сидел во главе огромного стола в двухсветном столовом зале своего дворца и злыми серыми глазами смотрел на тафельдекера*, наливавшего из серебряной миски в чашку бульон из постной курицы. Тафельдекер был представительный мужчина с бритым обрюзгшим лицом и толстыми губами – обжора и пьяница. Его потихоньку все звали Гаврилкой, но вслух именовали Гавриилом Ивановичем.
Гаврилка, шевеля ноздрями и жадно вдыхая аромат, шедший из супника, с сожалением прикрыл его крышкой и молча поставил фарфоровую китайскую чашечку с бульоном и блюдо с подогретыми гренками перед Александром Ивановичем.
Тот отпил из чашки глоток бульона, пожевал гренок и посмотрел на Гаврилку.
Глупое лицо Гаврилки, круглое, как луна, с влажными двигающимися губами, ничего не выражало.
– Ну, что в народе поговаривают? А?
Гаврилка из вежливости несколько склонил голову набок.
– Поговаривают, ваше сиятельство, что их величество стали прихварывать и что их высочество Петр Федорович, как вступят на престол, так непременно прусские войска пустят прямо в Санкт-Петербург, как они сами родственники королю прусскому.
Начальник Тайной канцелярии, разумеется, сам очень хорошо знал, что говорят в городе. По части тайного розыска Россия в царствование Елизаветы Петровны стояла на такой высоте, что не только ни одна депеша иностранного посла не оставалась нерасшифрованной, но и не было ни одного письма хоть сколько-нибудь значительного частного лица в России, которое бы не прошло через руки агентов Тайной канцелярии. Однако Александр Иванович любил, принимая пишу, разговаривать, и так как он никогда никого не приглашал к завтраку, то единственным собеседником его был Гаврилка.
– М-м… Ну а ты как думаешь, Гавриил Иванович?
Гаврилка с тоской взглянул на миску: унести остатки супа на кухню и съесть, пока он не остыл, не представлялось возможным.
– Я, ваше сиятельство, думаю, что так оно, наверное, и будет.
В глазах Александра Ивановича мелькнули огоньки.
– Ну-ну, дурак, пошел вон! Подавай второе!
Гаврилка исчез с миской в руках так быстро, будто растворился в воздухе.
Александр Иванович поджал губы, задумался. Он вспомнил, как он сам ездил в Ригу допрашивать фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина.
Едучи к нему, Шувалов уже знал всё. Он знал, что на другой же день после победы под Эгерсдорфом Апраксин получил от Петра Федоровича письмо, в котором великий князь, сообщая ему о тяжелом сердечном приступе у Елизаветы Петровны, рекомендовал не идти дальше, так как он, Петр Федорович, вступив на престол, немедленно отзовет все войска назад, в Россию. Он знал, что Апраксин сутки ждал вестей из России и действительно узнал от прибывшего на другой день из Петербурга фельдъегеря, что с Елизаветой Петровной случился обморок в церкви, длившийся около восьми часов.
И тогда он отступил к Тильзиту. В Тильзите он получил с другим курьером письмо от великого канцлера – графа Алексея Петровича Бестужева, где говорилось, что «нынешний полити́к есть временный» и что «ввиду болезни известной Вам персоны следует свои действия сообразовать с видами на будущее». После этого Апраксин увел войска за Неман, к полному изумлению разбитых им пруссаков.
Быстро оправившись после болезни, Елизавета Петровна вызвала к себе Александра Ивановича Шувалова.
Он обрадовался, увидев ее. В последние годы ленивая в обыденной жизни, обрюзгшая и постаревшая, она переродилась под влиянием опасности. Казалось, узнав обо всем, она помолодела на двадцать лет. Таково было свойство дочери Петра: в критические минуты бешеная гневность отца и его несокрушимая воля вселялись в ее душу.
Она приняла его в кабинете, расхаживая большими шагами из угла в угол.
– Вот что, Александр Иванович, – сказала она. – Петр Великий, когда нужно было спасти государство, сразу казнил десять тысяч стрельцов. Мы повесим десять человек, но самых главных, – этого будет достаточно. Ты поедешь к Апраксину. – Она подошла и своей сильной красивой рукой схватила Шувалова за кружевной галстук. – Пущай скажет, кто его научил торговать кровью русских солдат. Не скажет – вздернешь его на дыбу… Потом возьмешься за великого канцлера, который уже все иностранные дворы взятками обобрал. С моими лейб-кумпанцами произведешь у него ревизию и ночью – в возок и в Сибирь на поселение… Что же касаемо этой прусской скотины на «малом дворе» – Петра Федоровича, что целый день хлещет пиво и поет песни во Фридрихову честь, поедешь туда и сделай так, чтобы там тишина была, как в монастыре… И слышать не хочу, что есть такой «малый двор». А Екатерине Алексеевне скажешь, что и не такие персоны ездили в Соловецкий монастырь на поклонение.
Она перекрестила его, поцеловала, повернула к себе спиной и вытолкнула за дверь…
Александр Иванович Шувалов задумался. Дело было такое, что могло стоить головы. Конечно, императрица Елизавета Петровна, дай ей Бог многая лета, самодержица и может карать и миловать. Конечно, и Апраксин, и Бестужев, и даже великий князь Петр Федорович затеяли воровское дело – явную измену. Будь сие при Петре Великом, не миновать бы им дыбы! Ну хорошо. А если завтра с императрицей опять случится обморок и она уже не встанет, а почиет в бозе[54], что тогда? Тогда вступит Петр Федорович на престол, и что с ним, Шуваловым, будет? При прежних переменах бывало, что и не такой вельможа, как Александр Иванович Шувалов, усаживался в возок, оглядываясь на наступавших ему на пятки конвоиров, чтобы уехать в ссылку навечно в какой-нибудь Пустозерск или Сольвычегодск!
От этих мыслей стал Александр Иванович худеть и желтеть и велел вызвать к себе лейб-медика Елизаветы Петровны – англичанина Якова Мунсея.
Яков Мунсей был цветущий мужчина несокрушимого здоровья и, несмотря на свой 60-летний возраст, удивлял всех придворных тем, что выпивал по 20 бутылок шампанского кряду.
Усадив Якова Мунсея в своей спальне в кресла и напоив шампанским до «синего дыма», начал Александр Иванович осторожный разговор:
– Денно и нощно моля Бога о здравии нашей всемилостивейшей императрицы, хотелось бы знать: не может ли повториться имевший место прискорбный случай?
Яков Мунсей посмотрел на него веселыми, игривыми глазами пьяницы и поднял толстый палец.
– Господин Бог один может отвечайт на ваш вопрос.
«Ох хитер, ох хитер! – подумал Александр Иванович. – От такого много не узнаешь».
– Однако, – продолжал Мунсей, – последние дни ее величество весьма бодрый дух имеет и даже намерена лично посетить Сенат…
«Надо ехать в Ригу, – решил Александр Иванович, хорошо зная характер дочери Петра. – Завтра же, без промедления…»
И на другой день, захватив двух офицеров Тайной канцелярии, он, меняя на всех станциях лошадей, помчался в главную квартиру главнокомандующего генерал-фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина, в Ригу.
Главная квартира главнокомандующего помещалась в старинном рижском замке.
Даже привыкший к роскоши Версальского двора французский посол – маркиз де Лопиталь был поражен пышностью, которая окружала русского главнокомандующего, и его огромной свитой, в которую входило много приехавших из Петербурга придворных дам и адъютантов. Штабные офицеры, лекари, интенданты и чиновники разных ведомств заполнили Ригу.
Обеды, которые ежедневно давал главнокомандующий, приглашая гостей по особым спискам, длились по нескольку часов.
Александр Иванович Шувалов, еще более похудевший за дорогу, молча отстранил офицера, помогавшего ему вылезти из возка, и по длинной лестнице, устланной коврами, как был, в дорожном плаще и пыльных сапогах, прошел в приемный зал и оттуда в столовую. Был час обеда.
На хо́рах огромного зала солдатский оркестр играл на роговых инструментах. Пламя свечей в огромных люстрах, свисавших с потолка, отражаясь в хрустале подвесок, освещало матовые плечи женщин и расшитые золотом и серебром мундиры штаб-офицеров.
Во главе стола сидел Степан Федорович Апраксин, с добродушной усмешкой поглядывая на гостей.
Когда Александр Иванович появился в дверях, все головы повернулись в его сторону. В наступившей тишине было слышно, как кто-то уронил бокал. Апраксин побледнел, встал и пошел к нему навстречу.
– Добро пожаловать, Александр Иванович, – сказал он вполголоса.
Шувалов ничего не ответил.
Они оба вышли из зала, и перед дверями своего кабинета Апраксин увидел чужих офицеров с обнаженными шпагами.
– Александр Иванович, что сие значит? – спросил фельдмаршал, когда они сели в кресла. – Вы поставили караульных офицеров у моих дверей. Должен ли я себя считать под арестом и где на сей предмет именное высочайшее повеление?
– Сие значит, господин фельдмаршал, что я позаботился о том, чтобы сюда никто не входил. Имеется именное повеление узнать у вас: почему после столь славной виктории, которая не только Тильзит и Кёнигсберг в ваши руки передала, но и дорогу на Берлин открыла, вы бросили территорию Пруссии и отступили назад, в Россию?
Апраксин откинулся в кресле, задумался, закрыл глаза, потом сказал нетвердо:
– В рапорте на имя военной коллегии причины ретирады* поименованы: недостаток провианта, отсутствие лошадей для обоза, великое множество – до 15 тысяч – больных и раненых воинов…
Шувалов усмехнулся:
– Ее величеству рапорт был доложен! Она приказала его читать вслух детям в шляхетском корпусе для забавы. Всему миру известно, что жители Пруссии, являясь к вам со всех сторон, приносили присягу на верность и охотно отдавали продовольствие, коего было в стране более чем достаточно, также и лошадей. Что же касаемо раненых и больных солдат, то ее величество повелела отправить их в Россию для размещения в монастырских госпиталях.
Апраксин нахмурился.
– Больше я вам ничего сказать не могу…
Шувалов вскочил, заходил по кабинету, вдруг круто остановился:
– Не извольте шутить с огнем, ваше высокопревосходительство!
Фельдмаршал только пожал плечами в ответ.
Шувалов перестал ходить, снова сел в кресло.
Минута молчания тянулась, как вечность.
– Степан Федорович, – сказал начальник Тайной канцелярии неожиданно тихим и нежным голосом, как будто речь шла о небольшой просьбе, – отдайте мне два письма…
У Апраксина лицо пошло красными пятнами.
– Не понимаю, ваше сиятельство, о каких письмах идет речь?
Шувалов поднял на него мутные серые глаза.
– Первое письмо, которое вы, ваше высокопревосходительство, получили от его высочества великого князя Петра Федоровича, а второе – от великого канцлера графа Бестужева.
Апраксин, огромный, побагровевший, задыхающийся, сжав кулаки, подошел к Шувалову вплотную:
– Ну а если у меня их нет?
Шувалов посмотрел вбок.
– Имейте в виду, Степан Федорович, что я меньше трех дней на дыбе не держу.
Апраксин бросился вперед, вскрикнул, упал…
Когда в кабинет вбежали адъютанты и штабные офицеры, они увидели главнокомандующего, лежавшего на полу, – голова его дергалась, изо рта шла пена, – и Александра Ивановича Шувалова, равнодушно смотревшего в окно.
Главный штабной лекарь установил, что генерал-фельдмаршал потерял сознание.
После возвращения Александра Ивановича Шувалова в Санкт-Петербург Елизавета Петровна немедленно назначила в один и тот же день две конференции своих министров.
Канцлер Бестужев, чувствовавший, что над ним сгущаются тучи, не приехал на первую из них. Императрица приказала ему прибыть на вторую.
Когда он шел через проходные апартаменты в кабинет Елизаветы Петровны, в одной из комнат его встретил маршал двора – князь Трубецкой, который, грубо сорвав с него Андреевскую ленту*, объявил ему об аресте. Бестужев был посажен в карету и под охраной гвардейцев доставлен домой.
Дом его был окружен усиленным караулом. В своем кабинете Бестужев увидел начальника Тайной канцелярии, не спеша просматривавшего его бумаги.
– Неосторожно, неосторожно… – сказал Александр Иванович Шувалов, покачивая головой и показывая великому канцлеру клочки разорванного письма, найденного им в корзине для бумаг. – А я-то это письмишко ищу да ищу… Вы его в клочки разорвали, а я сижу и склеиваю…
В эту же ночь великий канцлер, покряхтывая, уселся в возок и отбыл в ссылку, а иностранным послам была разослана нота за подписью нового министра иностранных дел – Воронцова, в которой указывалось, что великий канцлер лишен чинов и звания и сослан «за преступное сообщничество с великой княгиней Екатериной Алексеевной в интриге, имевшей целью парализовать движение русских войск, направленных против Фридриха Прусского».
Главнокомандующим русской армии был назначен генерал граф Фермер. Он снова вступил в Тильзит, а оттуда в Кёнигсберг, который и занял прочно.
После своего скупого и грубого короля, который только и знал, что драть деньги на армию и его наемников солдат, которые вели себя как разбойники, кёнигсбержцы увидели пышный двор генерал-губернатора Восточной Пруссии – графа Фермера, который устраивал для горожан роскошные балы и обеды, даже и не думая взимать никаких налогов. Русские офицеры и отдаленно не походили на вечно голодных, всегда полупьяных и нуждающихся в деньгах офицеров-пруссаков. Они прекрасно говорили по-французски, принадлежали к богатым семьям, имели много слуг, привыкли к тонким винам, хорошей сервировке и женскому обществу.
Русские не жалели денег, и привычки были у них не те, что у офицеров Фридриха. Если уж зайдут что-нибудь покупать в лавку, то скупают сразу все, что под руку попадет, не торгуясь.
Зайдут в трактир – так уж до утра, пока всего не съедят и не выпьют, так что хозяин и сам потом не знает, где достать для себя кружку пива.
Притом делали русские все весьма основательно. Сначала выстроили православную церковь, потом монастырь, потом стали чеканить хорошую серебряную монету, и благоразумные кёнигсбержцы в 1760 году решили отправить к императрице Елизавете, которая правила где-то далеко, в Петербурге, никого не трогая, делегацию – благодарить за милостивое правление и просить включить Кёнигсбергскую область в состав Российской империи.
Несмотря, однако, на все Фридриховы неудачи, Александр Иванович Шувалов очень хорошо понимал, что дела вовсе не так хороши, как кажется.
Странные обмороки у Елизаветы Петровны стали повторяться все чаще, а в промежутках между ними она закрывалась в спальне, не интересуясь ни делами, ни войной. Все меньше оставалось вокруг нее людей, и придворные, как крысы с тонущего корабля, понемногу переходили с «большого двора» на «малый».
Петр Федорович, прикусивший было язык, опять начал болтать что попало, и затихшие ранее немцы снова зашевелились, начиная со штаба главнокомандующего и кончая Академией наук.
Надо было либо сразу, по-петровски, сокрушить врагов в тылу и продолжать войну, либо махнуть на нее рукой и ждать: что будет, то будет…
И теперь, обсасывая куриное крылышко, начальник Тайной канцелярии только вздыхал, пугая мрачными взглядами подававших к столу слуг.
Закончив свой скудный завтрак, надев ленту и мундир со звездой, поехал Александр Иванович во дворец.
Огромный дворец был погружен в унылую тишину, как дом, в котором еще нет покойника, но все готово для того, чтобы проводить хозяина в последний путь. Печальные лица слуг и редко попадавшихся придворных, удручающая пустота когда-то заполненных веселой толпой залов заставила Александра Ивановича помрачнеть еще более.
В малой гостиной, что расположена была между личным кабинетом и спальней Елизаветы Петровны, он встретил Якова Мунсея, очевидно только что бывшего у императрицы.
Лейб-медик улыбнулся во весь рот, и вокруг глаз его залучились веселые, лукавые морщинки.
– О, господин граф! Мы сегодня чувствуем себя совсем хорошо и даже примеряли новое платье… – И, подмигнув, Мунсей наклонился к уху Александра Ивановича: – В лондонских газетах пишут, что пока три самые красивые женщины в Европе – ее величество самодержица всероссийская, императрица Мария Терезия* и маркиза Помпадур* – ведут войну против Фридриха, она никогда не кончится. – Он ткнул начальника Тайной канцелярии в бок. – Другое дело, если бы воевали мы, мужчины. Мы бы быстро закончили войну, стали пить пунш и сами бы ухаживали за красивыми женщинами… Ха! – И веселый лейб-медик зашагал дальше.
Из дверей спальни вышел Василий Иванович Чулков, выслужившийся из истопников до камергера, генерал-лейтенанта и кавалера ордена Святого Александра Невского. Это был высокий старик с открытым лицом, в генеральском мундире, с лентой через плечо.
Обязанности его заключались в том, чтобы охранять ночной покой императрицы. Каждый вечер с матрацем и двумя подушками Чулков появлялся в императорской спальне и стелил себе постель на полу, рядом с альковом Елизаветы Петровны. Будучи одним из немногих неподкупных придворных, он обладал очень прямым, необузданным и резким характером.
Императрица засыпала только на рассвете, и Чулков был постоянным слушателем бесконечных сплетен окружавших ее статс-дам, совмещавших эту должность с обязанностью чесальщиц пяток. Они старались, чтобы до ушей Елизаветы Петровны дошли наиболее пикантные новости.
Некоторые из них, такие, как, например, Анна Скавронская – жена великого канцлера Воронцова – и Мавра Егоровна Шувалова-Шепелева, пользовались большой благосклонностью императрицы. Это не мешало Чулкову ночью вскакивать со своего матраца и останавливать дам на самом интересном месте рассказа окриком: «Довольно врать-то! Эка подлость! Только и знаете, что наводить на честных людей напраслину!»
Иногда Елизавета Петровна вставала раньше своего стража и будила «Иваныча», вытаскивая из-под него подушки и матрац. Тогда он вскакивал и, зевая и похлопывая ее по плечам или спине, ворчал: «Ну вот ты уже и встала, лебедушка, никогда не дашь старику поспать!»
Василий Иванович подхватил начальника Тайной канцелярии под руку.
– Второй раз за вами посылает – только вас и ждут.
Хотя за долголетнюю свою службу Александру Ивановичу приходилось видеть Елизавету Петровну в разной обстановке и в разном настроении, он, как и все, кому приходилось иметь с ней дело, каждый раз не мог не испытывать чувства восхищения, которое она вызывала у окружающих своим обаянием и простотой обращения.
И теперь – в простом кружевном чепце и пестреньком халате, побледневшая и осунувшаяся, но еще сохранившая поразительную белизну кожи и нежно-матовый цвет лица, Елизавета Петровна казалась воплощением женственности.
Она подняла на него прекрасные карие глаза, вздохнула и, стараясь сдержать волнение, невольно сжала в руке батистовый платок.
– Ну вот, Александр Иванович, теперь все свои здесь.
В комнате в креслах сидели Иван Иванович и Петр Иванович Шуваловы, Алексей Григорьевич Разумовский и духовник императрицы, Федор Яковлевич Дубянский.
Елизавета Петровна оглядела всех и слегка откинулась на подушки большого вольтеровского кресла*.
– Решила я воевать с немцами до последнего рубля и до последнего солдата. Фридрих – этот Надир, прусский шах*, – воочию доказал, на какие подлости он способен. Недаром после каждой нашей виктории жители приходят, от короля своего отрекаются, присягу нам приносят, в подданство принять просят. – Она в волнении встала, заходила по комнате. – Нет, я ему сего не прощу! – Походила, задумалась. – Конечно, будь бы батюшка жив, не то бы было. Одного фельдмаршала за измену удалила, теперь другой в Кёнигсберге засел – палкой его оттуда в поход не выгонишь. Все повеления без исполнения, главное место без уважения, справедливость без защищения – вот какие дела… Ну, Александр Иванович, на «малом дворе» что?
Начальник Тайной канцелярии расстегнул мундир, вынул из внутреннего кармана листки, стал читать:
– «Вчера на куртаге* при всех великий князь Петр Федорович заявил: „Король Прусский – великий волшебник: он всегда знает заранее наши планы кампании“, – засмеялся и глянул на Волкова». Сей последний служит посредником между ними и Фридрихом Прусским, – добавил Александр Иванович.
Елизавета Петровна стала краснеть, слегка задыхаться.
– Ну вот, сей голштин-готторпский* принц должен был наследовать шведский престол. Судьбе угодно было сделать его наследником нашим. Внук наш Павел – совсем дитя, не хотели бы мы после смерти нашей ввергать Россию в междуцарствие. Но можно ли терпеть изменника, который не любит ни народа русского, ни нового своего Отечества? – Повернулась к Дубянскому: – Ну, что скажешь, отец?
Дубянский задумался, погладил бороду, тихо сказал:
– Кому много дано от власти, дабы он служил народу своему и Отечеству, и кто, потеряв честь и совесть, предался врагам, тот не будет пощады иметь ни в земной жизни, ни в Царствии Небесном. И ты, дочь Петра, помни, что житие человеческое недолговечно, будь тверда и честна, дабы предстать перед Господом Богом с чистой душой…
Он благословил ее, осенив широким крестом.
Императрица опустила голову, задумалась. Все молчали. Потом она встала с кресла, подошла к Александру Ивановичу.
– Ну что же вы все смолкли? Чай, я еще не умерла… Докладывай дальше, что знаешь…
Александр Иванович вздохнул, стал перебирать листки.
– Среди многих Фридриховых шпионов в нашей армии главный есть – генерал Тотлебен…
Петр Иванович Шувалов воскликнул:
– Что?! Сие возможно ли?
Дубянский осенил себя крестом, Иван Иванович Шувалов схватился за голову.
Елизавета Петровна вскрикнула, упала в кресло. Разумовский подбежал к ней, потом схватил флакон с солью. Она понюхала, оглядела всех непонимающими глазами, приподнялась.
– Ну, говори все до конца… Не тяни…
Разумовский погладил ее по руке:
– Лизонька, будь ласка, не волнуйся.
Александр Иванович продолжал читать своим ровным, бесстрастным голосом:
– «Генерал Тотлебен собственноручно пишет рапорты Фридриху II обо всех операциях русской армии, о предполагаемых планах и приказах. Оные рапорты пересылаются через украинского еврея Забодко в прусскую главную квартиру».
Елизавета Петровна спросила:
– А ты чего смотришь?
Начальник Тайной канцелярии поднял на нее свои мутные глаза.
– Да, ваше величество, смотрю, и посему с каждого сего рапорта копии снимаются и подшиваются к делу за нумером. Каждому овощу – свое время. Поспешишь – одних людей насмешишь, а других спугнешь…
– Ну а дальше что?
– По плану Тайной канцелярии, перед тем как ваше величество подпишет приказ о наступлении, подлежит аресту и преданию суду за измену 121 человек, из них подлого звания только трое, и те не русские.
Елизавета Петровна вдруг схватила платок, прижала к глазам, потом заплакала громко, навзрыд, как плачут простые бабы. Вытерла глаза, сказала сквозь слезы:
– Вот простой русский народ в нищете, в беспризорности, а отечества своего не предает… А какая о нем забота?.. Соли и той нет…
Повернулась к Петру Ивановичу.
– Сейчас же составь указ: соляной налог отменить вовсе. Триста тысяч серебром, что графу Растреллию отложено на постройку нового дворца, раздашь мелким людям, что в сем году от пожаров пострадали… – Она постучала о ручку кресла: – Да смотри не укради, а то я с тебя, вот те крест, шкуру сниму! А ты, Иван Иванович, составь указ, чтобы колодников всех и беглых людей из тюрем освободили, окромя человекоубийцев. – Она задумалась. – А что, говорят, в этом месяце солнцу затмение будет и будто есть такая планета Венус[55], которая его совсем закроет?.. Ты как думаешь, Иван Иванович, сие возможно ли?..
Иван Иванович улыбнулся.
– Науки доказывают, что, согласно астрономическим умозрениям, планеты свое хождение имеют и, проходя между Землей и Солнцем, оное частично закрывают.
Елизавета Петровна с недоверием покачала головой:
– Сумнительно что-то! Почему же оная Венус до сих пор там не проходила? – Повернулась к Дубянскому: – А ты как, отец, думаешь: не может ли быть от сего светопреставления?
Дубянский погладил бороду.
– Конечно, все в руце Божией. И всякие земли трясения, и другие бедствия – засуха и наводнения, однако же в Священном Писании нигде о том не упоминается. Бог милостив, ваше величество…
Елизавета Петровна несколько успокоилась.
– Ну ладно, Бог Богом, а пущай Тайная канцелярия тоже смотрит, не будет ли от этого каких беспорядков и в городе воровства.
Она встала, подошла к окну, загляделась на Неву, на залитые вдали солнцем деревья, на зеленеющие сады…
– На натуру бы поехать, на траве поспать, в речке искупаться. Ты, Иваныч, вели-ка свежего сена мне в спальню принести и разбросать, чтобы пахло.
Обернулась ко всем, улыбнулась красивым ртом, сверкнула карими глазами.
– Как я хворать стала, теперь сама на кухне не готовлю. Думаю, пущай главный повар Фукс сам моих друзей угощает. Недаром он у меня бригадир* и восемьсот рублей жалованья получает. Так что, кто хочет завтракать, идите в столовую, а я немного прилягу… – И она кивком отпустила всех, кроме Разумовского.
Когда Александр Иванович Шувалов вышел из малой столовой, где для приличия отведал блюда, изготовленные великим кулинаром Фуксом, изумлявшим Петербург чудесами французской кухни, и пошел к выходу через анфиладу дворцовых покоев, все взоры обратились на него.
Длительные, хотя и редкие беседы начальника Тайной канцелярии с императрицей всегда приводили к неожиданным и иногда потрясавшим до основания всю столицу последствиям.
Хотя Тайная канцелярия занималась главным образом борьбой со шпионажем и происками иностранцев, в нее, однако, поступало любое дело, относившееся к государственной безопасности. По еще допетровской традиции, достаточно было сказать: «Слово и дело Государево!», чтобы и человек, сказавший эту фразу, и тот, на кого он доносил, попали в Тайную канцелярию. Методы допроса и наказания в ту эпоху отличались дикой жестокостью.
Когда Елизавета Петровна предложила Сенату издать указ о том, чтобы малолетние до 17 лет совсем были освобождены от пытки, Святейший синод восстал против этого, доказывая, что, по учению святых отцов, малолетство считается только до 12 лет.
Еще все помнили, как на эшафоте перед палачом стояла Головкина – жена брата бывшего канцлера Бестужева. Избитая кнутом палача, отрезавшего ей язык, она была снята с помоста, и ее отправили в далекую ссылку, в Якутск.
После нее место на эшафоте заняла первая красавица Петербурга – Лопухина. Она стала отчаянно отбиваться, ударила палача и вцепилась зубами в его руку. Он сдавил ей горло и заставил выпустить свою руку, а через минуту уже протягивал толпе кусок окровавленного мяса, крича: «Не нужен ли кому язык? Дешево продам!»
В ответ не раздалось ни одного возгласа: толпа молчала.
Лопухина потеряла сознание, ее бросили в сани, прикрыв рогожей, и отправили в Сибирь.
Обе женщины были обвинены в сношениях с австрийским посланником – маркизом де Ботта д’Адорно, который хотел организовать заговор в пользу Иоанна Антоновича.
Все знали, что Елизавета Петровна не утвердила ни одного из 3579 смертных приговоров, вынесенных в течение ее царствования преступникам из простого народа. Это, однако, нисколько не мешало ей считать вполне естественным, что помещики вправе распоряжаться своими крестьянами как угодно.
В 1760 году Сенат предоставил помещикам право без суда ссылать своих крепостных на поселение. Елизавета Петровна утвердила этот закон с тем же ленивым безразличием, с каким она относилась ко многим важнейшим законопроектам. Но в ней просыпалась отцовская ненависть к придворным, уличенным в предательстве и измене.
И теперь многие из придворных, попадавшихся навстречу Александру Ивановичу, с беспокойством вглядывались в его лицо.
Но лицо его ничего не выражало. Землисто-желтоватое, худое, с мутными серыми глазами, оно отражало только скуку и безразличие – чувства человека с плохим пищеварением и аппетитом, не имевшего никаких страстей.
Он вышел на подъезд, не обращая внимания на вытягивавшихся перед ним караульных офицеров. Подлетела карета, из нее выскочил офицер Тайной канцелярии. Александр Иванович что-то шепотом сказал ему, сел в карету. Дверцы захлопнулись, лошади понеслись…
Карета пронеслась на Мойку и остановилась перед домом Ломоносова.
Александр Иванович, в сером плаще и серой же треуголке, тихо открыл калитку и медленной походкой человека, который не производит шума и не оставляет следов, пошел по аллее в сад. Он дошел до большой беседки и остановился, немного наклонив голову набок и прислушиваясь.
В беседке он увидел Михаила Васильевича Ломоносова в халате, туфлях и колпаке с кисточкой. Десьянс академик ходил из угла в угол, иногда останавливаясь перед столом. На столе среди бумаг, книг и инструментов стояли остывший обед и миска с огурцами и квашеной капустой. Михаил Васильевич продолжал ходить, что-то бормоча про себя, чем-то весьма расстроенный.
Александр Иванович вышел из тени деревьев и появился на пороге беседки. Ломоносов взглянул на него, кивнул ему, как будто нисколько не удивившись его появлению, и, занятый своими мыслями, продолжал шагать, но вдруг вспомнил про начальника Тайной канцелярии и, указав ему жестом на стол, пробормотал:
– Не угодно ли пообедать со мной? Могу приказать подать шти горячие, еще есть говядина отварная с хреном, кисель…
Александр Иванович пожевал губами.
– Благодарствую – только что кушал на завтраке во дворце отменные французские блюда…
Первый академик вскинул на него глаза.
– Отменные?.. Не думаю! Что может быть здоровее и вкуснее простой русской пищи! А на завтраках этих больше шампанское пьют да трюфелями заедают. А отчего сие? От слепого преклонения перед всем иностранным. Другой дурак-недоросль еще вчера, кроме своей матери-помещицы, дьячка да сенных девок, ничего и не видел, грамоты азов не знает, а сегодня ходит во французских кружевах, шампанское пьет, устерсы и трюфеля жрет. А ведомо ли вам, сударь, что лучше нашей квашеной капусты и малосольных огурцов ничего нет, что Петр Великий хвойный настой и капусту за границу отправлял и продавал и оными голландские и английские моряки от цинги лечились? То же и в отношении одежды. Человеку надобно иметь одежду удобную, добротную, красивую. А молодежь дворянская более парижским петиметрам* подражать старается: обувь узкая, панталоны узкие, камзолы и кафтаны в обтяжку и самых ярких цветов. И ходит такой глупый фазан, думая, что его за иностранца примут, а каждому видно, что он чистый и бесполезный дурак… Неспроста сказано: «Когда платье в сундуке, дурак на руке».
Александр Иванович огляделся, нашел стул, сел.
– Не хотел бы я мешать вам в ваших занятиях, однако…
Михаил Васильевич махнул рукой, остановился.
– Занятия мои такие: хожу и удивляюсь, смотрю и глазам не верю. Глядишь на какого-нибудь человека – он весь в орденах, с лентой через плечо. Спрашиваешь: через какие баталии или великие дела прославлен? Ответствуют: не через дела или баталии, а через Петра Ивановича, к особе коего, как поганый гриб к гнилому пню, присосался. Приходишь в какую канцелярию: утром начальника нет, еще не прибыл, в полдник он завтракает, часа через два уехал, потом обедает – и поминай как звали, только его и видели! Делам движения нет. Пока бумага какая свое решение получит, податель оной состарится или вовсе помрет…
Он подошел к Шувалову, все больше возбуждаясь и краснея. Видимо, все то, что он переживал в глубине души, теперь наконец прорвалось и он уже больше не мог сдерживать себя.
– Нельзя страной управлять, оную не зная. И вот задумал я подробный атлас географический Российской империи составить, для чего просил Сенат послать по всем городам предписания, в коих запрошено: на какой реке или каком озере город стоит, сколько в нем домов и жителей, какие бывают ярмарки и погоды, а также какие местные ремесла, промыслы и художества жителей. Думал я, сударь, экономическую ландкарту также составить…
– Ну и что же?
Ломоносов махнул рукой.
– И посейчас всё пишут и ждут ответа. А можете ли вы мне разъяснить, почему маленький человек, рядовой россиянин, который по природной живости ума честно Отечеству послужить хочет, ходу нигде не имеет?..
Он подбежал к столу, начал рыться в бумагах.
– Известно ли вам, господин начальник Тайной канцелярии, что крестьянин Иранского уезда Казанской губернии – Леонтий Шамшуренков изобрел снаряд, при помощи коего легко поднимались на большую высоту самые великие церковные колокола? Модель оного изобретения официально была утверждена Артиллерийской конторой. Видя злоупотребления властей местных, кои торговали краденым спиртом, написал сей крестьянин Шамшуренков заявление о них в Сенат. Узнав об этом, местный воевода взял его под караул и направил в тюрьму. Но и сидя в оной тюрьме, продолжал Шамшуренков трудиться. И ведомо ли вам, что он изобрел? Карету без лошадей, которая сама летом на колесах ходит. В 1751 году Сенат, его освободив, выдал ему на постройку сего механизма семьдесят три рубля пять копеек и харчевых денег семнадцать рублей с полтиной… Сия самоходная карета не токмо большие расстояния пробежала и на самые крутые подъемы взбиралась, но и могла бы иметь от колес своих приводной счетчик, который на каждой версте бы звонил и до тысячи верст расстояние отмечал… А ведомо ли вам, где сей Шамшуренков?
Александр Иванович пожал плечами.
– Неведомо…
– Сенат оное изобретение одобрил и ассигновал ему еще сто рублей, но он вскорости заболел и умер от грудной болезни. И все сие оттого, что господа дворяне сами учиться не хотят, а людей другого звания к науке не подпускают, так что простой человек не знает, как за нее и ухватиться…
Александр Иванович вздохнул, покрутил головой.
– Господин десьянс академик, имея к наукам приватный интерес, хотел бы я знать мнение ваше касательно имеющего в сем месяце быть солнечного затмения планетой Венус?
Ломоносов улыбнулся.
– Вижу я, что сия планета у Тайной канцелярии в подозрении. Установив точное время, которое требуется планете Венус для прохождения через солнечный диск, и сделав разные другие наблюдения, можно вычислить расстояние между Солнцем и Землей. Для сего оное прохождение надо наблюдать из различных точек земного шара… Вопрос сей сегодня будет обсуждаться в конференции…
Александр Иванович встал, поклонился.
– Благодарствую. В Сенат ехать пора. Не отказали бы вы в любезности, сударь, журнал сей конференции мне завезти с указанием, сколько времени затмение продолжаться может?
Начальник Тайной канцелярии снял шляпу, лениво помахал ею, пошел к выходу…
Ломоносов задумался в нерешительности, потом крикнул ему вслед:
– Ваше сиятельство!..
Шувалов обернулся.
– Могу я задать вашему сиятельству один вопрос?
Шувалов приостановился.
Ломоносов зло спросил:
– В течение нескольких лет тянется организация артиллерийского корпуса, для которого пушки заготовляются на Олонецком оружейном заводе и апробации на Выборгской стороне производятся. Русские инвенторы великую остроту мысли в сем деле проявили…
У Александра Ивановича странно сверкнули глаза, жестом он остановил десьянс академика:
– Не беспокойтесь, господин Ломоносов, скоро ваши пушки заговорят… – и пошел к выходу своей медленной и неслышной походкой.
Пробыв недолго в Сенате, где сенаторы, почесывая затылки под париками, лениво слушали какое-то скучное дело, Александр Иванович поехал к двоюродному брату, Ивану Ивановичу Шувалову.
Иван Иванович – завитой, розовый, душистый, с ямочками на полных щеках и сияющими жизнерадостными глазами, в роскошном халате на пуху из сибирских гусей – сидел в кресле и рассматривал в увеличительное стекло миниатюру Каравака*, где Елизавета Петровна была изображена в образе юной Венеры*, держащей зеркало в руках.
– Изумительно! – сказал Иван Иванович, отведя стекло. – До чего хороша…
Александр Иванович равнодушно взглянул на миниатюру, на цветущего кузена и желчно добавил:
– Была хороша…
Иван Иванович, вздрогнув, вскочил.
– Ты хочешь сказать…
Александр Иванович поморщился:
– Да нет. Хочу сказать, друг мой, что сия блистательная жизнь уже вся в прошлом. Во вчерашней депеше пишет маркиз Лопиталь герцогу Шуазелю: «Вероятно, после смерти Елизаветы Петровны на престол вступит Петр Федорович. Однако, зная свойства его характера, не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что дни его будут недолговечны, и вопрос заключается в том: кто же наследует престол?»
С лица Ивана Ивановича слетела радостная безоблачность.
Он спрятал миниатюру в ящичек секретера, запахнул халат и озабоченно уставился на своего кузена:
– Ну а как ты думаешь?
Александр Иванович зевнул, поводил вокруг мутными глазами.
– Ты, Иван Иванович, не слышал? Говорят, от желудочных колик вино красное разогретое помогает? Вели-ка нагреть бутылку понтаку да скажи, чтобы не встряхивали, а то муть наверх пойдет. – И, протянув ноги и усевшись поглубже в кресла, продолжал: – Конечно, Елизавета Петровна проживет еще не день и не два. Сия дочь Петра себя еще покажет, и Фридрих не раз еще будет за волосы хвататься, что с ней сцепился… Однако же жизнь ее уже на исходе. – Он задумался, прищурился. – Ну, вступит на престол Петр Федорович, этот долго не усидит… И тогда выйдет на сцену супруга его, Екатерина Алексеевна.
Иван Иванович не выдержал, фыркнул:
– Сия бледная девица из бедного Ангальт-Цербстского дома!
Александр Иванович сдвинул брови, презрительно посмотрел на кузена.
– Эта женщина нечеловеческой хитрости, проницательного ума и настойчивости необыкновенной. К тому же сведения о ее занятиях и образе жизни показывают, к чему она себя приуготовляет… Недаром она в православие перешла, в сарафане в гвардейские казармы ездит и иностранцев изгнать советует…
Калмычонок в чалме принес на подносе бутылку старого понтака, два венецианских бокала и нарезанный тонкими ломтиками лимбургский сыр на салфетке.
Александр Иванович отпил глоток, пожевал ломтик сыру, поднял бокал, посмотрел на свет.
– Да, теперь такого вина не найдешь, а дети наши его совсем не увидят. Все проходит! Возьми время Петра Великого – какие люди были: Меншиков*, Людовик XIV*, принц Конти*, Карл XII*, герцог Мальборо*… А ныне… Фридрих Прусский с двумя коронованными женщинами и маркизой Помпадур воюет и никак от них отбиться не может. И не видать великих умов… – Начальник Тайной канцелярии понемножку осушил бокал и добавил: – Разве что из простого народа…
Иван Иванович поднял брови:
– Ломоносов?
– Да, Ломоносов, хотя и не один. Ломоносов не токмо ученостью своей велик, но и одержимостью к делам государственным ради пользы Отечества.
Иван Иванович улыбнулся: он любил первого десьянс академика.
– Ну а если бы много Ломоносовых было, что тогда?
Александр Иванович встал, постучал слегка пальцем по лбу двоюродного брата.
– Тогда бы нас с тобой не было. Хорошо, что вся его силища в науку ушла, а ударься он в полити́к, по примеру французских вольтерьянцев*, – что тогда? – Он задумчиво покачал головой. – Ну, пора мне в канцелярию ехать. Ты небось опять за свои миниатюры да картинки возьмешься!.. А я как насмотрюсь моих картинок за ночь, так к утру опять почесуха мучает и колики в животе… Хорошо государственные интересы блюсти на конференции во дворце или на машкераде, беседуя с иноземными послами!.. – Александр Иванович усмехнулся желчно.
– Матушка государыня как будто о простом народе печется, простых людей в великие чины возвела, науки, художества поощряет… А погляди в суть вещей, как я их вижу, послушай, что люди говорят на дыбе да под батогами*, – волосы на голове зашевелятся… Помещики между собой из-за земли спорят – деревни друг на друга с дрекольем идут, кровь льется, земля трупами устилается. Намедни в Каширском уезде крестьяне с дворовыми людьми княгини Львовой баталию учинили – одних убитых 26 человек.
Поскольку помещики в рекруты крестьян не сдавали, указано было матушкой императрицей платить дворянам за каждого человека, сданного в армию, деньги. Теперь, как крепостной помещику не понравился, гонит его в солдаты и деньги за него получает. Сиречь торговля людьми прямым доходом для дворян стала… От помещичьей лютости стали крестьяне бежать в разбойники. Вся Волга в их руках. Под Гжатском ватага в 700 татей[56] три дня бой держала противу воинской команды. От свирепости православных священников раскольники бегут в Польшу. Ныне в Ветковских слободах на реке Сож, за рубежом, более 40 тысяч беглых старообрядцев. Оттуда их тайные люди с прелестными письмами[57] к яицким казакам* на восток и на юг, на Буг и Днестр ходят…
Иван Иванович вскочил, покраснел, расстегнул кружевной воротник.
– Послушать тебя, Александр Иванович, так при Минихе да Бироне лучше было.
Александр Иванович покачал головой:
– Конечно, в царствование Елизаветы Петровны русский человек духом воспрял, но сие в городах, в армии и при дворе. А крестьянину хуже: он на себе все тяготы войны несет да еще помещику и попу должен отдать последнее. Ныне дворяне так жить, как при Бироне и Минихе, не хотят. Всяк стремится к роскоши, веселью. А взять денег неоткуда, кроме как с крестьянина или украсть у государства…
Иван Иванович посмотрел на кузена.
– Да ты матушке все сие говорил?
Александр Иванович улыбнулся.
– А к чему? Матушка императрица сама роскошь и веселье любит. Да и как ей противу дворянства идти? Старые боярские роды всегда против нее враждовали. Новое дворянство и мелкопоместное от себя оттолкнуть – на чем тогда держаться? Ведь Иоанн Антонович-то еще жив! А Фридрих Прусский только о том и думает, как бы его или Петра Федоровича посадить на престол. Нет уж, управимся сами как-нибудь с Божьей помощью…
Александр Иванович махнул рукой, подошел к столу, наполнил бокалы.
– Ну, давай выпьем. И о чем говорили – забудь!
В это время издали донесся шум голосов, топот, и в дверь, чуть не сбив с ног уходившего Александра Ивановича, стремительно вбежал Ломоносов. Он был без шляпы, в расстегнутом камзоле, парик съехал набок, лицо красное.
Иван Иванович даже рот раскрыл от удивления и неожиданности.
– Михаил Васильевич, что с тобой?
Десьянс академик посмотрел вокруг бешеными глазами, потом схватил бутылку, стоявшую на столе, и, вероятно, бросил бы ее об пол, если бы Александр Иванович, положив руку ему на плечо, не сказал своим равнодушным голосом:
– Смилуйтесь, господин академик, тому вину двести лет, – и, взяв от него бутылку, налил ему бокал вина. – Сейчас ежели вы войдете в равновесие чувств, то мы сможем с вами закончить утренний разговор о том, отечественные или заморские напитки лучше…
Ломоносов отпил вина, поставил бокал на стол и возбужденно заговорил:
– Нет, судари мои, более сего терпеть невозможно! Бежать нужно, бежать!.. На вечерней конференции собрались все Шумахеровы злодеи: Тауберт, Миллер и Эпинус – и постановляют русских астрономов – поручика Курганова и адъюнкта Красильникова – к наблюдению над солнечным затмением не допускать, а иностранных, приехавших из-за границы, – Добероша и других – можно. Я спрашиваю тогда Эпинуса, заведующего обсерваторией: «Почему вы русских астрономов к наблюдению допускать не желаете?» А Эпинус мне отвечает: «Для того не желаем допускать, что в науке еще слабы и того не увидят, что нужно». – «Ах, слабы! – говорю. – Я сам с ними наблюдать буду». Тогда ответствует мне Эпинус: «Вот еще один астроном нашелся!»
Александр Иванович с любопытством наклонился вперед.
– Ну и что вы ему сказали?
Ломоносов вздохнул:
– Ничего… Хотел взять свечной шандал* и бросить ему в физиогномию, но воздержался.
Александр Иванович заметил:
– Однако же такой способ едва ли спор ваш разрешит.
Иван Иванович встал, прошелся по комнате и сказал:
– Немцы прежнее свое нахальство обретать начинают. Надо завтра же Сенату распоряжение сделать о допуске русских астрономов к наблюдению.
Начальник Тайной канцелярии пошел к выходу, у дверей обернулся:
– И с оным предписанием поручику Курганову взять караул и занять обсерваторию.
Хотя предписание Сената о том, чтобы русские астрономы были допущены к наблюдению за затмением, поступило в Академию наук, заведующий обсерваторией Эпинус заявил, что тогда сам он не станет вести наблюдения, так как ему будут мешать.
Ломоносов, удовлетворенный тем, что победа в этом споре оказалась за ним, решил организовать наблюдение затмения у себя в саду.
Поздняя весна этого года была необыкновенно хороша. Свежий морской ветер заряжал бодростью. Яблони цвели, благоухала сирень, в зеленой траве краснели головки тюльпанов.
Утро 26 мая 1761 года было безоблачное, жаркое.
Десьянс академик, довольный, счастливый, расхаживал по полянке в своем саду в китайчатом халате. Издали слышался звонкий голос Леночки. Она бегала наперегонки с астрономом, поручиком Кургановым. В ботфортах и узком мундире с форменным воротником, он никак не мог за ней поспеть и теперь, остановившись, старался угадать, за каким кустом она спряталась.
Неожиданно Леночка выскочила из-за большого куста сирени и помчалась стрелой по полянке, мелькая пятками, – она была в простом крестьянском платье, с распущенными косами, босая.
Вдали Михаил Васильевич увидел Елизавету Андреевну, шедшую по тропинке в сопровождении Прокопия Ивановича – Прошки. Прошка был старый помор из села Холмогоры, много лет назад случайно попавший в Петербург и поступивший к Ломоносову в услужение. На правах земляка он хотя и величал десьянс академика Михаилом Васильевичем, однако обращался к нему на «ты». Впрочем, такая фамильярность не мешала тому, чтобы, услышав из кабинета мощный удар кулаком по столу, Прошка от страха бледнел и говорил, крестясь: «Ах ты, боже ж ты мой, опять Михайло Васильевич в сердцах!»
Сейчас Прошка нес за Елизаветой Андреевной складной стул и несколько кусков закопченного стекла. Увидев приветливое и свежее лицо Елизаветы Андреевны, Ломоносов улыбнулся и невольно вспомнил статью одного профессора из Болоньи, напечатанную во «Флорентийских ученых ведомостях», в которой говорилось: «Я посетил Ломоносова в его доме. Это „остров счастливых“. Я нигде более в Петербурге не видел такой здоровой, радостной и приятной семьи».
На крыше маленького кубического здания обсерватории, стоявшей в саду, адъюнкт Красильников устанавливал на треножниках две подзорные трубы, к которым приделаны были закопченные стекла.
Закончив свою работу, он направился к Ломоносову:
– Я думаю, Михаил Васильевич, без сильных телескопов едва ли мы сможем что-нибудь серьезно увидеть.
Ломоносов посмотрел на него, усмехнулся:
– При живости ума и таланта и с немногими средствами можно увидеть многое! – Посмотрел на небо, оглянулся. – Однако же, господа, по местам!
Он, Красильников и Курганов[58] начали наблюдение.
Венера медленно приближалась к Солнцу. Она еще не достигла его, но край Солнца затуманился.
– Обратите внимание, – сказал Ломоносов, не отрываясь от подзорной трубы, – затмение уже началось, а ведь Венера Солнца еще не достигла…
Венера прошла через Солнце, но край его на некоторое время оставался затуманенным.
– Да, – подтвердил Курганов, – затмение началось раньше и кончилось позднее прохождения Венеры между Солнцем и Землей.
Ломоносов задумался, встал.
– Друзья мои, сие происходит оттого, что Венера, вероятно, как и все планеты, окружена знатною воздушною атмосферою, таковою (лишь бы не большею), каковая и около нашего земного шара…
Вскоре он написал работу, вышедшую отдельным изданием на русском и немецком языках, в которой доказывал, что если Венера, как и другие планеты, окружена атмосферой, то на ней возможна животная жизнь, подобная той, какая имеется на Земле.
Тридцать лет спустя знаменитейшие астрономы мира подтвердили его предположение о том, что планета Венера окружена атмосферой, а английский астроном Вильям Гершель и немецкий астроном Иоганн Шретер присвоили это открытие себе.
Глава десятая БИТВА НА ТРЕХ ХОЛМАХ
Елизавета Петровна, стремясь к окончательной победе над Фридрихом, отставила нерешительного Фермера и назначила главнокомандующим Салтыкова, который двинулся к Одеру.
31 июля 1759 года, ночью, Фридрих II, собрав почти все свои войска – 48 тысяч человек, 114 тяжелых орудий и около 100 легких, – переправился через Одер и появился перед армией Салтыкова в 41 тысячу человек.
А 2 августа 1759 года, вечером, к заднему крыльцу Зимнего дворца на полном карьере подлетел всадник. Его треуголка и плащ были в пыли, лошадь в мыле, бока ее вздымались. Часовой, увидев всадника, ударил в колокол; дежурный офицер выбежал из подъезда. Всадник вынул из сумки пакет, протянул офицеру...
В спальне своей императрица, постаревшая, осунувшаяся, полулежала в креслах, слушала реляцию* фельдмаршала Салтыкова, которую читал вслух Иван Иванович Шувалов. Алексей Григорьевич Разумовский, сидя рядом, тихонько гладил руку Елизаветы Петровны. Петр Иванович Шувалов бесшумно шагал взад и вперед по комнате. Александр Иванович в своем сером камзоле, сидя в углу, казался тенью на фоне голубоватых штофных* обоев.
Было тихо. Негромкий голос Шувалова доносился как будто издалека:
– Вот как сие было…
Ночь. В палатке, слабо освещенной несколькими свечами, Фридрих II, подвижный, носатый, бритый, сидя за столом, рассматривал карту. Перед ним стояли генералы Зейдлиц, фон Клейст, командовавший гвардейским полком, и адъютант де Катт.
– Итак, господа, генерал Лауд он со своими 18 тысячами австрийцев стоит в Лудансгрунде. Он отделен от правого крыла русских болотом и не может с ними соединиться. Русские расположены на трех холмах. На левом крыле, наиболее отдаленном, находится корпус Голицына. Мы начнем атаку левого крыла русского фронта…
Отпуская всех, Фридрих жестом предложил де Катту остаться. Денщики подали ужин, вино, фрукты, заменили догоревшие свечи…
Фридрих взял «Орлеанскую девственницу» Вольтера, стал читать вслух:
Ужасный шум заставил их проснуться. Кругом сверкают факелы войны, Смерть торжествует, стоны раздаются… Повсюду кровь и павшие видны… Опустив книжку, взял кисть винограда.– Де Катт, ешьте виноград. Кто знает, придется ли нам есть его завтра?..
Мглистое утро. Туман окутывает долину, отдаленные холмы. Фридрих в сопровождении де Катта и Зейдлица объезжает войска. Безукоризненным квадратом стоит гвардия – великаны с черными, как будто наклеенными усами и толстыми косами. Впереди, отставив левую ногу и опершись на трость, замерли офицеры. Их лица высокомерны, надменная, презрительная улыбка застыла на устах. Барабанщики, подняв палочки, ожидают команды. На нервных породистых лошадях, сияя шитыми серебром ментиками*, поэскадронно выстроились черные гусары во главе с красавцем Рюшем. За ними поблескивали под солнечными лучами, пробивавшимися наконец сквозь тучи, пушки…
Все ждали сигнала к выступлению. Фридрих дал шпоры, и конь в несколько прыжков вынес своего всадника на вершину холма.
Адъютант подал подзорную трубу, и великий полководец уверенным взором окинул фронт русских войск. Вот он – левый фланг русских, тут стоит корпус Голицына. Он очень растянут и отдален от центра небольшой рощей. В центре, на холмах, вероятно, находится сам Салтыков, с ним стоят гвардейские полки, сзади них, за Кунерсдорфским кладбищем, обоз…
Фридрих повернул голову:
– Де Катт, что это у них в обозе? Какие-то повозки…Они чем-то покрыты?
Де Катт посмотрел в трубу.
– У них всегда бесконечное количество повозок – это просто всякое добро и бабы…
Фридрих покачал головой:
– Так… правый фланг… Там казаки и калмыки… Итак, де Катт, мы начинаем. Прикажите кавалерии маневрировать перед фронтом. Наступление вести на левый фланг и отрезать его от центра… Прикажите выдвинуть пушки вперед…
Фельдмаршал Салтыков, маленький, в парике, с мелкими косичками, вылезавшими из-под треуголки, в белом мундире, ехал на серой лошади по фронту, останавливаясь перед каждым полком.
– Братцы! – кричал он, снимая шляпу и кланяясь солдатам. – Отступать нам некуда: сзади река и болото. Поднатужьтесь, братцы, Христа ради… Постоим за Россию!
Огромные усатые солдаты слушали маленького старичка, отвечали нестройно:
– Постоим…
Священники служили молебны перед фронтом, потом снимали ризы и наперсные кресты, становились с командирами рядом – идти в бой.
Салтыков подъехал к обозу. Бесконечной линией выстроились четырехугольные повозки, покрытые чехлами. Около каждой стояли артиллеристы. Навстречу фельдмаршалу выехал на вороном коне генерал Румянцев – краснощекий, черноглазый и задорный.
– Ну как, голубчик? Сумеешь ли ты на близкую дистанцию неприятеля подпустить и из всех орудий открыть огонь сразу?
Румянцев улыбнулся:
– Полагаю, что бы ни случилось, а урон неприятелю будет великий.
На правом фланге, у самого леса, стояли казаки, за ними – башкиры и калмыки. Навстречу Салтыкову выехал окруженный казачьими полковниками, бородатыми, в высоких шапках с волчьими хвостами, знаменитый атаман Краснощеков. Его заросшее седыми волосами, покрытое шрамами лицо было угрюмо, орлиные глаза смотрели вдаль из-под густых, нависших бровей.
– А что, сударь мой, если неприятель с Божьей помощью конфузию потерпит, сумеешь ли ты ему дорогу отрезать?
Краснощеков только криво усмехнулся, сверкнул очами.
– Тады видно будет…
Издали приближалось огромное облако пыли: неприятельская кавалерия маневрировала по всему фронту, прикрывая пехоту от наступавших на левый фланг русских.
В три часа дня, казалось, все было кончено. Фридрих и его свита даже невооруженным глазом ясно видели, как погибали русские солдаты. Вот огромный гренадер*, окруженный пруссаками, вонзает штык в прусского офицера, потом падает, сраженный. Вот умирающий русский солдат целует свое ружье, а офицер, не желая сдаваться в плен, пронзает себя шпагой… Наконец над холмом Мюльберг взвилось черно-желтое с орлом прусское знамя…
В это время к королю подскакал офицер.
– Ваше величество, принц Генрих доносит, что он выиграл битву при Миндене.
Фридрих бросил ему небрежно через плечо:
– Передайте, что и мы можем похвастаться тем же…
Офицер отдал ему честь, повернул разгоряченного коня, ускакал.
– Господа, итак, левый фланг неприятеля уничтожен. Мюльберг взят, большая часть поля за нами, но в центре и на правом фланге русские стоят неподвижно. Генерал Зейдлиц, выстройте гвардию сомкнутым строем! Я поведу ее сам. Приготовьте кавалерию – преследовать неприятеля. Почему не выдвинуты пушки? Их огонь не достигает неприятеля…
– Ваше величество, артиллерия застряла в песке – ее нельзя выдвинуть вперед!
– Не может быть возражений! Русских надо добить. Тогда вслед за пехотой пустите кавалерию…
На своем вороном коне прусский король промчался перед неподвижным фронтом, выхватил шпагу.
– Во имя Бога, за Пруссию!
Ударили барабаны, солдаты все, как один, подняли правую ногу.
Но в это время в центре русских, за кладбищем, заблестели хоботы двухсот «единорогов». Сбросив чехлы, артиллеристы стали у орудий. Мастер Пермяков, торопливо пробегая между ними, проверял, все ли готово.
Румянцев на коне, сбоку от крайней батареи, подал команду:
– Слушай команду! Бомбардиры, пушкари, по местам! Вложи заряд! Забей заряд! Зажигай фитили!.. Огонь!
Раздался страшный гул. Все поле окуталось дымом. «Единороги» стреляли бомбами, ядрами и картечью, но особенно страшны были секретные гаубицы. Они имели расширяющийся канал ствола, и каждый выстрел такой пушки разбрасывал 25 фунтов картечи в самой гуще немецких колонн.
Лошадь Фридриха встала на дыбы, захрипела, сбросила всадника на землю, упала. Он вскочил на ноги, поймал чью-то лошадь, метавшуюся среди обезумевших людей, прыгнул на нее, оглянулся, выхватил шпагу.
– Сомкнуть ряды! За мной!
Поредевшие ряды гвардейцев сомкнулись, побежали за ним.
За русскими редутами они увидели несокрушимую стену штыков. Раздался залп. Лошадь короля стала оседать. Шляпа его упала. Де Катт протянул руку, помог пересесть на свою лошадь.
Эскадроны генерала Зейдлица карьером мчались в атаку.
В эту же минуту, которая казалась вечностью, король увидел тысячи русских солдат, с криком «ура» и со штыками наперевес бежавших в атаку, услышал страшный вой и свист. Казаки лавой неслись наперерез эскадронам Зейдлица. За казаками летели на своих маленьких конях башкиры в высоких шапках и калмыки, размахивая кривыми саблями.
Непрерывный гул орудийных выстрелов стоял над полем, окутанным дымом.
– Ваше величество, нас догоняют! – кричал де Катт, шпоря коня.
Король оглянулся. За ним неслось с десяток казаков, и впереди, размахивая арканом, скакал огромный казак в шапке с волчьим хвостом. Лицо его было изуродовано шрамами, глаза сверкали. Они пронеслись мимо королевского шатра. Несколько казаков соскочили с коней, бросились туда, остальные трое или четверо продолжали погоню. Король боялся оглянуться, ему чудился свист аркана. «Они поймают меня в петлю, как зверя на охоте…»
Неожиданно из-за леса выскочило несколько десятков «черных гусар» во главе с ротмистром Притвицем. Казаки придержали коней, выхватили сабли…
Два часа спустя король Фридрих в грязном деревенском трактире писал письмо брату:
«Я не переживу этого. У меня нет средств к спасению. Мне кажется, все погибло… Никто не может представить себе ужасный огонь русской артиллерии!..»
Как это ни странно, но Фридриху Прусскому, который до конца жизни не мог забыть позорного поражения под Кунерсдорфом, так и не пришла в голову мысль, что решающую роль в этой битве сыграла стойкость русского солдата.
Салтыков, в своем стареньком белом мундире, покачивая головой, стыдил атамана Краснощекова:
– Ну что, упустили?
Краснощеков вздохнул так, что даже Салтыкову стало его жалко:
– Упустили…
Салтыков помолчал, потом сказал:
– Да, тяжелая была баталия!
Потом он, кряхтя, подсаживаемый адъютантами, сел на свою серую лошадь и медленно двинулся по тропинке в гору, туда, где белела палатка главнокомандующего.
К нему подъехал штабной офицер.
– Ваше сиятельство, прикажете приготовить фельдъегеря для отправки реляции в Санкт-Петербург?
Старик устал и думал о том, что хорошо бы раздеться, лечь на походную койку и поспать час-другой. Но он понимал, что этого делать нельзя, и, выпрямившись в седле, сказал:
– Найти одного из офицеров, отличившихся в баталии, и обеспечить ему смену лошадей по всему пути. Надобно понимать, что виктория сия не токмо принесет великую радость народу российскому, но и во всей Европе вселит надежду на мир.
Иван Иванович Шувалов дочитал реляцию. Елизавета Петровна поднесла платок к глазам, потом, не сдерживаясь, заплакала громко, а потом сказала, виновато улыбаясь:
– Сие я от счастья. Спасена честь России…
Иван Иванович растроганно воскликнул:
– Не токмо спасена, но и на весь мир Россия возвеличена! Артиллерия же наша судьбу всей баталии решила!
Елизавета Петровна повернулась к Петру Ивановичу Шувалову:
– Спасибо тебе, Петр Иванович, недаром твои вензеля на сих пушках.
Петр Иванович покряхтел:
– Ваше величество! Вензеля-то мои, да пушки Данилова, Нартова, Мартынова, и сам Михайло Васильевич Ломоносов великое попечение о сем деле имел…
Разумовский покачал головой:
– Що пушки там попрацовали[59] добре – то верно, тильки судьбу баталии не они решили. Решил ее солдат с ружницею, вот кто…
Императрица задумалась, а потом сказала:
– Жалко, я хворая стала, принять Ломоносова не могу. Иван Иванович, увидишь его, скажи, что дочь Петра Великого благодарит его от всей души.
Но Ломоносову не нужно было никакой благодарности. Его сердце и так было переполнено радостью и гордостью, ведь победа над прусской военщиной во главе с Фридрихом означала победу не только России, но и ее союзников – Франции, Швеции, Австрии. В этой победе он видел историческую справедливость, восклицая:
– Нам правда отдает победу!
И он славил Салтыкова, который был еще сподвижником Петра, и доблесть русских солдат, сломивших коварного, надменного врага.
…Стремится сердце Салтыкова, Дабы коварну мочь сломить. Ни польские леса глубоки, Ни горы Шлонские высоки В защиту не стоят врагам… Бегущих горды пруссов плечи И обращенные хребты Подвержены кровавой сечи. Главы валятся, как листы.В то же время он видел в победе русского оружия над прусской военщиной залог установления мира в Европе. Борьба за мир в Европе – вот цель России.
Российска тишина пределы превосходит И льет избыток свой в окрестные страны. Воюет воинство твое против войны; Оружие твое Европе мир приводит.Глава одиннадцатая «Я ЕСМЬ ГАЗЕТ ГРЕМЯЩИЙ…»[60]
Россия напрягалась из последних сил, чтобы победоносно закончить войну. Народ нес великие жертвы, но превозмогал лишения. Седьмой год шел набор рекрутов в деревнях, отбирался почти весь урожай, иногда прямо с полей реквизировались кони и скот для армии. В стране было 60 миллионов рублей в обращении – монетой 12 разных чеканок и разной цены. Императорская статс-контора имела на 17 миллионов рублей неоплаченных обязательств. Деньги падали в цене, продукты исчезали, даже соль достать было трудно. Многие лавки не открывались совсем, другие торговали полдня.
Туманный сумрак осеннего петербургского утра застилал улицы. На пустую площадь близ Гостиного Двора вышел заспанный сбитенщик. Зевнул, перекрестил рот, оглянулся; навстречу ему шел, меся лаптями грязь, мужичонка в продранной домотканой рубахе и круглой шляпе, с топором за поясом.
– Почем сбитень?
Сбитенщик задумался, почесал голову.
– Да уж и не знаю, почем теперь брать. Три копейки кружка.
Мужик покачнулся, взмахнул руками.
– Да я вчера брал по копейке!
Сбитенщик усмехнулся:
– То вчера, а то сегодня!
Мужик взглянул на него со злобой, дрожащими руками вынул из-за пазухи тряпицу, отсчитал три копейки.
– На, жри!
Опрокинул в рот глиняную кружку горячего сбитня, пошел в переулок по дворам.
– Кому дрова рубить, колоть?
Из окна маленького домика выглянула заспанная женская голова в чепце.
– Эй, мужичок, почем возьмешь за день?
Мужик обернулся.
– Три гривны*.
Голова отпрянула от окна.
– Креста на тебе нет, третьего дня гривну брали!
– То третьего дня, а то теперь.
И мужичок зашагал дальше.
Никто не знал, сколько за что брать и что будет с ними завтра.
Война всем несла разорение и горе. Там осталась вдова без мужа, там мать без сына, тот потерял имение, этот был без работы.
Теперь уж вельможа просыпался сумрачный; и чиновник шел в присутствие, поеживаясь от холода в продранной, нечиненой шинельке; и купец, почесывая голову, стоял в пустой лавке; и крестьянин, глядя на последнюю полудохлую лошаденку, еще не отобранную по реквизиции, уныло плелся, подтянув живот кушаком, пахать тощую землю. Всех поддерживала только надежда, вера в то, что завтра будет лучше.
И победа – окончательная и полная – наконец пришла.
Русские войска бросились на Берлин. Впереди шел отряд генерала Тотлебена, за ним корпуса Чернышева и Ласси.
Изменник Тотлебен подошел к Берлину со стороны Котбусских и Галльских ворот и нарочно задержался перед ними, чтобы дать возможность прусским войскам – генерала Гюльзена из Саксонии и принца Вюртембергского с севера – пойти на помощь столице. Но измена Тотлебена не помогла немцам.
Видя подходящие корпуса Чернышева и Ласси, прусский генерал Рохов поспешил заключить капитуляцию с тем же Тотлебеном, который подписал ее ночью в палатке, без ведома своих прямых начальников – Чернышева и генерал-поручика Панина. Ненависть к Фридриху II была столь велика в русских войсках, видевших в нем главного виновника затяжной, многолетней войны, что, не трогая ни домов, ни жителей города, они мечтали только об одном – захватить самого Фридриха.
Генерал Тотлебен был арестован по докладу прибывшего в армию Александра Ивановича Шувалова постановлением Совета всех русских командиров.
Русские войска ворвались в Померанию. Почти вся Пруссия была завоевана и присягнула на верность Елизавете Петровне. Генерал-губернатором Восточной Пруссии был назначен генерал-поручик Василий Иванович Суворов – сподвижник Петра Великого, автор перевода вобановского сочинения* «Основание крепостей», отец будущего великого русского полководца.
Новый генерал-губернатор был нисколько не похож на сибарита* графа Фермера. Суровый и справедливый, ненавидевший всякие излишества, он из личных средств помогал разоренным войной немецким простолюдинам, но не допускал ни малейшего попустительства врагу.
Фридрих «Великий» потерял все свое величие. Вместо Прусского королевства у него остались ничтожные клочки Бранденбургского курфюршества*. Кабинет Питта пал. Король лишился последнего своего союзника – Англии. У него оставалась почти фантастическая надежда на помощь турок. Он сам признал свое положение безнадежным и писал своему министру Финкенштейну в декабре 1761 года: «Если эта надежда погибнет, надо будет подумать о том, чтобы сохранить те остатки моих владений, которые при помощи переговоров удастся вырвать из жадных рук наших врагов… Верьте, что, если бы я видел хоть маленькую возможность ценою величайшей опасности восстановить государство на его прежних основаниях, я бы не говорил вам того, что говорю теперь».
Наступил декабрь 1761 года, приближалось Рождество. Стояли солнечные морозные дни. Все искрилось, осыпанное снежной пылью. На всех углах и во дворах Санкт-Петербурга высились ледяные горы, и ребятишки, кто на санках, а кто и на собственном заду, с веселыми криками скатывались прямо под ноги прохожим. Бородатые мужики, похожие на рождественских дедов-морозов, продавали наваленные на розвальнях пахучие, свежесрубленные елки.
Улицы были запружены народом. Радость сияла на всех лицах: война подходила к победоносному концу.
Вот оно – долгожданное магическое слово, которое было у каждого на устах и в мыслях, победа!
Ломоносов все последнее время ходил радостный, возбужденный, помолодевший. Он стал мягче в обращении с людьми, но, приходя в академию, не мог удержаться от удовольствия сказать кому-нибудь из академиков-иноземцев на чистейшем немецком языке:
– А что, уважаемый герр профессор, говорят, Фридрих Прусский в «Ведомостях» объявление дал – просит ссудить его исподним платьем: штаны замарал, а переодеться, бедному, не во что!..
И, видя, как краснеют и бледнеют от досады немцы, довольный, шел дальше.
Пожалуй, впервые в жизни он был по-настоящему счастлив: Россия не только победила в единоборстве самую сильную в мире и в то же время лучше всех обученную и снаряженную армию, но и осуществила мечты Петра Великого: создать на границах России дружественные государства.
Ломоносов чувствовал, что он должен передать потомкам в поэтической форме смысл и величие переживаемых событий. По целым дням не выходил он из кабинета. Сами собой текли из-под пера строки.
Где ныне королевско слово, Что страшно воинство готово На Запад путь наш прекратить? Уж окровавленная Пре́гла, Крутясь в твоей земле, пробе́гла. Российску силу возвестить.Эти победы ему представлялись как осуществление заветов Петра Великого.
И поэтому он писал в то время Ивану Ивановичу Шувалову: «Окончание начатого героического описания трудов Петровых выше всех благополучий в жизни моей почитаю».
Незаконченная героическая поэма «Петр Великий», состоящая из посвящения И. И. Шувалову и двух песен, писалась Ломоносовым с 1756 по 1761 год. В этой поэме, которая является одним из лучших произведений Ломоносова-поэта, полностью отразились его взгляды на деятельность Петра Великого.
…К вечеру ударил мороз. Звонко раздавались шаги редких прохожих. Будочники, закрыв рогатки*, дремали, завернувшись в тулупы.
В доме Ломоносовых все спали. Старый помор Прошка шел по коридору, отправляясь спать в угольную комнату под лестницей.
Дойдя до лестницы, Прошка остановился и прислушался. На втором этаже, у самой площадки, помещался кабинет академика. Из дверей пробивалась полоска света: Ломоносов работал. Вдруг до Прошки донеслись громовые раскаты могучего голоса.
Прошка побледнел и перекрестился: «Ну, значит, опять в сердцах…»
Перед ярко освещенным столом, заваленным бумагами и книгами, стоял Ломоносов, в халате, с обнаженной грудью, и держал в руке перед собой лист бумаги. Лицо его было возбужденно, глаза сияли. Он читал полным голосом:
Пою премудрого российского Героя, Что грады новые, полки и флоты строя, От самых нежных лет со злобой вел войну, Сквозь страхи проходя, вознес свою страну, Смирил злодеев внутрь и вне попрал противных, Рукой и разумом сверг дерзостных и льстивных; Среди военных бурь науки нам открыл, И мир делами весь и зависть удивил. К тебе я вопию, Премудрость бесконечна, Пролей твой луч ко мне, где искренность сердечна И полон ревности спешит в восторге дух Петра Великого гласить вселенной вслух И показать, как он превыше человека Понес труды для нас, неслыханны от века, С каким усердием Отечество любя, Ужасным подвергал опасностям себя, Да на его пример и на дела велики Смотря весь смертный род, смотря земны владыки, Познают, что монарх и что отец прямой, Строитель, плаватель в полях, в морях Герой, Дабы российский род вовеки помнил твердо, Коль, Небо, ты ему явилось милосердо. Ты мысль мне просвети; делами Петр снабдит, Велика дщерь его щедротой оживит.С 12 декабря 1761 года состояние здоровья Елизаветы Петровны резко ухудшалось. У нее появился упорный кашель и кровохарканье. Врачи Мунсей, Шиллинг, Крузе сделали ей венопункцию. Лихорадочное состояние усилилось, временами она стала терять сознание. В последующие дни она почувствовала себя лучше, температура как будто спала. Но 24 декабря началось новое горловое кровотечение. Она сильно ослабела, шепотом потребовала созвать министров.
Прибыли Шуваловы – Иван Иванович и Александр Иванович, канцлер Воронцов.
Алексей Григорьевич Разумовский, похудевший, с потухшими глазами, бледным от бессонных ночей лицом, неподвижно сидел у изголовья умирающей императрицы.
Елизавета Петровна открыла глаза, посмотрела на всех, спросила шепотом:
– Что с Фридрихом?
Александр Иванович твердым, ясным голосом доложил:
– Последняя Фридрихова крепость Шнейдниц взята генералом Чернышевым. Сам король прусский заперся в укрепленном лагере Бунцельвиц. Он окружен со всех сторон и с часу на час будет взят в плен…
– Слава богу, – сказала Елизавета Петровна и откинулась на подушки. – Позовите духовника.
Прибыл отец Дубянский. Императрица приказала ему читать отходную. Отец Дубянский не выдержал, заплакал. Императрица приподнялась, посмотрела на него ясными глазами:
– Отец, начни сначала.
Духовник начал читать молитву, она повторяла за ним слабым голосом слово в слово. Потом голова ее упала на подушки, она затихла. Агония продолжалась всю ночь и часть следующего дня.
Дочь Петра Великого – императрица Елизавета скончалась 25 декабря 1761 года, на 53-м году жизни.
Союзники России – Франция, Швеция, Австрия, которых Фридрих Прусский бил по очереди как хотел и которых от полного разгрома спасли лишь победы, одержанные русской армией, – как только опасность для них прошла, больше всего испугались этих побед и возможного усиления России. «Нельзя увеличивать затруднения прусского короля, так как тогда Россия представит неприемлемые условия мира», – писал французский посол барон Бретейль герцогу Шуазелю.
Когда русские войска, по плану командования, должны были занять Данциг, французский посол Бретейль и его коллега маркиз Лопиталь получили из Версаля категорический приказ воспрепятствовать движению русских войск ввиду неизбежного усиления в этом случае влияния России в Польше. В результате их представлений русский главнокомандующий получил от великого канцлера предписание не занимать Данциг.
Когда русские войска прочно заняли Восточную Пруссию, то сам король Людовик XV* в личном письме к маркизу Бретейлю предписывал повлиять всеми силами на канцлера Воронцова, хотя бы путем выдачи ему значительной личной субсидии, для того чтобы вынудить Россию отказаться от Восточной Пруссии.
«Занятие Восточной Пруссии и Кёнигсберга, – писал Людовик XV, – выдвинуло бы Россию в самое сердце Европы».
Наконец, когда Фридрих Прусский в последней надежде на спасение заключил договор с Турцией, то союзники России – Франция, Швеция и Австрия – дали указание своим послам в Константинополе не препятствовать этому союзу, «так как в противном случае Порта*, оставшись одна, уже не будет представлять серьезной опасности для России и последняя устремит все свои взоры на Запад», – сообщил герцог Шуазель мнение короля французскому послу в Константинополе.
Но дочь Петра была упряма, русское правительство не шло ни на какие уступки, и русские войска продолжали добивать врага. Наконец Фридрих, окруженный со всех сторон, заперся в своей последней крепости – укрепленном лагере Бунцельвиц. Он пошел на последнее средство: поручил своему секретному агенту Баденгаупту, брату немецкого врача, жившего в Петербурге, предложить Ивану Ивановичу Шувалову миллион талеров* за то, чтобы тот склонил Елизавету на какой угодно мир.
Иван Иванович Шувалов принял Баденгаупта во время утреннего туалета и, выслушав его, приказал подать лорнет, осмотрел прусского агента со всех сторон, потом велел лакеям сдать его в Тайную канцелярию.
Для Фридриха Прусского все было кончено. Россия по праву утвердилась на новых землях, завоеванных кровью своих солдат.
Именно в это время скончалась Елизавета Петровна.
Серый сумрачный зимний день занялся над Петербургом. Мокрые снежные хлопья покрывали улицы, дома, забивались под воротники прохожих. Во всех церквах печально звонили в колокола. По улицам озабоченно скакали адъютанты, сновали пешие и конные вестовые, пролетали кареты сановников, одетых в полную парадную форму. На перекрестках и площадях собирался кучками народ, перешептывался вполголоса.
Одни говорили, что наследник престола, Петр Федорович, прибыв во дворец, даже не подошел к телу Елизаветы Петровны, а вызвал своего генерал-адъютанта, Андрея Васильевича Гудовича, и велел ему скакать к Фридриху Прусскому заключать мир. Какой же мир, когда все знали, что Пруссия уже завоевана, а Фридрих с часу на час должен быть взят в плен?
Другие передавали, что новый государь вызывает из Голштинии генералов и чиновников и они теперь будут управлять Россией.
Третьи божились, что доподлинно знают, будто уж посланы повеления вызвать Бирона и Миниха из ссылки. Люди расходились со смутным чувством большого несчастья.
Было о чем поговорить простому люду. Как-никак, а за 20 лет царствования Елизаветы Петровны русский человек отдохнул от иноземцев. Раньше, если в доме служил дворовый человек, состарившийся на службе у хозяина, то все его звали Прошкой или Мишкой, считался он крепостным, и какой бы ни был доброй души барин, все-таки нет-нет, а по какому-нибудь случаю приводилось дворовому попадать в конюшню под розги. Да и питался он остатками в людской, и одет был кое-как. А рядом с ним в том же доме служил без году неделю «господин Фриц». Этот жрал самую лучшую еду, пил вино, ходил одетый с иголочки, по морде его никто не бил: он был «иностранец».
Отпускал помещик из деревни в город мастерового человека – слесаря, кузнеца, столяра, пекаря или каретного мастера – на заработки. Куда ни сунься за работой, всюду сидел иноземец – толстый, сытый, в колпаке с кисточкой, с трубкой в зубах. Этот ничего не делал, а только держал заведение и вывеску над ним. На него и приходилось работать – половину отдай ему, половину помещику, а сам живи как хочешь. «Елизавета Петровна, вечная ей память, – говорил народ, – повыбила из них дух, повыкуривала изо всех мест. При ней только парикмахеры, портные да кондитеры оставались французские, и то их поприжали к концу царствования. А теперь – неужто опять идти в прежнюю кабалу?»
…Драгуны, посланные разгонять народ, свесившись с коней, прислушивались к разговорам. Забыв о приказе, они только шевелили черными усами и ехали дальше. Страусовые султаны* на треуголках спокойно покачивались над их головами.
Петр III – длинный, белобрысый, с развинченными движениями и громким смехом, которым он разражался по самым неожиданным поводам, – больше всех на свете любил Фридриха Прусского и сильнее всего ненавидел Тайную канцелярию и ее начальника – генерал-фельдмаршала графа Александра Ивановича Шувалова.
Поэтому в первые же часы своего царствования он письмом, посланным с адъютантом Андреем Васильевичем Гудовичем, сообщил Фридриху Прусскому о прекращении войны, о возвращении ему всех завоеванных Россией земель и заверил в вечной дружбе. А затем вскоре издал указ об уничтожении Тайной канцелярии и вызвал к себе Шувалова.
Со смутным чувством стоял Александр Иванович Шувалов перед дверью знакомого кабинета, где в течение 20 лет он делал доклады Елизавете Петровне. И хотя весь последний год, когда Елизавете Петровне становилось все хуже, он ожидал этого момента и готовился к нему, ему не верилось, что сейчас он увидит не лицо дочери Петра, с нежной улыбкой мягких карих глаз, а нового императора, его противную белобрысую физиономию, с выдающимися вперед лошадиными, желтыми зубами и громким, визгливым голосом.
Из-за дверей раздавались звуки скрипки: Петр III считал себя покровителем искусств и любил играть на скрипке.
Дверь открылась, и вышел долговязый рыжий генерал в куцем, узком мундире прусского образца, с аксельбантами*, которые не были приняты в русской армии, и при шпаге. Это был барон Карл Карлович Унгерн-Штернберг, адъютант императора.
– Eure Exzellenz, bitte![61]
«По-русски говорить не хотят», – подумал Александр Иванович и шагнул в кабинет.
Петр III, в белом с бирюзовыми обшлагами голштинском мундире, с аксельбантами и эполетом на одном плече, стоял посреди комнаты и играл меланхолическую мелодию.
Александр Иванович, в своем фельдмаршальском мундире, усыпанном звездами, и в ленте, стоял навытяжку, держа шляпу с плюмажем* в левой руке.
Император, как будто не замечая его, продолжал играть. Неожиданно он прекратил игру, положил скрипку и смычок на стол и повернулся к Александру Ивановичу:
– Ну что, Kreiz, Schok, Bombe, Donnerwetter[62]-элемент! Помогла вам ваша Тайная канцелярия, а? Кто меня все время обсервировал*, а? Кто Волкову делал допрос? Я спрашиваю: кто?
Александр Иванович уже настолько примирился с мыслью о ссылке, что теперь не чувствовал никакого страха, и сейчас землистое его лицо ничего не выражало. Ровным голосом он произнес:
– Волкову делал допрос я, ваше величество.
– Кто мои письма хватал?
– Я, ваше величество!
– Кто великого воина фельдмаршала Миниха в Сибирь отправил?
– Я, ваше величество!
– А-а! – закричал Петр III, приходя в неистовство от этого каменного спокойствия. – Вы будете теперь сами ехать в Сибирь!
– Слушаю, ваше величество…
Александр Иванович сделал оборот по всем правилам и журавлиным шагом направился к двери.
– Назад! – закричал император, ударив кулаком по столу. – Сначала вы будете отдавать все бумаги и письма мои, моей жены и Волкова...
Александр Иванович поднял свои бесцветные глаза.
– Сие, ваше величество, никак невозможно.
– Почему?
– Я, ваше величество, перед Отечеством свою службу нес, не жалея живота. И, предвидя несправедливую опалу и даже возможное лишение самой жизни со стороны вашего величества, все оные бумаги запечатал и отправил в Париж для опубликования… Дабы оправдаться перед потомками…
Лицо Петра III стало зеленым, он схватился за сердце:
– О великий подлец!.. О змея!..
Александр Иванович стоял скромно потупив глаза.
Император пересилил себя, посмотрел на него бешеными глазами, прошипел:
– Нет, я вас не буду высылайт! Я вас заставлю добропорядочную службу нести. Вы будете маршировать день и ночь согласно артикул… Я вам устрою castrum doloris![63] Марш!
Когда Александр Иванович сел в карету и старый его адъютант, тоже видавший виды, затворил дверцу и, усевшись рядом, вопросительно взглянул на него, начальник Тайной канцелярии только усмехнулся уголком рта:
– Слабожилен, характером неустойчив и имеет нервические расстройства! Долго не выдержит…
Вслед за указом о перемирии Петр III приказал генерал-поручику Василию Ивановичу Суворову сдать войска и управление Восточной Пруссией генерал-поручику Петру Ивановичу Панину и прибыть в Петербург. По прибытии в столицу Суворов не был принят императором и не получил никакого назначения – жалованье ему никто не выплачивал. Осаждаемый кредиторами, еще недавно неограниченный правитель почти целого королевства, сподвижник Петра Великого стал печатать в «Ведомостях» объявление о распродаже своего имущества за долги.
В один и тот же день были изданы: указ о вольности дворянства и указ о присвоении парикмахеру государя Брессану звания камергера* с назначением его директором фабрики гобеленов.
Третий указ объявлял выговор генерал-поручику Панину за всеподданнейший адрес штабс-офицеров действующей армии с просьбой о продолжении войны с Пруссией. Был издан еще один указ – о назначении кучера Петра III, некоего Патрикеева, титулярным советником.
Из Голштинии вместе с дядей Петра III, принцем Жоржем, назначенным генерал-фельдмаршалом и генерал-губернатором Санкт-Петербурга, прибыло несколько десятков голштинских баронов.
Они были назначены командирами старейших русских полков, а сами полки переименовались: Нарвский стал Эссенским, Смоленский – Фулертоновым, Московский – Королевско-Прусским.
Вслед за ними потянулись в Россию все высланные за границу при Елизавете Петровне немцы. Вернулась содержательница «австерии» Дрезденша и открыла в доме князя Грузинского на Вознесенском проспекте не менее роскошное заведение, чем раньше; с ней соперничала на Миллионной улице Амбахарша.
Каждый день жителей столицы ожидало какое-нибудь необыкновенное зрелище.
Однажды они увидели марширующих по колено в грязи всех фельдмаршалов русской армии, которые раньше числились почетными командирами полков, батальонов или рот, а теперь должны были наравне с безусыми поручиками проходить заново строевое обучение по новому уставу.
Впереди шел, выкидывая ноги по-журавлиному, дядя императора, принц Жорж. За ним, отдуваясь и пыхтя, кое-как переваливался гетман Кирилл Разумовский. Далее шел, пугая прохожих своим землистым лицом и желтыми белками, Александр Иванович Шувалов. За ним – первый вельможа страны, Алексей Григорьевич Разумовский. Поотстав от всех, плелся на опухших, подагрических ногах древний Никита Юрьевич Трубецкой.
Рядом с ними шагали голштинские офицеры в прусских мундирах, отсчитывая: «Ein, zwei, drei…»[64]
Барабаны били, флейты свистели…
Несколько дней спустя к Невской перспективе со всех сторон стал сбегаться народ. По проспекту тянулся длинный ряд карет. По бокам скакали драгуны.
В первой карете увидели знакомое лицо – мясистый нос, злые глазки, отвисшую губу, тяжелый подбородок. Это был Бирон.
Во второй – продолговатое лицо в парике, со смелыми глазами, резкими чертами лица, выдающимся решительным подбородком – фельдмаршала Миниха.
В третьей карете ехал худой старичок с угрюмым морщинистым лицом, в длиннейшем парике – Лесток.
И так тянулись эти кареты одна за другой. В них ехали тени страшного прошлого России.
– Куда их везут, зачем? – спрашивал каждый, и народ смотрел на них молча и молча медленно расходился.
…С ужасом и отвращением следил Михаил Васильевич Ломоносов за всем происходившим. Он всегда относился с презрением к дворцовой клике, беспринципной, лживой, готовой служить любому хозяину. Недаром еще в своей трагедии «Демофонт», изданной десять лет назад, он писал:
Как в свете все дела преображает рок: Сегодня свержен вниз, кто был вчера высок. Сей час нам радостен, но следующий слёзен, Тот вечером постыл, кто утром был любезен.Страх за будущее России сжимал ему сердце. На глазах его Россия теряла все то, что ей приходилось в течение ряда лет завоевать кровью и великими жертвами.
И он писал о том, что переживали тогда все честные русские люди:
Слыхал ли кто из в свет рожденных, Чтоб торжествующий народ Предался в руки побежденных? О стыд, о странный оборот!Ломоносов видел, что Россия снова попадает в кабалу к иностранцам, боялся, что надолго задержится ее дальнейшее развитие.
Его убеждения не позволяли ему молчать. Он считал, что каждый русский писатель и ученый должен стоять прежде всего на страже интересов своего народа и Русского государства, побуждать молодое поколение «на геройские поступки», на «великие дела в науке и труде» и бороться против врагов Отечества, проявляя при этом величайшую бдительность.
«Недреманное бдение грамотных русских людей, особливо молодых и талантливых, государству нужно, – писал он Фонвизину. – Знаете ли, сударь, какую опечатку, например, сделали в „Петербургских ведомостях“ при оповещении в ноябре 60-го года о взятии Берлина? То была нарочитая и злейшая шикана[65] здешних тайных скотов… И я за нее чуть шандалом не съездил в рожу академицкого секретаря Тауберта. Бывшего нашего посла в Пруссии, графа-то Петра Чернышева, представьте, будто по ошибке, вместо „действительный камергер“ публично пропечатали „действительный камердинер“».
Себя Ломоносов называл: «Я есмь газет, гремящий против врагов Родины».
Еще в 1749 году, когда академик Миллер в своем докладе на тему «Происхождение народа и имени российского» попытался развить теорию другого немца, Байера, о том, что первые русские князья были скандинавскими варягами и это они основали Русское государство, а самое наименование свое якобы русский народ получил от шведского племени росс, – Ломоносов с яростью восстал против этой клеветы. Особенно возмущали великого помора уверения Миллера, что «варяги благополучно завоевали русских». Тогда он не только разоблачил это измышление, но и выдвинул свою теорию о том, что русские происходят от роксолан – одного из скифских племен, что роксоланы имели своих вождей и им незачем было призывать иноземцев для устройства своего государства[66].
Ссылаясь на античного географа Страбона*, который писал, что «… выше Борисфена* обитают крайние из известных нам народов скифского племени – роксолане…», – Ломоносов отмечал обширность территории, на которой проживали скифы.
Историю русского народа Михаил Васильевич рассматривал в связи с историей других славянских народов, говорил о могуществе славян в древности и их важной роли в истории Европы.
Пользуясь первоисточниками – русскими летописями и трудами античных и византийских писателей, – Ломоносов в течение пяти лет трудился над первым томом «Древней Российской истории». Первые три печатных листа ее были изданы в 1759 году, а окончательно она вышла уже после смерти автора, в 1766 году. В 1760 году вышел в свет «Краткий Российский Летописец с родословием». Он состоял из трех частей. Первая – «Показание российской древности, сокращенное из сочиняющейся пространной истории». Вторая – хронологический список с кратким жизнеописанием великих князей и царей до Петра Великого. Наконец, в третьей части помещены были родословные таблицы царей с указанием брачных союзов с иностранными дворами.
Задачу своих исторических трудов Ломоносов видел в том, чтобы русские люди стали гордиться своим прошлым, хотел показать, как, несмотря на неимоверные трудности, русский народ, преодолев всех внешних врагов и внутренние неурядицы, достигал все большей силы, могущества и славы.
«Каждому несчастию, – писал он, – последовало благополучие большее прежнего, каждому упадку – высшее восстановление».
Ломоносов хотел, чтобы славные дела прошлого вдохновляли русский народ на новые героические подвиги для усиления могущества своей Родины. «Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу и, пренося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила».
И теперь он открыто выражал свое недовольство всем происходящим. Когда академик Штеллин, воспитатель и друг нового императора, предложил Ломоносову написать оду по поводу подготовляемого мира с Пруссией и проводимых Петром III реформ, он резко ответил:
– Этого я никогда не сделаю! – и прибавил насмешливо: – Капуста и репа еще не взошли в огородах, зато всходят голштинские реформы.
Случайные и неожиданные приказы нового императора создавали необыкновенный беспорядок, охвативший столицу.
Дворяне-офицеры и солдаты действующей армии, сражавшиеся почти семь лет в Европе, видя, что все их труды пропали даром, пользуясь указом о вольности дворянства, бросали свои части и устремлялись в Санкт-Петербург, увеличивая число недовольных.
Как-то, прогуливаясь вечером по городу, Петр III едва не был искусан стаей бродячих собак. Тотчас же он приказал образовать особую команду из дворцовых егерей для «наискорейшего истребления бездомных собак, а также ворон и прочих бесхозяйных птиц».
По всему городу поднялась стрельба. Дворцовые егери вели себя как разбойники: стреляли не только в собак и ворон, но и в любимых народом голубей и просто в домашнюю птицу, попадавшуюся на глаза.
По вечерам действовали настоящие разбойники и выходить на улицу стало очень опасно.
В 1762 году, в середине Великого поста, на Фонтанке из расположенной недалеко от города деревни Матисовки появилась шайка вооруженных грабителей, обиравшая и раздевавшая прохожих. Дело дошло до того, что однажды воры вырезали шелковые гобелены в доме самого генерал-полицмейстера барона Корфа.
В мае были спущены на Неву вновь построенные суда. Флагманскому кораблю было присвоено имя злейшего врага России: «Король Фридрих».
10 мая был торжественно отпразднован мир с Пруссией. Зимний дворец светился огнями. С крепости, Адмиралтейства и судов, стоявших на Неве, было дано более тысячи выстрелов из орудий.
Пили «за великого короля Пруссии Фридриха». На банкете Петр III, оживившись, окруженный голштинскими офицерами, сказал в присутствии прусского посланника, фон дер Гольца, гетману Кириллу Разумовскому, командиру гвардейского Измайловского полка:
– Гвардия – это янычары*. Вскорости мы их заменим полевыми полками под руководством наших голштинцев…
Ропот в народе, в армии и даже среди придворных нарастал с каждым днем. Одни, более сдержанные, говорили: «Нынешний император самый большой враг самому себе…» Другие, более горячие, заявляли: «Ждать, пока голштинец даст нам гостинец, нечего, надо на престол посадить Екатерину Алексеевну: она обещает восстановить порядки Петра Великого. Она каждым случаем пользуется, чтобы доказать любовь ко всему русскому».
Все делились на «петровцев» и «екатерининцев», причем «петровцев» становилось все меньше и меньше. Вся гвардия была на стороне Екатерины.
В огромном Зимнем дворце, где только что была закончена внутренняя отделка, было пусто.
Петр III, переехав туда на жительство, поместил в самом отдаленном крыле императрицу Екатерину Алексеевну и немного ближе к себе – сына Павла Петровича с воспитателем Никитой Ивановичем Паниным. Сам жил уединенно. На антресолях разместилась его фаворитка, Елизавета Романовна Воронцова, племянница великого канцлера, прозванная за неуклюжую фигуру и толстое рябоватое лицо «трактирщицей». Два генерал-адъютанта – Унгерн-Штернберг и Гудович – и несколько приближенных лиц составляли всю свиту Петра.
Был час обеда. За круглым столом, помимо императора и двух его адъютантов, сидели: широколицый, с тонкими, хитрыми губами статский советник Григорий Николаевич Теплов – правая рука президента академии, прозванный «Иудой» за его необыкновенную способность «перевертываться», приспособляться к каждой новой власти, а также академик Якоб Штеллин и секретарь Петра III – действительный статский советник Дмитрий Васильевич Волков. В самом конце стола сидел, щуря хитренькие глазки, генерал-полицмейстер Николай Андреевич Корф. Бригадир Фукс, законодатель кулинарных мод, был единственным человеком, которого оставил Петр III после Елизаветы Петровны при своем дворе.
Все молчали. Неотчего было веселиться: только слепой и глухой мог не видеть и не слышать, что дни нового императора сочтены. Таким слепым и глухим оставался только сам император.
Чудеснейший обед, приготовленный Фуксом, привел императора в отличнейшее настроение. Петр III отпил из бокала большой глоток рейнвейна и подвинул к себе вазу с виноградом.
Он думал о том, какой он хороший человек и как необходим летописец-ученый, который бы записал и увековечил его дела.
Выплюнув виноградные косточки в миску с розовой водой, он посмотрел на Штеллина.
– Слышишь, mein Freund?[67] Я думаю, дорогой Штеллин, что самый большой вред для России был Тайная канцелярия и монахизм*. Тайная канцелярия я уничтожал, теперь буду уничтожайт монахизм. Нужен вероправность… Die Glaube muss frei sein[68]. Я уже велел пропечатать об этом в «Ведомостях».
Все молчали. Волков, испуганно глядя на Петра III, не выдержал, кашлянул. Камердинер Шпрингер подал императору трубку.
Он затянулся и, глядя на кольца табачного дыма, поднимавшегося, продолжал развивать свои мысли:
– Дальше мне нужно наказать Данию за притеснение моего родового герцогства – Голштинии. Я уже вызвать посланника Гакстгаузена и заявил, что объявлять датскому королю войну. Покойная императрица большую прошибку сделала: вместо того чтобы воевать против великого полководца короля Фридриха Прусского, ей нужно было завоевать Данию…
Волков раскрыл рот от изумления. Теплов невольным жестом схватился за голову, Штеллин смотрел удивленно и сочувственно, как смотрит врач на больного. Корфу от волнения не сиделось на месте, он ерзал в креслах.
– И наконец, – император улыбнулся, – остаются дела семейные: mit meiner lieben Frau![69]… Довольно я терпел… ребейоны* и конспираторы… Есть особа более достойная, чем она… – Он ткнул чубуком трубки вверх, где помещались антресоли.
– А к-как же с ее величеством? – заикаясь, спросил Волков.
– Арест и монастырь… И наконец, когда все эти дела будут закончены, мы будем заниматься немножко с культур… Я хочу вводить в России настоящий мюзик. Я уже поручил Пьери делать настоящий оркестр без всякий грубый эффект, один чистый мелодия, нежный… ласкательный, маэстозный* тон… Из Падуи надо вызвать скрипача Тастини…
Волков не выдержал, перебил государя:
– Не было бы, ваше величество, от сих прожектов потрясения для государства и ущемления персоны вашего величества.
Петр III усмехнулся:
– Пустяки! Сдумано – сделано, только, zum Teufel[70], не отступать… И потом, ein Mann – ein Wort[71], что сказано здесь, о том не болтать!..
Все поклонились, как будто давая обещание хранить тайну.
Петр III встал, отдал трубку камер-лакею и уже на выходе закончил свои мысли:
– Только надо все это народу разъяснить, чтобы он знал своя польза… – Обернулся к Штеллину: – Ты говорил с Ломоносов?
Штеллин поклонился:
– Так точно, ваше величество. Не хочет ничего писать во славу вашего величества. Когда, по его должности, предложено было Ломоносову написать оду на заключение мира, он ее их императорским величествам Петру Первому и Елизавете Петровне более посвятил, а вашей особе уделил всего несколько строк. Спрашивали его: почему сие? «Во славу тетки его, – говорит, – пелось – пел… а тут, – говорит, – не успели еще капуста и репа взойти на огороде, зато взошли голштинские реформы»…
– Не понимать, чёрт возьми, при чем тут капуста? Унгерн!
Адъютант вытянулся и замер.
– Отправляйтесь к Ломоносов, везите его сюда!
Император обернулся к гостям:
– Я вас не задерживаю, господа…
Все разъехались. Волков поспешил к камер-фрау императрицы, Екатерине Ивановне Шаргородской, и через нее передал все, что говорил Петр III. Генерал-полицмейстер Корф, недолго думая, подъехал с заднего крыльца, с Мойки, к апартаментам Екатерины Алексеевны, доложил о себе, был принят и сообщил слышанное за обедом. Григорий Теплов поспешил к гетману Кириллу Разумовскому, рассказал обо всем подробно, а тот, в свою очередь, поскакал к императрице…
Опять весна была во всем цвету. Ломоносов сидел в саду на скамейке под большой березой, посаженной еще в петровское время, и рассеянно перебирал корректурные листки книжки «Первые основания металлургии, или рудных дел», подготовленной им к печати. Все валилось из рук… Сумрачные, серые, сомнительные времена. Бороться? С кем? С императором? С тепловыми, шумахерами, таубертами, которые всегда сумеют подслужиться к новому хозяину и пролезть вперед? К тому же стал он чувствовать себя хуже: от «нервического расстройства» начались сердцебиение и одышка.
На улице загромыхала золоченая придворная карета, запряженная шестериком, остановилась у калитки. Долговязый генерал в прусском куцем мундире с эполетом на одном плече и аксельбантами вошел в сад, увидел на скамейке академика и пошел к нему, широко шагая длинными несгибающимися ногами. Подойдя, вновь посмотрел на него с недоверием. Ломоносов сидел, как всегда, в своем старом китайчатом халате и туфлях, неподвижный, как истукан, и, в свою очередь, рассматривал генерал-адъютанта. «До чего противная рожа!» – думал он.
– Господин профессор, – сказал генерал-адъютант с сильным акцентом, – его величество требует вас к себе.
Первый академик поднялся, издал какой-то звук, средний между шипением и свистом, и вперевалку пошел в дом.
Генерал-адъютант удивленно посмотрел ему вслед и начал ходить взад-вперед.
Красноватые лучи заходящего солнца освещали окруженный распустившимися деревьями дом, придавая ему праздничный вид.
В окне показалась очаровательная головка девушки в золотых кудрях, с большими голубыми глазами. Генерал-адъютант усмехнулся и стал подкручивать усы, но головка исчезла, а вместо нее показалось сердитое женское лицо в чепце. Генерал-адъютант перестал крутить усы и сделал равнодушное лицо.
В это время на крыльцо вышел первый академик. Он был в форменном академическом, кирпичного цвета, мундире, при шпаге, в парике, с треуголкой в руке.
Они сели в карету и поехали.
В приемной Ломоносову пришлось ждать недолго. Прошло всего несколько минут, и доставивший его во дворец генерал-адъютант Унгерн появился из кабинета со словами:
– Его величество просит…
Петр III стоял перед картой, лежавшей на большом круглом столе, и чертил гусиным пером линию будущего похода в Данию. Увидев Ломоносова, он бросил перо и пошел к нему навстречу:
– Давно я тебя, друг мой, давно не видел. На куртагах не бываешь, дочка и жена своя прячешь…
– Я, ваше величество, – сказал, кланяясь, первый академик, – по разным наукам весьма занят… Жена и дочь моя приучены более к домашнему обиходу…
Петр III покачал головой, открыл большую коробку только что вошедших в моду сигар «Фидибус», подвинул к Ломоносову:
– Кури.
– Спасибо, ваше величество. Цигар не курю. Иногда забавляюсь трубкой.
– А, так ты любишь наш солдатский трубка mit Knaster?[72]
Император встал, взял из стойки фарфоровую голштинскую трубку с длинным мундштуком, протянул академику:
– Вот тебе мой подарок. Садись, друг мой. Все говорят, что ты меня игнорируешь, всех немцев бранишь, иностранцев выгонять из России зовешь, а не хочешь понять того, что я хочу в России настоящий культур сделать. Столица сделать чистый, как Берлин. Вводить: хороший мюзик, европейский одежда для всех. Как и дед мой, Великий Петр, борода всем снимать, монахизм устроить. Каждый будет иметь своя вера свободна. Указ о вольности дворянства уже дан. Для суще глупых, которые лишен ума, я велел открыть свой дом – долгхауз. Мы будем переводить на русский язык хронику с Тацит*, Плутарх* и Вольтер. Крестьян будем учить пению и танец и устраивать праздники на природа. В каждой деревня устроим свой музыкальный хауз – дом, где они будут петь и танцевать…
Чем больше говорил император, тем больше мрачнел Ломоносов. Наконец, услышав о том, как голодавшие во многих губерниях крестьяне будут «петь и танцевать», не выдержал, засопел, перебил:
– Что я, ваше величество, всех иноземцев изгнать призываю – чушь. У великих ученых – будь то немец Эйлер, француз Вольтер или англичанин Невтон – нам учиться надобно, и я, скромный человек, сын рыбака, премногим им обязан… Однако иностранец иностранцу рознь. Есть, конечно, такие верноподданные иноземцы, которые Россию и народ наш любят и честно нам служат. Однако же таких мало. Большая же часть из них склонны к алчности, шпионству и посмеянию. Поэтому нам необходимо иметь ученых для всех надобностей отечества из природных россиян.
Император стал раздражаться, постукивать пальцами по столу.
– А культур?
– Культура вовсе не есть, ваше величество, подражание чужеземному. Что с того, что играть будут чужую музыку, носить иноземные костюмы, в городах заведут немецкие, англицкие и французские порядки и моды? Культура токмо есть результат процветания отечества, и Петр Великий отлично сие понимал. И я, скромный ваш песнопевец, в одах и стихах своих призываю развивать земледелие, использовать рудные богатства, строить города и фабрики, каналы и дороги, расширять мореплавание. А паче всего способствовать размножению и процветанию русского народа. О сем мною много трактатов написано. Вот для этой-то культуры и я ввел в русский язык понятия и слова, коих в нем до того не было: «атмосфера», «микроскоп», «периферия», «емная ось», «квадрат», «кислота», «квасцы», «сложение», «корень» и прочие, дабы из чужих языков ничего полезного не оставить.
Император вскочил, заходил по комнате, и наконец спросил:
– А указ о вольности дворянства?
– Богатый человек, ваше величество, и так всегда волен. К тому же указ сей только увеличивает силу дворянства за счет прочих сословий. А вот разночинец или крестьянин, способный к наукам, не знает, как ему за них ухватиться.
Ломоносов, видимо, хотел еще что-то сказать, но сдержался. Император продолжал шагать, потом остановился.
– Еще что?
Ломоносов ответил медленно, подбирая слова:
– Еще, ваше величество, дозвольте вам сказать. Русский народ имеет глубокий ум. При Петре Великом он такие трудности перенес, каких и при Мамае не видели, – в деревнях лебеду ели. А нет более любимого царя, и потомство имя его сохранит в веках. А отчего сие? Оттого, что народ видел, что тяготы его и жертвы идут на пользу отечеству, на пользу потомкам. Ну а попробуй ему кто-нибудь на шею сесть без толку, ради порабощения, особливо чужеземцы, – долго не усидит.
Император сел, задумался, потом перевел свои голубые выпуклые глаза на первого академика.
– Не состоишь ли ты, друг мой, тоже в числе ребейонов и конспираторов?
Ломоносов вскочил, лицо его стало гордым и гневным.
– Сие, ваше величество, простите, сущая несообразность!.. Не мне заниматься такими ребяческими колобродствами. Я есмь газет гремящий, на страже наук и для процветания отечества. И не мне заниматься дворской суетой. Друзья у меня не по знатности, а по таланту и усердству наук. Я и в эпоху царствования моей покровительницы, тетки вашей, Елизаветы Петровны, пред сильными мира не склонялся, тем более ныне карьер делать таким способом не собираюсь…
Лицо Петра III просветлело.
– Однако же ты так ни одной оды и не написал!
Ломоносов помолчал, ответил тихо:
– Ранее пелось – пел. Ныне душа не лежит – молчу.
Император встал.
– Ну что же, посмотрим, когда мы из похода вернемся и короноваться будем, что ты тогда скажешь. Может быть, тебе нужно что-нибудь, проси…
Ломоносов поклонился, держа подаренную трубку в руках.
– Я и семья моя довольствуемся малым, и не о том мне в сей грозный час для государства говорить монарху…
Петр III пожал плечами, улыбнулся:
– Почему же в грозный?..
Адъютант уже закрывал дверь за Ломоносовым, когда император вновь окликнул академика:
– Вот что, друг мой, здесь сейчас граф Сен-Жермен. Говорят, он обладает даром предсказания, вызывает мертвых и умеет делать золото и алмазы через философский камень… Что ты о сем думаешь? Не является ли граф Сен-Жермен великим ученым?
Первый академик, услышав такую нелепость, вспылил:
– Что касаемо до химии, ваше величество, то в ней он просто жулик и невежда! Во всем же остальном чистый жулик и дешевый фокусник. Угощая нервических барынек пуншем с примесью опия, он, точно, способен их уговорить не токмо мертвеца, а и черта увидеть!..
Когда генерал-адъютант барон Унгерн проводил Ломоносова и вернулся в кабинет, император, улыбнувшись, сказал ему:
– Но это форменный медведь… И мундир у него какой-то рыжий. Надо будет переменить у них эту форму на что-нибудь более светлое и изящное. И потом – это чистый фанатик. Что-то вроде… Лютера*. Но за ним надо следить, потому что один нехороший овечек может все стадо запортить… – И он засмеялся, довольный собой.
Приехав домой, первый академик прошел прямо в кабинет и там заперся. Встревоженная Елизавета Андреевна несколько раз подходила на цыпочках к двери и пыталась завести переговоры с мужем, то зовя его кушать, то требуя, чтобы он открыл комнату для уборки. В ответ слышался рык, фырканье и тяжелые шаги продолжавшего ходить из угла в угол Ломоносова. Наконец, обсудив с Леночкой, Елизавета Андреевна решила прибегнуть к инсценировке. Леночка разделась и легла в постель, а Елизавета Андреевна поспешно поднялась по лестнице к кабинету мужа и закричала взволнованным голосом:
– Михаил Васильевич, наша дочь Ленхен совсем больна! У нее жар, и она зовет своего отца…
Ломоносов перестал ходить, остановился перед дверью, – видимо, раздумывал. Наконец дверь открылась. Первый академик посмотрел на жену сердитыми глазами.
– Вы, госпожа профессор, кажется, начинаете заводить в доме всякие враки… Впрочем, посмотрим… – и, сердито пыхтя и отдуваясь, затопал по лестнице вниз.
В полумраке под атласным розовым одеялом лежала в постели Леночка, закатив глаза, разметав золотые кудри по подушкам. Пушистый кот расхаживал по кровати. Елизавета Андреевна осторожно из дверей наблюдала за мужем, не очень уверенная в благополучном исходе задуманного предприятия…
Не успел Михаил Васильевич наклониться над дочерью, как Леночка приподнялась, обхватила его руками и начала плакать самым искренним образом, причитая сквозь слезы:
– Зачем ты губишь меня и матушку? Ты себя не жалеешь, здоровья своего не бережешь!..
Первый академик растерялся. Внешне грубый и раздражительный, он в душе был очень добрым человеком. Не было случая, чтобы он нищего отпустил без милостыни, бедного студента не ссудил деньгами, просителя не выслушал внимательно. Женских слез он совсем не выносил, а Леночкиных в особенности.
– Да, ты права, дружочек, – сказал Михаил Васильевич, нежно гладя Леночку по голове. – Ничего не может быть хуже глупого самодержца, да еще из иноземцев: и ума нет, и сердце чужое. Такому ничего не поможет. Нам же следует быть подальше от дворской суеты, пустых комедиантов-перевертней, которые интригами строят свой карьер. К тому же меня науки зовут. Стоял за них смолоду – на старости не покину.
Елизавета Андреевна, видя, что гроза миновала, вошла, обняла мужа:
– Ах, Михаил Васильевич! Вы уже довольно потрудились. Посмотрите на себя. Что с вами стало! Теперь пора немножко ехать отдохнуть на натуру…
Ломоносов обрадовался:
– А и то правда!.. Мы наше хозяйство совсем забросили. Давно я на мызе* не бывал. Вот съезжу, осмотрюсь, приведу все в порядок и потом за вами приеду…
Елизавета Андреевна просияла и бросилась хлопотать по хозяйству: кормить укрощенного громовержца ужином и укладывать спать.
Имение, пожалованное в марте 1753 года императрицей Елизаветой Петровной Михаилу Васильевичу Ломоносову для устройства фабрики цветного стекла и бисера, «как первому в России тех вещей сыскателю», было расположено на глубокой и быстрой реке Усть-Рудице и состояло из двух мыз – Коровалдай и Уструдица. Ехать нужно было туда дорогой по берегу моря через Ораниенбаум.
Михаил Васильевич, освободившись от тяжелых мыслей, угнетавших его в Санкт-Петербурге, весело осматривался по сторонам, трясясь в своем «драндулете», который то нырял в глубокие придорожные ямы, то медленно взбирался на гору. Две серые лошади бежали неторопливо, часто оступаясь и как будто с удивлением кивая друг другу. Старик кучер, древний отставной бомбардир Скворцов, глухой и подслеповатый, дремал на козлах.
Была середина июня. Солнце отражалось на ровной морской поверхности, как в зеркале, дробясь на тысячи бликов. У самого берега змеилась пенистая полоса прибоя. Мелкими стайками совсем низко летали белые чайки. И над всем этим царствовал совсем особенный, свежий морской солоноватый воздух.
У Ломоносова помолодели глаза. Он скинул шляпу, расстегнулся. Его так и подмывало броситься в воду. Лодку бы сейчас парусную, чтобы, стоя на корме, смотреть, как ныряет она в морской пене! Сетей – морских, тяжелых от улова, в которых рыба бьется и подпрыгивает, блестя серебристой чешуей на солнце! Свободы!.. Чтобы не видеть интриг придворных проходимцев-перевертней, которые не имеют ни совести, ни чести. Главное, чтобы не нужно было ни о чем просить, ни перед кем унижаться.
Он вспомнил, как однажды, когда ехал в Петергоф к Ивану Ивановичу Шувалову, чтобы убедить его дать Елизавете Петровне на подпись указ об основании Петербургского университета, увидел в траве кузнечика и, завидуя его свободе, написал стихотворение, ставшее потом очень модным, хотя придворные дамы, читавшие его вслух, совсем не подозревали, под влиянием каких переживаний оно зародилось у автора.
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! Препровождаешь жизнь меж мягкою травою И наслаждаешься медвяною росою. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, Но в самой истине ты перед нами царь: Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен! Ты скачешь и поёшь, свободен, беззаботен; Что видишь, всё твое, везде в своем дому; Не спросишь ни о чем, не должен никому.Он ехал, а кругом все стрекотало и пело. С правой стороны дороги тянулся бесконечный редкий лес, поросший высокой травой. Кое-где белели березки, краснел иван-чай, темнели вековые сосны.
Проехали через ораниенбаумский парк. Видны были высокие чугунные решетки вокруг дворца и за ними желтые, синие и белые мундиры голштинцев: ожидался приезд государя. Пересекли Петергофскую дорогу и по мосту через Усть-Рудицу подъехали к имению.
Вечерело. Ясно был виден освещенный закатом стоявший на горе господский новый бревенчатый дом, с высокой башней, выходившей окнами с одной стороны к холмистому берегу реки, с другой – к лесу. На башне крутился жестяной Эол*, издавая звон от порывов ветра. Дом был обнесен затейливым забором. Вокруг были разбросаны крестьянские домишки, мельница, лесопильня, заводские здания, где делали бисер и голубого цвета стеклянную посуду, алый стеклярус, литые столешницы и различную галантерею.
Ломоносов построил на многоводной тогда Усть-Рудице прочную плотину в 30 сажен длиной с каменной дамбой, шлюзами и воротами. Водяная мельница имела три колеса: для пилорам, для машин и дисков, подготовляющих сырье и шлифующих мозаику, и для молотьбы хлеба. Два фабричных здания на каменных фундаментах – одно, в котором было девять различных печей, и другое, где работали граверы, шлифовальщики, мастера мозаичного дела и находился склад готовой продукции, – также были выстроены весьма основательно. Рядом были дворы для фабричных людей, кузница, дом для приезжих – с кухней, баней, амбарами и конюшнями.
Однако фабрика хирела, и личное хозяйство Ломоносова приносило одни убытки – и не потому, что хозяин редко здесь бывал.
Ломоносов стремился создать самое передовое по тому времени производство, изобретал новое фабричное оборудование. Все это стоило больших денег. Получив от Сената ссуду в четыре тысячи рублей, он уже в августе 1757 года израсходовал более семи тысяч. Между тем продукция, которая изготовлялась на его фабрике, продавалась плохо, несмотря на высокое свое качество. Дворяне предпочитали покупать вещи даже худшего качества, лишь бы они были иностранные. Но покрывать убытки за счет эксплуатации крестьян Ломоносову не позволяла совесть.
Получив вместе с имением 212 душ крестьян «в вечное при той фабрике владение», Михаил Васильевич, обустроившись, созвал сход и выделил лучшие луга самым бедным из своих крепостных; собственный же его скот пасся наравне с крестьянским. Он запросто бывал во всех хатах и каждого приходившего к нему усаживал за стол и потчевал тем, что в доме было. Вначале крестьяне были в крайнем недоумении: барин как будто был важным человеком в Петербурге и имел чин, а с другой стороны, крестьянское хозяйство знал не хуже их, здоровался со всеми и при себе не позволял стоять. А потом привыкли, стали приходить к нему за всякой нуждой и помощью, приглашали его на именины, на рождения, на свадьбы.
Слух о таком странном помещике распространился на всю округу, и ближайший его сосед – владелец имения «Анненталь» барон Иван Иванович Фитингоф, женатый на внучке фельдмаршала Миниха, – как-то по глупости сообщил о причудах Ломоносова императрице. Елизавета Петровна не только не удивилась такому рассказу, но прочла Фитингофу нотацию:
– А вам известно, любезный барон, что я сама в селе Измайлове выросла, с простыми девками хороводы вожу и при всяком вояже истинный плезир токмо и имею от крестьян… И близкая мне особа также от крестьян происходит, однако же я сего вовсе не стыжусь…
Бедный Фитингоф краснел и бледнел, но было уже поздно. Однако Ломоносову было передано через Ивана Ивановича Шувалова, чтобы он «в сношениях с простым народом соблюдал приличие». После этого первый академик, посмеиваясь, сообщил крестьянам своим, чтобы при других они его «не срамили», хотя бы снимали шапки и кланялись, «потому как я – десьянс академик и почтение мне от всех указано свыше».
Несмотря, однако, на такую свою простоту, Ломоносов был требователен и строг, а лентяев и врунов терпеть не мог. Завидев где-нибудь грязную, нечищеную лошадь или худую корову, Михаил Васильевич тотчас спрашивал: «Чья?» – и записывал себе в книжку; тогда уж владельцу доставалось и за «крайнюю леность», и за прочие грехи. Если же записывал, что «запустение сие происходит от малоземельности», то подушные и прочие налоги брал на себя, помогал бедняку чем мог, чтобы тот поправил свои дела.
Особое внимание Ломоносов уделял здоровью крестьян: завел за свой счет фельдшера и аптеку, запретил крестить детей в холодной воде, заставлял содержать больных отдельно и очень бывал доволен, когда браки совершались по любви, а новобрачные были здоровыми и красивыми. Если же невеста попадалась щуплая, невзрачная, низкорослая, то Михаил Васильевич всякий раз грустно покачивал головой, каждый раз вспоминая про своих сородичей-поморов, у которых девки были здоровые и зимой наравне с мужчинами выбегали из парной бани охладиться в снегу.
Под таким барином чухонцы* поправились, стали богатеть. Сам же Ломоносов после первого, довольно продолжительного пребывания в деревне уехал назад в Петербург и с тех пор стал наезжать редко, оставив бурмистром* Адамку Кювеляйнена, худощавого подслеповатого финна с белесыми ресницами и волосами цвета соломы. Адамка Кювеляйнен расположил его кротостью. При разговоре кланялся низко, говорил «ваша вишкоротие», ходил босой, в рваных портках, домишко имел самый худой.
«Такой человек обижать народ не будет», – решил Михаил Васильевич и с легким сердцем уехал в Петербург.
Теперь он с любопытством оглядывался по сторонам. Многие домишки осунулись, деревенская улица выглядела неприветливо. Через дорогу прогнали стадо коров, скот выглядел не ахти как. Пастух – босоногий мальчишка в длинной, до колен, рубахе, худой и бледный – остановился, глядя испуганными глазами на «драндулет» и сидевшего в нем десьянс академика.
«С чего бы сие? – подумал Михаил Васильевич. – Доходу с деревни даже и одного алтына не беру, оброк я с них снял, а не токмо прибытка, но и довольства прежнего не видно».
У самого дома встретил его Адамка Кювеляйнен, в той же рубахе и портках, что и много лет назад, однако же весьма пополневший. Теперь брюхо у него выпирало вперед, а маленькие серые глазки заплыли окончательно на толстой роже.
– С приездом, графчик, ваше вишкоротие, – сказал Адамка тонким голосом и почесал одной босой ногой другую.
Ломоносов подозрительно его осмотрел и, ни слова не говоря, вошел в дом. Затопили камин в столовой, открыли ставни и окна. В комнатах стоял нежилой воздух – пахло сосной. Из «драндулета» вынесли погребец с напитками и провизией.
Адамка прислал жену Катарину прибрать в доме и постлать барину постель. Катарина скромно постучала в дверь, вошла, поклонилась в пояс.
Михаил Васильевич взглянул на нее и ахнул. Несколько лет назад это была маленькая, невзрачная, изнуренная непосильной работой женщина. Теперь же ее и узнать нельзя было. Она сделалась румяной, круглой как шар. Волосы ее были тщательно прибраны, бархатную робу* перетягивал затейливый пояс, на ногах были сафьяновые сапожки.
«С чего бы сие?» – снова подумал десьянс академик, принимаясь ужинать. Впрочем, с дороги он сильно устал и вскоре лег спать.
Утро было чудесное, блистательное. Солнце стояло высоко, озаряя своими лучами все пространство от холмов, покрытых темным лесом, до моря, ровные волны которого вдалеке мерно ударяли о берег.
Михаил Васильевич вышел на крыльцо без парика, с раскрытой грудью, в легком шелковом камзоле, летних чулках и немецких туфлях. Его лицо с немного приплюснутым и необыкновенно чувствительным до запахов носом сморщилось от удовольствия. Он постоял минутку, вдыхая ароматы утра, огляделся кругом, любуясь природой, острым глазом замечая каждую тень от куста, извилины холмов, и широко зашагал по деревенской улице к ожидавшему его экипажу.
Михаил Васильевич решил провести несколько часов у рыбаков – подышать соленым морским воздухом, а может быть, если удастся, и выйти в море на лодке – половить рыбу сетями.
Он ехал к своему приятелю, старому рыбаку Виртанену, летом жившему на самом берегу моря. Курт Виртанен, пожилой финн с морщинистым лицом, сидел перед своим приветливым белым домиком и чинил снасти. Ему помогал сын – высокий крепкий парень со светлыми волосами и спокойными голубыми глазами.
– Поздорову ли живешь, Курт? – спросил Ломоносов, подходя к Виртанену.
Старик приподнялся и радостно взмахнул руками.
– Здрафстфуй, парин, здрафстфуй, тафно не пыфал, тафно… Жифем понемножку. Хорошего мало. Фсё налоги та опроки, то теньгами, то рыпой, молоком, птицей…
Михаил Васильевич даже рот разинул от удивления:
– Кто же их берет?!
– Та ты, парин!
– Как так – я?!
– Пурмист опещал тепе написать, что урожай пыл плохой, та и рыпы мало, за зиму скот отощал, чтопы меньше прать…
Не успел старик закончить свою речь, как «барин» издал странный крик и бросился бежать со всех ног к экипажу.
– Кута ты, кута, я фить так сказал! – кричал старик вдогонку, но Ломоносова уже не было.
Старые лошади с трудом тащили экипаж по песчаной проселочной дороге, шедшей от моря. Подъехав к деревне, Ломоносов выскочил из экипажа. Изо всех окон высунулись головы, потом все, кто был дома, – бабы, старики и дети, – выбежали на улицу.
Приехавший из Петербурга «барин» бежал посредине улицы с необыкновенной быстротой и наконец скрылся в доме бурмистра Адама Кювеляйнена.
Прошло несколько минут, и все увидели, как бурмистр вылетел из своего дома, как снаряд, и плашмя упал на пыльную улицу.
Затем окна в доме Кювеляйнена открылись, и оттуда стали вылетать разные вещи, начиная с самовара и кончая периной. С такой же быстротой, как и раньше, Ломоносов выскочил на улицу, схватил бурмистра за шировот, приподнял, как мешок, и, подталкивая коленом, погнал перед собой, крича страшным голосом:
– Обманщик, грабитель, мздоимец и вор!
Вечером был собран сход, на котором бурмистр не присутствовал: по причине телесных повреждений двигаться ему было невозможно.
Ломоносов, взволнованный, говорил:
– Не токмо от вас дохода никакого иметь не хочу, но одного желаю: чтобы люди, кои на мне записаны, в щастии и довольстве обретались, имея справедливого и честного управителя…
Бурмистром он назначил старика Виртанена и занялся фабрикой и хозяйственными делами. Но уже через несколько дней его потянуло к своим занятиям. Он стал проверять работу самопишущего прибора в имевшейся при доме метеорологической обсерватории и составлять план своих будущих работ. Особенно ему хотелось подвести итоги теоретическим спорам с противниками в области грамматики русского языка, правил стихосложения и русской истории.
Ломоносов лучше, чем кто-либо из его современников, знал и чувствовал русский язык во всем его богатстве, многообразии и чистоте. В своем посвящении к «Российской грамматике» Ломоносов писал:
«Повелитель многих язы́ков, язык российский, не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно* и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим язы́кам, нежели к своему, трудов прилагали. <…> Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с Богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятельми, италиянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому язы́ку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского язы́ка».
При этом Ломоносов первый отметил, что русский народ – единственный, который в течение своей истории сумел сохранить на всей территории Российского государства единый, свободный от местных искажений язык.
«Народ российский, по великому пространству обитающий, невзирая на дальное расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например в Германии, баварской крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбургской швабского, хотя все того ж немецкого народа».
Ломоносов был общепризнанным первым поэтом своего времени. Его перу принадлежали одна героическая поэма, две трагедии, тридцать шесть од и более ста стихотворений. Но поэзия являлась частью его научно-просветительной и общественной деятельности. В своих стихах он боролся за русскую науку и русское национальное просвещение, призывал к великим трудовым подвигам, прославлял славные дела предков.
И хотя сам Ломоносов в одном из примеров, вставленном им в «Российскую грамматику», писал: «Стихотворство – моя утеха, физика – мои упражнения», невозможно отделить Ломоносова-поэта от Ломоносова-ученого и борца за просвещение русского народа.
Александр Петрович Сумароков, основной его противник, стоял за развлекательную и лирическую поэзию. Впрочем, он увлекался и сатирой, нападая на взяточников и чиновников, но так до конца жизни и не мог понять и оценить огромного идейно-воспитательного и политического значения поэзии Ломоносова, про стихи которого писал:
Трудится тот вотще, Кто разумом своим лишь разум заражает, Не стихотворец тот еще, Кто только мысль изображает.На это Ломоносов отвечал ему в «Разговоре с Анакреоном»:
Хоть нежности сердечной В любви я не лишен, Героев славой вечной Я больше восхищен.Но Сумароков не унимался:
Его стихи хоть разуму и дивны, Но естеству противны.Еще более резкой была полемика Ломоносова с Тредиаковским. Ломоносов очень хорошо понимал значение старинного книжного церковнославянского языка в истории развития русского языка, но он решительно настаивал на его обновлении и приближении к народной речи, доказывая Тредиаковскому бессмысленность его попыток защищать «славенщину» старого книжного языка.
«Или» уж стало «иль»; «коли» уж стало «коль»; «Изболи» ныне все твердят «изволь», За «спиши» «спишь», и «спать» мы говорим за «спати».И, тут же цитируя самого Тредиаковского,
Свиные визги вси и дикии и злыи И истинные ти, и лживы и кривые… –он, обращаясь к нему, пишет:
Язы́ка нашего небесна красота Не будет никогда попра́нна от скота!На что Тредиаковский с отчаянием отвечал:
За образец ему в письме пирожной ряд, На площади берет прегнусной свой наряд, Не зная, что писать у нас слывет – иное, А просто говорить по-дружески другое… Ты ж ядовитый змий, или – как любишь – змей, Когда меня язвить престанешь ты, злодей?..И в самой академии, и вне ее были люди, весьма желавшие дальнейшего развития спора между двумя русскими академиками, для того чтобы сделать их навсегда врагами.
Понимая это, Ломоносов прервал полемику, ограничившись очень характерным для него восьмистишием.
Отмщать завистнику меня вооружают, Хотя мне от него вреда отнюдь не чают. Когда Зоилова* хула мне не вредит, Могу ли на него за то я быть сердит? Однако ж осержусь! Я встал, ищу обуха; Уж поднял, я махну! А кто сидит тут? Муха! Коль жаль мне для нее напрасного труда. Бедняжка, ты летай, ты пой: мне нет вреда.Но Михаил Васильевич так и не закончил своего спора ни с Сумароковым, ни с Тредиаковским. Положив начало науке о русском языке и выдвинув идею изучения русской народной речи, он был возмущен грубыми ошибками адъюнкта Шлёцера, написавшего по-немецки русскую грамматику. Теперь ему хотелось выступить с критикой этого труда.
В занятиях шел день за днем. Когда хозяйство пришло в порядок и сам Ломоносов почувствовал то ровное спокойствие духа, в которое он приходил при равномерном ежедневном труде, он решил ехать за семьей, чтобы уже надолго поселиться в деревне.
Я зрю здесь в радости довольствий общий вид, Где Рудица, вьючись сквозь ка́менья, журчит, Где действует вода, где действует и пламень, Чтобы составить мне или превысить камень Для сохранения Геройских славных дел, Что долг к Отечеству изобразить велел.Выехал он под вечер 28 июня. Было приятно покачиваться в «драндулете» на ухабистой дороге под прохладным морским ветерком. Когда пересекли дорогу из Петергофа на Ораниенбаум, послышался грохот, донесся конский храп, крики, старый кучер попридержал лошадей. В Петербург летела карета, заложенная тройкой. На облучке сидел известный всей столице лихой гвардеец – Алексей Орлов. Он держал вожжи. Рядом с ним стоял, выпрямившись, цальмейстер* гвардейской артиллерии Григорий Орлов, мужчина гигантского роста, со шрамом на правой щеке; он обнаженным палашом* плашмя бил лошадей. Кони летели, как сказочные звери, распластавшись в воздухе.
В карете мелькнуло полное, красивое лицо Екатерины. Она была в парадном траурном платье с лентой и звездой. Мелькнул нежный профиль Екатерины Ивановны Шаргородской, одетой в бальное платье.
Все исчезло в дорожной пыли, в сумраке дальнего леса, как мимолетное видение.
«Куда это они так несутся?» – задал себе вопрос Михаил Васильевич и опять задремал, укачиваемый мерным движением «драндулета».
В Петербург приехали под самое утро. У заставы его поразило отсутствие будочников и большое количество людей на улицах. Чем дальше ехали, тем гуще становилась толпа. Доносился тревожный колокольный звон. У Красного моста пришлось остановиться. Народ, вперемежку с солдатами, шел в сторону Гороховой, крича «ура». Издали доносились звуки музыки, виднелись знамена. Несколько экипажей стояли в стороне, остановленные людским потоком. В одной из карет Михаил Васильевич увидел Ивана Ивановича Шувалова, бледного и растерянного. Наконец карета подъехала к Полицейскому мосту.
Здесь делалось что-то невообразимое. Здание главной полиции горело. Ворота его были взломаны, стекла выбиты, в окнах мелькали какие-то люди. На улицу летели пачки связанных бумаг и списков, толпа их подхватывала и бросала в костры, отблеск которых далеко освещал рассветное небо. Из ворот вывели толстенького добродушного старичка в генеральской форме. Двое фабричных вели его за руки, какой-то солдат подталкивал коленом в зад.
«Да ведь это же генерал-полицмейстер Корф!» – сообразил Ломоносов, когда старичка и его спутников поглотила толпа.
Рядом, на Мойке, раздались громкие крики. Бородатые мужики и люди разного звания, в поддевках и зипунах, суетливо бегали по берегу. Гвардейцы разных полков волокли к ним голштинских офицеров, подгоняя их прикладами. Вот мелькнул долговязый голштинец в белом мундире с бирюзовыми отворотами и длинным палашом, который он даже не успел обнажить. Толпа его подхватила и с громкими криками бросила в воду.
Неожиданно толпа раздалась. На огромном вороном коне, размахивая обнаженной саблей и сбивая пытавшихся его остановить, на полном карьере в нее ворвался Преображенского полка майор Воейков, не желавший участвовать в перевороте. Взлетев на мост, всадник дал шпоры коню, с разбегу перемахнул каменный барьер и плюхнулся в воду. Люди, которые готовы были его разорвать, теперь с волнением следили за тем, как конь и всадник переплывали на тот берег.
– Плывет, сукин сын, плывет! – восхищался какой-то парень в кумачовой рубахе и сбившемся на затылок картузе. – Ишь ты, на тот берег вылез… Ускакал!..
С большим трудом карета Ломоносова пробилась к старому Казанскому собору на Невском. Тротуары по обеим сторонам проспекта были запружены народом. Со стороны торговых рядов раздавалась частая барабанная дробь. Бежали знаменосцы Преображенского полка, окруженные офицерами с саблями наголо. За ними с ружьями наперевес спешили солдаты в зеленых елизаветинских кафтанах. Не успел полк выбежать на Дворцовую площадь, как загудела земля, донеслись тяжелые раскаты. На полном карьере неслась конная гвардия на огромных, рыжей масти конях, с обнаженными палашами. Впереди молнией летел золотой штандарт*.
Из Казанского собора вышел в полном облачении, окруженный всем синклитом*, архиепископ Дмитрий Сеченов и направился к Зимнему дворцу.
Ломоносов, оставив карету, с трудом пробрался туда же.
На площади квадратом были выстроены войска: преображенцы и семеновцы, конная гвардия, измайловцы, артиллерия, армейские полки. Перед строем суетились офицеры и унтер-офицеры. Среди них заметны были фигуры Новикова, Державина, Фонвизина, Пассека.
У дворцового крыльца стояли сенаторы и генералы во главе с гетманом Разумовским, Никитой Ивановичем Паниным, Григорием и Алексеем Орловыми.
Вдруг Михаил Васильевич заметил, как две фигуры с портфелями юркнули в дворцовые ворота. Это были любимец гетмана Григорий Теплов и академический секретарь Тауберт.
«Уже успели!» – мелькнуло в голове Ломоносова.
Неожиданно наступила тишина. На парадном крыльце, выходившем на Морскую, появились два гвардейских офицера в лентах: один – полный, высокого роста, другой – пониже, но изящный и стройный. Это были Екатерина Алексеевна, одетая в мундир полковника Преображенского полка, и фрейлина Екатерина Романовна Дашкова в мундире лейтенанта. Екатерина Алексеевна взглянула на площадь и положила руку на эфес шпаги.
Войска замерли. Раздалась команда:
– Слу-шай, на кра-ул!
Екатерина Алексеевна сошла с крыльца, придворные рейтары подвели ей белоснежную породистую кобылу. Она вскочила на лошадь, выхватила из ножен шпагу и растерялась: на шпаге не было темляка*.
– Темляк, темляк! – крикнул в пространство подъехавший гетман Разумовский.
Тогда из передней шеренги конногвардейцев на огромном золотистом жеребце вылетел гигант красавец, гвардейский вахмистр. Он поднял коня на дыбы, одним движением сорвал темляк со своего палаша и подал императрице.
– Благодарю! – сказала Екатерина Алексеевна, бросив на него ласковый взгляд.
Вахмистр отдал честь, дал шпоры коню. Но золотистый жеребец не хотел повиноваться. Он замотал мордой, осел на задние ноги и заржал.
Екатерина Алексеевна улыбнулась вахмистру:
– Видно, не судьба, сударь, вашему жеребцу расставаться с моей кобылой. Как ваша фамилия?
– Потемкин, ваше величество, – отвечал вахмистр, гарцуя на непокорном жеребце.
Екатерина Алексеевна взмахнула шпагой – раздалась команда:
– Смирно! Фронт, готовьсь! Скорым шагом, прямо… Марш!
Запели флейты, рассыпалась барабанная дробь, заиграла музыка. Войска двинулись за Екатериной Алексеевной.
Новое царствование началось.
Глава двенадцатая ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ПОМОРА
Первые дни нового царствования превратились для многих в затянувшийся праздник: праздновались новые чины и награды, чествовались новые вельможи, делились дарованные земли и деньги. Вокруг идейных сторонников переворота крутились «перевертни», подхватывая на лету частицы щедрот, сыпавшихся с престола новой императрицы.
Не успели одни персоны «выйти из случая», а другие войти в оный, как начались торжества уже в Москве, куда Екатерина отправилась для коронования. Монаршие милости вновь посыпались на дворян, а для увеселения народа знаменитому русскому актеру Федору Григорьевичу Волкову повелено было «учинить маскарад» и стихи для хоров к нему написать Александру Петровичу Сумарокову.
«Маскарад этот, по словам современника, состоял из нескольких отделений сериозных и комических, в разных частях города: на высокой колеснице двигался целый Парнас*, Аполлон* и музы; в других местах были видны Марс* с героями в полных доспехах, горделивая Паллада со своими атрибутами; Бахус* под сению виноградных лоз ехал в усыплении с Силеном*, сидевшим перед ним на бочке, и с вакханками* под балдахином, которые били в бубны и литавры; на колеснице плясали сатиры* и Фавн*; в волшебном замке восседали гиганты богатыри с угрюмою наружностью.
За баснословными вымыслами являлись в лицах картины света, имевшия целию не только увеселение, но и осмеяние слабостей и недостатков человеческих: ехало собрание развратных картежников, качели, корчмы, харчевни, наполненные прожорами и пьяницами, мздоимные судьи, подьячие, петиметры, комедиянты, танцовщики, педанты*, доктора, скупые, раскольники. 16 человек петиметров, у каждаго в одной руке по зеркальцу, а в другой по бутылке лоделаванда*, которым они себя опрыскивали; за ними коляска, в которой петиметр убирался; перед ним и позади его лакеи держали зеркала. Везли комнату, в которой доктор, окруженный больными, писал для них рецепты и посылал слугу в следовавшую за ним аптеку. Шли 6 скупых, ели сухой хлеб и тащили за собой сундуки, оглядываясь, чтоб их кто не унес.
Колесниц было до 250, устроенных придворным механиком Бригонцием; из них некоторый были запряжены в 12, другия в 24 вола; действующих лиц было до 4000. Придворные актеры ехали верхами при разных отделениях сего маскарада и распоряжались ими. Инструментальная и роговая музыка играла в разных местах. К несчастию, сие увеселение стоило жизни начертившему план онаго Ф. Г. Волкову. Он занялся с таким усердием и желанием видеть свое произведение в совершенстве, что от излишних трудов и простуды занемог гнилою горячкою и скончался на 36-м году от рождения».
Первый академик стоял в стороне от всей этой суеты. К тому же здоровье его стало ухудшаться, а происходившие повсюду перемены не давали возможности уехать в семьей в деревню. Ломоносов стал плохо спать по ночам. Мешал «частый лом в ногах». Он смотрел на свои огромные, отекшие ноги, на извилистые набухшие вены, синими змейками выступавшие на молочно-белой и сухой коже, и думал. Дневные заботы переплетались с воспоминаниями…
Он закрыл глаза и вспомнил, как 20 лет назад за круглым столом, покрытым зеленой скатертью, сидели его враги: Шумахер, Мюллер, Гейнзиус, Тауберт, а он стоял перед ними, огромный, неуклюжий помор – «адъюнкт, через многие буйства и безобразности хорошо известный».
Адъюнкт говорил: «Полагаю я, что теплота происходит от движения внутри тела мельчайших частиц, из которых оно состоит. Частицы эти – корпускулы, или атомы, весьма связаны друг с другом взаимным притяжением. И если бы путем химическим сии вещества разложить или оторвать друг от друга, то сама материя на части разлететься могла бы».
Этим он уничтожал суждение о том, что существует таинственная материя «флогистон», порождающая теплоту, и создавал свою атомистическую теорию, основанную на материалистическом понимании законов природы.
В ответ засмеялся Гейнзиус, занося в журнал диссертацию; закивал огромным париком Шумахер: «Господин адъюнкт один против всего света мнения свои иметь хочет!»
От такой насмешки проснулся в Ломоносове северный морской дух ярости и упрямства. Сжав кулаки, он закричал в лицо академикам-чужеземцам: «От слепого прилепления к прежним мнениям наука некогда не меньше претерпевала, нежели от нашествия варваров!»
И его выгнали с заседания конференции, а для вящего посрамления велено было все работы его послать на апробацию знаменитому почетному академику Эйлеру.
И получился для его врагов великий конфуз. Эйлер считал, что адъюнкт Ломоносов в состоянии излагать и разъяснять предметы, необъяснимые и неизвестные даже величайшим гениям…
Ломоносов встал с кровати, поискал ногами туфли, надел шлафрок и подошел к окну.
Начинался рассвет. Серый туман поднимался кверху. На грязной площади стояли высокие фонарные столбы. Фонари были похожи на плошки. На углу переминался с ноги на ногу кисельник со своим лотком на складных козлах: он торговал киселем с постным маслом. Перед ним топтался в грязи мужик в лаптях, с пилой и топором за поясом. Чухонка-молочница везла на салазках свой товар. Матрос в круглой шапке нес в руках связку больших серных спичек, только что вошедших в моду.
Ломоносову стало скучно. Он повернулся и пошел в кабинет. Вспомнил, как много лет назад писал в «Ведомостях»: «Когда наша душа беспечальна, бодра и благорастворенна, то и тело в бодром здравии находится. И напротив того, ежели ум беспокоен, печален и смущен, то и следствия от того чувствительны бывают».
Ум был беспокоен, и от того следствия были чувствительны.
В кабинете все было вверх дном. Хотя и учил студентов: «Чистоту наблюдать до́лжно не только в делах беспорочных, но и при столе и в содержании книг и платья. Кто внешним видом ведет себя гадко, тот показывает не токмо свою леность, но и подлые нравы», – сам он держал теперь кабинет в беспорядке.
Огромный стол завален бумагами; здесь же коллекция минералов, карта Северного морского пути и множество книг, повсюду разбросанных, – так он жил и работал. Усевшись в кресло, стал перебирать бумаги. Что-то его беспокоило.
Нашел записку: «Сенату вернуть шесть тысяч, кои на фабрику позаимствовал». Не то. Рукопись: «О сохранении и размножении Российского народа». Не то. Бумаги: «О исправлении земледелия», «О истреблении праздности», «О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств»… Нет, не то. Он все быстрее перебирал листы… «О большем просвещении народа»…
Наткнулся еще на одну записку. Закрыл глаза. Вспомнилась недавняя борьба. Императрица приказала открыть все архивы проходимцу Шлёцеру, составившему грамматику так, что слово «боярин» происходило от «барана», «дева» от «диб», то есть «вор», слово «князь» от немецкого «кнехт», то есть «холоп», – этому Шлёцеру, про которого Ломоносов писал: «…из чего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в Российских древностях такая допущенная в них скотина». Мало этого, Екатерина II своим указом назначила Шлёцера профессором истории, минуя конференцию и вопреки страстным его, Ломоносова, возражениям. Этот Шлёцер, который в поисках легкого заработка готов был на всё: служить бухгалтером во французской фирме, ехать переводчиком или секретарем в Персию, Индию, Китай, Марокко или Америку, – теперь получал доступ к важнейшим государственным документам.
И тогда Ломоносов написал себе на память, как часто это делал в горькие минуты:
«Беречь нечего! Все открыто Шлёцеру сумасбродному. В Российской библиотеке нет больше секретов. Вверили такому человеку, у коего нет ни ума, ни совести, рекомендованному от моих злодеев. <…> За то терплю, что стараюсь защитить труд П[етра] В[еликого], чтобы выучились Россияне, чтобы показали свое достоинство…»
В конце записки было косо приписано грозное предупреждение: «Ежели не пресечете, великая буря восстанет».
Тогда же написал графу М. И. Воронцову: «Претерпеваю гонение от иноплеменников в своем отечестве, о коего пользе и славе ревностное мое старание довольно известно…»
Но что мог сделать канцлер Воронцов, потерявший всякое влияние и вскоре уехавший за границу?
Ломоносов встал, тяжело прошелся по комнате и снова вернулся к столу…
Прошка, еще более постаревший, с седыми непокорными «поморскими» вихрами, торчавшими во все стороны, и выцветшими от старости голубыми глазами, кряхтя, согнулся и посмотрел в замочную скважину.
Михаил Васильевич тяжело уселся в кресло, устремив неподвижный взгляд в окно.
Стало совсем светло. Красноватый квадрат лучей проник в комнату и осветил его лицо: огромный лоб, изрезанный морщинами, упрямый подбородок, серые грустные глаза, складки вокруг рта. Казалось, все беды и несчастья земли русской и ее порабощенного народа открыты были этому гениальному уму для того, чтобы тяжелым бременем лечь на его душу.
Прошке стало страшно – так печально было лицо Ломоносова. Он выпрямился и задумался: докладывать ли? Приезжий был из своих людей, да не было бы беды. Михаил Васильевич встал спозаранку мрачен.
Старик осторожно постучал и снова посмотрел в скважину. Ломоносов повернул голову к двери. Прошка приоткрыл ее осторожно:
– Там к тебе, Михайло Васильевич, гость приехал.
Ломоносов посмотрел на Прошку внимательно:
– Умывался?
– Не успел.
– Иди, помой физиогномию. Какой гость, зачем? Фамилию спросил?
Прошка почувствовал, что грозы не будет, приободрился:
– Федот Иванович Шубный приехал…
Лицо Ломоносова просветлело.
– Зови, зови! Да чаю завари покрепче! Умываться мне сюда принеси…
Прошка, довольный, что все обошлось благополучно, заворчал немедленно:
– Да что я, о четырех руках, о десяти ногах, что ли! И чаю завари, и физиогномию умой, и воды принеси!..
Впрочем, сделал он все очень быстро: заварил чаю, мигом принес таз, кувшин с водой, мыло и полотенце и полил Михайле Васильевичу, прибрал в комнате и привел гостя.
Федот Иванович Шубный, сын крестьянина Куроостровской волости, родился в деревушке недалеко от Холмогор. Девятнадцати лет, в 1759 году, он, подобно Ломоносову, пришел в Санкт-Петербург с обозом трески.
Не было случая, чтобы поморы, прибыв в северную столицу, не навестили Ломоносова и не привезли ему гостинцев: трески, семги копченой, палтусины, морошки.
Десьянс академик в таких случаях бросал все, усаживал своих земляков за большой стол на широком крыльце, а если это было зимой, то звал в столовую палату, приказывал племяннице своей, Матрене Евсеевне Головиной, подать пива похолоднее из погреба и начинал с гостями задушевный разговор, продолжавшийся иногда до глубокой ночи. Он живо интересовался всеми делами своих сородичей и тотчас замечал наиболее способных из них. Поморы – люди одаренные, сильные, смышленые, никогда не знавшие крепостного права, – дали России много выдающихся деятелей: мореплавателей, художников, кораблестроителей, ученых. Ломоносов обладал удивительной способностью чувствовать талантливых людей и никогда не оставлял их без своей помощи, а земляков в особенности.
Так он нашел и поддержал замечательного резчика по кости – Осипа Дудина, а сына его, Петра, определил в академическую гимназию, художника Ивана Терентьева, воспитал своего племянника – Михаила Евсеевича Головина, впоследствии знаменитого математика, физика и астронома, почетного члена Академии наук.
Ломоносов тотчас заметил в изделиях из кости и перламутра работы Федота Шубного проявление недюжинного таланта. Ломоносов, несомненно, и сам был выдающимся художником, и об этом свидетельствуют не только картины и портреты, выпускавшиеся «мозаичной» мастерской, но и его ранние рисунки, например «Каин» (1737). Он считал, что искусство, и живопись в частности, должно служить патриотическим целям, отражать героические деяния русского народа.
Шубный был определен истопником в придворный штат, и в 1761 году Ломоносову удалось с помощью И. И. Шувалова добиться высочайшего повеления о зачислении его в Академию художеств под именем Федота Шубина. Профессор Жиле предсказывал Шубину, что он станет величайшим русским скульптором. Так оно и случилось. Впрочем, это не помешало Сенату в 1775 году, уже после того как Шубин был избран академиком, запросить придворную контору: «На каком основании в 1761 году означенный Шубин был определен истопником ко двору Его Императорского Величества, будучи крестьянином в подушном окладе?»
В 1763 году Шубин во время прохождения академического курса был награжден первой серебряной медалью, а летом отправлен на Урал и на Север для изучения годности «некоторых поделочных камней», как-то: мрамора белого, горношитского, яшмы, орлеца, амазонского камня, малахита и других, а также художественных изделий из чугуна на Демидовских заводах.
Ломоносов, кряхтя, приподнялся навстречу гостю:
– Давно приехал?
– Вчера.
– Дай-ка я на тебя посмотрю. – Он повернул Шубина лицом к окну. – Такой же, только загорел малость! Садись, садись сюда, ближе, чай пить будем. Елизавета Андреевна чу́дное варенье приготовила, клюквенное. Рассказывай, куда ездил, что видел.
Михаил Васильевич налил в блюдечко чай из чашки, зачерпнул варенья и стал пить, поглядывая на гостя.
Шубин задумался, потом начал:
– Был на Урале, был на Севере – в Вологде, Вятке и далее, в Котласе и Сольвычегодске. До самой Ижмы доехал. И не знаю, что сказать, до того грустное сие путешествие: посреди изобилия натуры – нищета людей ужасающая! На одних Пермских казенных заводах более 28 тысяч приписных крестьян. Живут хуже колодников. Голы, босы, голодны. Под воинским караулом водят из казармы, более похожей на тюрьму, на работу и назад. На частных заводах еще хуже. Там бьют батогами и плетьми за каждую провинность. Многие работные люди руки на себя накладывают. Беседовал с господином Демидовым. Тот смеется: «Что вы им верите? Они все тати – воры. А ежели они есть будут, как мы с вами, да их в бархаты одевать, то и работать никто не станет, да и мне придется последнюю рубаху с себя снимать». Ответствую ему: «От такой худости и убожества работные люди у вас перемрут, да и много ли выдюжит голодный человек?» – «Ничего, – говорит, – одни помрут, других найдем. У нас на Руси людей много».
У Ломоносова недобро загорелись глаза, гневно нахмурились брови.
– Множество раз твердил я и о том писал Шувалову, что величество, богатство и могущество всего государства состоит не в обширности тщетной без обитателей, а в приращении российского народа, в его благоденствии, здравии и процветании. А кому о том забота – никому! Однако же и присноблаженной памяти царица Елизавета Петровна о том не думала, и нынешняя государыня Екатерина Алексеевна менее всего о сих делах помышляет. А о сановных персонах и говорить нечего. Их Отечество – при дворе, что для них народ! Бегут люди от помещичьих отяготений, от солдатских наборов, от свирепости отцов церкви, и никому не ведомо: кого больше в государстве – разбойников или благонамеренных пахарей. Непоколебимых и ясных законов нет. Всяк начальник сам себе закон, оттого нет внутреннего покоя и благополучия…
Ломоносов стал тяжело дышать.
Шубин слушал внимательно, потом спросил:
– Что же надлежит делать?
Михаил Васильевич молчал, потом сказал упавшим голосом:
– Не знаю и оттого страдаю и боюсь, что все труды мои для процветания и пользы Отечества исчезнут вместе со мною…
Шубин почувствовал, как у него от волнения клубок подступает к горлу. Он встал, походил по комнате…
– Я думаю, Михаил Васильевич, что, когда число просвещенных россиян будет достаточным, чтобы искусство, мануфактуры и земледельство развивалось в соответствии с правилами науки, изменятся законы, наступят плодородие и избыток товаров, и всяк будет в довольстве.
Ломоносов покачал головой:
– Ежели бы у нас правители шли по стопам Петра Великого, который во всех делах государственных прибегал к совету ученых людей, не то бы было. Взять хотя бы земледельство. Едва ли тысячная доля земель, годных для землепашества, используется. Оттого возят хлеб с юга на север через всю страну обозами. Остальная часть – всё пустошь и целина. А читал ли ты мою заметку в «Санкт-Петербургских ведомостях»?
Михаил Васильевич встал, порылся среди бумаг на столе, вытащил номер «Санкт-Петербургских ведомостей».
– Вот гляди. В здешнем императорском саду, что у Летнего сада, под моим наблюдением старший садовник Эклебен на пустой земле прошлого года посеял на небольших полосках пшеницу и рожь кустовым способом. Сие так ему удалось, что почти всякое зерно взошло многочисленными полосами, наподобие кустов. В одном из оных содержалось 48 Колосов, из коих в одном начтено 81 зерно, а всех в целом кусте из одного посеянного зерна вышло 2375 зерен весом девять с половиной золотников*. Пшеничный куст состоял из 21 колоса, в коих 852 зерна весом в семь и три четверти золотника. Теперь ты подумай, сколько в наших северных краях целинных земель и сколь они в рассуждении хлеба плодовиты быть могут старательным искусством!..
Шубин заинтересовался:
– Ну и что же, сей опыт земледельцам на пользу пошел?
Ломоносов махнул рукой:
– Пустое! Земли государственные, а где за помещиками числятся. Государству до того дела нет, помещику и того более, он с крестьянина и так все получит, а крестьянину лишь с оброком и барщиной справиться – так оно одно за другим идет…
Внизу послышался шум, раздались голоса. Ломоносов наклонил голову набок, прислушался.
– Приехал кто-то, что ли?
Федот Иванович встал.
Михаил Васильевич удержал его в кресле:
– Сиди, сиди. Сейчас узнаем, кто сей гость. – Стукнул раза два ногой в пол.
Почти тотчас появился в дверях Прошка. Лицо его сияло. Ломоносов посмотрел на Прошку.
– Видать, гость Прокопию по нраву. Кто там внизу шумит, как медведь?
Прошка улыбнулся еще шире:
– Это мезенский кормщик приехал, Федор Рогачев. С родины гостинцы привез.
– То-то ты рад… Это знатный на весь Север кормчий – мореход и охотник Федор Рогачев. Их таких всего четверо и есть: он, да Аммос Корнилов, да Павел Мясников с Васильем Суковым… Ну, Прокопий, зови Федора сюда.
Рогачев, огромный мужик с сивой бородой, мохнатыми бровями и зоркими серыми глазами, вошел в дверь, согнувшись, чтобы не задеть притолоку. Оглянулся, поискал образ в углах, чтобы перекреститься, – не нашел. Поклонился хозяину и Федоту Ивановичу в пояс, потом сказал недовольно:
– Что же у тебя, Михайло Васильевич, образа-то в горнице нет?
– Образ внизу, в столовой комнате. Садись с нами чай пить. Почто приехал в Санкт-Петербург?
Рогачев оглядел кресло, сел с осторожностью, потом боязливо взял хрупкую чашку с чаем и заговорил:
– Приехал я с товаром, поклон от земляков привез да вот о наших нуждах потолковать хотел с тобой, как ты есть в чинах…
Ломоносов покачал головой:
– Я более науками занимаюсь, а ко Двору не вхож. Ну, рассказывай: какой товар привез, как живешь?
Кормщик махнул рукой:
– Какая ноне торговля – горе! Привез малость пеньки да рыбу. Дорогу оправдаю, и то слава богу. Не знаем, как далее жить. Старики и те такого времени не упомнят.
Ломоносов с беспокойством посмотрел на него:
– Объясни обстоятельно, в чем суть?
Кормщик отодвинул от себя чашку, перевернул ее дном вверх, сверху положил оставшийся кусочек сахару, вздохнул, покачал головой:
– Дышать стало нечем. Конечно, и ранее было несладко. Монастыри, да Баженины, да Денисовы весь морской промысел в своих руках держали и торговлю тоже. Куда ни сунься – они. Их цена на товар. Работать – опять иди к ним же. Однако Архангельск первый порт во всей России был, торговля шла: пеньку, лес, рыбу, сало, ворвань*, деготь, парусное полотно, воск, моржовую кость, китовый ус, кожи, меха… Да мало ли чего было продавать! Никто нашим артелям не мешал ходить в море, добывать зверя, валить лес.
Ныне все кончилось. Торговлишка замерла: иноземные корабли стали ходить в Санкт-Петербург. Ранее, при Елизавете Петровне, промыслы все на откуп были дадены Петру Ивановичу Шувалову. Петр Иванович помер. Сказывают, должен остался государству более миллиона. Такого вора и деды наши не встречали. Никто не мог ни в море ходить, ни зверя бить. Баженины и Денисовы тоже кровососы были, так те хоть меру знали. От них государству польза была: флот Российский строили, в казну от их торговли доход шел.
А ныне что? Корабельный лес рубят нещадно, зверя бьют без смысла, налогов столько, что и за что платить – неведомо. Баню затопил – и плати с дыма. Холмогорские коровы наши по всему свету известны – их за недоимки забирают, а то люди спускают по бедности за бесценок – бьют на мясо. Рукодельства, художества, мореходство, коими мы, поморы, прославились, никому ноне не нужны. Как далее жить? От прежних многих артелей, что в море ходили, едва ли десятая часть осталась…
Михаил Васильевич горестно вздохнул:
– И такое разорение повсюду!.. Заложил я основание новой науке – экономической географии, сиречь собиранию сведений о земледелии, торговле, промыслах, мануфактурах, разных ремеслах и состоянии и числе населения во всех областях нашего государства. Задумал я составить политическое и экономическое описание всея империи. И что же? Читаю сведения воеводских канцелярий и вижу одни горести: землепашец нищает, купец разоряется, искусный ремесленник плоды своего художества продать не может, потому что во множестве иностранные товары ввозятся, налоги растут. И все уходит на роскошества дворянства…
Рогачев слушал внимательно, потом усмехнулся:
– Ты мне другое, Михайло Васильевич, скажи. У нас в Поморье ни дворян, ни помещиков нет, а пришли в оскудение, потому что ноне хода из нашего моря нет: перестали приходить гости и нам некуда выйти.
Ломоносов встал.
– Есть у вас ход. Вот глядите. – Он подвел Рогачева и Шубина к циркумполярной карте* бассейна Северного Ледовитого океана, им составленной. – Ежели ходить Северным морским путем в Восточную Индию, к берегам Америки и Китая, то сие не только укрепит могущество российское, облегчит купеческое сообщение с ориентом[73], но и великое процветание даст всему Беломорью и городу Архангельску.
Шубин с сомнением покачал головой:
– Сие возможно ли? И есть ли там проход посреди бесконечных льдов?
Ломоносов указал на Рогачева:
– Спроси его.
Кормщик задумался и сказал:
– С севера, от Шпицберга, сиречь Груманта, перелетают гуси через высокие, льдом покрытые горы. Видать, далее есть много пресной воды и травы для корму. Похоже, что и есть там проход к востоку.
Белая ночь безлунным сиянием освещала город. Низко, над самой землей, висела утренняя звезда.
В комнате, наполненной тишиной и прозрачным сумраком, Ломоносов лежал, измученный бессонницей, ожидая наступления рассвета, мысленно перебирая, что произошло за день, рассказы Шубина, приезд Рогачева…
«Да, тяжко, тяжко живет народ… И только один виден путь – не столько теоретическими рассуждениями, сколько делом, на практике бороться с нищетой и невежеством. Вот и Поморье уже дошло до крайнего разорения. О чем мы говорили и что я искал потом?»
Где-то в тайниках памяти хранилась исчезнувшая мысль о чем-то важном, и теперь он старался ее найти.
Вот оно!.. Начатая работа: «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».
И сразу ему вспомнилось всё: и северное сияние – купол разноцветный, сияющий всеми цветами радуги, и отцовский новоманерный гуккор «Чайка», на котором он ходил в Баренцево и Карское моря, и большой, почерневший от времени дом на горе, и сам отец, без шапки, с седой бородой, наверное глядевший сквозь снег на уходящий в Москву обоз соли и рыбы…
И вот прошло много лет. Уже давно утонул отец, и похоронили его среди ловецких древних могил. Но только теперь понял Ломоносов, почему, чем бы он ни занимался, все тянуло его туда, назад – на Север, к морю.
Он писал стихи о северном сиянии.
Он первый разработал научную классификацию полярных льдов.
Изобрел зрительную трубу, чтобы видеть морское дно.
Пытался изобрести самопишущий компас.
Хотел издать морскую энциклопедию и устроить метеорологические станции с самопишущими приборами.
Написал «Рассуждение о большей точности морского пути» и составил самые точные карты севера Европейской России и Берингова пролива, использовав все, что знали Малыгин, Лаптевы, Беринг и Чириков*.
И на основании этих материалов доказывал, что «все трудности купеческого сообщения с восточными народами, вызванные безмерной дальностью долговременных путей через Сибирь, прекращены быть могут северным морским ходом».
И теперь он знал: жить осталось немного, а самое важное, последнее дело так и не закончено.
Он встал и глянул в окно. Виден был грязный берег Мойки. Над рекой еще висел сизый туман. У берега покачивались на воде несколько рыбачьих лодок. Мужик в шляпе «гречишником»* чинил сети.
И вдруг как бы спа́ла с глаз пелена, засияло солнце, длинная стая кораблей под парусами, похожих на больших белых чаек, устремилась туда, вдаль, в Китай, Америку, Индию…
А вдали на море виднелись голубые, сияющие глыбы льда, и сверху, с неба, падал мерцающий разноцветный купол.
Вспомнил строки:
Напрасно строгая природа От нас скрывает место входа С брегов вечерних на Восток… Я вижу умными очами: Колумб российский между льдами Спешит и презирает рок!В 1763 году, после двухлетних трудов, Ломоносов закончил «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Излагая историю плаваний по Ледовитому океану на восток, он предлагал новый путь, гораздо севернее прежнего, для чего нужно было выйти со Шпицбергена и направиться на восток, где должно быть чистое ото льдов море. Он повез свой труд генерал-адмиралу Российского флота.
Генерал-адмирал находился в Царском Селе, при Дворе.
Ломоносов, огромный, опухший, прихрамывая и опираясь на палку, с трудом сел в экипаж. Варикозное расширение вен перешло в тромбофлебит, а на правой ноге – в спонтанную гангрену. Раны не заживали. Врачи пускали кровь, прикладывали мази и уговаривали лежать. Великий помор, одолеваемый последней страстью, никого не хотел слушать. Он опрашивал моряков, сверял карты, составлял список инструментов, необходимых в плавании, и писал инструкцию для участников путешествия по будущему великому морскому пути. «Мужеству и бодрости человеческого духа и проницательству смысла последний еще предел не поставлен…»
И теперь он вез свое последнее творение на суд генерал-адмирала. Он ехал и думал: «Жизнь подходит к концу. Враги одолевают кругом и возвышаются в чинах. Сумароков стал генералом, Тауберт произведен в статские. Появился новый враг – Шлёцер. Денег нет: все состояние ушло на опыты по производству бисера, цветного стекла и мозаики. К лету 1762 года долги были около 14 тысяч, а теперь не менее 16. Единственный друг и покровитель – Иван Иванович Шувалов „вышел из случая“, впал в немилость и уехал за границу».
Консервативная часть дворянства, и ранее с трудом терпевшая «шумливого мужика» ради «славы Отечества», теперь старалась его не замечать.
Три года назад – 17 апреля 1760 года, еще когда Елизавета Петровна была жива, – он писал И. И. Шувалову:
«Мое единственное желание состоит в том, чтоб привести в вожделенное течение гимназию и университет (петербургский. – Н. Р.), откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы… Сие будет большее всех благодеяние, которые ваше высокопревосходительство мне в жизнь сделали. По окончании сего только хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть было персон высокородных, которые мне низкою моею породою попрекают, видя меня, как бельмо на глазе…»
Проехали деревню Пулку, что в 14 верстах от Фонтанной реки, миновали деревню Кузминское и въехали в Царское. Надо было искать генерала Кашкина и через него просить аудиенцию у генерал-адмирала.
Генерала нигде нельзя было найти. Наконец кто-то указал Ломоносову на левый флигель дворца, где стояли бани, только что выстроенные Камероном* для императрицы Екатерины II. Бани эти обошлись в полтора миллиона рублей золотом.
Генерал Кашкин стоял в так называемой агатной купальной среди фарфоровых женщин, сделанных формейстером[74] Раметтом по рисункам Камерона, и в пятый раз читал адресованное ему письмо по поводу предполагавшегося приезда будущего императора австрийского Иосифа II под именем графа Фалькенштейна:
«...а как он нигде, кроме трактиров, не останавливается и сего обычая ни почему не переменяет, и потому угодно Ее Величеству, чтобы в оной бане (в мыльне Их Высочества) запереть комнату, где поставлены ванны, изготовя все потребные мебели, назвать сие здание постоялым или вольным домом, поставить наверху вывеску, подобную на присланном тогда пакете, и чтобы вся прислуга была по обыкновению трактирному. Комнату, где ванная, покрыть полом, дабы и она могла служить комнатою для графа, баню запереть, а садовнику Бушу быть в виде содержателя трактира – с дочерью-трактирщицей, для чего получше приготовиться сыграть сии роли, им назначенные».
Генерала Кашкина окружали плотники с досками и инструментами. Перед ним стоял садовник Буш в фартуке трактирщика и в шляпе с пером. Рядом, потупя глаза и держась кончиками пальцев за край кружевного передника, робко вздыхала хорошенькая дочь его Амалия.
– Надобно понимать, – кричал Кашкин голосом, охрипшим от вахтпарадов, – что́ есть дочь трактирщика и как подают блюда в вольной австерии! Вы же, сударыня, более для благородного пансиона вид подходящий имеете! – И генерал грозил толстым пальцем дочери садовника.
– Ах, Амальхен, mein Gott! – простонал Буш. – Какие времена наступают!
В это время генерал увидел десьянс академика и пошел к нему навстречу. Он проводил его к обер-егермейстеру – Семену Кирилловичу Нарышкину.
Они подошли к «собственному» павильону возле большого озера и на мраморных ступеньках лестницы, спускавшейся в воду, увидели генерал-адмирала.
Генерал-адмирал был в кафтанчике, белых шелковых чулках и туфлях с алмазными пряжками. На боку его болталась игрушечная маленькая шпага. Рядом с ним стоял представительный, полный придворный с умным лицом и добрыми глазами – Никита Иванович Панин и, принимая из рук камер-лакеев отлично сделанные бумажные кораблики, передавал их генерал-адмиралу. Тот пускал их в воду, и они, надув маленькие паруса, летели стре́лками во все стороны. Генерал-адмирал был доволен и звонко смеялся: ему было девять лет. Это был великий князь Павел Петрович, назначенный за год до этого генерал-адмиралом, дабы «вперить при нежных еще младенческих летах в вселюбезнейшего сына заботу о флоте», – как писала в указе Екатерина II.
– Ваше императорское высочество! – сказал Ломоносов, низко кланяясь и кряхтя. – Двадцать лет обращался я в науках со всяким возможным рачением и в них приобрел столь великое значение, что, по свидетельству многих академий, ими знатную славу Отечеству принес во всем ученом свете. Ныне повергаю к вашим стопам последнее мое творение. Наука должна не меньше стараться о действительной пользе обществу, нежели о теоретических рассуждениях. Особенно это касается до тех наук, которые соединены с практикой, каково мореплавание. Экспедиция по Северному морскому пути из Сибирского океана в Китай и Америку не токмо России великую славу принести должна, но и во много раз богатства ее приумножить.
И он подал генерал-адмиралу тетрадь в сафьяновом с золотом переплете.
Павел выпустил из рук кораблик, взял тетрадь и задумчиво посмотрел на Ломоносова голубыми глазами. Это был краснощекий курносый «фарфоровый мальчик», как писала о нем Гримму* Екатерина. Потом он сделал пол-оборота, оперся рукою на эфес маленькой шпаги и передал рукопись Панину.
– Его высочество, – сказал Панин, – приказать соизволил адмиралтейств-коллегии со всем тщанием прожект сей рассмотреть и о резолюции своей ему доложить немедля. – Любезно улыбнувшись и переменив тон, Панин спросил: – Как изволите здравствовать, Михаил Васильевич? Слыхал я, что великие труды подорвали здоровье ваше. Впрочем, обилие болезней через ослабление натуры в наш век происходит. Взять хотя бы графа Толстого – и посейчас болеет через постную пищу и геморроидальные колики. Наука же до сих пор наш короткий век продлить не может.
Ломоносов начал сердиться, заговорил:
– Обманщик, грабитель несправедливый, мздоимец и вор прощения не сыщет, хотя бы он вместо обыкновенной пищи семь недель ел щепы, кирпич, мочалу, уголье и большую часть того времени вместо земных поклонов на голове простоял. Что же касаемо продления жизни, то Эразм Роттердамский* давно доказал, что каждый человек имеет токмо один способ удлинить жизнь свою – не тратить времени по-пустому.
И, кряхтя и кланяясь низко, стал пятиться.
Никита Иванович улыбнулся и вполголоса сказал, как будто себе на память:
– Велик, умен, но предерзок и через сие нелюбим.
…По указу Петра I адмиралтейств-коллегия состояла из флаг-офицеров* и капитан-командоров, «кои выбираются из старых или увечных, которые мало удобные уже к службе воинской». Капитан-командоры, много лет плававшие по разным морям и через «бесчисленные баталии увечные», обычно заседали шумно и редко приходили к согласию.
И на этот раз мнения их разделились. «Сие вояж безнадежный», – говорили одни. «Дабы выяснить, каковые на Шпицбергене течения, льды и ветры, надобно туды плыть», – говорили другие. «Незачем туды плыть, поелику на Севере множество знатных мореходцев-поморов имеется и оные поморы все норвецкие земли и острова в совершенстве знают, и для того надо тех поморов сюда вызвать!» – кричали третьи, стуча длинными трубками о круглый конференц-стол.
Третьи одолели, и послано было повеление: «Четырех особливо знатных поморов-мореходцев немедля доставить в Санкт-Петербург в адмиралтейств-коллегию».
…Тело было немощно, слабело и жаждало покоя. Тело было в язвах, мучило ломотой в суставах и бессонницами, но дух был по-прежнему беспокоен и неистов и звал к бою.
Несмотря на смерть Петра III и воцарение Екатерины II, иноземцы по-прежнему правили Академией наук, а главный покровитель в прошлом «всех Шумахеровых злодейств» Теплов стал кабинет-секретарем самой императрицы.
Но Ломоносов был не только неистов, но и хитер и знал себе цену. Он был горд и недаром когда-то писал Ивану Ивановичу Шувалову: «Не токмо ни у кого из земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет».
И теперь он решил вызвать на поединок саму императрицу.
Он написал прошение об отставке, ссылаясь на болезнь и прося чин действительного статского советника и пожизненную пенсию в размере жалованья.
Екатерина, осыпа́вшая наградами всех приближенных, терпеть не могла первого русского академика за его самостоятельный характер и даже последнюю просьбу его решила удовлетворить только наполовину. Находясь в Москве, написала Сенату: «Коллежского советника Михайлу Ломоносова всемилостивейше пожаловали мы в статские советники и вечною от службы отставкою с половинным по смерть его жалованьем».
Наутро после очередного «всеподданнейшего» доклада Никита Иванович Панин задержался в дверях.
– Не забыл ли ты чего, Никита Иванович? – спросила любезно императрица.
– Я хотел сказать вашему величеству, что нельзя Ломоносова отставлять от академии, ибо он сам есть русская академия. Через такой абшид* великое ущемление славе вашего величества во всем ученом мире произойти может. Граф Михаил Илларионович Воронцов того же о сем со мной мнения.
Екатерина вспыхнула, кивком отпустила Панина, потом задумалась… и отступила.
«Если указ о Ломоносова отставке еще не послан из Сената в Петербург, то сейчас же его ко мне обратно прислать!» – написала она, и фельдъегерь, погоняя коня, помчался в Сенат.
В декабре этого же года императрица произвела Ломоносова в статские советники с увеличением жалованья.
А Ломоносов обдумывал все «Шумахеровых наследников злодейства» и искал случая.
Случай выпал в следующем году.
Все средства Ломоносова ушли на фабрику бисера и цветного стекла, на выделку мозаики. Но бисера выработано было всего один пуд, а голубые и синие бокалы и штофы для вина можно было найти только в его собственном доме. О мозаике же его давний неприятель Тредиаковский написал в «Пчеле» статью, что мозаика была изобретена еще в Древней Греции, где «токмо для выстилания полов употреблялась», и что «живопись, производимая малеванием, куда превосходнее мозаичной. Ибо невозможно подражать совершенно камешками и стеклышками всем красотам и приятностям, изображенным от искусства кисточкой».
И хотя Ломоносов был избран почетным членом Академии художеств, как «открывший к славе России толь редкое еще в свете мозаическое художество», происки недоброжелателей не прекращались.
Сенат требовал вернуть шесть тысяч рублей, данных на фабрику. А между тем именно теперь Ломоносов закончил после многолетних трудов, большую мозаическую картину «Полтавская баталия». Она была в три сажени длиной, в две шириной и весом в 130 пудов; надлежало ее поставить над могилой Петра в Петропавловском соборе.
Дух Великого Петра все еще веял над столицей империи. О Петре говорили до сих пор, словно о живом. Именем его прикрывалась Елизавета, ведя гвардию на захват престола. На него пытался ссылаться Петр III, издавая свои сумасбродные приказы. В ночь переворота петровские порядки обещала вернуть Екатерина.
И никто не мог сказать, даже Сенат, возможно или нет над могилой Великого Петра водрузить такое изображение.
Решить это могла только сама императрица.
И вот свершилось. Она приехала к нему, к Ломоносову. Из кабинета он повел гостей к небольшому зданию в саду, где хранилась «Полтавская баталия».
Он стоит перед ней – грузный, усталый, опухший. А она разглядывает мозаику своими голубыми, немного близорукими глазами и улыбается благосклонно и равнодушно. Он смотрит в ее глаза и видит в их глубокой голубизне какую-то затаенную неприязнь.
А вслух он говорит:
– Сие есть Шереметев на коне, а рядом Меншиков, Брюс и князь Михайло Голицын. Черты Великого воспроизведены точно по восковой маске, с лица снятой…
Она кивает и двигается из комнаты. И далее все как в тумане: он говорит, а она все слушает и молча кивает – так до самого отъезда.
А на другой день, лежа в постели, он читал в «Ведомостях».
«Ее Императорское Величество личным своим посещением вновь оказала первому десьянс академику М. В. Ломоносову свое всемилостивейшее удовольствие».
Но радости не было. Он все чего-то ждал. И когда закрыл глаза, вновь увидел узкую полосу морского берега и черный дом на высокой горе и как бы почуял запах соленого моря, то понял: он ждал приезда поморов, вызванных адмиралтейств-коллегией.
И вот четверо поморов сидели в большом зале ломоносовского дома за столом. Пятый помор – сам хозяин – полулежал в кресле. Кругом сидели капитан-командоры и флаг-офицеры, курили трубки и пили шнапс. На столе стояли треска отварная, шаньги в масле, блины, сметана, штофы голубого стекла с вином. Поморы ели треску, макали блины в масло и сметану, пили водку и молчали. Наконец старший из них – знаменитый мореходец Корнилов рыгнул, вытер жирные пальцы о седую бороду и спросил:
– Поздорову ли живешь, Михайло Васильевич?
– Живу понемногу, – ответил Ломоносов.
– Дом совсем запустел, как Василий Дорофеев потонул, с тех пор присмотру над ним нет. Раньше смотрели миром и подушные за тебя, беглого, платили, а ныне ты сам генерал.
Ломоносов усмехнулся:
– Генеральство мое худое! Статский советник по Табели о рангах выше полковника, ниже генерала. Вот и понимай как хочешь… А дом сестре отдам, написал ей недавно.
– Ну то-то, а то все мы смертны.
И он снова замолк.
– Желательно было бы знать, – сказал член адмиралтейств-коллегии, высокий седой капитан с черной повязкой на глазу, – имели ли вы плавание на Шпицберген? Какие там ветры, имеются ли льды, больше у берегов или больше в море, а также теплые течения и где?
Старый помор улыбнулся и погладил бороду:
– Отчего же! На Шпицберг ходить можно. – Он ткнул пальцем в другого помора, сидевшего за столом. – Вот Алексей Хилков шесть лет там прозимовал. И вода там бывает разная – и со льдами, и безо льдов.
– Ну а если далее на восток?
Помор жестко посмотрел на всех серыми глазами.
– И далее на восток ходить с Божьей помощью можно. Где есть ветер и вода, там и доброе судно пройти может. Только нам туда без надобности, потому и не ходим.
Он встал, посмотрел вокруг, нашел божницу в углу и перекрестился.
Адмиралтейств-коллегия постановила:
«Послать экспедицию для отыскания Великого северного морского прохода по маршруту, намеченному Ломоносовым, и командовать оной экспедицией капитану Чичагову».
Екатерина II подписала указ 14 мая 1764 года.
4 марта 1765 года, за месяц до своей кончины, Ломоносов сдал подробную, окончательно утвержденную «Примерную инструкцию морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на восток северным Сибирским океаном».
Была весна 1765 года. Пасхальный звон наполнял воздух.
На столике стояла голубая «ломоносовская» ваза с большим пучком распустившейся вербы.
Ломоносов умирал. Жена и дочь, скромные спутники его жизни, сидели около него. Он смотрел на них и думал о том, что всю жизнь он прожил вместе с ними, подчас не замечая их, а теперь их ожидают только бедность и людское забвение. Так и их поглотила его сильнейшая страсть – жажда науки.
Он привстал и протянул руку… По далекому синему морю гордо шли российские корабли. Паруса были надуты ветром, пушки стреляли. На капитанском мостике рядом со стариком помором стоял высокий седой капитан с черной повязкой на глазу, бесстрашно смотря вперед…
Колумб российский между льдами Спешит и презирает рок!Ломоносов умер 4 (15) апреля. Огромная толпа простого народа шла за гробом. Сановники и знать потонули в этой толпе. Народ хоронил своего первого академика.
Заключение
Ломоносов был универсальным гением. Он работал в различных областях науки и искусства, во всем опережая свое время иногда на десятилетия, иногда на столетия. Он был страстным борцом за передовую науку, которая ломает старое и открывает пути к новому.
Естественно поэтому, что придворная верхушка, от которой зависела наука в феодальной крепостной России XVIII века, была враждебна ему.
Он чувствовал себя одиноким и перед смертью сказал академику Я. Штеллину:
«Друг, я вижу, что я должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть; жалею только о том, что не мог я совершить всего того, что предпринял я для пользы Отечества, для приращения наук и для славы академии, и теперь, при конце жизни моей, должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мной».
Но русский гений ошибся в оценке значения своей деятельности. Уже при жизни Ломоносова вошли в науку десятки молодых русских ученых, которых он воспитал и подготовил, обеспечив этим ее дальнейшее развитие.
На траурном заседании в апреле 1765 года, посвященном памяти М. В. Ломоносова, почетный член Академии наук Николай Леклерк сказал: «Не стало человека, имя которого составило эпоху в летописях человеческого разума, обширного и блестящего гения, обнимавшего и озарявшего вокруг многие отрасли. Его будут чтить повсюду, где будут люди просвещенные».
Не прошло и нескольких десятилетий, как многие замыслы Ломоносова осуществились.
Были открыты Горный институт, Медикохирургическая академия, Харьковский, Казанский и Петербургский университеты, множились начальные и средние школы.
Проект нового устава Академии наук, направленный Ломоносовым Екатерине II, «дабы отвратить все прежние неудобности, бывшие в тягость наукам», не получивший реализации при его жизни, в значительной части был осуществлен в последующее время.
Великое значение деятельности Ломоносова нашло оценку в словах А. С. Пушкина: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов объял все отрасли просвещения… Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец – он всё испытал и всё проник».
Ломоносов по праву (хотя и не фактически) считается первым русским академиком, ибо в нем с необычайной силой сказались черты, которые потом так ярко выявились в наиболее выдающихся представителях русской науки: широта задач, простота их решения, цельность мировоззрения и непосредственная связь науки с народными нуждами.
Идеи М. В. Ломоносова были осуществлены полностью во всех сферах науки и техники, литературы и искусства в нашей стране. Теперь во всех крупных городах России имеются университеты, институты – осуществилась мечта русского гения и патриота. Слова Виссариона Григорьевича Белинского: «Юноши с особенным вниманием и особенной любовью должны изучать его жизнь, носить в душе своей его величайший образ» – в наши дни находят отклик у российской молодежи.
Примечания
С. А. Андреев-Кривич
«КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
С. 21. Гу́ккор – морское и речное парусное судно на Севере. Строить гуккоры стали по указу Петра I, считавшего необходимым заменить суда устаревших типов более совершенными.
С. 22. Запле́ски – берега, весной освободившиеся ото льда, когда спала вода.
Пого́ст – здесь: деревня.
Дресва́ – крупный песок, мелкий щебень.
Пали́шинский ельник – еловая роща, находившаяся недалеко от деревни Мишанинской.
Помор – житель северного поморья.
С. 23. Аспидный – черно-свинцового цвета.
С. 24. Румпель – рычаг, рукоятка для управления рулем (гол.).
С. 25. Губа – поморское название далеко вдающегося в сушу морского залива на севере России.
«Кольское китоло́вство» – компания для ловли китов, учрежденная по указу Петра I.
Гру́мант – старинное название острова Шпицберген.
Зимний берег – восточный берег Белого моря.
С. 25. Гарпу́н – метательное охотничье орудие, главным образом на морских животных (гол.).
…был Михаиле в старой вере… – то есть в числе православных верующих, не принявших церковные реформы XVII в. (старообрядцев).
С. 26. Полои́ – рукава реки, которые образуются при ее разливе.
С. 27. Ко́рмщик – рулевой, судоводитель.
Гостиный двор – обнесенная высокой кирпичной стеной обширная территория на берегу Северной Двины в Архангельске, где проходила торговля. Частично Гостиный двор сохранился до настоящего времени.
С. 28. Фрега́т – военное трехмачтовое судно (фр.).
Бриганти́на – двухмачтовое парусное судно (ит.).
С. 29. Полтава. – В Полтавском сражении 27 июня 1709 г. во время Северной войны 1700–1721 гг. русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII.
Га́нгут. – Во время Северной войны 1700–1721 гг. около полуострова Гангут (совр. Финляндия) авангард русского галерного флота под командованием Петра I 27 июля 1714 г. разгромил шведскую эскадру контрадмирала Н. Эреншельда. Это была первая в истории русского флота крупная морская победа.
С. 31. По́жня – жнивьё или луг.
Скит – здесь: небольшое поселение или отдельный дом, где укрывались («спасались») приверженцы старой веры. Скиты обычно устраивались в глухих местах.
Вы́говская пустынь – большая старообрядческая колония на реке Выг.
С. 32. Аввакум Петрович (1620–1682) – глава и идеолог русского раскола, протопоп, писатель, выступил против церковной реформы патриарха Никона 1653–1656 гг. В 1666–1667 гг. был осужден на церковном соборе и сослан в Пустозерск, где 15 лет прожил в земляной тюрьме и написал «Житие». По царскому указу был сожжен.
С. 32. Маха́вка – флюгер.
С. 34. …о старой и новой вере. – Патриарх Никон (1605–1681) провел в 1653–1656 гг. церковную реформу: ввел новые обряды, новые богослужебные книги и другие новшества. Его сторонники назывались никониане. Часть религиозных деятелей и церквей в России не приняли реформу и стали оппозиционными или враждебными официальной православной церкви. Сторонники старообрядчества подверглись гонению и преследовались царским правительством до 1906 г.
Ро́звальни – низкие широкие сани без сиденья.
С. 37. Никольская пустынь находилась в 16 км от деревни Гаврилихи и в 29 км от Архангельска. Теперь здесь расположен музей Малые Корелы.
Ке́лья – отдельная комната монаха в монастыре.
С. 38. Верста́ – старая русская мера длины, равная 1,066 км.
С. 47. Тщи́ться – пытаться сделать что-нибудь.
С. 49. Трапе́зная – помещение для приема пищи в церкви или в монастыре.
С. 50. Юдо́ль – тяжелая, печальная доля, горькая судьба.
С. 52. Бахи́лы – высокие, выше колена, сапоги.
С. 55. Армя́к – верхняя долгополая распашная одежда из грубой шерстяной ткани или домашнего сукна (тюрк.).
С. 57. Псало́м – род церковного песнопения (гр.).
Кано́н – церковное установление, правило (гр.).
Проло́ги – сборник кратких житий, поучений, размещенных в порядке церковного календаря (гр.).
С. 58. Третьёводни – три дня назад.
Прика́зный – чиновник, канцелярский служащий.
С. 62. Струг – речное судно.
Карба́с – большая лодка для рыбного промысла и перевозки грузов на Севере.
С. 66. Писа́ние – то есть Священное Писание, религиозные книги, составляющие Библию.
С. 67. Кумачо́вая – хлопчатобумажная ткань красного цвета.
С. 68. Сеть-трёхсте́нка – рыболовная сеть из трех полотен; два из них – с мелкими отверстиями, третье – с крупными (рожа).
Выпь – птица семейства цапель.
Си́тник – луговая, озерная и болотная трава.
Чиро́к-трескуно́к (свистунок) – порода диких уток.
С. 78. Ставная сеть – рыболовная сеть, установленная неподвижно.
За́бережень – молодой тонкий лед у берега.
Заси́верка – холодная погода, которую приносит северный ветер.
Си́нтаксь образная – отдел «Грамматики» М. Смотрицкого, в котором даются сведения о тропах, фигурах и т. д.
Просо́дия стихотворная – отдел «Грамматики» М. Смотрицкого, посвященный вопросам стихосложения.
С. 79. Гри́фельная доска – доска из аспида (черного минерала), на которой пишут палочкой из грифельного сланца (минерала).
Е́ллинские борзости – греческие (эллинские) дерзостные умствования.
Пифаго́р (570–490 гг. до н. э.) – древнегреческий философ и математик.
Архиме́д (287–212 гг. до н. э.) – древнегреческий физик, механик и инженер.
Ха́ртия – большой лист; документ юридического характера.
С. 81. Локсодроми́ческие таблицы – таблицы для вычисления курса корабля.
С. 83. Подкле́ть – высокое основание избы вроде полуэтажа.
Баля́сина – столбик перил.
С. 83. Князёк – верхняя балка, по которой связываются стропила избы, поддерживающие крышу.
Конёк – украшение крыши в виде конской головы.
С. 84. Браты́нь – ковш для браги, пива и т. д.
Медя́ник – горшок из меди.
Слега́ – длинная жердь.
Клеть – кладовая.
Овин – крытое гумно – участок земли в крестьянском хозяйстве, предназначенный для хранения, молотьбы хлеба и др.
С. 85. Алчба́ – алчность, жадность к наживе, приобретению.
С. 86. Черносо́шные – крестьяне, не состоявшие в крепостной зависимости, несшие только государственные повинности.
Галио́т – небольшое купеческое судно (гол.).
С. 88. Костёр – здесь: возвышение из бревен, на которое втягивают на зиму судно.
Грот-ма́чта – средняя мачта на корабле, самая высокая (гол.).
Застре́ха – в крестьянских избах нижний, свисающий край крыши, а также брус, поддерживающий нижний край крыши.
С. 89. По́ползень – птица отряда воробьиных.
С. 102. Ушку́йник – разбойник.
С. 107. Иезуи́т – член католического монашеского ордена «Общество Иисуса», основанного в 1534 г. в Париже (лат.).
С. 111. Пле́велы – засоряющая посев трава.
Жи́тница – помещение для хранения зерна.
С. 112. Поду́шный оклад – налог, взимавшийся с крестьян, ремесленников. Дворяне от подушной подати были освобождены.
С. 118. Шня́ва – двухмачтовое морское судно.
С. 119. Сорбо́нна – старинное высшее учебное заведение в Париже.
С. 119. Монма́ртр – вначале пригород, затем район Парижа.
Раси́н Жан (1639–1699) – французский драматург.
Молье́р (наст, имя и фам. Жан Батист Поклен; 1622–1673) – французский комедиограф, актер, реформатор сценического искусства.
Челоби́тная – прошение.
Сино́д – орган верховного духовного правления в России до 1917 г.
С. 122. Ры́тый – узорчатый.
С. 123. Юр – холм.
С. 124. Горну́шка – заулок с ямкой, налево от шестка русской печи, куда загребают жар.
Шесто́к – площадка между устьем и топкой русской печи.
Ша́ньга – пышка.
Скля́ница – бутылка.
Арши́н – старая русская мера длины, равная 0,71 м.
С. 126. Шушу́н – шубейка, телогрея, душегрейка.
С. 134. Тоня – место, где ловят рыбу.
Бот – длинный шест с деревянным или металлическим стаканом на конце; служит для сгона рыбы к сети, саку и т. д.
Во́рот – вал с рукояткой для поднятия тяжести.
С. 136. Сбитень – горячий напиток, приготовленный из воды, меда и пряностей; употреблялся до середины XIX в. Продавец его назывался сбитенщик.
С. 150. Поду́шная подать – основной прямой налог в России XVIII–XIX вв. Введен Петром I в 1724 г.; облагал все мужское население податных сословий.
С. 151. Мясое́д – период, когда по уставу православной церкви разрешается мясная пища.
С. 164. Покру́тчик – наемный рабочий.
Каюк – вид грузового судна (тур.).
С. 174. Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь был основан в 1520 г. монахом Антонием.
В настоящее время действует. Находится в 90 км от Холмогор по дороге в Москву.
С. 175. Кита́ечное полукафтанье – короткий кафтан из китайки (вид хлопчатобумажной материи).
С. 176. Полуно́чник – северо-восточный ветер в середине ночи.
С. 183. И́ночество – монашество.
С. 188. Мошна́ – сумка; деньги; богатство.
Н. А. Равич
«ПОВЕСТЬ О ВЕЛИКОМ ПОМОРЕ»
С. 203. Анна Леопо́льдовна (1718–1746) – правительница Российской империи в 1740–1741 гг. при Иване IV Антоновиче.
Биро́н Эрнст Иоганн (1690–1772) – курляндский дворянин, фаворит императрицы Анны Иоанновны.
Ми́них Бурхард Кристоф (1683–1767) – российский военный и государственный деятель.
С. 204. Пуд – старая русская мера веса, равная 16,3 кг.
Фи́жмы – юбка на китовом усе (нем.).
Му́шка – здесь: кусочек черного пластыря, который в старину приклеивали на лицо в виде родинки.
Лорне́т – складные очки в оправе с ручкой (фр.).
Фа́лда – здесь: задняя пола мужской одежды (сюртука, фрака, мундира и т. п.), имеющей разрезанную снизу спинку (пол.).
С. 205. «Вошедшие в случай» – те, к кому пришла неожиданная удача.
Двенадцать колле́гий – учреждения, выполнявшие функции министерств при Елизавете Петровне.
С. 206. Дорме́з – старинная большая карета, приспособленная и для сна (фр.).
Рыдва́н – большая дорожная карета (пол.).
Одноко́лка – двухколесный экипаж.
С. 207. Армиллярная сфера – астрономический инструмент, употреблявшийся для определения координат небесных светил (лат.).
Кунстка́мера – бессистемное собрание разнородных редкостей. Первоначальная форма музея. Основана в Петербурге по инициативе Петра I (нем.).
С. 208. Сатисфа́кция – удовлетворение, даваемое оскорбленному (лат.).
С. 209. Э́йлер Леонард (1707–1783) – один из великих математиков XVIII в., механик, физик, астроном.
Крашени́нников Степан Петрович (1711–1755) – русский путешественник, исследователь Камчатки, составитель «Описания земли Камчатки», академик.
С. 210. Растре́лли Бартоломео Франческо (1700–1771) – знаменитый русский архитектор.
С. 211. Тракти́рование – угощение.
С. 212. Кригс-комиссар – интендантская должность, ведал снабжением армии (нем., фр.).
Унтер-библиоте́карь – младший библиотекарь (нем., гр.).
С. 213. Ге́тман – в старину на Украине так назывался начальник казацкого войска и верховный правитель.
Секретарь-асе́ссор – секретарь, ведущий протокол заседаний (фр., лат.).
С. 214. Демосфе́н (384–322 гг. до н. э.) – афинский оратор и политический деятель.
Цицеро́н Марк Туллий (106–43 гг. до н. э.) – древнеримский оратор, писатель, политический деятель.
С. 216. А́мбра – выделяемое кашалотами воскообразное вещество; здесь: духи (фр.).
С. 219. Виноградов Дмитрий Иванович (1720?– 1758) – русский ученый-химик, создатель русского фарфора.
С. 220. Во́льные дома – здесь: игорные дома.
Австе́рии – трактиры по типу иностранных, введенные Петром I.
С. 220. Фузиле́ры – пехотинцы, вооруженные кремневыми ружьями (фр.).
Драгу́ны – род кавалерии, сражавшейся как в конном, так и в пешем строю (фр.).
С. 221. Ру́хлядь – старые вещи, тряпье.
С. 223. Ри́хман Георг Вильгельм (1711–1753) – русский физик, академик. Погиб от удара молнии при исследовании электричества.
Обсерва́ция – наблюдение (лат.).
Фут – мера длины, равная 30,48 см, в английской системе мер и в России до введения метрической системы (англ.).
С. 225. Пя́рну – теперь город в Эстонии.
С. 229. Кварта́льный – должностное лицо в городской полиции, надзиратель, следивший за порядком в Российской империи в XVIII в. и до середины XIX в.
С. 229. Подря́сник – у служителей церкви длинная одежда с узкими рукавами, поверх которой надевается ряса.
С. 230. Багине́т – плоский штык, надеваемый на дуло ружья (искаж. фр.).
С. 232. Гайду́к – слуга, выездной лакей в богатом доме в XVIII–XIX вв. (венг.).
С. 233. Разночи́нцы – в России конца XVIII–XIX вв. межсословная категория населения («люди разного чина и звания»).
Казённый кошт – расходы на содержание, которые берет на себя государство.
С. 234. Валансье́нские кружева – тонкие кружева, изготовлявшиеся во французском городе Валансьене.
С. 235. Гауптва́хта – помещение для караула, а также для арестантов (нем.).
С. 236. Рее́стровый казак – состоящий в списках-реестрах соответствующего войска.
Обер-го́фмаршал – придворное звание (нем.).
С. 237. Фли́гель-адъютант – высший офицер в должности адъютанта при государе (нем.).
С. 238. Зимний дворец – резиденция российских императоров. Построен в 1754–1762 гг. архитектором В. В. Растрелли. Теперь музей Эрмитаж.
Са́жень – старая русская мера длины, равная 2,13 м.
Иони́ческая колонна – колонна, капитель (навершие) которой состоит из двух крупных завитков (волют). Ионический ордер (вид архитектурной композиции) сложился в Древней Греции в VI в. до н. э.
Кори́нфская колонна – вариант ионического ордера, но капитель более насыщена декором – стилизованными листьями аканта. Коринфский ордер сложился в VI в. до н. э.
Кариати́да – скульптурное изображение стоящей женской фигуры, которое служит опорой балки в здании (гр.).
С. 239. Канделя́бр из лапис-лазури – большой подсвечник из синего минерала (фр.).
С. 240. Психе́я – олицетворение человеческой души, изображалась в виде бабочки или девушки (рим. миф.).
С. 242. Кофеше́нк – человек, обслуживающий вельможу за столом (искаж. нем.).
Фонтене́ль Бернар Ле Бовье ле (1657–1757) – французский писатель.
Кантеми́р Дмитрий Константинович (1673–1723) – молдавский и российский государственный деятель и ученый.
С. 243. Птоломе́й Клавдий (ок. 90 – ок. 160) – древнегреческий астроном, создатель геоцентрической системы мира; математик, географ.
Копе́рник Николай (1473–1543) – польский астроном, создатель гелиоцентрической теории системы мира.
С. 243. Клир – в христианской церкви совокупность священно– и церковнослужителей (гр.).
С. 244. Протеста́нтские – название христианских вероучений, отколовшихся от католицизма в связи с Реформацией XVI в.
Иере́й – официальное название православного священника (гр.).
По́длые люди – в XVII в. так уничижительно назывались слои городского населения, принадлежавшие по рождению к низшему сословию.
С. 245. Капельме́йстер—руководитель оркестра (нем.).
Черво́нец – русская золотая монета.
С. 246. Дишканти́ст – человек, поющий высоким голосом, дискантом (искаж. лат.).
С. 257. Генерал-фельдцейхме́йстер – главный начальник артиллерии (нем.).
С. 258. Гелико́птер – летательный аппарат тяжелее воздуха, поднимающийся в воздух вертикально при помощи воздушного винта (гр.).
Пиро́метр – прибор для измерения высоких температур (гр.).
С. 260. Фридрихова армия. – Имеется в виду Фридрих Вильгельм I (1688–1740), прусский король с 1713 г.
С. 261. Инве́нтор – изобретатель (фр.).
Га́убица – артиллерийское орудие с коротким стволом, стреляющее навесным огнем.
Фунт – старая русская мера веса, равная 409,5 г.
С. 262. Брандку́гели – зажигательные снаряды (нем.).
С. 263. Экзерци́ции – военные упражнения (лат.).
С. 264. Орден Белого Орла – один из старейших польских орденов (с 1325 г.). Причислен к государственным наградам Российской империи в 1831 г.
Орден Святого Александра Невского – государственная награда Российской империи с 1725 по 1917 г. Учрежден Екатериной I.
С. 264. Орден Святой Анны – учрежден в 1735 г. вначале как династическая награда, а в 1797 г. Павел I ввел орден в наградную систему Российской империи.
С. 265. Зазри́ть – стесняться, стыдиться.
С. 266. Гора́ций (65–8 гг. до н. э.) – Квинт Гораций Флакк, древнеримский поэт.
С. 268. Голубая лента с бантом и золотым ключом – это Аннинская лента, один из знаков ордена Святой Анны 1-й степени; ее носили через плечо.
С. 270. Феофа́н Прокопо́вич (1681–1736) – русский православный церковный деятель и богослов, сподвижник Петра I.
Че́рное духове́нство – люди духовного сана, принявшие обет монашества и находящиеся в монастырях.
Бе́лое духове́нство – приходские священники, жизнь которых не была ограничена строгими монастырскими правилами.
Вольте́р Мари Франсуа Аруэ де (1694–1778) – французский писатель, философ, историк.
С. 274. Никита Пустосвя́т (наст, имя и фам. – Добрынин Никита Константинович; ?–1682) – идеолог раскола церкви, писатель. 5 июля 1682 г. возглавил раскольников на «прении о вере» в Кремле. Казнен.
С. 275. Халде́йская – от «халдеи» – племена, жившие в первой половине 1-го тысячелетия до н. э. в Южной Месопотамии.
Жу́пел – то, что внушает страх, ужас и отвращение, чем пугают кого-нибудь.
С. 276. Пари́с – сын царя Трои Приама и Гекубы, с именем которого связана Троянская война (гр. миф.).
С. 281. Плези́р – развлечение, удовольствие, забава (фр.).
С. 284. Роберт Бойль (1627–1691) – английский физик, химик и богослов.
С. 286. …расставленные шпалерами… – то есть в один ряд, в шеренгу, по обе стороны (нем.).
С. 287. Шля́хетский корпус – дворянское училище.
С. 291. Геро́льд – вестник, глашатай при дворах феодальных правителей, а также распорядитель на рыцарских турнирах (нем.).
Шифр – здесь: вензель, составленный из инициалов (нем.).
С. 292. Анфила́да – длинный сквозной ряд комнат в общественных зданиях, дворцах (фр.).
С. 293. Палла́да – молочная сестра Афины, дочь Тритона, внучка титана Океана, случайно убитая Афиной в детстве (гр. миф.).
С. 294. Карбо́ванец – украинское название рубля; появился в XVIII в., с перерывами имел хождение до 1996 г.
С. 296. Фонви́зин Денис Иванович (1744 или 1745–1792) – русский писатель, просветитель.
С. 297. Держа́вин Гавриил Романович (1743–1816) – русский поэт.
Новико́в Николай Иванович (1744–1818) – русский журналист, издатель и общественный деятель.
С. 298. Буало́ Никола (1636–1711) – французский поэт и литературный критик.
С. 302. Подде́вка – длинная верхняя мужская одежда в талию, с мелкими складками.
С. 303. Война. – Имеется в виду Семилетняя война (1756–1763) между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией и Португалией – с другой.
С. 304. Екатерина – Екатерина II (Великая; 1729–1796), российская императрица с 1762 г.
С. 308. Тафельде́кер – слуга, прислуживающий за столом (нем.).
С. 314. Ретира́да – отступление (фр.).
С. 317. Андреевская лента – один из знаков ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, высшей награды в царской России; ленту носили через плечо. Орден был учрежден Петром I в 1699 г. и является старейшим из российских государственных наград.
С. 320. Мария Тере́зия (1717–1780) – австрийская эрцгерцогиня с 1740 г.
Марки́за де Помпаду́р Жанна Антуанетта Пуассон (1721–1764) – фаворитка французского короля Людовика XV.
С. 323. Вольте́ровское кресло – кожаное глубокое кресло с высокой спинкой. Названо в честь Вольтера.
Надир-шах Афшар (1688–1747) – шах Ирана с 1736 г., основатель династии Афшаридов.
Куртаг – прием в императорском дворце (нем.).
С. 324. Голшти́н-готторпский принц. – Речь идет о будущем Петре III (1728–1762), сыне старшей дочери Петра I, цесаревны Анны Петровны, и герцога гольштейн-готторпского Карла Фридриха. Голынтейн-готторпское княжество находилось на севере Германии (теперь земля Шлезвиг-Гольштейн).
С. 327. Бригади́р – офицерский чин в русской армии в XVIII в. (нем.).
С. 331. Петиме́тр – щеголь (фр.).
С. 335. Карава́к Луи (1684–1754) – французский и русский живописец.
Вене́ра – первоначально богиня весны и садов, впоследствии – красоты и любви (рим. миф.).
С. 337. Ме́ншиков Александр Данилович (1673–1729) – российский государственный деятель, сподвижник Петра I.
Людо́вик XIV (1638–1715) – король Франции с 1643 г.
Принц Конти́ Людовик Франсуа де (1717–1776) – французский военачальник.
Карл XII (1682–1718) – король Швеции с 1697 г., полководец.
С. 337. Ма́льборо Джон Черчилль (1650–1722) – английский полководец и государственный деятель.
С. 338. Вольтерья́нцы – вольнодумцы, последователи Вольтера.
Бато́г – палка, прут для телесного наказания в старину.
С. 339. Дреко́лье – дубины, палки, колья, употребляемые как оружие.
Я́ицкие казаки – беглые крестьяне, поселившиеся в конце XV – начале XVI в. на реке Яик (с 1775 г. – р. Урал).
С. 341. Шанда́л – тяжелый подсвечник (перс.).
С. 346. Реля́ция – письменное донесение о действиях войск (лат.).
Што́фный – сделанный из штофа, плотной шелковой или шерстяной ткани (нем.).
С. 348. Ме́нтик – короткая гусарская накидка с меховой опушкой (венг.).
С. 350. Гренаде́ры – во многих армиях с XVII в. и в русской армии в XIX – начале XX в. – отборные пехотные или кавалерийские части (фр.).
С. 358. Гри́вна (гривенник) – сумма или монета в 10 копеек.
С. 359. Воба́новское сочинение. – Имеется в виду Вобан Себастьен Ле Претр де (1633–1707) – французский военный инженер, маршал Франции, маркиз, автор сочинений по военному инженерному делу и экономике.
С. 360. Сибари́т – праздный, изнеженный роскошью человек (лат.).
Курфю́ршество – княжество. Курфюрст – князь в Германии (до 1806 г.), владетель обширных земель, замков и городов, облеченный правом избирать императора и иметь королевские почести (нем.).
С. 362. Рога́тки – здесь: препятствия для преграждения доступа куда-нибудь в виде нескольких крестообразно сколоченных кольев, опутанных проволокой.
С. 366. Людо́вик XV (1710–1774) – король Франции с 1715 г.
С. 367. По́рта – название правительства Турции, принятое в европейской литературе и документах в Средние века и в Новое время.
Та́лер – старинная немецкая серебряная монета.
С. 369. Султа́н – украшение на головном уборе, преимущественно военном, в виде пучка перьев или стоячих конских волос.
С. 371. Аксельба́нты – наплечные шнуры на мундире военных в некоторых армиях (нем.).
С. 372. Плюма́ж – опушка из перьев на шляпе (фр.).
Обсерви́ровать – следить за кем-то (лат.).
С. 374. Камерге́р – почетное придворное звание (нем.).
С. 378. Страбо́н (64/63 г. до н. э. – 23/24 г. н. э.) – древнегреческий географ и историк.
Борисфе́н – так в древности античные авторы называли Днепр.
С. 381. Яныча́ры – турецкая регулярная пехота, созданная в XVI в. первоначально из мальчиков христианского населения Османской империи. Ликвидирована в 1826 г. султаном Махмудом II.
С. 383. Монахи́зм – равные права отправления религий в стране. Петр III в 1762 г. направил в Сенат указ об уравнении всех религий в России. Указ не был введен.
С. 384. Ребеи́дн – бунтовщик, разбойник (фр.).
Маэсто́зный – торжественный, величавый (ит.).
С. 389. Та́цит (ок. 58 – ок. 117) – древнеримский историк.
Плута́рх (ок. 45 – ок. 127) – древнегреческий историк и писатель.
С. 393. Лю́тер Мартин (1483–1546) – деятель Реформации в Германии, основоположник лютеранства.
С. 395. Мы́за – хутор, отдельная усадьба (эст.).
С. 398. Эо́л – повелитель ветров (гр. миф).
С. 401. Чухо́нцы – народное название эстонцев, а также карело-финского населения окрестностей Петербурга до 1917 г.
Бурми́стр – староста из крестьян, поставленный помещиком надзирать над вотчиной и собирать налоги (пол).
С. 403. Ро́ба – платье.
С. 406. Ку́пно – вместе с кем-либо, чем-либо.
С. 409. Зои́л (IV в. до н. э.) – древнегреческий философ и ритор.
С. 411. Цальме́йстер – высший офицер, ведающий обеспечением отдельной части (нем).
Палаш – рубящее и колющее холодное оружие с длинным прямым клинком (пол).
С. 413. Штанда́рт – здесь: знамя кавалерийских частей в русской (с 1731 г.) и некоторых иностранных армиях (нем).
Синкли́т – полный состав высокопоставленных лиц (гр.).
С. 414. Темля́к – петля, шнур или кисть на эфесе холодного оружия (пол).
С. 416. Парна́с – местообитание Аполлона и муз (гр. миф).
Аполло́н – сын Зевса, бог-целитель, прорицатель и покровитель искусств (гр. миф).
Марс – первоначально бог полей и урожая, потом бог войны (рим. миф).
С. 417. Ба́хус – латинская форма имени Вакх – одно из имен бога виноградарства Диониса (гр. миф).
Силе́н – воспитатель и спутник Диониса (гр. миф).
Вакха́нка – спутница бога Вакха (гр. миф).
Сати́ры – лесные божества, демоны плодородия в свите Диониса (гр. миф).
Фавн – бог плодородия, покровитель скотоводства, полей и лесов (рим. миф).
С. 417. Педа́нт – человек, который излишне строг в выполнении всех формальных требований (в жизни, науке и др.; фр.).
Лоделава́нд – туалетная вода (фр.).
С. 429. Золотни́к – старая русская мера веса, равная 4,26 г.
С. 432. Во́рвань – вытопленный жир морских животных.
С. 433. Циркумполя́рная карта – карта всей Арктики, выполненная в виде круга под руководством М. В. Ломоносова.
С. 436. Малы́гин Степан Гаврилович (?–1764) – один из первых русских исследователей Арктики.
Ла́птевы Дмитрий Яковлевич (1701–1767) и Харитон Прокофьевич (1700–1763) – двоюродные братья, исследователи Арктики, участники 2-й Камчатской экспедиции, в честь которых названо море в Северном Ледовитом океане.
Бе́ринг Витус Ионассен (1681–1741) – мореплаватель, руководитель 1-й и 2-й Камчатских экспедиций.
Чи́риков Алексей Ильич (1703–1748) – мореплаватель, капитан-командор, помощник Беринга в Камчатских экспедициях.
Шляпа «гречи́шником» – валяная войлочная конусообразная шляпа, которую носили крестьяне.
С. 438. Камеро́н Чарлз (1730-е гг. – 1812) – русский архитектор, представитель классицизма.
С. 442. Гримм Фридрих Мельхиор (1723–1807) – немецкий публицист эпохи Просвещения, критик, дипломат.
С. 443. Эра́зм Роттердамский (1469–1536) – гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель.
Флаг-офицер – лицо командного состава в штабе флагмана, исполняющее адъютантские обязанности (нем.).
С. 445. Абши́д – отставка (нем.).
Примечания
1
По другим сведениям, М. В. Ломоносов родился в деревне Денисовке, которая находилась рядом с деревней Мишанинской.
(обратно)2
А л т ы́ н – старинная монета в 6 денег или в 3 копейки.
(обратно)3
Д е́ н е ж к а – старинная медная монета в полкопейки.
(обратно)4
С х о л а́ с т и к а – тип религиозной философии, сухого и формального подхода к богословию.
(обратно)5
А д ъ ю́ н к т – научный ассистент или помощник профессора.
(обратно)6
Платон (428–348 гг. до н. э.) – древнегреческий философ.
(обратно)7
Имеется в виду Ньютон Исаак (1643–1727), английский физик и математик.
(обратно)8
П а н е г и́ р и к – ораторская речь хвалебного содержания.
(обратно)9
Звездочкой отмечены слова и выражения, значение которых даны в примечаниях в конце книги.
(обратно)10
Речь идет о царе Иване IV Грозном (правил в 1547–1584 гг.).
(обратно)11
К а н д а л а к ш а́ н и н – из села Кандалакша.
(обратно)12
Петр. Шкипер Петр (гол.).
(обратно)13
Д р е́ в л е е благочестие – старая вера.
(обратно)14
П р я – спор.
(обратно)15
С н и с к а́ т е л и – представители, поборники.
(обратно)16
С и́ ц е в ы й – такой, тот.
(обратно)17
Е́ л и ц ы – которые.
(обратно)18
Р а́ д и к с – корень.
(обратно)19
Проблёма – здесь: задача.
(обратно)20
На архистратига М и х а и л а – 8 ноября (ст. ст.).
(обратно)21
П р о́ м ы с е л – Божья воля.
(обратно)22
Б л а г о д а́ т ь – Божья милость.
(обратно)23
К о л и́ к о – сколько, сколь много.
(обратно)24
Г о р е́ – вверх.
(обратно)25
Б р е́ н н ы й – грешный, земной.
(обратно)26
О т в е́ р с т ы й – открытый.
(обратно)27
«И сражение прекратилось, так как не стало больше сражающихся!» (стих из трагедии «Сид» французского драматурга Пьера Корнеля; 1606–1684).
(обратно)28
Р ж а – ржавчина.
(обратно)29
П о л о́ й – заливное место, разлив, пойма.
(обратно)30
Р а д е́ т е л ь – пособник.
(обратно)31
В а р в а р и н день – 4 декабря (ст. ст.).
(обратно)32
Н и к о л а (Николин день) – 6 декабря (ст. ст.).
(обратно)33
З а п и в н о́ й – задаточный.
(обратно)34
К р е п о с т ь – здесь: крепостное право.
(обратно)35
Далее перечислены название вин.
(обратно)36
Далее перечислены названия специй и продуктов.
(обратно)37
Н а т у́ р а – природа.
(обратно)38
Д е с ь я́ н с Академия – Академия наук.
(обратно)39
Речь идет о будущем императоре Петре III (Петре Федоровиче, 1728–1762).
(обратно)40
Б у р а́ к – свекла (укр.).
(обратно)41
Мой бог! (нем.)
(обратно)42
У́ с т е р с ы – искаж. «устрицы».
(обратно)43
Д и г е́ т – диета.
(обратно)44
Ниже автор дает описание Зимнего дворца таким, каким он выглядел после пожара и восстановления его архитектором В. П. Стасовым.
(обратно)45
Стихотворение написано позже, в 1761 г.
(обратно)46
П р е ф е р а́ н с – здесь: преимущество (фр.).
(обратно)47
М о с ь п а́ н е – от польского выражения «мой пан».
(обратно)48
П р о п о з и́ ц и я – предложение (лат.).
(обратно)49
Превосходно! (фр.).
(обратно)50
Доброе утро, господин статский советник (нем.).
(обратно)51
П о н е́ ж е – ибо, потому что, так как.
(обратно)52
Речь идет об ордене Святой Анны.
(обратно)53
С и́ р е ч ь – то есть.
(обратно)54
Почи́ть в бо́зе – умереть.
(обратно)55
В е́ н у с – Венера.
(обратно)56
Т а т ь – вор, грабитель.
(обратно)57
П р е л е́ с т н ы е письма – рукописные листы, призывающие к бунту.
(обратно)58
По другим данным, Курганов вел наблюдение затмения не с Ломоносовым, а самостоятельно с башни Кунсткамеры.
(обратно)59
П о п р а ц о в а́ л и – поработали (укр.).
(обратно)60
Здесь: обличитель врагов родины.
(обратно)61
Ваше превосходительство, пожалуйста! (нем.)
(обратно)62
Гадюка, шок, бомба, чёрт побери! (нем.)
(обратно)63
Место печали; постамент для гроба (лат.).
(обратно)64
Один, два, три (нем.).
(обратно)65
Ш и к а́ н а – здесь: интрига.
(обратно)66
В настоящее время исследователями доказано, что эта теория М. В. Ломоносова ошибочна.
(обратно)67
Мой друг (нем.).
(обратно)68
Вера должна быть свободной (нем.).
(обратно)69
С моей любимой женой (нем.).
(обратно)70
К чёрту (нем.).
(обратно)71
Мужчина – слово (нем.).
(обратно)72
С табаком? (нем.)
(обратно)73
О р и е́ н т – восток.
(обратно)74
Ф о р м е́ й с т е р – изготовитель форм.
(обратно)

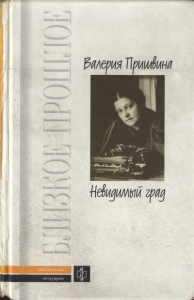





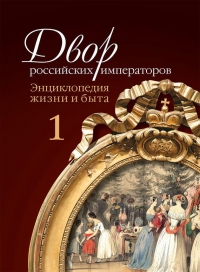
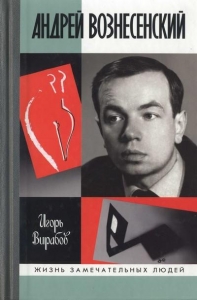
Комментарии к книге «Повести о Ломоносове (сборник)», Сергей Алексеевич Андреев-Кривич
Всего 0 комментариев