Олег Павлов Биографическая записка
Я родился, что можно считать судьбой, в Москве в 1970 году, время самое бездвижное. Ничего кроме Москвы да Киева, куда отсылали ежегодно к бабке с дедом, кругом себя не видел и не знал. Семья наша рано распалась, так что я рос без отца — с мамой и сестрой, которая старше меня на девять лет. Жили бедновато. Много с детства читал, что мне и подходило по характеру — был впечатлительным, ленивым, как все дети в бедноватых семьях, где нет отца.
Очень любила читать мама, не могла без книг, всегда что-то читала — и ходила в районную библиотеку, куда и меня привлекла. Чтение стало для меня с детства занятием как бы осознанным и взрослым, я ходил как взрослый в библиотеку! Сказок, рассказов для детей я так и не узнал в детстве. Библиотечная же полка состояла из классического набора пыльных книг, но почти средневековых и не из русской литературы, то есть неузнаваемых, потусторонних. Они даже на вид были старыми, Бог знает какого года издания. Я неожиданно воспитался этими книгами, точно из прошлого века барчук — читая рыцарские романы Стивенсона, путешествия Жюля Верна. При этом чтение «Гулливера» или «Робинзона Крузо» было для меня чтением не завлекательным и простым, а мистическим, ощутимо страшным, точно блуждание одинокое в темноте. Отчётливо помню «Морского волка» Джека Лондона, «Тартарена из Тараскона» Доде, «Дэвида Копперфилда» Диккенса, «Приключения» Марка Твена. С тем же чувством я читал потом в тринадцать лет «Униженных и оскорблённых» — первую русскую книгу в своей жизни, попавшуюся мне в доме школьного товарища.
Я никогда не боялся книг, то есть и подумать не мог, что какая-то книга может быть для меня недоступной, скажем, взрослой. Во-первых, и не было у нас в доме книг, расставленных по ранжиру, во-вторых, у мамы ко мне отношение было как к равному, никто моим воспитанием и образованием не управлял. Когда сестра поступила на истфак московского университета, то я читал все подряд её исторические учебники — это было, как горячка. Но интересно, что заразившись историей, я этим чтением увлёк и маму — и помню, она вдруг стала читать книги, которые я приносил, это была русская беллетристика историческая, а мама повлияла на меня кругом своего чтения, красиво-европейским, женским по настроению — Бальзак, Цвейг и прочее. И воспитывался я книгами. Книга оказалась для меня с детства действительней жизни, начиная влиять на поступки мои, напитывая душу глубокими неосознанными переживаниями, страхами. Это было, как страх Божий — страх, сплавленный в сердце с любовью. Я рос-то безотцовщиной, то есть не знал страха наказания и всего прочего, а вот из книги это отцовское и явилось.
Сознательность пробудил Достоевский — «Униженные и оскорблённые». Это не просто книга, а в ней есть с тех пор и моя судьба. Мне тогда стало невыносимо больно, стыдно, я был точно в мозг ранен ясностью и правдой ведь и детских каких-то страданий. И потом все герои Достоевского были для меня не как дети, а именно дети, и про слезу ребёнка я понял — что это такая вот человеческая детская слеза. И хоть мне хорошо было в доме, и я был любим, изнежен даже любовью и пониманием, но мне-то всегда потом чудилось, что много страдаю и что всем кругом плохо, что и все страдают, но должна быть какая-то правда в жизни, справедливость, которая человека сделает сильным, защитит.
После Достоевского я оказался глух к беллетристике; беллетристика, просто литература, перестала мне что-то говорить. Это какая-то аскеза отрицания, но воспринять потустороннее, условное с точки зрения человеческого страдания, я больше не мог — ни в жизни, ни в литературе. Не думаю, что трагическое это ощущение — книжное, и что я ранен им был, как амурной стрелкой из книг. Эти книги, которые ранили меня, писались той же душой, правдой, жизнью. Это ощущение, уже как опыт, только усиливается во мне от прожитого.
Под влиянием прочитанного то и дело я хотел что-то написать сам. Прочтя по школе Пушкина, влюбившись в музыку старого языка, стал писать по три стихотворения в день в том же допотопном духе. Оные стихи копил с той же алчностью, как ежели б денежку. Чуть не надорвался — не ел, не спал, пугая родных этой жадностью к творчеству. Так, наверное, рождаются на свет графоманы. Но во мне родилось тогда что-то глубокое, верней, проснулось, обволокло пылом сумасшедшим душонку, искусало до бешенства воображение.
Я стал непонятным сам для себя и, как сомнамбула, неуправляемым. Не жил, а блуждал.
Потребность в творчестве была врожденной, но в чём-то и внушённой книгами, противоречивой. Всё, чем бы ни начинал всерьёз заниматься, захватывало, но никогда не мог довести начатого до конца — срывался на другое, увлекался другим. Школа же наша была заштатной. Два последних года в ней не преподавался немецкий язык — учил нас этому языку кто только мог, что закрыло лично мне наглухо дорогу к дальнейшему образованию, и начались с тех пор мои хождения по самым разным «чумазым» работам.
Весной 1988 года призвали в армию — во внутренние войска МВД СССР, где я попал служить в конвойную часть. За полгода армии увидел, говоря в масштабе округов, Туркестан и Среднюю Азию, начав служить с Ташкента и кончив службу в Карагандинской области, что в Северном Казахстане. За полгода так и не выучился толком стрелять и, хоть отстоял на вышке, не выучился жизнью на охранника. Но за эти полгода мог быть изнасилован, зарезан, застрелен, посажен в тюрьму, изувечен, мог изувечить непоправимо самого себя — тут я не в силах описать всех обстоятельств, только обозначаю, что видел в упор перед собой, загнанным зверьком, уже-то издыхающим, но происходило чудо. Этим чудом, спасавшим меня в последний возможный миг, были люди, порой случайно встреченные и самые незнакомые. Также я узнал и увидел, какие бывают лагеря и жизнь вокруг них. Отлежав в госпитале с травмой головы, но будучи психически здоровым, оказался в стенах карагандинской психушки, где провёл полтора месяца и был списан из конвойных войск как негодный к строевой службе, что, наверное, спасло мне жизнь.
На старую работу принять отказались из-за психического диагноза, который присвоили мне в армии. Устроился с трудом работать вахтёром, где надо уж было доказывать, что инвалид — туда не брали людей здоровых, чтобы не тунеядствовали. Тогда я что жил, что не жил, ведь в двадцать лет оказался будто в каменном мешке, с клеймом этим. Из гордости сильно всё переживал, но тогда же и начал писать. Стихов, однако, не написалось ни строчки, хоть считал себя поэтом. Отгородясь и как чужой, мучился я просто той, другой, оставшейся позади жизнью, которую, никак не стараясь закладывать в память, глубоко и подробно помнил и которая-то делала меня человеком одиноким, вынуждая без всякой мысли о литературе просто выписываться одним бесформенным безадресным письмом. Духовно повлиял Андрей Платонов. Повлияло и то, что, читая «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, который открыт был тогда для прочтения «Новым миром», наткнулся на описание Карабаса, того лагеря, где служил. Тогда же прочитал в библиотечке «Огонька», которую выписывал, книжку неизвестного мне писателя, Юрия Коваля, и проза его выдавила у меня ком из горла. Коваль-то и обучил меня писать, его «Картофельная собака»; писал я кое-как потому, что мучился безысходностью, злом, боялся вообще лёгкости слова, слов, а проза Коваля в одночасье влюбляла в жизнь.
В новом после армии году пытался поступить со старыми стихами в Литературный институт, но получил отказ, стихи не прошли конкурса. Потом — во ВГИК, на сценарный, но так и не сдал экзаменов, потому что попал в те дни в трагикомическую переделку — неожиданно вечером ко мне в квартиру раздался звонок, и я открыл дверь другу по школе, который дезертировал из армии, аж из самого Термеза, и, добравшись до Москвы, пришагал ко мне домой — больше, оказалось, некуда ему идти. Кончилось тем, что прятались от милиции мы уже вместе. Он — потому что бежал, я — потому что укрывал.
А в 1990-м поступил в Литературный с прозой — в тот год отменили почему-то единственный раз экзамен по иностранному языку. И ещё было много случайностей. Тем же летом опубликовали в белорусском журнале «Парус», куда посылал самотёком, как в молодёжный, первые рассказы из цикла «Записки из-под сапога». Перед тем я получил штук шесть письменных отказов из разных редакций молодёжных журналов (тогда учредителем всех таких журналов был комсомол), куда отсылал рукописи, простодушно полагая, что так и надо, раз я молодой. И вот откуда-то издалека получил я конверт с номером журнала и первый свой гонорар — пятьдесят рублей, что меня, помню, больше всего и потрясло; я вообще был в неведении, что возможно заработать за это деньги.
Но литературным началом в полной мере стала публикация в «Литературном обозрении» в сентябре 1990 года. Журнал тогда имел миллионный тираж, и читала его вся литературная Москва. Это были рассказы, с которых начался лирический цикл «Караульных элегий» — я писал именно в этих двух пластах: поэтическая «элегия» и более жёстко очерченные, более драматичные «записки». После первых публикаций стало так свободно, что оба этих прозаических цикла я выписывал и публиковал как на одном дыханье в течение всех последних лет, и уже возник третий, заключающий цикл рассказов, «Правда карагандинского полка». Заключающий потому, что дыханье его — не лирическое, не драматическое, а трагическое, само положило конец всему этому большому повествованию, книге. «Степная книга» — это для меня первый сознательно подведённый итог, и в творчестве, и прожитому, освобождающий от старых долгов.
Вырос из того же изначального материала — из образа, духа азиатских степей — сюжет моего первого романа; и «Казённая сказка», напечатанная в 1994 году «Новым миром», принесла мне, в общем-то по воле случая, известность, литературный успех. К сегодняшнему дню этот роман выдержал уже три издания, люди его читают. У второго романа, «Дело Матюшина», напечатанного в 1997 году, тоже сложилась своя судьба. Хотя тиражи теперь, конечно, не велики, но книги всё же остаются в библиотеках, в домах, а значит, не исчезают.
Ту самую возможность быть в разные годы и в разных обстоятельствах давали мне только люди. Здесь нельзя литературу от жизни отделить, поэтому литература и есть для меня жизнь, а не цепочка каких-то непонятных бездушных творческих достижений или чистое искусство. Меня вдохновляли писать только люди, которые как бы брали с меня слово, а уж их-то подвести, обмануть и не мог. И окажись моя проза никому не нужной — не будет нужной и мне; и во-вторых, пишу я потому, что только человек трогает и удивляет, а ко всему остальному я глух, потому, верно, и стихи в моей душе не расцвели.
Москва, январь 1998

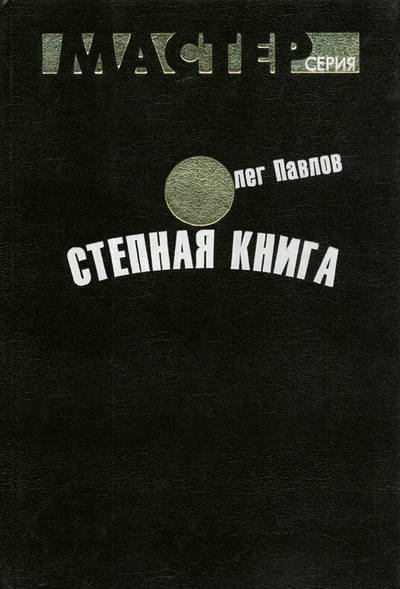
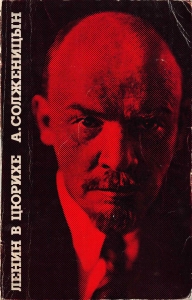
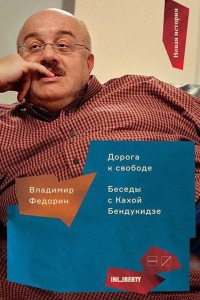





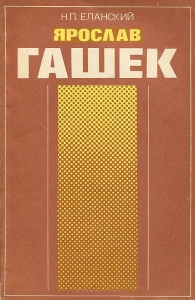


Комментарии к книге «Биографическая записка», Олег Олегович Павлов
Всего 0 комментариев