В. И. Уколова «Последний римлянин» Боэций
От автора
Читатель, взявший в руки эту книгу, может спросить: кто такой этот «последний римлянин» Боэций и зачем мне знать о нем? Действительно, сегодня найдется немного людей, хорошо представляющих себе, кем был этот человек, хотя мировая научная общественность и отметила в 1980 г. его 1500-летний юбилей, прошедший скромно, академично, с достоинством. Это, наверное, пришлось бы по вкусу и самому юбиляру, ценившему поиски истины, а не блеск славы. Тем не менее слава у этого человека была — прочная, нешумная и глубокая, пережившая тысячелетие.
На вопрос о том, кто такой Боэций, в средние века ответили бы так: «латинский Аристотель», «Учитель», быть может, даже «светоч разума». Великий итальянский поэт Данте, почитавший Боэция, сказал о нем более проникновенно: «… безгрешный дух, который лживость мира являет внявшему его словам»[1]. Строители великолепного Шартрского собора показали бы скульптуру, якобы изображающую Боэция (как он выглядел в действительности — неизвестно), который в силу своего «научного» авторитета в данном случае должен был «олицетворять» Арифметику в сонме наук. Адам Фульдский, видный теоретик музыки XV в., вероятно, упрекнул бы спрашивающих так же, как своих учеников: «Несчастные, они, кажется, не знают, что говорил Боэций…»[2] Наставником мудрости и нравственности считали его первый поэт Ренессанса Петрарка, автор прославленной «Утопии» Томас Мор и даже французский писатель XX в., гуманист и насмешник Анатоль Франс.
Сегодня о Боэции можно прочитать преимущественно на страницах научных исследований[3]. Ученые до сих пор спорят, был ли он оригинальным мыслителем или эклектиком, христианином или тайным приверженцем древнего язычества, ученым или моралистом, «последним римлянином» или «отцом средневековья», разгадывают загадку его последних дней и посмертной легенды, тайну его питаемого мудростью оптимизма.
Фигура Боэция высится на «перекрестке времен» — античного и средневекового. С именем «последнего римлянина» связана одна из важнейших проблем истории культуры — преемственности и противостояния старого и нового типов культур, роли традиции и духовного наследия в развитии общества.
В зените средневековья поэт Пьер из Блуа произнес слова, популярные и в наше время: «Мы подобны карликам, взобравшимся на плечи гигантов; если мы видим дальше, чем они, то этим мы обязаны им…» Эти слова свидетельствуют о том, что уже в те далекие времена европейская цивилизация начала всерьез ощущать свою зависимость от культурного наследия прошлого, а следовательно, и собственную ответственность перед будущими поколениями. Хотя средневековье часто упрекают в отсутствии чувства исторической дистанции, однако нельзя не признать, что ощущение хода истории людьми той эпохи было достаточно острым. Правда, их интересовало в истории другое, чем, например, людей нового времени, — не специфика той или иной реальности, давно ушедшей, но то вечное, общезначимое для поколений, что делает их единым человечеством.
Таким сплачивающим началом в истории Европы было не только христианство, но и античное наследие, являвшееся общим корнем, из которого пошли мощные побеги культур европейских народов. Культура античности воспринималась средневековьем не как нечто монолитное и всеобщее, но прежде всего как то, что было создано выдающимися людьми, ее «авторитетами». Платон и Аристотель, Вергилий и Овидий, Птолемей и Гиппократ проникли в интеллектуальный и поэтический мир средневековья и обосновались там. И это стало возможным потому, что культурные сокровища древности нашли хороших хранителей и передатчиков, сумевших спасти их в сложнейшее и тяжелейшее время перехода от античности к средневековью, когда Европа переживала один из наиболее важных поворотных моментов своей истории, вступая на путь феодализма. Потомки назвали их «последними римлянами», навсегда сохранив к ним чувство глубокого уважения и благодарности.
Очень разными были эти «последние римляне» — государственными деятелями и ораторами, философами и поэтами, историками и эрудитами. Но всех их связывало одно: стараясь сохранить культурную традицию в условиях варваризации, они вольно или невольно открывали путь в завтрашний день Европы. Зарю средневековья Западная Европа встретила в развалинах. У истоков средневековой цивилизации — разобщенные варварские королевства, разноязыкие и довольно дикие народы, наводнившие континент, разрушение древней культуры. А к концу средневековья можно говорить уже о складывании определенной культурной общности, о значительном продвижении народов и государств Европы по пути исторического прогресса, что в немалой степени стимулировалось и античным наследием, в сохранение которого заметный вклад внесли «последние римляне». По многообразию и масштабам деятельности, по влиянию на духовную жизнь последующих поколений самым выдающимся из них был Боэций.
Прошедшие века облекли патиной времени образ Боэция, но и глубинах европейской культуры он продолжает жить, хотя и утрачивая постепенно устойчивые очертания, определенность облика, но сохраняясь как своеобразный символ противостояния культуры варварству, разума — насилию, как олицетворение духовной связи поколений, без которой невозможно движение человечества вперед.
Преемственность разума, духовности и добра всегда была показателем истинной культуры. Боэций доказал это и своей жизнью, и своей смертью. Возможно, не будь Боэция, история европейской культуры и не отклонилась бы от магистрального направления развития, но она явно стала бы беднее, утратив глубоко индивидуальную, яркую искру человеческого познания, стремления к совершенствованию, достоинства и мужества. Эта книга преследует скромную цель — напомнить нашим современникам о Боэции — мыслителе, труженике культуры, человеке, «связующем времена».
На рубеже времен: от античности к средневековью
Боэций (ок. 480–525) не прожил и 50 лет. Можно ли назвать эти годы «его временем»? Конечно, да. Ибо время, когда человек рождается, живет и умирает, — это единственный и невозвратимый срок, отпущенный ему в истории существования человечества. Но сегодня никого не удивят такие слова применительно к кому-нибудь, как: «опередил свое время» или «отстал от своего времени», которые подчас становятся и частью самоощущения личности. С этой точки зрения человек не всегда живет точно в «своем» времени, особенно человек выдающийся.
Боэция потомки называли «последним римлянином», тем самым подчеркивая его нерасторжимую связь с эпохой, к моменту его рождения уже ушедшей. Он как бы замыкал отрезок истории, принадлежавший еще недавно великой и могущественной римской цивилизации, был ее последним олицетворением и носителем. Боэций, как оставшийся в одиночестве оркестрант в «Прощальной симфонии» Гайдна, сыграв заключительный аккорд, должен был погасить свою свечу и покинуть сцену, некогда освещенную, наполненную прекрасной музыкой, чтобы оставить ее темной и немой, унося с собой затихающие отзвуки погибающей культуры.
Но ведь Боэция называли и «отцом средневековья», тем самым причисляя его к творцам нарождавшегося мира, следовательно, и сам этот мир тоже был «его временем». Боэций не только «последний», но и «первый» протянувший руку европейскому грядущему. И это был не просто жест приветствия, в руке Боэция лежали сокровища — любовно отобранные и отшлифованные знания, которые он хотел передать, чтобы те, кто придет за ним, могли не только взглянуть на мир удивленными глазами ребенка, но и проникнуть в глубины мира, используя то, что уже было понято и осмыслено до них.
Время Боэция не ограничивается годами его жизни, это целая эпоха, охватывающая последние века античности и первое столетие средневековья. Это — время гибели рабовладельческого и зарождения феодального общества. Это — время жесточайшей идейной и религиозной борьбы, попыток сохранения древнего культурного наследия и создания фундамента будущей средневековой идеологии, консолидации христианской доктрины, укрепления организационных основ церкви.
Чтобы лучше понять все то, что случилось с Боэцием в первой четверти VI в., надо хотя бы вкратце напомнить о том, что произошло на территории Западной Римской империи в предыдущие два века.
В 305 г. император Диоклетиан в зените славы и могущества отказался от власти и как частное лицо удалился в имение на берегу родной Адриатики, предоставив современникам и потомкам гадать о причинах столь странного поступка. Он оставил великую империю, простиравшуюся от Британии до ливийских пустынь, от Атлантического океана до Евфрата, в мире и благоденствии, с четко, по-военному установленной системой управления и взимания налогов, жесткой иерархической структурой, с беспрекословно выполнявшим приказы вымуштрованным войском. После жестоких преследований упорствовавших в своей вере христиан, казалось бы, даже в душах и умах подданных самодержавного и божественного императора удалось восстановить уважение к древним богам — великим покровителям Рима, который оставался священной главой империи, «праматерью людей и праматерью бессмертных»[4], несмотря на перенесение императорской резиденции на Восток, в Никомедию.
Римский круг земель опоясывал Средиземное море, охватывая богатейшие земли трех континентов — Европы, Азии, Африки. При всем разнообразии это был единый политический и культурно-исторический комплекс, ассимилировавший высочайшую эллинистическую культуру и развивавшийся во взаимодействии-противостоянии с культурами других народов, особенно восточных, завоеванных или вошедших в орбиту политического влияния Рима. Результатом иудаистско-эллинистического синтеза стало возникновение и быстрое распространение в регионе одной из трех мировых религий христианства.
Годы, последовавшие за отречением Диоклетиана, с беспощадностью обнаружили всю иллюзорность достигнутого при нем благоденствия, показали, что путь, избранный средиземноморской Европой на заре ее истории, привел в тупик. Кризис поразил общество и государство, недавно еще цветущие города приходили в упадок. Деревня, перешедшая на систему натуральных повинностей, не, в состоянии была обеспечивать огромный управленческий аппарат, войско и городское население. Хозяйственные реформы, развитие колоната не могли остановить процесс нарастания экономического упадка. По всей империи ширилось недовольство, вспыхивали волнения, перераставшие подчас, подобно движениям агонистиков и циркумцеллионов, в настоящие восстания.
Почти непрерывно шла жесточайшая борьба за власть, Диоклетиан, в целях облегчения управления огромной страной создавший систему четверовластия, подготовил почву для взрыва сепаратистских тенденций. Начавшийся при нем процесс расхождения между Востоком и Западом стремительно нарастал, несколько приостановившись лишь при Константине Великом (306–337) и Феодосии I (379–395), и после 395 г. привел к их окончательному разделению и в перспективе — к противостоянию западноевропейского и византийского средневековья.
Если восточная часть империи консолидировалась под властью византийского императора, то западная — все больше сжималась под натиском варваров, которые непрерывными волнами накатывались на ее территорию. Незащищенное сердце страны оказалось подставленным мечу варваров. Рим Вечный город — в 410 г. склонил свою «золотую главу» перед готами Алариха, а в 455 г. — перед вандалами Гейзериха. Еще в 70-х годах V в. епископ Арверны (совр. Клермон-Ферран) и изысканный италийский поэт Аполлинарий Сидоний с римским высокомерием сетует, что ему приходится жить «средь полчищ волосатых», «терпеть германский говор»[5], а уже в VI в. германцы почти повсеместно хозяйничают на территории бывшей Западной Римской империи. Городскую цивилизацию начинает сменять деревенско-общинная о зарождающейся феодальной системой хозяйствования, сеньориально-вассальной политической организацией, с новой системой идей, духовных и эстетических ценностей. IV–VII века оказываются временем одного из радикальных поворотов в мировой истории, а Западное Средиземноморье — одним из важнейших его центров.
Этот период со всей определенностью обнажил кризисное состояние идеологии и культуры античного мира, языческих религий, философии, мировосприятия, которые оказались неспособными дать ответ на трагически обострившиеся вопросы бытия, познания и человеческих отношений. В условиях всеобщего кризиса и варваризации традиционные доктрины и концепции вынуждены были уступить место христианству, ставшему «общей теорией» нарождавшегося средневекового мира, которая в то же время есть «его энциклопедический компендиум, его логика в популярной форме, его спиритуалистический pointe d'honneur[6], его энтузиазм, его моральная санкция, его торжественное восполнение, его всеобщее основание для утешения и оправдания»[7].
Это было время, когда религиозные вопросы занимали умы и души людей порой не меньше, чем непосредственные житейские заботы. Противоборство язычества и христианства, богословская полемика привлекали как духовную элиту, так и широкие массы народа, особенно на Востоке, где тринитарные и христологические споры приобрели характер животрепещущих проблем, волновавших всех — от монархов до простолюдинов.
В острейшей идейной и политической борьбе Иисус из Назарета побеждал богов-олимпийцев. Христианство стало не только идеей, увлекавшей за собой все новых и новых приверженцев, но и официальной религией, влиятельной политической и социальной силой. Церковь включила в сферу своих интересов и забот практически все аспекты жизни общества — от экономического устройства до спасения душ человеческих.
В 313 г. был принят Миланский эдикт императоров Константина и Лициния, даровавший христианам после трех веков гонений право исповедовать свою религию свободно и открыто. Однако победа христианства, хотя и выглядела триумфальной, на деле не принесла желанного мира ни государству и народу, ни самой церкви, оказавшейся перед лицом раскола. Если христианский апологет II в. Ириней перечислил 22 ереси, то «Домашняя аптечка» Епифания Саламинского в 375 г. предлагала «лекарства» от 156 «зловредных» учений. Нарастало идейное размежевание между Западом и Востоком, усугубленное разделением империи и усиливавшейся изоляцией западных провинций.
Еще в IV в. церковь на Западе латинизируется, литургия приобретает формы, отличные от восточной, появляется латинская богослужебная литература, происходит консолидация клира, укрепляется власть римского епископа, определявшаяся престижем Вечного города и традицией, считавшей римскую епископскую кафедру апостольским престолом. При калейдоскопической смене императоров, бесконечной борьбе в среде правящей аристократии, нараставшей варваризации церковь, превращаясь в централизованную, жестко структурированную иерархическую организацию, становилась реальной идеологической и политической силой, пытавшейся сдерживать центробежные тенденции, разрушавшие римское общество. Не случайно вопросы практической экономики, организации монастырских и епископальных хозяйств, устройства городской жизни и муниципального управления, решение проблем войны и мира, политические дела волновали западных епископов и священников ничуть не меньше, чем борьба с ересями или моральные наставления пастве. Вместе с тем следует отметить, что связанное с римской традицией, отличавшееся рационализмом и практицизмом западное христианство меньше тяготело к теологическому теоретизированию, чем восточное, что с очевидностью явствует из сравнения деятельности восточных и западных отцов церкви, из характера богословского синтеза на Востоке и Западе.
Трудами апологетов и отцов церкви была осуществлена выработка и систематизация догматики, организационных принципов деятельности церкви. В период патристики (II–VIII вв.) была заложена основа христианского мировоззрения последующих веков. Сочинения «отцов церкви» Амвросия Медиоланского (ок. 340–397), Иеронима Стридонского (347–419), Аврелия Августина (354–430) становятся каноническими для средневекового Запада, их комментировали и толковали наряду с Библией.
Основой западного средневекового христианства (по крайней море, до XIII в., до философско-богословского синтеза Фомы Аквинского) оставалось учение Аврелия Августина. Августин пришел к христианству через долгие и мучительные духовные искания, через увлечение скептицизмом, манихейством и неоплатонизмом, столь популярными в его время. Он не был философом-систематизатором. В его произведениях художественное, образное начало часто сильнее логического, а убежденная страстность изложения преобладает над стройностью доказательств. Постоянное душевное борение, интеллектуальный и моральный поиск определили содержательное и жанровое разнообразие его сочинений. Однако в последний период жизни, когда Августин уже был одним из самых авторитетных иерархов церкви, крупнейшим теологом, официальная позиция воинствующего ее защитника в сочинениях Гипонского епископа явно преобладает над искренностью и личной интонацией его более ранних произведений.
Многоплановость и неоднозначность воззрений Августина открыла возможность того, что разные стороны его учения использовались и официальной церковью, и еретиками. Августин был столпом католицизма, и на него же опирались протестанты в борьбе против католической церкви. Даже в наши дни христианские теологи и философы, не удовлетворенные рационалистической ограниченностью томизма, снова обращаются к Августину, давшему образцы христианского самоанализа и психологизма.
В «Разговорах с самим собой» — диалоге, написанном непосредственно перед принятием христианства, — Августин сформулировал цель познания следующим образом: «Хочу постичь бога и душу»[8]. Поскольку бог, по Августину, является абсолютным истинным бытием, единственно сущим, сотворившим по своей воле мир и человека, то познание бога и души, по существу, представлялось христианскому теологу полным и всеобъемлющим, включавшим также и познание мира. Таким образом, Августин наметил средневековую тематическую философскую триаду: бог — мир — человек, в рамках которой вращалось теоретическое сознание феодальной эпохи.
Августина особенно занимали два вопроса: предназначение человека в его общем и психологическом аспектах и философия истории. До августиновой «Исповеди» античная литература не знала такого глубокого самоанализа, такого всестороннего и тонкого раскрытия психологии личности. С Августина начинается столь показательный для дальнейшею развития европейской культуры интерес к «биографии» души, становлению и реализации индивидуальности.
Этот мыслитель стоит и у истоков европейской философии истории как специфической области теоретического осмысления реальности. В сочинении «О граде божием» он создает своеобразную эсхатологическую утопию, в которой историческое будущее человечества перерастает в будущее космическое, возвращаясь к исходному мировому началу. Человек, по Августину, — объект, средоточие и цель борьбы двух космических сил, вселенской битвы добра и зла. Он может и должен активно проявить себя в ней. Победа добра связана с окончательным торжеством на земле «божиего града» — этого объекта христианской надежды, которому Августин придал трансцендентный характер. Конкретные условия жизни человеческого общества находились как бы в тени этой эсхатологической реальности, которая не могла быть нарушена и которой человека нельзя было лишить, ибо провидение неизбежно влекло его к ней как к высшей цели. На разных этапах средневековой истории историческая концепция Августина обретала различный политический смысл, окрашиваясь то в оптимистические, то в пессимистические тона, а в еретических интерпретациях получая даже революционизирующий оттенок.
Августин также полагал, что единство и всеобщность человеческой истории вытекают из факта происхождения всех людей от одного праотца Адама. Отсюда он выводил общность исторической судьбы человечества. Эта идея имела для того времени важное значение, ибо давала «права гражданства» во всемирной истории варварским народам, которым античная историография в этом решительно отказывала, ставя их сначала несравненно ниже греков, а затем римлян.
С именем Августина связана организационная консолидация церкви на Западе и наиболее жестокие преследования еретиков в IV–V вв. В борьбе с донатизмом[9] и пелагианством[10] он выступил как сторонник принуждения и даже насилия в делах веры, стал инициатором союза церкви и государства в преследованиях тех, кто упорствовал в своих заблуждениях. Христианская любовь приобрела у него своеобразную, но весьма характерную для церковных иерархов интерпретацию: она должна быть действенной в том смысле, что христианин обязан «возлюбить» и врагов своих, «спасти» их, т. е. принудить их вернуться в лоно церкви, а в случае неповиновения — дать возможность им пострадать и искупить свой грех на земле. Августин считал, что лучше обречь еретиков на страдания на земле (отсюда возможность применения к ним пыток и казней), чем на мучения после смерти. Таким образом формировалось обоснование принуждения инакомыслящих, получившее широкое распространение в деятельности католической церкви в средние века, по существу, закладывалось начало инквизиции.
Превратившись за три с половиной века из верований небольшой горстки невежественных провинциалов, инородцев (с точки зрения настоящего римлянина) в официальную религию Римской империи, христианство тем не менее, чтобы реализовать свои притязания быть вселенской религией, должно было нанести смертельный удар язычеству не только как покровительствуемой государством системе культов, но как особому миросозерцанию и мироощущению. Однако язычество упорно не хотело умирать, хотя ко времени императора Юлиана (361–363), попытавшегося реставрировать его как государственную религию, оно уже изжило себя как религиозная и политическая идеология. Попытка Юлиана была последней вспышкой, трагическим, но вполне понятным последним подъемом язычества, всплеском эллинско-римского духа, которому затем предстояло совершить чуждый для него, но исторически необходимый труд — выработать окончательные формы воплощения христианства. Показательно, что Юлиан сначала пытался восстановить религию древних богов на Западе, там, где они занимали в умах и душах людей более сильные позиции, чем на Востоке — колыбели христианства. Гибель Юлиана ускорила наступление антиязыческой реакции, в которой христиане в полной мере проявили свой фанатизм и нетерпимость.
Последние поборники язычества были не менее крепки в своих убеждениях, чем первые христиане. За ними стояли слава и величие древнего Рима, святыни и традиции предков, к которым взывал глава сенаторской партии Симмах, требовавший восстановления в Риме алтаря богини Победы. Прибыв в 384 г. к императорскому двору в Милан, он столкнулся, несмотря на поддержку двора, с решительным отпором Амвросия Медиоланского, епископа и блестящего проповедника. Противостояние двух мировоззрений, двух социальных концепций было бескомпромиссным и в определенном смысле стало решающим для дальнейших судеб западной культуры. В заявлениях Симмаха явственно обнаружилась смесь величия духа, гордости римской цивилизацией и высокомерного аристократического презрения к тем, кто ее непосредственно создавал, угнетенным слоям населения и рабам. Амвросий противопоставил Симмаху неожиданную для епископа рационалистическую критику роли римских богов в истории государства и обещания справедливого посмертного воздаяния для всех, подкрепленные риторическим обличением социального угнетения. Общественное мнение отдало предпочтение христианским упованиям, а не безличному и безжалостному языческому року. Миссия Симмаха потерпела поражение, однако язычество не исчезло с исторической арены. Не случайно через три десятилетия после событий в Милане Августину пришлось заново отвечать на обвинения, обращенные язычниками к христианам, посвятив этому свое сочинение «О граде божием».
И в V в. на Западе, особенно в среде высшей римской аристократии, оставалось немало приверженцев древних верований. Язычество сохранялось и в крестьянских слоях, для которых христианство было непонятно и чуждо, в то время как традиционные боги были привычными, живущими рядом, почти соседями. Именно крестьянская среда осталась обиталищем так никогда и не побежденных до конца остатков язычества. Язычество и ереси, связанные с ним, обрели также мощную поддержку в верованиях варваров, наводнявших территорию Западной Римской империи.
Язычество как официальная идеология умерло, но, подобно мифическому Гиацинту, в последующие века упорно прорастало вновь и вновь в народных обрядах, верованиях, фольклоре. В эпоху Возрождения вновь воскресли не только его философские системы, обрели новую жизнь произведения античного искусства, но воскрес языческий рационализм, чувственное, радостное восприятие мира, ощущение человека, который может быть богом. Античные боги, как воплощение веры в непосредственную человечность всего божественного, неразделимость высшего мира и мира человеческого, в доступность святыни, в способность ее быть воплощенной в пластических, чувственных формах, породили особое мироощущение, дали совершенное искусство. Вера, что идеальное, божественное вообразимо, воплотимо, заключала в себе определенную свободу человеческого духа и разума. Эта вера пережила века и дала мощные ростки в ренессансной идеологии и культуре.
Итак, чтобы стать вселенской религией, завладеть не только политическим кормилом, но и сознанием каждого человека, христианство должно было преодолеть уже не отдельные языческие культы, а целую культуру огромной эпохи, культуру, сохранявшуюся и в недрах народного сознания, и в высочайших образцах духовной деятельности общества, во всей системе воспитания и образования, в самом образе жизни. То была античная эллинистически-римская культура, в глубинах которой христианство некогда черпало идеи для своих постулатов и которую, слегка окрепнув, оно отринуло как порождение враждебного ему языческого мира.
Острая идейная борьба разгорелась вокруг философии, составлявшей ядро и вершину языческого мировоззрения, древней культуры, закат которой ознаменовался величайшим философским синтезом неоплатонизма, являвшегося не только философией, но и синкретической мировоззренческой системой, включавшей также и религиозно-мистическую практику, определенный образ жизни. В IV–VI вв. крупнейшим центром неоплатонизма была Афинская школа, давшая выдающегося мыслителя, систематизатора неоплатонизма Прокла (412–485). И после ее закрытия в 529 г. еще некоторое время продолжалась деятельность последних неоплатоников, нашедших пристанище в Персии. Языческий неоплатонизм был элитарным интеллектуально-мистическим учением, практически недоступным широким массам, а его изощренная мудрость подчас оказывалась непонятной и образованным людям. Язычество в лице своих последних философов-неоплатоников Плотина, Порфирия, Ямвлиха, Прокла делало последнее усилие в трансах экстаза, в соединении рационализма и мистики сохранить себя как систему миросозерцания. Устремившись к бесконечному, которое есть все и есть ничто, античная мысль все же опиралась на свое давнее оружие — диалектику, абстрактные логические построения. Желая обновить и усилить язычество, неоплатоники попытались рациональным путем создать религию. Однако в рациональных поисках Единого позднеантичная мысль не могла найти удовлетворения. Логические антитезы приводили к новым неразрешимым проблемам. И если вначале неоплатонизм, по существу, отверг мир и чувственные формы, то затем был вынужден отказаться от разума в пользу экстаза, доступного лишь единицам. У неоплатоников язычество из общенародной веры превратилось в элитарную религию. Несмотря на интерес к богам, демонам, магии и чародейству, неоплатонизм с его абсолютизацией все оправдывающей мировой гармонии, внеличностным восприятием бытия и отрицанием страдания не мог стать духовной пищей для людей обездоленных и жаждущих спасения.
Неоплатонизм нашел своих приверженцев и защитников и на римской почве. Еще в конце III в. основателем неоплатонизма Плотином была открыта философская школа. Впоследствии римский неоплатонизм приобрел своеобразную стоическую окраску, получил распространение в аристократической среде.
Друг вождя языческой партии Симмаха Макробий был незаурядным писателем и философом-неоплатоником. В своих сочинениях «Сатурналии» и «Комментарий к „Сну Сципиона“»[11] Макробий дает экспозицию языческой мудрости и античной культуры, представляет целый спектр методов толкования поэзии и философии. Его образное истолкование вселенной как прекрасного вместилища божественного разума, всеобщей мудрости и мировой души, связующей и одухотворяющей все сущее, повлияло на многих средневековых мыслителей и поэтов, в том числе и на Данте. Язычество Симмаха и Макробия приближается к монотеизму, но монотеизму рафинированно философскому и элитарному, на смену которому неизбежно должна прийти иная идеология, доступная всем, способная на каком-то этапе создать иллюзию возможности духовного удовлетворения чаяний большинства. На эту роль и претендовало христианство, уже давно накапливавшее силу в недрах античного общества, а впоследствии выступившее в качестве «наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции феодального строя»[12].
В IV–V вв. неоплатонизм проникает в христианское богословие. Следует вспомнить, что отношение христианства к языческой мудрости изначально было воинственно отрицательным; апостол Павел предостерегал: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира…» (Послание к колоссянам II, 8). В дальнейшем усилиями таких деятелей, как Юстин Мученик, Климент Александрийский, Ориген и др., языческая мудрость была включена в круг христианского теологизирования на правах подчинения высшей истине Писания. Уже в период апологетов явственно обозначилась двойственность христианской позиции по отношению к мирскому знанию и его квинтэссенции философии, сохранявшаяся в течение всего средневековья. Более дальновидные отцы церкви не только обрушивали обвинения на мудрость язычников, но и пытались извлечь из нее подкрепление истин своего вероучения, ассимилируя некоторые ее идеи и методы.
Христианский неоплатонизм, усвоивший идею абсолютного истинного бытия, по-разному развернул ее на Западе, и на Востоке — в учениях Августина и Псевдо-Дионисия Ареопагита. Гиппонский епископ придал ей исторический динамизм и субъективный психологизм, а греческий мыслитель — пластическую структурность, стройную соподчиненность чувственного и сверхчувственного. Учение Августина стало основой католицизма, на несколько веков определив пути развития средневекового мышления. Сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита, в 824 г. преподнесенные византийским императором королю Людовику Благочестивому, вдохновили выдающегося ирландского философа Иоанна Скота Эриугену на создание далеких от ортодоксальности концепций и послужили источником пантеистических воззрений средневековых вольнодумцев.
Своеобразный характер приняла идейная борьба в историографии. Античное мышление было принципиально антиисторичным, статуарным, внеличностным. Для него характерно понимание человеческого бытия как части упорядоченного и замкнутого движения космоса, в результате чего история не мыслилась как процесс движения во времени, как направленное развитие. Христианское сознание, напротив, пронизано идеей времени. Доктрина творения абсолютизирует антистатуарность. Мир и человек оказываются отторгнутыми от вечности и низвергнутыми во временную стихию, отграниченную божественными вехами и обретающую истинный смысл и направленность благодаря воплощению Логоса и предвидению Страшного суда, когда исторический путь человечества должен завершиться.
Создается впечатление, что римские историки IV–V вв. оказались не в состоянии понять значение чуждой им христианской философии истории. Во всяком случае, большинство из них избегало прямой дискуссии и продолжало писать в рамках привычных концепций и жанров. Христиане же, напротив, всячески стремились доказать превосходство своего исторического видения над языческим. Во II–III вв. эллинистическая хронология усилиями Климента Александрийского, Юлиана Африкана, Ипполита была включена в христианскую историю, мирская история соединена с библейской. Новый тип письменной истории был создан Евсевием Кесарийским, а христианская философия истории получила детальное развитие в сочинении Аврелия Августина «О граде божием», после появления которого все наиболее значительные исторические произведения на Западе создавались в рамках христианской концепции. С VI в. в историографию решительно вторгаются историки варварских народов — остготов, вестготов, франков и др. В их сочинениях особое значение приобретает развитие идей утверждения самосознания народов, вышедших на авансцену европейской истории, и укрепления новой государственности.
Мировоззренческая борьба определяла и характер литературы IV–V вв. Поэзия сохраняла античные формы и языческое мироощущение. Закатное очарование присуще творениям последних языческих поэтов — Авсония и Клавдиана, но и поэтов — приверженцев новой государственной религии едва ли можно назвать христианскими. По существу, произведения арвернского епископа Аполлинария Сидония или павийского епископа Эннодия (около 474–521) продолжение языческой поэзии. Да и позднее античные стихотворные метры вполне уживались с христианскими сюжетами.
Отмечая интеллектуальное влияние язычества на культуру последующих веков, нельзя обойти молчанием ту важнейшую роль, которую в этом процессе сыграла риторика. В римском мире риторика была не только частью образования, но неотъемлемым элементом образа жизни, сопровождавшим свободного римлянина от рождения до смерти, необходимым компонентом системы государственной власти и морали. Риторика оказалась тем шлюзом, через который в христианизировавшуюся культуру Западной Европы вливалось интеллектуальное влияние языческой античности. Риторическая культура «взяла в плен» отцов западного христианства и во многом повлияла на облик формировавшейся средневековой культуры.
Питомником языческих умонастроений в тот период оставалась и римская система образования, дошедшая с небольшими модификациями до VII в. и прекратившая существование в связи с общим упадком культурной жизни на Западе, вызванным опустошительными войнами, запустением городов, общей варваризацией, утверждением монополии церкви на духовную жизнь. В этих условиях как ученые язычники, так и просвещенные христиане были больше озабочены сохранением остатков образованности, которым грозила опасность исчезновения, чем развитием интеллектуального опыта предшествующих поколений. Школа и школьная традиция стали связующим звеном между последней стадией греко-римской культуры и новой эпохой, отмеченной идеологическим господством христианства.
IV–V века по справедливости можно назвать эпохой компендиумов. Разнообразные компиляции, справочники, бревиарии, краткие энциклопедии и т. п. получают на Западе необычайное распространение. Отбор и кодификация знания сочетаются с упрощением и догматизацией изложения, аллегорическими толкованиями и фантастическими этимологическими экскурсами. Наиболее популярным сочинением такого рода, посвященным изложению семи свободных искусств — основы римского образования, был трактат африканского неоплатоника Марциана Капеллы «О браке Филологии и Меркурия» — излюбленное произведение средневековых педагогов. Различными путями, претерпевая существенную трансформацию, упрощаясь и схематизируясь, античное наследие все же становилось необходимым компонентом интеллектуального синтеза средних веков, основным фактором интеграции которого было христианство. Принципы предшествующей культуры могут усваиваться новой необязательно через непосредственное знакомство с произведениями ее идеологов и выдающихся деятелей. Интеллектуальные доминанты культуры обычно бывают растворены в социальной психологии, тиражированы в формах, более доступных для обыденного сознания, могут усваиваться как бы «из вторых рук». Так произошло и с многими ценностями античной культуры, которые в упрощенном виде были восприняты средневековьем через школьную и бытовую традиции.
Закладка основ средневековой культуры происходила не только в условиях заката мощной культуры рабовладельческого мира и упрочения позиций христианства. Еще одним важнейшим ее истоком явилась духовная жизнь варварских народов, впервые в этот период активно вышедших на арену европейской истории. В последние века существования Римской империи античная культура долгое время оставалась еще настолько сильной, что могла поглощать варварский элемент, хотя постепенно внутри ее он становился как бы «бродильным камнем», порождающим смуту умов и настроений. В конце V-начале VI в. ситуация резко изменилась. Варварский элемент в Европе стал господствующим (в старых римских областях если не численно, то в качестве ведущей силы общественного развития). Существует мнение, что именно варваризация западноевропейского общества повлекла за собой распространение и окончательное закрепление христианства, которое якобы оказалось единственной силой, способной уберечь остатки античной культуры от полного разрушения и исчезновения. Такое однозначное утверждение весьма спорно. На ранних этапах средневековой истории отношение варваров к христианству было в значительной степени потребительским.
Варвары, многие из которых приняли христианство в силу исторических условий в еретических формах, в частности в арианской, легко переходили в лоно ортодоксальной церкви и, как правило, были чрезвычайно далеки от понимания тонкостей доктрины, гораздо больше интересуясь возможностью получения немедленной практической помощи от христианского бога. Варварских государей привлекало и то, что новая религия с ее идеей строгой иерархии, подчинения и дисциплины могла способствовать консолидации народа, а также быть использована в борьбе за складывание утверждающейся государственности.
Глубокое непонимание сущности христианства и чисто утилитарный подход к нему обнаруживаются в культе святых в раннем средневековье, когда многие плохо представляли себе, кто такой Христос, и не могли взять в толк, что есть троица, но зато непреложно верили в способность творить чудеса какого-либо местного третьеразрядного святого[13]. Христианство становилось той объединяющей оболочкой, в которую смогли вместиться самые разные взгляды, представления и настроения — от тонких теологических доктрин до языческих суеверий и варварских обрядов. Этим в значительной мере может быть объяснено его постепенное усиление, поглощение им других идеологических и культурных явлений и соединение их в относительно унифицированную структуру. Христианство, конечно же, не задавалось целью спасения остатков античной образованности и культуры в варвар-ском мире, но без определенной преемственности с античностью ни сама церковь, ни развивающийся варварский мир не могли существовать и продвигаться вперед.
Не случайно же нашествие готов под предводительством Алариха, потрясшее Рим, завершилось не торжеством «Готии» над «Романией», хотя Вечный город и был разгромлен, но их альянсом, подкрепленным браком вестготского короля Атаульфа и сестры императора Западной Римской империи Галлы Плацидии. Мощная римская политическая, правовая и культурная традиция как бы «поглощает» варварский элемент. И после падения Западной Римской империи в 476 г. в государстве Одоакра, а затем в Остготском королевстве, образовавшихся в Италии, в полной мере обнаружится та же тенденция непреодоленного тяготения к «римской форме».
Остготы в Италии
Боэция называют «последним римлянином», хотя еще до его рождения, дату которого относят примерно к 480 г., великий Рим перестал существовать. На востоке консолидировалась Восточная Римская империя без Рима, а на троне римских цезарей восседал варвар — скир[14] Одоакр, не претендовавший на императорскую корону, но ставший фактическим правителем Италии. По иронии судьбы смещенный им малолетний последний император Западной Римской империи носил имена основателя Вечного города Ромула и первого римского императора Августа. Правда, не утрачивавшие юмора даже в самых тяжелых обстоятельствах его подданные-простолюдины прозвали последнего римского императора «маменькиным Августиком», переделав Ромула в Мамула, а Августа — в Августула. И разве могли изнеженные детские руки удержать власть, когда она ускользала и от зрелых мужей? Рим одряхлел, и то, что должно было произойти, произошло тихо и почти без кровопролития. В 476 г. предводитель германских наемников Одоакр сменил мальчика-императора, который был сослан в Неаполь и вскоре угас там на вилле Лукулла — полководца, некогда прославившегося не столько победами, сколько своими роскошными пирами. 476 год принято считать условной хронологической границей между античностью и средневековьем.
Смена власти не означала коренного переворота в сфере социальных и даже политических отношений. Произошло лишь верхушечное изменение формы правления и главных действующих лиц. Одоакр признал главенство Восточной Римской империи, сохранил римскую систему управления, право, основные социально-политические институты. Римляне продолжали занимать ведущие гражданские должности в государстве. Одоакр стремился сохранить хорошие отношения с папским престолом. Более десяти лет существования, королевства Одоакра было сравнительно спокойным. Его попытки примирить римско-италийское и варварское население, казалось, достигали успеха, хотя подспудно недовольство политикой Одоакра в Италии все же существовало. Причиной его чаще всего становились земельные пожалования, которыми не были удовлетворены ни римско-италийские землевладельцы, ни представители варварской знати.
Взрывоопасность таило в себе соседство местного населения, в основном придерживавшегося ортодоксального христианства, и варваров, исповедовавших эту религию в еретическом, арианском[15] истолковании. «Человеку доброй воли» (как иногда называют Одоакра) не удалось преодолеть это противоречие. Не сумел он также сохранить устойчивые отношения с Восточной Римской империей, продолжавшей претендовать на Италию как на свое законное достояние. Византийский император Зенон, коварный и подозрительный, решил использовать одних варваров, чтобы запугать других. В 488 г., обеспокоенный усилением остготов, наседавших на границы Восточной Римской империи, он, желая отвести опасность, открыл им путь на Апеннинский полуостров.
Новая волна варваров во главе с племенем остготов хлынула в Италию. За отрядами воинов двигались повозки с их семьями и скарбом. Напуганным италийцам сначала показалось, что остготское войско, возглавляемое Теодорихом, было огромным, хотя, вероятно, оно не превышало нескольких десятков тысяч воинов. Одоакр не собирался отдавать принадлежавшие ему земли кому бы то ни было. Его хорошо обученные войска заняли позицию на реке Изонцо, поджидая пришельцев. Битва у развалин древней Аквилеи закончилась победой Теодориха. Однако его продвижению в глубь полуострова был поставлен новый заслон у города Вероны. Сражение здесь было еще более упорным и кровопролитным. Теодорих проявил незаурядное личное мужество, вокруг его имени начали складываться легенды, вошедшие затем в цикл сказаний о Нибелунгах. После Вероны перед остготами пали Милан и Павия. Только столица — сильно укрепленная Равенна продолжала выдерживать осаду. Но, изнуренная голодом и изолированная от остальной Италии, Равенна в конце концов тоже была вынуждена сдаться на милость Теодориха.
Одоакр и предводитель остготов заключили между собой мирное соглашение, по которому должны были разделить власть над Италией. Это событие было ознаменовано многодневными празднествами, во время которых Теодорих и Одоакр клялись друг другу в вечной дружбе. Однако дружеских заверений хватило лишь на несколько дней. Участь Италии была предрешена силой победителей. В 493 г. во время пира Теодорих, по одной версии — собственноручно, по другой — с помощью наемного убийцы, покончил с доверившимся ему Одоакром. Одновременно по тайному приказу предводителя остготов во всех важнейших городах Италии и военных гарнизонах были перебиты захваченные врасплох сторонники Одоакра. Теодорих стал единоличным правителем.
На Апеннинском полуострове, в сердце бывшей Римской империи, было основано просуществовавшее немногим более шести десятков лет, самое недолговечное (если не считать государственное образование Одоакра) из варварских королевств — Остготское. Остготы, находившиеся на стадии разложения первобытнообщинного строя, расселились преимущественно на севере и в центральной части Италии.
Остготское государство «было вначале, подобно другим варварским королевствам, возникшим на римской территории, переходной формой политического устройства, сочетавшей в себе элементы позднеримской государственности и военной демократии германцев. После того как начался синтез римских и германских отношений, Остготское королевство, выступив в качестве орудия политического господства италийских крупных землевладельцев и готской служилой знати, стало приближаться по своему характеру к другим раннефеодальным государствам»[16]. Так был осуществлен раздел римско-италийских земель: завоеватели получили треть владений, сосредоточившихся преимущественно в руках короля и военной знати. Владения крупной римско-италийской аристократии остались практически не затронутыми переделом земель, проводившимся специальной комиссией под руководством римского патриция Либерия, завершившей в основном свою работу к 507 г.
Казалось, подтверждалась успешность политики Теодориха, ориентированной на готско-римский синтез в сферах экономики, государственной политики и культуры. Королевский квестор (секретарь) Кассиодор отмечал: «Раздел третей способствовал объединению не только имений, но и самих душ готов и римлян»[17]. Несмотря на явно «эйфорический» тон этого заявления, следует признать, что на начальном этапе компромиссная политика остготского короля имела определенный успех, хотя дальнейшие события выявили его непрочность и неустойчивость. Тот же Кассиодор несколько позднее с сожалением признавал, что столкновения между готами и римским населением все учащаются, грозя приобрести повсеместный характер.
Первые три десятилетия правления Теодориха (493–526) как будто не предвещали последующей трагической судьбы Остготского государства и его скорой гибели. Это было время относительной политической и даже экономической стабилизации Италии. Наметился некоторый подъем сельского хозяйства, ремесла, торговли. Становление новых феодальных отношений шло медленно, в основном по пути, намеченному в поздней Римской империи. «…Здесь — в центре римской цивилизации — значительно сильнее были пережитки рабовладельческого строя, упорнее сопротивление римской сенаторской аристократии, интенсивнее влияние остатков римской культуры, государственности, правовых и социальных институтов римского общества на общественный строй варварских государств. Именно вследствие этого в родившемся на территории Италии недолговечном Остготском королевстве (493–555) и могло произойти в столь неприкрытом виде временное сближение новой феодализирующейся знати с осколками римской рабовладельческой аристократии, нашедшее яркое выражение в политике остготского правительства в правление Теодориха»[18].
Король, захвативший власть над Италией с оружием в руках, прославившийся как герой-воин, в государственной политике руководствовался идеей миротворчества, провозглашая, что «споры нужно решать словами, а не оружием»[19], как будто совсем забыв о своем недавнем прошлом.
Программной политической установкой Теодориха стало осуществление союза остготов и римлян в рамках единого государства. В королевстве остготов полностью сохранилось не только крупное римско-италийское землевладение, но и римское право, римская система государственных и общественных отношений, управленческий аппарат, центральный и местный. Все так же торжественно проходили заседания сената, функционировали муниципальные власти и т. п. «Эдикт Теодориха» настолько пронизан идеями римского права, что в исторической литературе высказывалась мысль о возможности существования наряду с ним особого остготского законодательства.
Следует отметить, что, хотя римский мир (pax romana) распался, универсалистская идея римской государственности продолжала довлеть над общественным сознанием эпохи. Вызревшая в недрах римского сознания и абсолютизирующая государственность как всеобщий принцип социального бытия, эта идея была воспринята нарождавшейся средневековой цивилизацией и органично вписалась в ее идеологический арсенал. Средневековые модификации этой идеи нашли отражение в империи Карла Великого, «Священной Римской империи германской нации», в бесконечных теократических притязаниях папства, концепциях «второго» и «третьего» Рима. Показательно, что даже папа Григорий Великий (590–604), известный как противник античной культуры, противопоставлявший «истинную мудрость», «непросвещенную ученость» христианских праведников греховной языческой образованности, излагая принципы устройства небесного царства, апеллирует к римской государственности, уподобляя его обитателей «гражданам духовного государства», а ангелов — римским консулам.
Остготы, долгое время пребывавшие в качестве федератов на границах Римской империи, были еще до своего поселения в Италии хорошо знакомы с системой римской государственности, культурой, обычаями римлян. Совершенно естественно, что Теодорих, как дальновидный политик, попытался опереться на традиции «непобедимого» Рима в деле укрепления собственного государства. Для нового владыки Италии было важно прослыть преемником и защитником римских традиций как для упрочения внутреннего положения в Остготском королевстве, так и для расширения возможностей лавирования в отношениях с Восточной Римской империей. Обращаясь к своим подданным, Теодорих призывал: «Вам следует без сопротивления подчиниться римским обычаям, к которым вы вновь возвращаетесь после длительного перерыва, ибо должно быть благословенным восстановление того, что, как известно, способствовало процветанию ваших предков. Обретая по божественному соизволению древнюю свободу, вы опять облачаетесь в одеяния римских нравов…»[20]. В формуле назначения комита[21] готов в городскую общину говорится: «Римляне — соседи вам (готам. — В. У.) по владениям, так пусть их с вами объединяет любовь»[22]. Подобные же высказывания сохранились и в документах преемников Теодориха, представителей дома Амалов, к которому принадлежал и он сам. Однако показательно, что и после их падения избранный готами королем на поле брани Витигис пусть несколько риторически, но все же отмечает в обращении к соплеменникам: «…мы обещаем, что наше правление во всем будет таким, какое приличествует иметь готам после прославленного Теодориха — мужа, которому рождением и судьбой было предназначено взойти на королевский трон, и любой из правителей может считаться достойным его лишь постольку, поскольку он следует его заветам»[23].
У церковного хрониста Агнелла (IX в.) есть описание одной равеннской мозаики начала VI в.[24] На ней рядом с фигурой облаченного в римские доспехи Теодориха представлен Рим в образе богини-воительницы; Равенна изображена нереидой, простирающей из моря руки к остготскому королю. Все это символизировало единение былого величия Рима и могущества остготов.
В дружественном расположении готов и римлян Теодорих усматривал залог политической стабильности своего государства. И выдавая желаемое за действительное, королевский квестор утверждал, что «совместное владение имениями принесло согласие: так случилось, что тот и другой народы, живя рядом, по обоюдному желанию как бы слились в единое целое»[25]. Представители римско-италийской знати наряду с готами занимали ключевые посты в Остготском королевстве. Языком законодательства и управления, как и языком культуры, была латынь (кроме отдельных надписей, до нас не дошли источники на готском языке).
Религиозная политика Теодориха отличалась веротерпимостью. Он руководствовался принципом: «Мы не можем предписывать веры, ибо нельзя силой заставить человека верить»[26]. Такой подход к вопросам веры был не столь уж обычным в условиях жестокой религиозной борьбы того времени. Думается, однако, что Теодорих в этих вопросах руководствовался не только и не столько соображениями гуманности. Такая позиция короля в значительной мере была вынужденной.
Теодорих действительно «управлял двумя народами — римлянами и готами, объединив их в единый народ, и, хотя сам принадлежал к секте ариан, никак не посягал на католическую религию»[27]. Остготы исповедовали арианство, осужденное ортодоксальной христианской церковью; население Италии было по преимуществу, хотя бы формально, католическим. Это, конечно, не могло не вызывать разногласий между двумя народами, что создавало дополнительные трудности для Теодориха. Он не мог пойти на ущемление прав арианской церкви, ибо это оттолкнуло бы от него значительную часть остготской знати, и так уже недовольной «проримской» политикой короля. В то же время он вынужден был щадить религиозные чувства своих италийских подданных. Вместе с тем арианская церковь создавала некоторый противовес ортодоксальной христианской церкви, что в условиях борьбы папства за политическую власть было весьма важно для Теодориха, стремившегося к укреплению Остготского государства. Конец V — начало VI в. — период обострения религиозных отношений (схизмы) между Римом и Константинополем. Веротерпимость давала возможность лавировать между ними. До поры до времени папство поддерживало Теодориха, принимая, как и сенат, его сторону, пока в Восточной Римской империи правил «еретик» Анастасий, но после 518 г. обстановка начинает меняться. С воцарением Юстина ортодоксальная партия взяла верх в Константинополе. Папство стало предъявлять претензии на господство в Италии, что привело к конфликту с Теодорихом, в результате которого при таинственных обстоятельствах, наводящих на мысль об отравлении, скончался папа Иоанн I. Влияние римской церкви как централизованной организации, способной поддерживать порядок в обществе, усилилось в Италии во время готско-византийских войн, принесших тяжкие бедствия населению и завершившихся в середине VI в. падением остготского государства.
Считая себя преемником римской государственности, остготский король претендовал на особую политическую роль в варварском мире, полагая необходимым покровительствовать другим варварским королям (например, вестготским, алеманским), примирять их распри, укреплять международные связи Остготского королевства, способствовать распространению культурных достижений. Равеннский двор, пытавшийся соперничать в роскоши с константинопольским, стал одним из крупнейших центров международной жизни того времени. Сюда съезжались послы разных государств и племен. Остготское королевство поддерживало отношения не только с близлежащими европейскими государствами, но и с народами Скандинавии, Балтийского побережья, быть может, даже Восточной Европы. Матримониальная политика связала остготский королевский дом узами родства с королями франков, бургундов, вестготов, вандалов, тюрингов. Им был усыновлен король герулов.
Ориентация на поддержание римских традиций нашла отражение и непосредственно в сфере начинаний культурного характера. В первой четверти VI в. относительная экономическая и политическая стабилизация Италии способствовала подъему культуры, что дало повод иногда называть этот период «остготским», или «теодориканским», возрождением. Конечно, сущность культурных процессов, наблюдавшихся в остготской Италии, была совершенно иной по сравнению с «классическим» итальянским Возрождением. Однако нельзя не признать большой культурный вклад остготской Италии в духовное развитие средневекового общества Западной Европы. Не случайно в энциклопедии средневекового миросозерцания — «Божественной комедии» Данте — в числе праведников, украшающих рай, названы два выдающихся деятеля того периода Боэций и Бенедикт Нурсийский. Первый — как мудрец, воплотивший в себе высочайшие нравственные достоинства, второй — как носитель идеала христианства, его высочайших, по мысли великого флорентийца, истин.
Около 500 г. Теодорих посетил Рим и был поражен его величием и красотой. По его приказанию были затрачены большие средства на поддержание архитектурных ансамблей Вечного города — театра Помпея, амфитеатра Тита, форума Траяна, знаменитых римских акведуков и других сооружений. Специальный архитектор следил за состоянием городских стен Вечного города. Вызывая восхищение варваров, все так же вздымались бронзовые кони на Квиринале, возвышались статуи слонов на Священной дороге.
При Теодорихе столица Равенна украсилась новыми великолепными постройками, а красота королевских резиденций и садов, пышность придворного быта служили предметом восторга и славословий современников.
В первой, четверти VI в. оживилась жизнь и в других городах Италии. Верона, Павия, Сполето, Неаполь застраивались новыми дворцами, там сооружались водопроводы, устанавливались статуи. Продолжалась застройка Венеции. Эти начинания в основном субсидировались королевской казной. Покровительственная политика Теодориха способствовала развитию архитектуры, изобразительного искусства, не порывавших с традициями поздней античности. Архитекторы и строители находились на государственной службе.
В остготской Италии была предпринята попытка возродить массовые цирковые и театральные зрелища. На площадях, как во времена Рима, устраивались общественные раздачи хлеба и мяса, сопровождавшиеся народными гуляньями. Все это должно было способствовать возрастанию авторитета остготского короля у римско-италийского населения, упрочить его положение как достойного преемника римских императоров в глазах византийских монархов и варварских государей. Вероятно, в значительной степени этими же причинами объяснялось стремление Теодориха и его дочери Амаласунты стяжать славу покровителей наук и искусств. При их дворе создавали свои произведения прославленные философы и писатели, происходили поэтические состязания, звучала изысканная музыка. В равеннском дворце были собраны занимательнейшие механизмы, вроде особых водяных часов или вращающегося глобуса.
В духовной жизни общества шла активная переработка и усвоение «мыслительного материала» античности. В этом процессе латинский элемент сохранял приоритет. Интеллектуальные занятия оставались по преимуществу достоянием римско-италийской знати, хотя ряды образованных людей изредка пополнялись и представителями варварской среды. Византийский историк Прокопий Кесарийский сообщает, например, что «среди готов был некто по имени Теодат… человек уже преклонных лет, знавший латинский язык и изучивший платоновскую философию»[28].
Весьма образованными для того времени были дочь Теодориха Амаласунта, его сестра Амалафрида (ставшая женой вандальского короля), его родственница Амалаберга (вышедшая замуж за короля тюрингов). Весьма возможно, что римская традиция женского образования в высших слоях общества распространилась и на варварскую среду.
Вместе с тем было бы неверным идеализировать положение в сфере образования в остготской Италии. Прежде всего следует отметить, что воспитание римлян и готов строилось на различных принципах. Образование, базировавшееся на изучении семи свободных искусств, являлось уделом по преимуществу детей римских аристократов, обучение письму и чтению римско-италийской молодежи. Теодорих, поощрявший римскую систему образования и даже пожелавший дать такое образование женщинам из рода Амалов, категорически возражал против него, коль скоро речь заходила о воспитании мальчиков-готов. Король считал, что страх перед плеткой учителя приведет к тому, что «они никогда не будут способны без страха смотреть на меч или копье»[29]. Уже после смерти Теодориха знатные готы сочли чуть ли не главной причиной неспособности к государственному управлению его внука Аталариха то, что Амаласунта пыталась дать ему римское воспитание. Идеалом готов был не образованный государственный муж, а физически и морально закаленный воин, способный наилучшим образом исполнить свой долг по отношению к королю и своему племени.
Однако в остготской Италии еще оставался живым дух языческой древности, который столь явственно ощущается у писателей конца V — начала VI в., улавливается в самом характере городской жизни, несмотря на возраставшее влияние христианства. В осуществление идеи готско-римского союза короли привлекали наиболее выдающихся и просвещенных представителей римско-италийской знати. Имена Симмаха, знатока римской истории и образованнейшего человека своего времени; Кассиодора, тонкого дипломата, блестящего писателя и создателя знаменитого культурного центра раннего средневековья Вивария[30]; Эннодия, педагога, ритора, автора занимательных стихов светского характера, могли бы украсить не только царствование полуграмотного варварского короля, но и времена прославленных римских императоров. Деятелей культуры того периода отличала многогранность занятий: многие из них занимали ведущие административные посты в государстве, были активными политиками. Наиболее почетное место в культуре того периода принадлежит Боэцию, влияние которого на все дальнейшее развитие духовной жизни западноевропейского средневековья непреходяще.
Колесо Фортуны
В один из дней 522 г. столица Остготского королевства ликовала. Многолюдные толпы стекались к городской курии, где магистр оффиций[31] Аниций Манлий Торкват Северин Боэций произносил хвалебную речь в честь короля Теодориха, щедро одарившего его своей благосклонностью. Два несовершеннолетних сына Боэция были одновременно избраны консулами — редкий почет даже в те времена. После завершения церемонии первый министр Теодориха и любящий отец, переживавший, по его же словам, «вершину своего счастья», прошествовал с сыновьями-консулами по улицам города, окруженный патрициями и приветствуемый народом, «вознаграждая ожидания толпы с триумфальной щедростью»[32].
Боэция хорошо знали и любили, не только в Равенне, но и в Риме, в других городах Италии. Он пользовался авторитетом и при константинопольском дворе. Современники знали и почитали Боэция не только как выдающегося государственного деятеля, еще больше они восхищались его образованностью и философскими трудами. Кроме того, за ним прочно закрепилась репутация доброго и невысокомерного человека, способного прийти на помощь не только по долгу службы, но и по велению сердца. Так, например, поэт Максимиан Этрусский поведал в одной из элегий, как, измученный любовью, он обратился к Боэцию со своими стенаниями. «Изыскатель глубоких предметов» не был возмущен пустячностью дела, из-за которого его оторвали от государственных и философских занятий. Он счел, что любовь достаточно веский повод для просьб о помощи, Боэций помог Максимиану встретиться с предметом его обожания, но, к сожалению, непосредственное общение тут же охладило пыл юноши. Узнав о таком печальном исходе своих хлопот, Боэций не рассердился, а, напротив, стал успокаивать поэта. Впоследствии он покровительствовал разочаровавшемуся влюбленному и по службе.
По нраву рождения Боэций принадлежал к высшей римской знати, являлся наследником знаменитых родов Анициев и Манлиев, давших Риму выдающихся полководцев и государственных деятелей. Богатейший род Анициев находился в родстве с византийскими императорами; «со времен Диоклетиана и вплоть до окончательного разрушения Западной империи блеск этого имени (Анициев. — В. У.) не уступал в мнении народа блеску императорского достоинства»[33]. Отец философа, тоже Боэций, был консулом и префектом претория при Одоакре; его дед сражался бок о бок с Аэцием, победителем гуннов на Каталаунских полях, а затем разделил его участь, пав от рук наемных убийц.
Еще в детстве Боэций остался сиротой. Его усыновил знатный патриций Аврелий Меммий Симмах, которого современники сравнивали с легендарным Катоном — олицетворением высочайших гражданских добродетелей в римской истории. Приемный отец будущего философа был прямым потомком того славного Симмаха, который требовал восстановления алтаря Победы. Воспоминания о славном прадеде бережно хранились в семье. Не на примере ли этого стойкого защитника язычества юный Боэций познавал великую истину — человек должен отстаивать свои убеждения и духовную свободу даже ценой собственной жизни, ибо утрата их и есть подлинная гибель человека? Ведь на исходе жизни, подобно легендарному Симмаху, Боэций также выступит поборником римской свободы и человеческого достоинства. «Последний римлянин» очень любил своего приемного отца и неизменно питал к нему глубочайшее уважение.
Боэций получил блестящее образование. Высказывалось предположение, что он обучался в школах Афин и Александрии, однако это не подтверждается источниками. Скорее всего, в детстве и ранней юности Боэций посещал лучшие школы Рима, где префектом претория был его отец, а затем жила и семья Симмаха. Кроме того, он, видимо, получил и великолепное домашнее образование под руководством столь просвещенного человека, как Симмах.
Едва перешагнув рубеж своего 20-летия, Боэций написал цикл трактатов по арифметике, музыке, геометрии и астрономии. До нас дошли два — «Наставления к арифметике» и «Наставления к музыке», написанные классическим латинским языком без признаков варваризации, отмеченные точностью формулировок и четкой интерпретацией излагаемых положений. Они свидетельствуют об огромной эрудиции и глубине познаний автора.
В течение многих столетий бытовала легенда, будто примерно в том же возрасте Боэций по романтической страсти женился на некой Элпис, уроженке Сицилии, поэтессе[34], украшенной всяческими добродетелями, и даже имел от нее двух сыновей.
Достоверно же известно, что Боэций был женат на Рустициане, дочери своего приемного отца. Свидетельства глубокого уважения и любви Боэция к ней, правда скорее из признательности, чем пламенной, обнаруживаются в его предсмертном сочинении «Об утешении философией». Как показали события, последовавшие за трагической гибелью Боэция и Симмаха, Рустициана проявила себя как женщина сильного характера, большого мужества, недюжинного ума и благородства. У них было двое сыновей, названных в честь отца и деда Боэцием и Симмахом. О них, возможно не избежав родительской пристрастности, философ писал, что «их дарования, унаследованные от отца и деда, проявились еще в юном возрасте»[35].
Смолоду Боэций играл заметную роль в политической жизни. В 510 г. стал консулом, свои обязанности выполнял с большим усердием, хотя и сетовал на то, что государственные дела препятствуют основной работе — комментированию и написанию философских сочинений. Об, обстановке, в которой приходилось работать, писал Кассиодор, сменивший Боэция на посту магистра оффиций: «Только начну какое-нибудь дело, оно прерывается криками и его приходится доделывать в спешке, так что начатое не может быть закончено с надлежащей осмотрительностью: один торопит меня частыми и недоброжелательными возражениями, другой терзает разговорами о своих тяжких бедствиях, а некоторые осаждают яростными распрями и раздорами. Как вы можете при таких условиях требовать красноречивых посланий, если я едва успеваю подобрать нужные слова? Ведь даже по ночам одолевают меня неотступные заботы о том, будет ли доставлено в город продовольствие, что в первую очередь требуется народу, радеющему более о своем желудке, нежели об услаждении слуха; потому-то я и вынужден перебирать в уме все провинции и всюду расследовать неполадки, ибо недостаточно повелеть воинам, указав, что они должны делать, если за исполнением приказа не следит бдительный судья»[36]. Став на путь активного сотрудничества с варварами, философ следовал примеру своего отца, состоявшего на службе у Одоакра, и тестя Симмаха, являвшегося принцепсом (главой) сената известного политического и государственного деятеля остготской Италии.
Несколько лет Боэций, вероятно, был комитом священных щедрот (распорядителем финансов) Остготского королевства, занимался вопросами содержания войска, распределения продовольствия, регулирования денежного обращения и натурального обмена. Теодорих постоянно обращался к нему как к главному эксперту в делах просвещения и культуры, высоко ценил король и инженерное дарование своего министра. Боэцию, к примеру, было поручено организовать создание и пересылку бургундскому королю Гундобаду водяных часов.
Около 522 г. Боэций занял высший пост в правительстве Теодориха, став магистром оффиций. Боэций и Симмах являлись также первыми лицами в сенате. По словам самого философа, его деятельность на поприще государственной службы доставила ему много неприятностей и изобиловала столкновениями с варварской администрацией.
С юности и до последних дней свой досуг Боэций всецело посвящал научным и философским изысканиям, плодом которых стал ряд обширных сочинений, относящихся к различным областям знания, в том числе комментарии к «Введению» Порфирия (один — к этому произведению в переводе Мария Викторина, другой — к собственному переводу), уже упоминавшиеся выше трактаты по арифметике, музыке, геометрии, астрономии, комментарии к «Категориям» Аристотеля, комментированные переводы его же Первой и Второй Аналитик, трактаты о категорических силлогизмах и о силлогизмах гипотетических, комментарии к «Топике» Цицерона, теологические трактаты и др. В средние века имело хождение немало сочинений философского характера, приписываемых Боэцию, однако научная критика не признала их подлинность.
Постоянный творческий импульс интеллектуальным занятиям философа придавала неизменная поддержка близких ему людей, в которых он находил благосклонных слушателей и справедливых ценителей. Вокруг него сложился дружеский кружок, спаянный общностью культурных и политических интересов. Высшим авторитетом в этом кружке почитался Симмах, широко известный как человек, до конца преданный идеалам римской свободы. В него входил и папа Иоанн I, хотя ни Боэций, ни Симмах не являлись ревностными христианами. Всех их связывало увлечение философией. К этому кружку, вероятно, примыкал и сенатор Маворций, изучивший и комментировавший тексты латинских поэтов. Особый интерес он проявлял к Горацию, наиболее языческому из них, а также к Пруденцию, наиболее христианскому, противопоставившему великой военной и государственной мощи Рима вселенскую религиозную миссию Вечного города.
В политическом и культурном отношении члены кружка в определенной мере ориентировались на Восточную Римскую империю, где в несколько иных формах шел аналогичный процесс переработки античного наследия, приспособления его к требованиям христианизирующегося мира. Надо отметить, что и женщины этого круга играли заметную роль в культурной жизни. Своей образованностью славились Рустициана, дочь Симмаха и жена Боэция, Юлиана, тоже из рода Анициев, поддерживавшая активную связь с константинопольским двором. Родственница Боэция Проба переписывалась с учеником Августина Фульгенцием Руспом.
Конечно же, у Боэция и его друзей имелись явные и скрытые врага не только среди варваров, но и среди римско-италийской знати. Известно, например, что Боэций с юных лет не любил павийского епископа Эннодия, хотя и находился с ним в отдаленном родстве. Эннодий был хорошим педагогом и слабым, но с явно преувеличенным самомнением поэтом. В его поэзии очень сильны языческие мотивы, порой граничащие с неподобающей епископу фривольностью. Он стяжал славу как панегирист Теодориха. Показательно, что Эннодий в своих письмах отзывался о Боэции исключительно с похвалой. Тем не менее должно же было существовать какое-то серьезное основание для неприязни Боэция к этому человеку.
События, приведшие к гибели Боэция, показали, что главными его обвинителями выступили проготски настроенные представители римско-италийских придворных кругов, главным идеологом которых, как известно, являлся Кассиодор (около 490 — после 585). Никаких конкретных свидетельств его причастности к падению Боэция не сохранилось, что, впрочем, неудивительно, принимая во внимание исключительную ловкость этого политика. На эту мысль может навести лишь то, что Кассиодор сменил павшего Боэция на посту магистра оффиций, но этого факта слишком мало, чтобы предъявить человеку столь тяжкое обвинение. Однако очевидно, что по своему положению Кассиодор не мог оставаться в неведении относительно обвинения Боэция. Он не встал на защиту пошатнувшегося магистра оффиций, чем молчаливо способствовал его гибели.
Кассиодор начиная с 507 г., когда еще юношей появился во дворце Теодориха, играл значительную роль при дворе, оставался бессменным секретарем и, несмотря на большую разницу в возрасте, даже личным другом остготского короля. Хитроумный придворный, проявив незаурядные дипломатические способности, сумел пройти на государственной службе длинный путь, избежав потрясений и неудач. Он пережил всех остготских королей. За время его политической деятельности Остготское королевство достигло расцвета при Теодорихе, вступило в полосу опустошительных войн с Византией и столкновений с франками. В стране не прекращалась острая политическая и социальная борьба и не раз разгорались религиозные и этнические распри. Один за другим исчезали с исторической сцены соратники и противники Кассиодора, но он неизменно находился у кормила власти, оставаясь необходимым боровшимся друг с другом правителям и претендентам на трон, равно угодный остготским владыкам, византийским императорам и папскому престолу.
Когда неизбежность гибели королевства под натиском Византии стала очевидной, Кассиодор отошел от государственных дел. Позднее он проявил себя в качестве теоретика образования и организатора новых форм интеллектуальной жизни, которым предстояло стать образцом для культуры средневековья. Он прожил почти 100 лет, избежав не только меча, яда или кинжала, но и болезней, сохранив крепость тела и ясную голову до конца жизни, о чем свидетельствуют и его сочинения, написанные, когда ему было уже за 90 лет. Пережив Остготское королевство более чем на четверть века, Кассиодор спокойно угас в кругу учеников и единомышленников в своем имении на Юге Италии, когда север и центр полуострова уже находились под властью лангобардов.
Перу Кассиодора принадлежат «Варии» — уникальный сборник писем и государственных документов, в которых он стремился придать римское достоинство королям варваров, делая это не только с завидной последовательностью, но и с удивительным красноречием и элегантностью стиля, стяжавшими ему в веках восхищение знатоков латинской словесности. Просвещенный римлянин предпринимает огромные усилия, чтобы представить своих готских хозяев поборниками справедливости, законности и хранителями римских традиций. Более того, он довольно тонко стремится убедить, что античное наследие может служить укреплению варварской государственности. Это оказалось очень важным для дальнейшего развития средневековой культуры.
Кассиодоровы «Хроника» и «История готов» (ее авторский текст утрачен, но отчасти она сохранена в сочинении готского историка Иордана, адаптировавшего ее в своей «Гетике») носят проготский, подчас ярко выраженный пропагандистский характер. Основная идея «Гетики» Кассиодора-Иордана — прославление рода Амалов, восхваление варварской государственности. «История готов» Кассиодора была первой «историей» варварского народа, созданной римлянином («Германия» Тацита все же не «история» в собственном смысле слова). Она была написана специально, чтобы включить готов в общий ход римской истории и истории всемирной, придать историческую значимость варварскому миру в судьбах современного Кассиодору человечества.
Сохранилось несколько высказываний Кассиодора, в которых он очень высоко оценивает деятельность Боэция как ученого и философа, избегая сообщать что-либо о его участии в политической жизни. Боэций же вообще не упоминает о нем. Относительно причин такого умолчания можно лишь строить предположения, однако тех, кого Боэций любил или считал своими друзьями, он все же запечатлел в своих сочинениях.
Следует отметить, что «готская» подоплека «проримской» политики Теодориха была в конце концов понята той частью римской аристократии, которая возглавлялась Симмахом и Боэцием, одно время даже лелеявшими надежду на возможность восстановления римских порядков под властью варварского короля. Быть может, в этом и кроется главная причина отсутствия у Боэция упоминаний о Кассиодоре? Различия в политической ориентации двух групп римско-италийской знати были связаны и с серьезными расхождениями в мировоззренческой сфере. При общности решаемых ими культурных задач (поиски путей усвоения и переработки античного наследия) водораздел между ними проходил по принципиальному вопросу: Симмах и Боэций никогда не могли бы принять христианскую философию истории[37] и признать варваров законными преемниками римской славы, как это сделал Кассиодор.
Из сохранившегося фрагмента «История рода Кассиодоров» известно, что Симмах, «подражая своим предкам, написал семь книг римской истории»[38]. Это сочинение до нас не дошло, однако попытки его фрагментарной исследовательской реконструкции позволяют судить об общей идеологической направленности труда Симмаха, для которого христианство было лишь внешним атрибутом, а священными оставались слава и величие Рима — Вечного города. Именно в этом Симмах и Боэций до конца своих дней оставались «последними римлянами». Они могли принимать варварское государство и служить ему до тех пор, пока оно, по их представлению, развивалось в рамках римской государственности и римской культуры.
Подспудные противоречия в среде римско-италийской знати в конце первой четверти VI в. пришли к своему логическому завершению. Многие годы казалось, что не было таких даров, которыми Фортуна не осыпала бы своего любимца Боэция. Но вскоре после того, как он достиг «вершины своего счастья», она устремила на философа свой «леденящий взор»[39], он на собственном опыте убедился, сколь призрачным бывает человеческое счастье, сколь ненадежными недавние сторонники и сколь беспощадными — тайные враги.
События, которые относятся к 523–524 гг., разворачивались следующим образом. От королевского референдария Киприана, судя по имени — римлянина, государю поступил донос о тайных письмах, якобы отправленных императору Восточной Римской империи Юстину близким к Боэцию сенатором Альбином. Донос был оглашен на заседании сената в присутствии короля, но в отсутствие Боэция. Сенат заседал не в Равенне, а в Вероне. Король решил, воспользовавшись представившимся столь удобным случаем, «приструнить» сенат, удалив из него неугодных ему лиц. По-видимому, в сенате существовала группа аристократов, против которых Теодорих был решительно настроен. Подозрения короля были подогреты придворными Опилием, Василием и Гауденцием, поддержавшими донос.
Спешно прибывший в Верону Боэций, полагаясь на свой авторитет, выступил в сенате с заявлением, что донос ложен и что если Альбин виновен, то и он, как магистр оффиций и глава сената, тоже может быть обвинен. Безусловно, это был смелый шаг. Такая поддержка Альбина со стороны Боэция и молчаливое согласие сената со своим главой лишь укрепили подозрения Теодориха в измене его подданных. После выступления Боэция Киприан, как сообщает один из современников, «поколебавшись», распространил обвинение и на магистра оффиций, представив лжесвидетелей[40].
О характере обвинений можно судить по довольно туманным намекам в сочинении Боэция «Об утешении философией». Помимо того что инкриминировалось Альбину, Боэцию ставили в вину его «желание здоровья сенату», упования на восстановление «римской свободы», «оскорбление святынь» и, наконец, занятия философией… Очевидно, Боэций хотел воспрепятствовать распространению обвинения в государственной измене на весь сенат или, по крайней мере, на его значительную часть. Возможно, под упованием на «восстановление римской свободы» крылось обвинение в участии в заговоре против готов.
Когда обвинения были полностью оглашены, сенат, до тех пор молчаливо поддерживавший Боэция и Альбина осознав всю серьезность угрозы, нависшей над ним, убоявшись выступить против Теодориха, поддержал выдвинутые против этих двоих обвинения. Таким образом, сенат еще раз продемонстрировал свою беспринципность и подчеркнул лояльность по отношению к остготскому правителю. Боэций и Альбин были взяты под стражу. Альбина вскоре убили, а Боэция отправили в Тичин (нынешняя Павия), где он некоторое время находился в заключении. В его отсутствие, без суда и следствия, его приговорили к смерти с конфискацией имущества.
В ожидании приведения в исполнение приговора Боэций создал небольшое произведение, обессмертившее его имя, — «Об утешении философией», которое часто называют просто «Утешением». Лишенный всего, приговоренный к казни, он не пал духом, не сломился под тяжестью обстоятельств. Боэций не стал просить о помиловании ни владыку земного — Теодориха, ни царя небесного — Христа. В поисках ответа на вопрос о смысле жизни он воспел человеческий разум и философию — единственную целительницу душ, посредством которой человек достигает совершенства и обретает способность противостоять любым несчастьям, и даже самой смерти.
После нескольких месяцев заключения в конце 524 или начале 525 г. Боэций был казнен. Средневековая цивилизация начала с того же, что и римская. Некогда римский легионер убил на улице Сиракуз великого греческого ученого Архимеда. Дубина варвара пресекла жизнь «последнего римлянина». Вскоре после смерти Боэция был казнен его тесть Симмах, таинственная смерть постигла и их друга папу Иоанна I. Так Теодорих постепенно расправился с политическими деятелями, защищавшими интересы римской землевладельческой аристократии, надеясь предотвратить ослабление своего королевства.
Изложенная канва событий, приведших к казни Боэция, позволяет сделать ряд наблюдений. Обвинителями его выступили не готы, но представители римской знати, впоследствии известные своей ревностной службой готскому престолу. Главный обвинитель Киприан через несколько лет стал комитом священных щедрот и магистром оффиций. Его брат Опилий также стал известен как один из вернейших слуг готских правителей. Оба они удостоились самых высоких похвал Кассиодора уже после смерти Боэция. Боэций полагал, что ненависть обвинителей была вызвана завистью к богатству и благородству их жертв и низостью их собственных душ. Весьма вероятно, что личные мотивы сыграли в этом деле определенную роль. Но истинные причины событий лежат глубже — в существовании двух группировок различной политической ориентации в среде римско-италийской знати. Обвинители Боэция были прежде всего его политическими противниками, заинтересованными в укреплении остготского государства и тесно связанными с остготской военной знатью, тогда как группировка, возглавляемая Симмахом и Боэцием, возможно, ориентировалась на сближение с Восточной Римской империей и не исключено, что в перспективе на уничтожение политического господства остготов.
Думается, что не следует искать причины этого столкновения исключительно или в этнической розни остготов и римлян, или в непримиримом противоречии между варварской и римской культурами, или в религиозной распре между католиками-римлянами и арианами-готами, хотя, вероятно, все эти явления так или иначе «подталкивали» к нему. Определяющие факторы конфликта лежат еще глубже — в сфере социально-экономических и политических отношений; «борьба завязалась на почве столкновения реальных экономических интересов этих групп и развернулась главным образом вокруг двух основных вопросов владения землей и использования рабочих рук для их обработки»[41]. В политической сфере это была борьба двух партий — римской и готской, определяемая комплексом вышеназванных причин. Но нельзя забывать, что это было и столкновение двух незаурядных личностей. На одном полюсе Боэций — не просто знатный римлянин, но человек, олицетворявший квинтэссенцию римского духа, не того рабского духа, который нашел приют в приземистых дворцах неустойчивых последних императоров, но сурового и неустрашимого духа Катонов и Брутов, превыше всего ценивших свободу и верность гражданскому долгу. На другом — Теодорих, выдающийся германский полководец и незаурядный политик, монарх, которому ценой больших усилий долгое время удавалось сохранять мир в своем непрочном государстве, варвар, поневоле отдававший дань древней культуре. Почему Теодорих так резко и, казалось бы, неожиданно отрекся от своей концепции гражданского мира, почему обрушил свой гнев на человека, более двух десятилетий близкого к нему и державшего по его же соизволению бразды правления в важнейших областях общественной жизни?
К концу жизни Теодорих, как некогда Юлий Цезарь, если не понял, то ощутил малую результативность своей политики «милосердия». К концу его царствования все противоречия — экономические, социальные, политические, религиозные, культурные, этнические — обнажились и обострились. Над Остготским королевством все больше нависала и внешняя опасность со стороны Византии. И Теодорих становился все более подозрительным, легко поддающимся гневу. Он вольно или невольно стал искать «виновных» в неудаче его политики. И трудно было найти для его гнева фигуру, более подходящую, чем Боэций. Он-то и должен был ответить за все в как первый министр, и как представитель другой культуры, другого образа мыслей, непонятного и оттого еще более пугающего. С Теодориха слетела маска просвещенного монарха, ибо речь шла уже не о позе, а о том, чтобы удержать в слабеющих руках власть. Король перестал думать о том, как он будет выглядеть в глазах общественного мнения, о чем так настойчиво пекся в течение трех десятилетий. Он не побоялся осуждения современников и потомков. Вождь варваров взял в нем верх над покровительствовавшим просвещению монархом.
Византийский историк Прокопий сообщает, что чувство вины за смерть Боэция и Симмаха стало причиной смерти отстготского государя. Во время трапезы ему подали на блюде огромную рыбу, голова которой чем-то напомнила ему Симмаха. Несказанный ужас обуял короля, и он спешно удалился в свои покои. От угрызений совести Теодорих занемог и вскоре умер. Перед смертью он якобы покаялся в том, что несправедливо столь жестоко обошелся с Боэцием и Симмахом.
Народная традиция, впрочем, воздала должное наказание Теодориху. В «Диалогах» Григория Великого повествуется, что-де некий крестьянин видел, как души папы Иоанна I и Симмаха тащили душу остготского короля и ввергли ее в жерло вулкана. Но то была, так сказать, «местная» легенда. Как ни парадоксально, но в широком историко-культурном плане потомки не абсолютизировали этого столкновения. Оба его героя стали своеобразными идеалами средневековья. Боэций воплощал в себе человеческую (а не божественную) святость, сопряженную со свободой человеческого духа, ученостью и культурой; Теодорих — воинскую доблесть, спаянную с доблестью государя и сюзерена как организующего хаос общественной жизни начала. Боэций — это идеал сугубо нравственный, вырастающий из чисто человеческих ценностей и потому общезначимый, и Теодорих — воин и правитель, носитель государственности в противовес анархии, если угодно, идеал сословно-корпоративный. Идеал, воплощенный в Теодорихе, потускнел с закатом средневековья, идеал, запечатленный в Боэции, не утратил своей ценности и до наших дней.
Важно и другое — в этом столкновении персонифицировалась борьба двух миров — римского и варварского, диалектика этого противоборства. Боэций погиб, но его наследие послужило питающим истоком средневековья. Теодорих тоже вышел изменившимся из этой борьбы — он утратил свою прямолинейную силу и пришел к раскаянию. Несмотря на гибель Боэция, Теодорих не стал победителем. Так исполненная подлинного трагизма многовековая борьба римского и варварского миров завершилась не просто исчезновением первого, но синтезом обоих, в результате чего возник новый мир, не похожий ни на римский, ни на варварский и в то же время являвшийся их детищем, — мир средневековый.
«Четверные врата» познания
В юности человек подчас бывает обуреваем противоречивыми стремлениями. Его влечет неизведанное будущее, прельщающее новизной и непохожестью на детство и отрочество, возможностью отказаться от наставлений учителей и сделаться участником чего-то необычайного. Но при первых же самостоятельных шагах усвоенные истины, представлявшиеся столь наскучившими и банальными, вдруг оказываются опорами, без которых невозможно движение вперед. И юноша, постигший это, вдруг сам начинает испытывать почти непреодолимое желание стать учителем, не в высоком, а в самом обычном понимании этого слова. Нечто подобное, вероятно, произошло и с Боэцием на пороге его 20-летия, когда он принялся за сочинение трактатов, посвященных школьным дисциплинам. Однако внутренние побуждения, как правило, формируются в соприкосновении с внешними причинами. В случае с Боэцием такая связь очевидна. Боэций в то время только что вступил на государственное поприще, стал министром, ощутил власть над судьбами и умами людей. Сам блестяще образованный человек, он считал, что обязанность тех, кто находится у кормила власти, — заботиться о просвещении сограждан. Очевидно, в этом убеждении его еще больше укрепляла и политика Теодориха. Остготский король настаивал, чтобы дети римских землевладельцев (посессоров) обучались в грамматических и риторических школах. Обращаясь к своим подданным-провинциалам, не желавшим посылать детей в школы свободных искусств, он заявлял: «…слишком позорно, чтобы дети из благородных семейств воспитывались в глуши… пренебрегая изучением грамоты»[42].
И на рубеже V и VI вв. школа, несмотря на победу христианства, продолжала, в сущности, быть такой же, как и в первые века империи. Об этом можно узнать из писем, речей и наставлений Эннодия, основателя широко известного в Италии и за ее пределами учебного заведения в Милане. Центральную часть учебного процесса составляли упражнения в риторике. Они традиционно строились по методу увещевания или методу противоречия и представляли собой упражнения на темы, заданные преподавателем. В школе Эннодия это были по преимуществу сюжеты из римской истории и мифологии. Излюбленными авторами являлись Вергилий, Гораций, Теренций, Тибулл, Цицерон, Саллюстий, Цезарь, Валерий Максим. Здесь большое внимание уделялось изучению грамматики, которую Эннодий считал «кормилицей всех искусств», а Кассиодор впоследствии называл «прекраснейшим основанием наук, прославленной матерью красноречия»[43].
Показательно, что школа, созданная христианским клириком (священнослужителем), по духу и характеру обучения оставалась, по существу, светской и продолжала традиции позднеримского образования. Учебное заведение Эннодия не было чем-то исключительным в Италии первой половины VI в. Аналогичные школы функционировали в Риме, Равенне и других городах. Существовали также светские школы, в которых изучалось преимущественно право, сообщились определенные сведения по географии, естественным наукам, медицине. (Несколькими столетиями позже Равенна стала центром по переписке латинских медицинских трактатов.)
Для организации образования в конце V–VI в. характерно преобладание процессов схематизации и переработки античного знания, создания компендиумов по основным школьным дисциплинам, приспособления обучения к потребностям варваризирующегося общества. Работа в этом направлении шла довольно успешно, и именно в этот период были созданы учебники, по которым школярам предстояло обучаться много столетий.
Следует вспомнить, что в римской школе процесс обучения был многоступенчатым. Автор «Золотого осла», столь популярного, особенно среди юношества, произведения, Апулей проводил аналогию между пиром и школой: «Во время пира первая чаша утоляет жажду, вторая — возбуждает веселье, третья — удовлетворяет сластолюбие, четвертая — лишает рассудка. На пиршестве муз бывает наоборот: чем больше дают напитков, тем больше дух наш приобретает мудрости и разума: первую чашу нам наливает литератор (тот, кто нас учит читать), он начинает сглаживать шероховатость нашего ума; затем следует грамматик, украшающий нас разнообразными познаниями, наконец, ритор дает нам в руки оружие красноречия»[44].
Однако система образования далеко не исчерпывалась грамматикой и риторикой. Виднейший теоретик римского образования Квинтилиан (автор трактата «Об образовании оратора») настаивал на том, что обучение должно носить разносторонний, всеохватывающий характер. Этого требовал «энциклопедический» дух античной культуры, предполагавший универсализацию интеллектуальной культуры, выстраиваемой на определенном мировоззренческом основании. Энциклопедическая традиция, сложившаяся в эпоху эллинизма и особенно расцветшая в Риме, в дальнейшем приобрела особую значимость в западноевропейской культуре, в которой каждый более или менее заметный этап ознаменовывался появлением основополагающих сочинений энциклопедического характера.
Из сферы «большого знания» энциклопедический принцип распространился и на систему образования. В ней господствующим становится семичастный канон, включавший свободные искусства, которые в кратком изложении должны были охватывать практически весь состав знания, за исключением его самого высокого уровня — философского осмысления сущего. Семь свободных искусств это грамматика, диалектика, риторика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Грамматика являла собой основание познания, включала изучение алфавита (произношение и написание), частей речи, а также обучала толкованию содержания и форм литературных произведений. Диалектика (логика) содержала изложение системы категорий Аристотеля, давала наставления в искусстве построения доказательств, ведении диспута, сообщала сведения формально-логического характера. Риторика учила словесности в ее практическом применении, искусству красноречия, составлению стихов и прозы, включала элементы права. Арифметика была наукой о числовых началах, лежащих в основе мира, пропорциях, определяющих мировую гармонию и все ее проявления, включала аллегорические толкования чисел и пропорций. Геометрия излагала, как правило, «Начала» Евклида, а также основы географии, иногда медицины, химии, минералогии. Музыка представляла собой сложный теоретический предмет, весьма далекий от реального музицирования. Она во многом сближалась с арифметикой, особенно в тех аспектах, которые касались интерпретации мировой гармонии. Астрономия давала представление о строении неба, часто не отграничивалась от астрологии. Изучение семи свободных искусств должно было подводить к восприятию высшей мудрости — философии, а в средние века — теологии.
Своими корнями семичастный канон уходил в философию Платона. В седьмой книге диалога «Государство», той самой, где наличествует знаменитый «символ пещеры», Платон подробно останавливается на том, какие ступени должен пройти разум человека, чтобы отвратиться от всего изменчивого и преходящего и обрести способность постигать чистые формы, истинное бытие. Такими ступенями, по его мнению, являются «математические» науки, так или иначе имеющие отношение к числу и счислению, а именно: арифметика, геометрия, астрономия и музыка. К ним в качестве обязательного предмета также добавляется диалектика — наука о законах мышления. Весь этот комплекс наук необходим, чтобы подготовить человека к видению истины — конечной цели философского знания.
После Платона круг «школьных» дисциплин, сохраняя свою основу, тем не менее мог расширяться или сужаться в зависимости от задач образования на данном этапе или в данном учебном заведении. Так, например, Варрон, написавший в I в. до н. э. фундаментальное руководство по организации образования, включил в него архитектуру, медицину и философию. Квинтилиан же, напротив, опустил диалектику и арифметику. Однако к V в. сформировался канон из семи свободных искусств с подразделением на низшую ступень, включавшую грамматику, диалектику, риторику (так называемый «тривиум»[45]), и высшую, куда входили арифметика, геометрия, музыка и астрономия (Боэций дал ей наименование «квадривиум»[46]).
В V в. африканским неоплатоником Марцианом Капеллой был создан трактат «О браке Филологии и Меркурия». В нем в аллегорической форме (речь идет о свадебном пиршестве в расположенном на Млечном Пути дворце Юпитера, где персонифицированные школьные науки выступают как служанки невесты Филологии) дается изложение образовательного минимума. Правда, порой затуманивающая смысл аллегорическая пышность, сочетающаяся с чрезмерной краткостью, а иногда и непоследовательностью изложения, дала основание некоторым критически настроенным исследователям увидеть в этом трактате «бесплодный союз педантизма и фантазии», истощающий «как порка средневекового учителя»[47], в чем скорее можно усмотреть неисторичность оценки, чем подлинно научное мнение. Трактат Марциана Капеллы отражал современное ему состояние школьного дела и именно своей упрощенностью и схематичностью отвечал весьма снизившимся запросам изменяющейся школы. Этим можно объяснить тот факт, что сочинение африканского неоплатоника стало популярнейшим учебником в неэлитарных средневековых учебных заведениях Западной Европы.
Школа все больше требовала зубрежки и запоминания, искусство толкования и комментирования уступало место простому повторению, а риторика, выхолощенная и формализованная до предела, становилась преимущественно информативной, приобретала «музейный» оттенок, ибо в общественной практике уже не было нужды ни в защитительных или обвинительных речах, построенных по римскому образцу, ни в изысканных и подобающих случаю жестах и декламациях. Церковные проповеди постепенно вытесняли их, хотя нельзя не признать, что и сами эти проповеди вольно или невольно заимствовали правила и обороты римского красноречия. Это было неизбежно, так как многие деятели христианской церкви вышли из стен риторической школы, будь то непреклонный противник и обличитель язычества Тертуллиан или основатель средневекового мировоззрения Аврелий Августин.
Один из отцов западной церкви — Иероним Стридонский в послании, адресованном некогда его ближайшему другу, а затем злейшему врагу — Руфину, писал: «Вы хотите, чтобы мы забыли выученное в детстве? Я могу поклясться, что, покинув школу, ни разу не открывал светских писателей, но не скрою, там я их читал. Не должен ли я напиться из Леты, чтобы не вспоминать о них более?»[48] (Показательно, что и в этом своем возражении он употребляет языческий образ.)
Школа была той неуничтожимой брешью, через которую язычество проникало в христианскую культуру. Она была вратами преемственности между ними. Христианские школы получат распространение позже (хотя они существовали в IV–V вв.). Однако и они унаследуют многие черты римской школы, точнее, будут построены по ее же образцу, только древних поэтов и философов потеснят (но не вытеснят) Священное писание и тексты христианских авторов. Августин начал переориентацию школы преимущественно на подготовку клириков, однако он успел лишь сделать наброски к курсу наук. Он считал необходимым создать новый тип просвещения, тесно спаянный в философском и религиозном единстве церковной культуры.
Однако не меньшим требованием времени была и необходимость систематизации и утилизации для школы греко-римского духовного наследия, чтобы обеспечить преемственность не только в сфере собственно образования, но и шире — культуры в целом. В эту переломную эпоху именно Боэций оказался подлинным «учителем средневековья», во многом благодаря ему сложилась «традиционная картина непрерывности и связи интеллектуальной жизни значительной части средневековья с античностью»[49]. В осуществлении задачи переработки и приспособления античного духовного наследия к новым историческим условиям Боэций пошел по пути, естественно вытекавшему из самого развития позднеантичной культуры.
Прежде всего Боэций занялся философским обоснованием системы образования и созданием для нее соответствующих учебников, обобщивших и интерпретировавших в доступной, но в то же время и не слишком упрощенной форме достижения греков и отчасти римлян в области арифметики, музыки, геометрии и астрономии. До нашего времени дошли лишь два из четырех трактатов по школьным дисциплинам, принадлежность которых Боэцию бесспорна. Это — «Наставления к арифметике» и «Наставления к музыке». По последнему учились студенты в Оксфорде даже в XVIII в. (Учебник, остающийся живым полторы тысячи лет, — это, пожалуй, своеобразный рекорд педагогического долголетия!)
В средние века Боэцию также приписывались по крайней мере два учебника геометрии (пятикнижный и двукнижный). В последнем содержались сведения об абаке (счетной доске), изобретателем которого длительное время считался «последний римлянин». (Впоследствии это предположение было отвергнуто научной критикой.[50]) В двукнижной «Геометрии» предусматривалось также применение отдельного знака для нуля. Следует отметить, что за Боэцием довольно долго сохранялась слава изобретателя, создавшего не только абак, но и некоторые сложные механизмы. Средневековая традиция усматривала в нем редчайшее сочетание высокой способности к отвлеченному философствованию и практического «инженерного», выражаясь современным языком, таланта. Если к этому добавить, что он слыл и «совершеннейшим музыкантом» (хотя бы и только теоретиком), то нельзя не признать, что Боэций являл собой своеобразное воплощение «универсального человека», некий прототип идеала, к которому придет европейская культура через тысячу лет после его рождения, т. е. в эпоху Ренессанса.
Такое сочетание мощного теоретического мышления и способности к практической реализации знаний в античности и средние века чрезвычайно редко. Из средневековых философов вспоминаются Альберт Великий, которому легенда приписывала создание первого «робота» — говорящей головы, да, быть может, Роджер Бэкон, больше прославившийся как чародей и изобретатель, чем как мыслитель «первого ранга».
Подлинные «Геометрия» и «Астрономия» Боэция исчезли еще в раннем средневековье, оставив о себе лишь воспоминания тех, кому посчастливилось их прочесть. Так, ученый Герберт, больше известный под именем папы Сильвестра, в 983 г. сообщал, что он обнаружил в библиотеке монастыря Боббио, крупнейшего культурного центра того времени, «восемь томов астрологии Боэция, а также несколько великолепных книг по геометрии»[51]. В средние века Боэцию приписывали также очень популярный трактат «О школьных дисциплинах», однако доказано, что он был создан в XII–XIII вв.
Два века, предшествовавшие Боэцию, были столетиями бревиариев и компендиумов (кратких изложений). Однако «последний римлянин» пошел по другому пути. Его школьные трактаты основательны, полны теоретических размышлений. Особенно важно, что еще в начале своей деятельности он осознал важность определения структуры и новых задач обучения.
Боэцием было завершено формальное разделение системы семи свободных искусств на две ступени, соответствующие двум уровням образования — тривиуму и квадривиуму. Именно с Боэция начинается прочное бытование в средневековой школьной традиции термина «квадривиум». У математика Никомаха из Герасы, сочинением которого «последний римлянин» активно пользовался, этот термин отсутствует, но употребляются понятия «четыре пути» знания, или «четыре метода». В интерпретации греческого ученого математические дисциплины сравнивались с мостом, пройдя по которому, можно попасть в царство истины. Кассиодор, говоря о заслугах Боэция, также отмечает особое значение «четверных врат» познания.
Итак, квадривиум — это комплекс математических наук: арифметики, геометрии, музыки и астрономии. Обосновывая познавательную важность квадривиума, Боэций призывает в поддержку авторитет Пифагора: «Среди всех мужей древности, процветавших под водительством Пифагора в чистейшем рациональном созерцании, с очевидностью было установлено, что совершенно невозможно достичь кому-либо совершенства в философских науках без овладения столь благородным родом знания, как квадривиум…» [52]
Философия, определяемая Боэцием как «мудрость сущего» и «постижение истины», как высший род знания, призвана познавать истинное бытие, мир вечных, неизменных, нематериальных форм, трактованных им в духе платоновских идей, пребывающих в высшем разуме. Предметом же наук является познание природы вещей, преходящих и становящихся сущностей[53].
Сущности же, по определению Боэция, бывают двоякого рода — протяженные и дискретные. «Одни из них, — полагал он, — нераздельны и скреплены во всех своих частях и не имеют каких-либо границ (внутри себя), — таковы, например, дерево, камень и все тела, которые собственно называются величинами. Другие же разъединены и состоят из отдельных частей, т. е. они, подобно кучам, собраны в единое соединение, как, например, греческий народ, толпа или нечто, части чего заключены в собственных пределах и от других отделены границей. Этим собственное имя — множество»[54].
Изучение каждого из видов сущностей обладает своей спецификой. В соответствии с этим Боэций дает классификацию наук, входящих в квадривиум, определяя содержание каждой из них: «Множества, которые сами по себе являются завершенными, познает арифметика; те, что соотнесены с другими, изучают музыканты посредством соразмерности модулирования; геометрия же сулит знание о неподвижных величинах; понятие о подвижных дается постижением астрономической науки»[55].
Что же представляют собой эти математические дисциплины? Являются ли они частями философии или инструментами, посредством которых осуществляется проникновение в сферу высшей мудрости? Какова зависимость между ними и философией?
Боэций, как верный последователь Платона, считает философию вершиной наук, выше которой никакая другая стоять не может. Все остальные дисциплины являются лишь «началами», призванными обострять познавательные способности обучающегося, оттачивать точность логического мышления.
Квадривиум — это путь совершенствования рассудка, им, по утверждению «последнего римлянина», должно следовать, чтобы, отталкиваясь от данного человеку в чувствах, подняться к непогрешимому, безошибочному высшему познанию. Математика в своей совокупности уводит познающего из мира изменчивых материальных вещей в мир неизменных и вечных идей. Это восхождение к высшему знанию Боэций представляет в виде определенного рода прогрессии, которая завершается безусловным освобождением человеческого разума, отрешающегося от телесных чувств, и делает его готовым к восприятию истины. Телесное восприятие, считал Боэций, дает лишь расплывчатое и обманчивое представление о мире, ибо только «взором духа можно исследовать или обозреть истину»[56].
Математические науки оказывают очищающее, катартическое воздействие на душу и разум, освобождая их из темницы тела, сковывающих уз телесных чувств, придавая им проницательность и остроту. При изучении математики для достижения наибольших результатов в очищении разума и подготовке его к восприятию философии должна соблюдаться определенная последовательность. Еще Платон полагал, что для обучения лучше всего сразу приступать к арифметике, ибо она заставляет душу использовать само мышление в поисках истины. Затем наступает черед геометрии, которая обладает способностью увлекать душу к истине и развивать философское мышление. Третьей должна быть музыка, ибо она раскрывает числовые основы слышимых созвучий. За ней следует астрономия, побуждающая душу устремляться к небу.
Боэций соблюдает такую же последовательность дисциплин, что и у Платона, расходясь в этом с Марцианом Капеллой, располагавшим науки в следующем порядке: геометрия, арифметика, астрономия, музыка. Для автора «Наставлений к арифметике» чрезвычайно важна последовательность в изучении математических дисциплин. Связь между науками «школьного» цикла органична и очень тесна, и только в совокупности своей они могут привести к желанной цели — очищению разума. По-видимому, хотя для Боэция ценность каждой дисциплины, взятой в отдельности, и велика, но решающее значение принадлежит их системе, последовательности, постепенности и методике овладения математическим знанием.
Науки квадривиума направлены на раскрытие «силы чисел», различных ее аспектов. По утверждению Боэция, «все созданное из первоначальной природы сущего кажется сформированным расположением чисел»[57]. Другими словами, в основе мира лежит число и оно пребывает в высшем разуме. Но предметом изучения математических дисциплин оказывается не столько это число, сколько число в «научном» смысле, т. е. число математическое. Числа могут рассматриваться под различным углом зрения. Они бывают постоянными, неизменными, так называемыми числами «самими по себе» — ими занимается арифметика; числа, связанные с протяженностью, — объект геометрии; музыка дает знание о числах, на которых основаны музыкальные модуляции; в астрономии человек постигает числа, выражающие движение небесных тел.
Только посредством исследования всех аспектов числа разум обучающегося может приобщиться к строго упорядоченной интеллектуальной деятельности, так как в математике он приучается мыслить «дисциплинированно», подобно тому как при познании «природных» наук — «рационально», а высшей философии, теологии — «интеллектуально». Содержательная сторона обучения отступает у Боэция перед систематичностью, поскольку, вполне в духе наступающей культурной эпохи, он полагал, что важнее научить человека мыслить в строго определенном направлении, «дисциплинированно», чем снабдить его, выражаясь современным языком, всеобъемлющей информацией. «Дисциплинирование» мышления, оттачивание его логических аспектов на много столетий станут одной из ведущих линий развития западноевропейской философии, линии, которая в итоге приведет к зарождению подлинно научного знания, хотя многократно и будет попадать в тупики схоластических словопрений…
Для Боэция «мать наук» не грамматика, а арифметика. Именно она открывает квадривиум. Она содержит в себе «первоначальный образ рассуждения»[58], все в мире располагается в соответствии с ее законами, через посредство чисел идеальные формы воплощаются в материальные объекты. Мировая гармония создается определенным соотношением чисел.
Боэций обосновывает превосходство арифметики с помощью логического силлогизма: «Все, что обладает первичной природой, всегда предвосхищает остальное. Если оно подвергается разрушению, то вместе с ним разрушается и последующее; если гибнет последующее, ничто в состоянии первичной субстанции не изменяется; так животное предшествует человеку. Ведь если ты упразднишь [понятие] животного, неизбежно будет разрушено [понятие] человеческой природы, если же ты устранишь человека, то животное не исчезнет. И напротив, всегда является последующим то, что вбирает в себя нечто чуждое, а то, что является первичным, как было показано, ничего не принимает в себя из последующего»[59].
Поскольку числа лежат в основании геометрических соотношений и сами геометрические фигуры получают название от чисел, а не наоборот, постольку геометрия нуждается в арифметике, а не наоборот. В этом рассуждении ход мысли Боэция очень близок к аристотелевскому определению взаимосвязи наук, заключавшейся в том, что «наука, исходящая из меньшего числа начал, точнее и первичнее науки, требующей некоторого добавления, например арифметика — по сравнению с геометрией…»[60]. Поскольку арифметика занимается абстракциями, числами самими по себе, а геометрия — числами, приложенными к материальным объектам, превосходство арифметики, оперирующей более точными понятиями и дающей общие знания о числах, для Боэция неоспоримо.
В третьей математической дисциплине, музыке, числовая основа тоже преобладает, и на ее примере может быть показана «первичная сила чисел»: «Сама музыкальная мерность обозначается наименованием чисел, и в этом отношении можно заключить то же самое, что было сказано относительно геометрии»[61]. В науке музыки числа прилагаются к конкретным понятиям музыки мировой, человеческой, инструментальной. Ими выражаются гармонические соотношения, заключенные в космосе, в человеческой душе, в звуках. И здесь Боэций снова следует за Аристотелем, полагавшим, что «равным образом и наука, не имеющая дела с материальной основой, точнее и первичнее науки, имеющей с ней дело, как, например, арифметика — по сравнению с теорией музыки»[62].
Астрономию, считал Боэций, превосходят все три науки — арифметика, геометрия, музыка: «В астрономии же — окружности, сферы, центр, круговые параллели, средняя ось — все это находится на попечении геометрии. А поэтому явствует, что сила геометрии — более древняя, ибо всякое движение происходит после покоя и всегда по природе покой первоначален; астрономия — наука о движущихся телах, геометрия — о неподвижных. Само движение звезд осуществляется посредством гармонических модуляций. Поэтому известно, что в древности сила музыки считалась предшествующей движению звезд; ее же, без сомнения, арифметика превосходит по природе… Все движения звезд и весь астрономический порядок основываются на природе чисел»[63].
Получив математическое образование, человек, полагал «последний римлянин», уже подготовлен для занятий истинной наукой — философией, тогда как арифметика, геометрия, музыка, астрономия — суть дисциплины, т. е. не науки в собственном смысле слова. Они примыкают к философии и могут быть включены в философию лишь номинально, представляя собой лишь инструменты, средства, с помощью которых осуществляется подготовка разума для трудного восхождения к постижению общих понятий, составляющих предмет «госпожи» всех наук. Ступени квадривиума — это ступени умозрительного мышления, не обращающегося к свидетельствам чувств.
Показательно, что задачи образования Боэций определяет в рамках чисто просветительских, светских. В его сочинениях «школьного» цикла нет даже и намека на какие-либо попытки связать образование с христианской традицией. Интересно сравнить его трактаты с аналогичными сочинениями Кассиодора. В «Изложении псалмов», относящемся к 40-м годам VI в., Кассиодор утверждает, что мир познаваем, но главный источник познания — это откровение. Священное писание имеет одну и ту же природу и порядок, что и человеческое мышление, ораторское искусство, речь. Именно поэтому оно доступно всем без опосредования. Уже в конце 50-х — 60-х годов, когда Остготское королевство пало под ударами Византии, бывший королевский канцлер написал «Наставления в науках божественных и светских». Используя кое-что из учебников Боэция, он по-иному интерпретирует цели и суть обучения. Кассиодор, снова подтверждая, что источником светских наук является откровение, старается убедить, что они ему не только не противоречат, но и представляют собой средства его познания. Дипломатичность Кассиодора проявилась и в теоретизировании. Связывая светское знание и откровение, он избегает той раздвоенности, которая была свойственна христианской литературе до него. Кассиодор уже со схоластической премудростью доказывает, что риторика берет начало из Библии, содержащей, по его мнению, все разнообразие последующей литературы. Он включает светское знание в интеллектуальные и стилистические рамки, очерченные Писанием, и доказывает их несомненную, с его точки зрения, общность.
Тем самым он намечает путь для деятелей культуры Запада, следуя по которому можно было согласовывать истины Писания и светскую образованность, веру и разум. Сочинения Кассиодора и Боэция разделяет немногим более полувека, но сколь различны они в своих фундаментальных установках! Боэций старается сохранить достижения античного знания, систематизировать их, подготовить для наиболее плодотворного восприятия. Назревающие изменения в стиле мышления и характере обучения он пытается реализовать на их собственном поле, не обращаясь к религии и теологии.
Представителем другой тенденции в раннесредневековой культуре Италии был Бенедикт Нурсийский, основатель монашества на Западе. Отшельник из Субиако в 529 г. заложил аббатство Монтекассино, которому предстояло сыграть заметную роль в духовной жизни средневековья.
При закладке монастыря монахи разбили статую Аполлона и на ее месте воздвигли ораторий св. Иоанна. В этом был скрыт глубокий символический смысл. Бенедикт принадлежал к тем деятелям церкви, которые отрицали языческую культуру и более того — образование вообще. Бенедикт, обучавшийся в юности в традиционной римской школе, покинул ее не из-за нежелания или неспособности учиться, но по глубокому внутреннему убеждению, что христианину науки не нужны, ибо истинная его школа — это школа служения богу. Молитва и физический труд были главными обязанностями бенедиктинцев. При этом время, предписываемое «Правилами» св. Бенедикта для труда, было вдвое больше того, что отводилось для молитвы. Постепенно понятие труда в бенедиктинских монастырях было расширено. В «Правилах» вопрос о просвещении монахов лишь обозначен. Основатель Монтекассино считал, что для монахов довольно чтения или слушания религиозных книг и исполнения церковных песнопений. Однако постепенно в их занятия включаются и переписка книг, и хранение рукописей, и, наконец, организация школы. Все это происходит позже, не без влияния Вивария Кассиодора.
Основание Монтекассино знаменовало, что на смену античной школе познания и красноречия пришла школа служения и послушания Христу. Образованность не числилась среди главных христианских добродетелей.
Так постепенно выкристаллизовывался и укреплялся новый тип культуры христианский, средневековый. Однако было бы неверно полагать, что этот тип культуры полностью вытеснил наследие языческой древности. Одно из подтверждений тому — история бенедиктинского ордена, начавшаяся с разрушения статуи Аполлона — покровителя искусств, но затем воспринявшая и элементы античной культурной традиции. Монахи-бенедиктинцы впоследствии стали искусными переписчиками не только христианских рукописей, но и сочинений знаменитых язычников. При бенедиктинских монастырях начали организовываться и школы, которые в период раннего средневековья превратились в главных поставщиков грамотных людей.
Боэций стал одним из основных педагогических авторитетов западноевропейского средневековья. Его трактаты «Наставления к арифметике» и «Наставления к музыке» явились наиболее полноценными источниками, из которых последующие поколения могли черпать сведения по философско-математической и музыкальной проблематике, дебатировавшейся в античных школах. Эрудиты и педагоги раннего средневековья Кассиодор, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, Алкуин, Рабан Мавр опирались главным образом на эти трактаты. Высоко ценились они и в развитом средневековье, и даже в эпоху Возрождения. На одном весьма распространенном изображении «башни наук и искусств», относящемся к XIV–XV вв., Боэций олицетворяет собой Арифметику, подобно тому как Пифагор — Музыку, Евклид — Геометрию, Птолемей Астрономию, Цицерон — Риторику, Аристотель — Логику. Учебниками Боэция пользовались в западноевропейских университетах почти до начала нового времени.
В союзе с Платоном и Аристотелем
Приблизившись к зениту жизни, Боэций задался целью, столь же великой, сколь и трудно осуществимой, — перевести на латинский язык все сочинения Платона и Аристотеля и показать глубокое единство двух величайших учений греческой философии, для чего снабдить свои переводы соответствующими комментариями. Он писал:
«Все тонкости логического искусства Аристотеля, всю значительность моральной его философии, всю смелость его физики я передам, придав его сочинениям должный порядок, переведу, сопроводя моими пояснениями. Более того, я переведу и прокомментирую все диалоги Платона. Закончив эту работу, я постараюсь представить в некоей гармонии философию Аристотеля и Платона и покажу, что большинство людей ошибаются, полагая, что эти философы во всем расходятся между собой; напротив, в большинстве предметов, к тому же наиболее важных, они в согласии друг с другом. Эти задания, если мне будет отпущено достаточно лет и свободного времени, я приведу в исполнение с большой пользой и в непрестанных трудах»[64].
Итак, синтез учений Платона и Аристотеля? Вообще возможен ли он, да еще с той глубиной, которую задумал Боэций?
Отступая от хронологии, вспомним известную фреску Рафаэля «Афинская школа», на которой изображены знаменитые мыслители Эллады. В центре ее, рассекая и в то же время концентрируя пространство, прямо на зрителя движутся фигуры Платона и Аристотеля. Платон, величественный, благородный старец, похожий на поздний портрет Леонардо да Винчи, воздел указующий перст к небесам. Аристотель, чернобородый и буйноволосый, шагающий мощно и уверенно, всей рукой показывает на землю. Так великий художник Возрождения живописно представил свое собственное понимание и понимание своей эпохой существа учений Платона и Аристотеля. В платоновской философии виделась концентрация идеального и божественного, в аристотелевской — реалистическая заземленность, знание о земле и человеке в противовес платоновскому знанию о небе и высших сущностях. На кодексе, который держит в руке Платон, начертано «Тимей» — название самого «возвышенного» и сложного его диалога об устройстве мироздания. На фолианте в руке Аристотеля мы видим название «Этика», символизирующее столь важное для Возрождения учение о человеке и практической морали.
Платон и Аристотель — противостояние небесного и земного? Духовного и материального? Представление устойчивое до банальности. Что же, парадокс обыденного сознания и расхожих представлений часто состоит в том, что они очень мало соответствуют истине, но бывают чрезвычайно живучими. Но ведь если обратиться от них к более строгому судье — истории философии, то и здесь мы нередко найдем это противопоставление Платон — Аристотель, правда гораздо более сложное и «облагороженное», но все же — противопоставление. Благо, история их сложных взаимоотношений, многократно толкованная и перетолкованная, казалось бы, давала веские основания для этого. Ведь не зря же Платон отозвался о своем гениальном, но строптивом ученике Аристотеле: «Жеребенок, лягающий свою мать». И не зря Аристотель в конце концов покинул взрастившие его сады Академии, где безраздельно царил авторитет Платона, и основал свою школу — Ликей, одновременно и похожую и непохожую на Академию. Но несравненно больше, чем любые коллизии личных отношений, говорят о сходстве или противостоянии мыслителей их сочинения, их учения, а еще больше — судьбы этих учений в веках.
Многие современники мыслителей усматривали определенный аристократизм и «закрытость» в учении Платона в противовес «демократизму» философии Аристотеля. Но и то и другое было мнением избранных, а не гласом народа, для которого оба они были одинаково непонятны, а часто и попросту неизвестны, ибо философия оставалась достоянием интеллектуальной элиты.
Поздняя античность, а за ней и средние века тоже разделяли теолога Платона и физика и логика Аристотеля. Средневековая философия до XIII в. в основном имеет платоновскую окраску, а философский переворот конца XII–XIII в. связан с расцветом аристотелизма.
Платон и Аристотель — две вершины, обогнуть которые не могла в своем развитии философская мысль средневекового Запада, а в значительной мере и Востока. Эти вершины часто представлялись противостоящими полюсами: при этом как-то забывалось, что полюса все-таки находятся на концах одной оси, которая есть не только расстояние, их разделяющее, но и нечто их связывающее, делающее невозможным существование одного без другого. В лице Аристотеля греческая философия, выйдя за пределы Академии, устремилась в Ликей, «где возможности изучались пристальней, чем действительность, зато действительность оценивалась выше любой возможности. Аристотель прошел двадцатилетнюю школу в Академии и взял от платоновского идеализма все, что тот мог ему дать»[65]. От погружения в неизъяснимые глубины божественного ума она двинулась к познанию тончайших оттенков живого бытия и постигающего его разума.
Тем не менее при всем несомненном противоречии учения Платона и Аристотеля — это побеги, исходящие из одного корня. Особенно остро это было прочувствовано неоплатонизмом. В конце II — первой половине III в. александрийский мудрец Аммоний Саккас (около 175 — около 242), в образе жизни подражавший Сократу и ставший учителем основателя неоплатонизма Плотина, обратил внимание на общность учений Платона и Аристотеля, усмотрев в этом залог дальнейшего движения философии. Неоплатонизм — завершающий и всеобъемлющий синтез античной философской мысли, стремился не только к постижению и выражению последних тайн бытия и божества, но и к приданию их изложению совершенной логической формы. В нем образовался удивительный сплав изощренной мистики и отточенной логики, в своей утонченности превосходившей порой даже достигшую в этом совершенства схоластику средних веков. Неоплатонический логицизм не мог обойтись без Аристотеля. Не случайно ученик Плотина, систематизатор его учения Порфирий, автор «Пещеры нимф», классического образца неоплатонического толкования мифологии, особенно интересовался Аристотелем и написал многочисленные комментарии к его сочинениям.
Александрийский неоплатонизм, прославившийся своими логическими, математическими и естественнонаучными штудиями, отличался глубокой привязанностью к диалектике Аристотеля. В Александрии его комментировали едва ли не с большим тщанием, чем Платона. Однако в этих комментариях Аристотель все больше превращался преимущественно в логика, в обличье которого ему предстояло оставаться известным Западной Европе около десяти веков. Из Афинской школы, которой руководил последний великий мыслитель античности неоплатоник Прокл, вышли списки сочинений Аристотеля, которыми пользовался Боэций.
Перевод всего платоновского и аристотелевского корпусов, предметный показ их общности — это была задача огромной историко-культурной важности, великая по масштабу цель, открывавшая новые горизонты перед европейской культурой. Боэций являлся не просто широко образованным человеком, замкнутым в мире собственной эрудиции. Он был не только философом и ученым, но и крупным политическим и общественным деятелем своего времени, который не мог не видеть, что культурная жизнь на Западе приходит в упадок. Знание греческого языка стремительно утрачивалось, а вместе с этим становились недосягаемыми и богатства греческой философии. Ведь даже такой образованнейший человек Италии того времени, как Кассиодор, признавался, что не владеет греческим языком. В VI–VII вв. знание греческого сохранялось лишь в ирландских монастырях-крепостях. Только через три с половиной века в Западной Европе снова появятся люди, способные переводить на латинский язык сочинения греков. В середине IX в. выходец из Ирландии, философ, опередивший свое время, Иоанн Скот Эриугена сделает перевод «Ареопагитик», а вскоре вслед за ним аналогичный шаг предпримет Анастасий Библиотекарь.
Поставленная Боэцием цель свидетельствует о том, что он не смотрел на философскую деятельность как на узкоэлитарную, а стремился, как и в области школьного образования, к решению широких культурно-просветительских задач, ибо перевод Платона и Аристотеля на латинский язык делал их доступными всему латиноязычному миру. Боэций, как представляется, не мог не видеть, что латынь становится языком культуры и для германцев. В условиях варваризации Запада и падения уровня образованности перевести означало и приумножить вероятность сохранения самих этих текстов.
Произведения Платона и Аристотеля, по мысли Боэция, призваны были составить и основу всего интеллектуально-культурного универсума наступающей эпохи. И это была бы не легковесная ажурная конструкция и не составленный из непритертых блоков фундамент, а монолит мысли, знания и метода. Сущностное единство основания предопределило бы прочность, стройность и устойчивость всей конструкции. Показательно, что Боэций приступает к этой работе примерно около 510 г., но, заботясь о монолитности культурного основания, идет от языческой мудрости, а не от христианского откровения, хотя в решении этой задачи он в принципе мог бы и последовать за Августином, уже очертившим в своих многочисленных и разнообразных трудах границы христианско-интеллектуального универсума. Августин не без симпатии относился к Платону и к Аристотелю, более того, объективно в своих воззрениях был христианским неоплатоником, но после принятия крещения он и помыслить не мог бы о том, чтобы положить в основание человеческой культуры языческую мудрость, которая, в его представлении, не могла быть истинной мудростью, а являла собой «обман человеков». Боэций, как свидетельствуют его теологические трактаты, высоко ценил авторитет Августина, но в выборе жизненной цели остался верен самому себе и своей «кормилице» (как он ее называл в «Утешении») философии.
«Последний римлянин» уже в самой формулировке задачи показал, что он сторонник доступной, незамкнутой на себе самой мудрости, но в то же время и противник интеллектуальных «заменителей». И в этом он возвышается над своей эпохой, отдававшей предпочтение компендиуму перед оригиналом. Желающим знать философию, полагал «последний римлянин», надо дать в руки первоисточники, ее чистейшие и незамутненные образцы. Платон и Аристотель с его помощью должны заговорить на языке Вергилия и Цицерона.
Боэций, видимо, осознавал, что проблема перевода — это не только проблема знания и его распространения, но и проблема языка, которым это знание может быть выражено и через который может быть сохранено. Ведь то, что не выражено адекватным языком, для другого как бы не существует, во всяком случае не понимается им.
Философ заботится, чтобы «благодаря полнейшей достоверности перевода читателю философских книг, составленных на латыни, не пришлось обращаться за уточнением к книгам греческим»[66]. Забота эта не случайна. До Боэция из диалогов Платона неоплатоником Халкидием был переведен на латинский язык только «Тимей» (он и остался единственным сочинением этого греческого мыслителя, известным раннему средневековью).
Боэций открывает ряд латинских переводчиков сочинений Аристотеля. Он, как мы уже упоминали, намеревался перевести все произведения Платона и Аристотеля, однако судьба распорядилась иначе, не отпустив ему достаточного для этого времени. К переводу Платона он так и не приступил, а из Аристотеля ему удалось завершить работу лишь над частью «Органона» (собрания логических произведений Стагирита). Боэций сделал две редакции перевода «Об истолковании», дал латинские версии первой и второй «Аналитик», «О софистических доказательствах», «Топики». В раннем средневековье имели хождение боэциевы переводы «Категорий» и комментарии к ним, которые в совокупности с двумя его же комментариями к «Введению» Порфирия к «Категориям» Аристотеля (один был сделан к «Введению» в переводе Мария Викторина, другой — к собственному переводу) составили корпус так называемой «старой логики» (logica vetus), господствовавшей в Западной Европе вплоть до второй половины XII в. В этом столетии стали известны и переводы «Аналитик», общая версия «Топики» и «О софистических доказательствах». «Старой логикой» ограничивался еще и крупнейший философ XII столетия Петр Абеляр (1079–1142), блестящий защитник диалектики и поборник свободомыслия. Она отошла на второй план лишь тогда, когда появились новые переводы логических сочинений Аристотеля, сделанные с греческого и арабского языков. Но заслуга Боэция в том, что он подготовил почву для усвоения Западной Европой логики и философии Аристотеля, сыгравших исключительную роль в интеллектуальном синтезе зрелого средневековья.
Почему «последний римлянин» начал с перевода логических трудов Аристотеля, а не с диалогов Платона, хотя все его творчество выказывает платоновскую ориентацию? Более того, в «Утешении» он вообще поставил знак равенства между учением Платона и философией[67].
В античной школе изучение философии (диалектики) традиционно начинали, а в большинстве случаев и завершали логикой Аристотеля. Главными учебниками были «Введения» в «Категории» Аристотеля, среди которых с конца III в. самым распространенным и авторитетным стало «Введение» неоплатоника Порфирия. Боэций и начинает свою работу не с непосредственного перевода «Категорий», а с составления комментария к «Введению» Порфирия в переводе римского «школьного» философа Мария Викторина. Наиболее распространенное объяснение тому, что к моменту начала работы Боэций был недостаточно тверд в греческом языке. Но, думается, причина, скорее, в самом подходе Боэция к любому делу. Он всегда стремится идти от более простого к более сложному, не перескакивая через ступени, ориентируя свои труды на относительно широкий круг образованных людей. В данном случае он решил начать работу с того, что изучалось в школах, продолжая тем самым сделанное им в области квадривиума. Забота о фундаментальности образования, так же как и помыслы о глубине и основательности интеллектуальной культуры в целом, заставила его начать с философских «азов».
Более глубокая, внутренняя причина крылась в исключительном интересе Боэция к вопросам метода философствования. Интерес этот закономерен. Собственно, поиски метода можно обнаружить в сочинениях Платона, особенно его поздних диалогах. Противопоставление неизменного и неподвижного мира высших духовных сущностей — идей изменчивому миру чувственных вещей, сопряженных с материей, составило ядро платоновской диалектики, направленной на познание истины, пребывающей в сфере подлинного, т. е. идеального, бытия. Платоновская диалектика познания включала довольно подробно разработанную часть, выявляющую сущность и истинное значение, условия логического образования понятий, без которых Платон считал невозможным познание. От диалектики понятий Платон приходил к диалектике идей. Задачу философа он усматривал в том, чтобы «различать все по родам, не принимать один и тот же вид за иной и иной за тот же самый — неужели мы не скажем, что это [предмет] диалектического знания?»[68]. Последние диалоги Платона подчас напоминают схоластические трактаты. Они подготовили почву для неоплатонических истолкований с их напряженным вниманием к построению и обоснованию философского знания, т. е. к его методической стороне.
Аристотель придавал особое значение взаимосвязи метода познания и его конечных результатов. «Древнегреческие философы были все прирожденными стихийными диалектиками, и Аристотель, самая универсальная голова среди них, уже исследовал существеннейшие формы диалектического мышления»[69]. В области диалектики Аристотель представлял линию европейской философии ведущую к Гегелю. Наиболее полно проблема метода разработана Стагиритом[70] в «Категориях», «О софистических опровержениях», «Топике» и «Риторике». Свою задачу он формулировал следующим образом: «Цель сочинения — найти метод, при помощи которого можно было бы из правдоподобных [положений] делать умозаключения о всякой выдвинутой проблеме и не впадать в противоречие, когда мы сами отстаиваем какое-нибудь положение»[71].
Неоплатоник Прокл придал методологии, или учению о методе, сложнейшую и рафинированную форму, в полной мере использовав логические достижения Аристотеля для развития иерархической и в высшей степени спекулятивной концепции понятий неоплатоновской философии.
Боэций, глубоко постигший древнюю и почти современную ему философию, не мог пройти мимо проблемы метода, занимавшей в интеллектуальном универсуме античности столь важное место. Еще его «школьные» трактаты показали тяготение их автора к строгой, почти аскетической, дисциплине мышления. Поэтому логика его развития как ученого и мыслителя вела прежде всего к методологии, углубленной разработке знания о методе. А этому в наибольшей степени отвечала работа с логическими сочинениями Аристотеля. Естественность и закономерность такого шага для Боэция подтверждаются и тем, что примерно параллельно с переводом и комментированием Аристотеля он предпринял попытку приложения логического метода к рассмотрению вопросов христианской теологии, предвосхищая более чем на семь с половиной веков аналогичную попытку Фомы Аквинского, крупнейшего авторитета средневековой схоластики.
И еще одна причина, по которой «последний римлянин» начал с Аристотеля, — это назревшая необходимость выработки латинской философской терминологии, адекватной греческой. В этой области в свое время немало было сделано Цицероном, но, строго говоря, ко времени Боэция латинский язык далеко не был совершенным философским языком. Он не мог не понимать, что это серьезное препятствие для дальнейшего развития латиноязычной философии, ибо без точности терминологии, понятийного аппарата нельзя рассчитывать на точность мышления и его истинность. Слова должны соответствовать мыслям. Непроясненность слов рождает запутанность толкования и непонимание смысла, а в своем крайнем выражении приводит к искажению истинного характера бытия и мышления. Боэций отмечал: «…с рассуждением дело обстоит совсем не так, как с вычислением. При правильном вычислении, какое бы ни получалось число, оно непременно будет точно соответствовать тому, что есть в действительности: например, если по вычислении у нас получилась сотня, то предметов, относительно которых мы производили счет, будет ровно сто. А в рассуждении на такое соответствие полагаться нельзя; далеко не все то, что может быть установлено на словах, имеет место в действительной природе. Потому всякий, кто возьмется за исследование природы вещей, не усвоив прежде науки рассуждения, не минует ошибок. Ибо, не изучив заранее, какое умозаключение поведет по пути правды, а какое по пути правдоподобия, не узнав, какие из них несомненны, а какие ненадежны, невозможно добраться в рассуждении до неискаженной и действительной истины»[72].
Итак, Боэций начал с «Введения» Порфирия (переведенного также на арабский, сирийский, армянский языки), авторитетнейшего сочинения, излагавшего основы логики, толковавшего «пять звучаний», или пять общих логических понятий: род, вид, отличительный признак, существенный признак и случайный признак. Учение об этих понятиях сохранило свое значение и для современной логики. Боэций переводит Порфирия, «жертвуя точности и смыслу не только риторическими красотами, но иногда и требованиями хорошей литературной латыни; он скрупулезно передает по-латыни структуру греческих словосочетаний, с артиклями и частицами, создавая новый, тяжелый и сухой, но способный передать все оттенки греческой мысли философский латинский язык»[73].
Это сочинение стало фундаментом средневековой логики, определив круг ее понятий, проблем и истолкований. Боэций же сформулировал проблему универсалий (общих понятий), которая заняла исключительное место в схоластической философии, став для нее камнем преткновения, мерилом истинности и критерием идеологической оценки. В зависимости от ее истолкования человек мог быть провозглашен инакомыслящим, еретиком, поплатиться не только своим интеллектуальным авторитетом, но даже общественным положением и свободой. Внешне менее драматично, но не менее тщательно проблема общих понятий обсуждалась и философией нового времени, пытавшейся преодолеть противоречия схоластического метода и точнее определить их место в системе рационалистического познания.
Проблема универсалий во всей ее определенности впервые возникла в учении Платона, который настаивал, что идеи — общие понятия — обладают истинным бытием, в то время как индивидуальные вещи, которые представляются людям реально существующими, на самом деле таковыми не являются. В индивидуальных конкретных вещах общее «умирает». Аристотель подверг критике платоновскую концепцию, придавая важнейшее значение тому, что общее проявляется только через единичное, данное человеку в чувственном опыте.
Порфирий в своем «Введении» к аристотелевским «Категориям» предельно обнажил проблему. Раскрывая понятия логической классификации, он перечисляет «трудные» вопросы: существуют ли роды и виды (общие понятия) сами по себе, или же они пребывают в человеческом мышлении, которое создает с помощью бесплодного воображения формы того, чего нет; если же прийти к выводу, что общие понятия все же существуют, то являются ли они телесными или бестелесными. И наконец, необходимо выяснить, существуют ли они в связи с телами или обладают отдельным существованием, независимым от чувственных тел. Порфирий ушел от решения задачи, Боэций пытается подойти к ней поближе.
Прежде чем перейти к изложению позиции «последнего римлянина», попробуем более популярно объяснить сущность проблемы универсалий. Собственно, каждый человек в своем личном опыте так или иначе получает основание для размышлений о соотношении индивидуальных вещей и их общих обозначений.
Так, не вызывает сомнений, что каждый из предметов, которыми пользуется определенный человек, является неповторимым и индивидуальным в том смысле, что человек садится, например, за определенный, именно вот этот стол, на определенный, именно вот этот стул, надевает определенный, именно вот этот костюм. Каждый человек имеет совершенно определенных единственных отца и мать, живет в данный момент в определенном, вот этом городе и т. д. Но наличие всех этих индивидуальных вещей не препятствуют пониманию того, что слова «стол», «стул», «костюм» являются определениями не только тех конкретных стола, стула и костюма, которыми данный человек пользуется, но и определяют целые классы предметов, служат обозначениями для столов, стульев, костюмов вообще, т. е. выступают как общие понятия, отражающие сущность этих предметов, делающих их самими собой. Для каждого человека отец или мать — это прежде всего его отец или мать, однако все люди и каждый человек со времени возникновения человечества были заключены в общее отношение отцовства-материнства, т. е., когда речь идет не о собственном отце и матери, а о любых отце и матери, подразумевается, что они находятся в таком же родовом отношении к своему ребенку, как ваши отец и мать к нам. Это фактически родительские отношения, которые, оставаясь в существе своей общими, могут выступать в реальной жизни в бесчисленном количестве индивидуальных вариантов.
Эти элементарные житейские примеры показывают, что общее и индивидуальное спаяно в сознании человека в неразрывном единстве, и обычно мы в обыденной жизни не встречаем больших трудностей в различении случаев, когда речь идет об индивидуальных вещах и явлениях, а когда об общих обозначениях. Однако стоит всерьез задуматься, а что же такое не вот этот конкретный стол, а стол вообще и существует ли, а если существует, то где этот «общий» стол пребывает и как соотносится со всеми индивидуальными столами, окажется, что проблема в этом есть. Не случайно же человеческая мысль билась над ее решением почти 25 веков и еще до сих пор не пришла к окончательному ответу. Следует отметить (опасаясь навлечь на себя обвинение в модернизации), что расцвет компьютерной техники снова подчеркнул остроту проблемы, ибо оказалось делом огромной сложности научить искусственный интеллект различать индивидуальные вещи и общие понятия.
Боэций, рассуждая об общих понятиях, отмечает: «Первыми по природе являются роды по отношению к видам и виды — по отношению к собственным признакам. Ибо виды проистекают из родов. Точно так же очевидно, что виды по природе первее расположенных под ними индивидуальных вещей. Ну а то, что первичнее, познается естественным образом раньше и известно лучше, чем все последующее. Правда, называть что-либо первым и известным мы можем двояким образом: по [отношению к] нам самим или по [отношению к] природе. Нам лучше всего знакомо то, что к нам всего ближе, как индивидуальные вещи, затем виды и в последнюю очередь роды. Но по природе, напротив, лучше всего известно то, что дальше всего от нас. И по этой причине чем дальше отстоят от нас роды, тем яснее они по природе и известнее»[74].
В этом рассуждении Боэций как будто следует за Аристотелем, писавшим в своей «Физике»: «Естественный путь [к знанию] идет от более известного и явного для нас к более известному и явному с точки зрения природы вещей, ведь не одно и то же, что известно для нас и [известно] прямо, само по себе. Поэтому необходимо дело вести именно таким образом: от менее явного по природе, а для нас более явного, к более явному и известному по природе. Для нас же в первую очередь ясно и явно более слитное, затем уже отсюда путем разграничения становятся известными начала и элементы…»[75] Путь познания, по Аристотелю, — движение от общего к конкретному. Общее для него первичнее в процессе мышления. Для Боэция общее кажется первичнее индивидуального в сфере существования, роды и виды суть первичнее по природе, т. е. можно предположить, что для Боэция они все же есть прежде индивидуальных вещей. Прекрасный пример того, как, почти дословно пересказывая Аристотеля, можно вложить в слова иной смысл, придав ему платоновскую направленность. При всем уважении к Аристотелю и желании остаться нейтральным Боэций невольно выказывает свои платоновские симпатии, быть может субъективно даже не желая этого.
Боэций рассматривает различные варианты решения проблемы универсалий: «Роды и виды либо есть и существуют, либо формируются только мышлением и разумом и тогда существовать не могут»[76]. Он отвергает возможность существования родов и видов, аналогичного существованию единичных предметов, ибо «все, что является одновременно общим для многих „вещей“, не может быть единым в самом себе», а не обладая единством — не существует, ибо единство есть обязательное условие существования. Если же предположить, что роды и виды являются множественными, т. е. подобны индивидуальным вещам, то «точно так же, как множество живых существ требует объединения их в один род потому, что у всех них есть нечто похожее», род, представленный как «ничто единое по числу», но может быть общим для многих, ибо, целиком находясь в отдельных вещах, сливаясь с ними, он не сможет составлять и формировать их сущность.
Таким образом, роды и виды [универсалии] не могут обладать реальным существованием наряду с индивидуальными вещами и в то же время не могут существовать в каждой индивидуальной вещи, ибо в этом случае они утрачивают свою общую природу. Тогда, быть может, универсалии только мыслятся? Однако, «если допустить, что мы мыслим род, вид и прочее на основании [действительной] вещи, так, какова сама эта мыслимая вещь, тогда надо признать, что они существуют не только в мышлении, но и в истинной реальности». Если же общие понятия не отражают истинного в вещах, то тогда не стоит ими заниматься, ибо то, о чем нельзя ни помыслить, ни высказать ничего истинного, не существует.
Выход из этого логического лабиринта Боэций пытается найти с помощью Александра Афродисийского (вторая половина II — начало III в.), чей авторитет как комментатора Аристотеля был очень велик. «Последний римлянин» опирается на его рассуждения о способности человеческого ума к абстрагированию, помогающей извлекать общее из конкретно существующего. Он полагал: «Итак, вещи такого рода существуют в чувственно воспринимаемых телах. Но мыслятся они отдельно от чувственного, и только так может быть понята их природа и уловлены их свойства. Поэтому мы мыслим роды и виды, отбирая из единичных [предметов], в которых они находятся, черты, делающие эти предметы похожими [друг на друга]. Так, например, из единичных людей, непохожих друг на друга, [мы выделяем то, что делает их] похожими, „человечество“ [или свойство быть человеком]; и эта [черта] сходства, обдуманная и истинным образом рассмотренная духом, становится видом; в свою очередь сходство различных видов, которое не может существовать нигде, кроме как в самих видах или в [составляющих] их единичных [предметах], [становится объектом духовного] созерцания и производит род. Именно таким образом обстоит дело с частными [понятиями]. Что же касается общих понятий, то здесь следует считать видом не что иное, как понятие, выведенное на основании субстанционального сходства множества несхожих индивидуальных [предметов]; родом же — понятие, выведенное из сходства видов»[77].
Боэций создал формулу, которой так «повезло» у средневековых мыслителей: универсалии «существуют, таким образом, по поводу чувственных вещей, понимаются же вне телесной субстанции». Он не случайно считается «отцом схоластики». Его заслуги не ограничиваются разработкой терминологии, не только привнесенной из произведений Аристотеля и Цицерона, но и оригинальной. Многие основные термины, такие, как вид, универсалии, разделение и многие другие, впервые на латинском языке встречаются у него. По существу, в сочинениях Боэция обретают плоть и кровь, кристаллизуются основные проблемы и подходы схоластической философии.
Рассматривая проблему общих понятий, рода и вида, Боэций излагает существо положений Стагирита, показывая невозможность приписывать субстанциональную реальность идеям рода и вида как раз потому, что они, будучи общими целой группе индивидуальных вещей, не могут быть сами индивидуализированы и тем самым не могут быть чувственными субстанциями. С другой стороны, Боэций отмечает, что, если бы универсалии были только простыми умственными понятиями и не имели бы никакого отношения к существующим вещам, человеческое мышление не имело бы никакого объекта и вследствие этого мысль вынуждена была бы мыслить ничто, что само по себе абсурдно. Для него очевидно, что универсалии должны быть всегда терминами мышления, соответствующими реальности, и что вследствие этого проблема их природы влечет за собой все значение и ценность человеческого познания. Эти положения Боэций развивает затем в своем «Утешении».
Вместе с тем, высоко оценивая возможности человеческого познания, философ все же сумел выразиться по поводу универсалий с достаточной степенью неопределенности, которая как бы давала неограниченные возможности для поисков решений предложенной логической загадки. Тема была предложена, и средневековая схоластика начала изощряться в ее интерпретации. Поистине Боэций выступил не только как «отец схоластики», но невольно и как коварный Сфинкс, предложивший разгадать неразгадываемое.
Средневековая философия выдвинула три варианта «отгадки» (при множестве переходных оттенков) — реализм, номинализм, концептуализм. Реализм признавал действительное существование надмысленной реальности, идеальных объектов, универсалий, не зависящих от человеческого опыта и познания. Умеренный реализм несколько «рассредоточивал» универсалии, считая, что они обладают реальным существованием, но проявляются через единичные вещи. Номинализм как оппозиция реализму отказывал универсалиям в реальном существовании и рассматривал их как категории человеческого мышления. Крайние номиналисты считали, что универсалии — это просто звуки, даже не имена. Концептуализм стремился примирить враждующие позиции, признавая, что общее, универсалии существуют в вещах и в то же время являются воспроизведением в уме сходных признаков, заключенных в единичном.
Борьба между номинализмом и реализмом полыхнула с необычайной силой и XI в., в ней столкнулись Росцелин и Ансельм Кентерберийский. Накал ее не ослабевал почти до конца средневековья. Во всяком случае, нельзя, пожалуй, назвать ни одного средневекового философа, который в той или иной мере не был бы реалистом, номиналистом или концептуалистом, а подчас и «сочувствовал» попеременно всем трем направлениям. На реализме основывался высший синтез средневековой философии, осуществленный Фомой Аквинским и его учителем Альбертом Великим. Номинализм, как правило, питал оппозиционные течения схоластики, теорию «двойственной истины» в частности. Он оказал значительное влияние на развитие логики и естественнонаучных знаний, особенно в XIV–XV вв. Концептуализм стал основой духовного протеста Абеляра против церкви. (Некоторые исследователи, кстати, считают абеляровскую «Диалектику», имевшую принципиальное значение в споре номиналистов и реалистов, «парафразом» боэциевых логических трактатов[78].)
При всей на первый взгляд отвлеченности спора об универсалиях он оказал огромное влияние на интеллектуальную жизнь средневековья в целом и имел выходы в идеологическую, религиозную борьбу, ибо каждая из концепций в крайнем своем выражении приводила к ересям. Крайний реализм при всей его спиритуальности обнаруживал тенденцию к пантеизму, стирая грань между миром и богом (как это и случилось в философии Эриугены). За реализмом как бы снова возникал опасный призрак ересиарха Ария, потрясавшего устои ортодоксальной церкви в IV в.
Крайне истолкованный номинализм неожиданно оборачивался разрушением единства троицы, ибо каждая ее ипостась как бы превращалась в индивидуального бога[79]. Абеляр, который был сторонником умеренной позиции — концептуализма, тем не менее подчас действительно обнаруживал склонность к номинализму. В номинализме, с его интересом к индивидуальным вещам и мощной силой мыслительной дезинтеграции, уже брезжило наступление новой интеллектуальной эпохи, когда люди больше будут интересоваться явлениями земного мира, чем неизменной красотой мира вечного. Концептуализм в итоге тоже приводил к рационализму и свободомыслию.
Философ, которого Боэций называл «своим Аристотелем», стал для развитого средневековья Философом по преимуществу. Имя его даже не надо было называть, ибо, когда средневековый читатель видел слово Философ, начертанное с большой буквы, он знал, что речь идет об Аристотеле. Нельзя также не вспомнить, что первый после Боэция перевод Стагирита на один из развивающихся европейских языков (старонемецкий) был сделан в начале XI в. Ноткером Заикой с помощью боэциевых версий аристотелевских «Категорий» и «Об истолковании».
Помимо переводов и комментариев к сочинениям Аристотеля и Порфирия, большое значение для становления схоластической философии имели оригинальные логические сочинения Боэция — «Введение в теорию категорических силлогизмов», «О гипотетических силлогизмах», «О разделении», «О категории различия» и, наконец, комментарий к «Топике» Цицерона. Эти труды в средние века входили в число основных учебников по логике. Списки их вплоть до XVI в. были широко распространены в библиотеках Западной Европы, что свидетельствует об их исключительной популярности. Без столь важной работы Боэция по выяснению, уточнению, переводу, детализации и выработке философской, логической латинской терминологии просто невозможно представить весь дальнейший ход развития средневековой схоластики, получившей от «последнего римлянина» не только терминологический аппарат, но и прекрасные образцы тончайшей нюансировки и методики доказательств.
Боэций также считается одним из основателей пропозициональной логики, разработавшим теорию гипотетических силлогизмов, и в настоящее время не утратившую свое значение в логике. Боэций в теории силлогизмов пошел дальше Аристотеля, детально разрабатывая правила дедукции, обращаясь при этом к наследию греческих философов Феофраста и Евдема, а также к логике стоиков. Не вдаваясь в подробности классификации силлогизмов у Боэция, отметим лишь, что гипотетические силлогизмы он делит на восемь видов. Ему же принадлежит и создание употребляемых до сих пор наименований отдельных элементов силлогизма: средний термин, больший термин, меньший термин.
Логические сочинения и комментарии Боэция сыграли значительную роль не только в философии средневековья, но и в развитии системы образования в ту эпоху. Если его «Наставления к арифметике» и «Наставления к музыке» были положены в основу преподавания «математических» дисциплин, то эти стали ядром преподавания диалектики — центральной дисциплины тривиума — и собственно философии. На них школяры и студенты университетов обучались началам метода логической аргументации и формальных логических построений, овладевали логическим методом. С помощью боэциевых переводов и логических сочинений была осуществлена подготовка к овладению наследием Аристотеля, ставшим доступным западному миру в более полном объеме лишь в XIII в. Вообще же число средневековых комментариев к логическим произведениям «последнего римлянина» очень велико[80], и значение их для интеллектуальной жизни средневековья трудно переоценить.
Идея примирения учений Платона и Аристотеля, выдвинутая Боэцием, находила сторонников и среди философов последующих веков. В частности, она привлекла Альберта Великого. Спор о Платоне и Аристотеле (хотя уже не под прямым влиянием «последнего римлянина») вспыхнул с новой силой в философии Ренессанса и оказался весьма значимым для судеб европейского гуманизма. Таким образом, Боэций, писавший для школы и заботившийся о философском просвещении, оказался у истоков многовековой идейной борьбы. От него как бы протянулась нить через всю последующую историю интеллектуальной жизни и философии Западной Европы вплоть до конца Возрождения.
Разум и вера
Время, когда жил Боэций, было не периодом открытой конфронтации язычества и христианства, а годами острой идейной борьбы внутри последнего. Еще при императорах Грациане (367–383), Валентиниане II (375–392), Феодосии I Великом (379–395) были изданы суровые законы о преследованиях язычников и еретиков: нехристианам запрещалось занятие государственных должностей, что если и не приводило к немедленному искоренению язычества, то способствовало хотя бы формальному принятию христианства лицами, состоявшими на государственной службе[81]. К началу VI в. в остготском государстве все должностные лица формально были христианами, правда, характер и глубина их веры могли колебаться в очень широких пределах.
Боэций, как можно судить по его сочинениям и комментариям, в молодые годы не только не выказывал ревностного благочестия, но серьезно даже не интересовался вопросами веры. Начатый труд по переориентации стиля мышления, способа философствования он осуществлял в русле античной интеллектуальной традиции. Тем не менее вопрос об отношении Боэция к христианству, пожалуй, занимает центральное место в обширной литературе о нем[82]. Ни один исследователь не обошел, да и не мог обойти вниманием эту проблему. Почему же это произошло? Да потому, что вопрос о характере мировоззрения, веры философа выходит далеко за рамки его биографии и является частью основополагающей для истории проблемы преемственности между культурами античности и средневековья, а также взаимодействия античной языческой и христианской традиций в процессе становления культуры феодального общества. Была ли церковь единственным хранителем и передатчиком культурной традиции в ту эпоху, когда Западная Европа оказалась под властью варваров, — так в конце концов формулируется этот вопрос.
Почти до последнего двадцатилетия XIX в. на этот вопрос можно было ответить вполне определенно. Все сочинения, тогда атрибутировавшиеся Боэцию, не содержали каких-либо прямых свидетельств христианской ориентации в его мировоззрении. Версия, будто он мог быть мучеником за веру, строилась на зыбком основании: он был казнен по приказу короля-арианина. Однако в научной литературе предпочтение все-таки отдавалось мнению, что Боэций стал политической жертвой Теодориха.
В средние века Боэцию тем не менее приписывался ряд теологических трактатов. В течение долгого времени историческая критика отвергала их принадлежность «последнему римлянину», но в 1877 г. был опубликован незадолго до того обнаруженный немецким ученым А. Холдером фрагмент, приписанный в конце копии Х века произведения Кассиодора «Наставления в науках божественных и светских», получивший название «Anecdoton Holderi». Вскоре Г. Узенером была доказана его принадлежность действительно Кассиодору. Это небольшой текст, состоящий из четырех частей. Вероятно, он представляет собой фрагмент «памятной» книги, в которую королевский секретарь вносил заметки о наградах, должностях и деятельности членов своего рода. Из вступления, где упоминается имя Руфа Петрония Никомаха, бывшего консула, патриция, а в 521–522 гг. магистра оффиций, как считает его публикатор Г. Узенер[83], можно сделать вывод, что, вероятно, этот фрагмент является частью записок, предназначенных для прочтения этим лицом. В 3-й и 4-й частях фрагмента сообщаются сведения о Симмахе и Боэции (их Кассиодор считал своими дальними родственниками). Королевский секретарь отмечал, что Боэцием были написаны трактаты «О троичности», «Против Евтихия и Нестория», а также сочинения по вопросам христианской догматики, к их числу относят обычно «Каким образом субстанции благи…». Казалось бы, вопрос о христианстве Боэция должен был отпасть. Но напротив, он еще более обострился. Сложность проблемы заключается в том, что теологические трактаты, долженствующие служить веским подтверждением христианизации воззрений философа, наводят на размышления иного порядка. Их относят примерно к 512–522 гг., т. е. к тому же периоду, когда шла наиболее интенсивная работа над комментариями и логическими сочинениями Боэция. В теологических трактатах Боэций пытается решить ту же проблему формирования нового метода философствования, разрабатывая при этом оригинальную концепцию взаимоотношения веры и разума.
Античное мышление не знало той мучительной раздвоенности, которую породила проблема веры и разума, откровения и знания в христианском мировоззрении, а в дальнейшем — в средневековой культуре. При всем своем интересе к постижению божества, закона, управляющего мирозданием, языческие философы, в том числе и Платон, которого называли «теологом», каждый раз творили свою собственную мифологию, развивая каждый раз новую философскую концепцию высшего начала, неразрывно связанную с их учениями о бытии мира. И хотя понятие «теология» возникло в греческой философии, сама эта философия была глубоко чужда теологии как религиозной доктрине, толкующей о сущности и реализации бога и основывающейся на божественном откровении как системе непреложных истин. Теология со своим специфическим предметом осмысления стала развиваться только с возникновением христианства с его концепцией личного бога, наличием сакральных текстов, якобы «зафиксировавших» слово божье, т. е. то, что считается высшей истиной, которая должна приниматься без доказательств, а лишь на основании безоговорочного подчинения авторитету. Однако, хотя истинность откровения не могла подвергаться сомнению, она все же таковому подвергалась. И первые века христианства служат тому блестящим подтверждением. Христианство утверждалось не только в борьбе с язычеством и государственной властью. Борьба была жестокой и кровавой и дала церкви несколько поколений мучеников за веру, погибших под стрелами и мечами римских солдат, на аренах цирков, распятых, подобно основателю их религии. Не менее бескомпромиссной была борьба внутри христианства за признание единственно богооткровенными тех или иных текстов и выработку догматики.
Ко времени Боэция эта борьба не иссякла. Снова нарастали крупные разногласия между восточной и западной церквами, уже не раз обострявшиеся после Халкидонского собора 451 г., провозгласившего равенство Римской и Константинопольской церковных кафедр. Восток по-прежнему захлестывали ереси — несторианство, евтихианство, монофиситство и другие. В центре религиозной борьбы все еще продолжал оставаться вопрос о соотношении трех ипостасей христианской троицы, казалось бы, уже давно решенный собором 325 г. в Никее, принявшим «символ веры», и вопрос о соотношении божественной и человеческой природ в Христе, воплощенном Логосе, хотя Халкидонский собор утвердил положение, долженствующее быть окончательным, что в богочеловеке сливались две природы, чтобы образовать единую сущность, одно лицо.
На эти острые вопросы идейной борьбы своего времени, Боэций попытался откликнуться, разобраться в них не как религиозный или политический деятель, а как рационалистически настроенный философ. Не исключено, что теоретическая деятельность «последнего римлянина» в этой области была своеобразной частью подготовительной работы по преодолению противоречий между западной и восточной церквами, отчасти реализованному только при императоре Юстине I (518–527) по инициативе его племянника Юстиниана и епископа Рима Ормизда. Примирение оказалось непрочным, что, вероятно, отразилось и на судьбе Боэция, связанного с папой Иоанном I, бывавшим в Константинополе с целью переговоров по религиозным вопросам.
Теологические трактаты Боэция скорее всего предназначались для прочтения и обсуждения в узком кругу лиц, куда входили Симмах, Иоанн I (тогда, впрочем, еще не бывший папой) и, возможно, Кассиодор. Едва ли можно с достаточной определенностью подтвердить это предположение, однако сам характер теологических сочинений философа, реферативный и почти эскизный, скорее позволяет говорить о них как о набросках, предназначенных для обсуждения, претендующих не на окончательное разрешение проблем, а лишь на оттачивание методов, способных привести к логически приемлемому итогу.
За всеми догматическими спорами всегда незримо вставала проблема соотношения веры и разума, откровения и знания. Не случайно почти все представители христианской апологетики и патристики так или иначе касались ее. Уже на ранних этапах обсуждения этой проблемы в христианской мысли выкристаллизовались два подхода к ее решению, просуществовавшие затем вплоть до духовной секуляризации нового времени: утверждение абсолютного превосходства веры над разумом (Татиан, Тертуллиан и их последователи) и поиски если не их примирения, то хотя бы не взрывоопасного сочетания (Юстин, Климент Александрийский и их последователи). Второй путь был весьма опасным и нередко приводил к ереси, к «чрезмерному» с позиций ортодоксии увлечению возможностями человеческого разума, как случилось, например, с Оригеном, предпринявшим попытку мировоззренческого синтеза, в котором он уклонился в сторону своеобразного сочетания рационализма и мистики.
Выявление соотношения между верой и разумом, истинами божественной и человеческой заняло важное место в учении Аврелия Августина — крупнейшего представителя западной патристики. Нельзя сказать, чтобы этот отец церкви решил проблему однозначно, исключительно в пользу веры, отринув значение познания. Прошедший путь долгого и мучительного духовного становления Августин дал, по существу, многозначный ответ на вопрос, признав (до определенного предела) права разума как средства, способного укрепить веру, и в то же время придав большое значение интуиции, воображению, иррациональным аспектам веры. В итоге высшая истина у Августина все же носит сверхразумный характер, что несомненно сильно расшатывает и делает уязвимыми позиции человеческого разума.
В теологических трактатах Боэций называет себя учеником Августина. Возможно, он искренне считал себя таковым, и тому было по крайней мере две причины. Ко времени «последнего римлянина» Августин уже давно являлся признанным высшим авторитетом теологии на Западе. Вторая причина субъективного характера. Боэций, несмотря на то что жил в эпоху, сделавшую компилятивность своим высшим образовательным принципом, всегда обращался к лучшим образцам: в нравственной области — к Катону и Бруту, в философии — к Платону и Аристотелю, в математике — к Евклиду и Никомаху, а в теологии — к Августину, значение трудов которого он не мог не прочувствовать и как философ, и как политик, и в конце концов как человек, чья жизнь велением времени вольно или невольно оказалась включенной в орбиту растущего влияния церкви.
Однако провозгласить себя чьим-то учеником и быть им — не одно и то же. В любом случае Боэций понимает свое ученичество очень своеобразно. Он избирает для теологических трактатов темы, находившиеся на самом острие идейной полемики: о троичности, о соотношении двух природ в Христе, о том, каким образом субстанции могут быть благи, т. е. кардинальный вопрос о субстанциональном характере блага и его соотнесении со злом; избирает не для апологетизации, а для «исследования» и «понимания», по его собственному свидетельству.
Характерно, что теологические трактаты, как показывают предпосланные им посвящения, предназначены для самых близких по духу людей. Боэций предлагает на их суд плоды своих размышлений, которые не могут быть, да и не должны быть понятными многим. Такое отличие теологических трактатов от всех других сочинений Боэция, ориентированных на широкую аудиторию, наводит на мысль, что он сам рассматривал их как далеко не завершенную, «пробную» работу. Вполне возможно, что он в этой области совсем не чувствовал себя уверенным или полагал, что предложенный им подход к теологической проблематике — своеобразный «рационалистический эксперимент», требующий доброжелательного и квалифицированного обсуждения, прежде чем быть широко обнародованным.
Боэций обосновывает свои колебания и опасения: «…куда бы ни обратил я свой взор, всюду он натыкается то на ленивую косность, то на завистливое недоброжелательство, а потому лишь напрасному оскорблению подверг бы божественные трактаты тот, кто мог бы от этих чудовищ, пребывающих в человеческом облике, скорее получить насмешки, чем возбудить в них жажду познания»[84]. Что это — высокомерие аристократа духа или попытка под кажущейся заносчивостью скрыть боязнь непонимания? Если принять во внимание, что Боэций в то же самое время предпринял попытку сделать доступными для латиноязычного мира сочинения Платона и Аристотеля, что он создал обстоятельные и совсем не «элитарные» учебники для школы, то следует склониться ко второму предположению. Боэций написал свои теологические трактаты так, как не писал никто до него и как начнут писать более чем семь веков спустя. Совершенно естественно, что он искал понимания прежде всего у самых близких и самых образованных людей, ибо духовная атмосфера того времени не располагала к откровенности. «Последний римлянин» обличал «интеллектуалов»-современников: «На одном собрании обсуждался вопрос различия между двумя способами соединения природ: из двух природ или в двух природах… Что касается обсуждаемого предмета, то в этом я смыслил столько же, сколько и все прочие, то есть ровно ничего; но лепта, внесенная мною (в его обсуждение], была больше, поскольку я не приписывал себе ложно знание того, чего на самом деле не знал… И тут охватило меня великое изумление: сколь же велика наглость невежд, которые пытаются прикрыть изъяны невежества бесстыдным притязанием на ученость. Не зная не только предмета, о котором идет речь, но не понимая даже того, что сами они говорят в подобных спорах, они как будто забывают, что невежество, когда его пытаются скрыть, во сто крат позорнее [открыто признанного незнания]»[85].
Даже беглое знакомство с трактатами этого цикла может поставить читателя в тупик — по названию это как будто теологические сочинения, а по тому, о чем идет речь, по подходам и методам рассуждения — это, в сущности, логические произведения, сложные и сухие. Сразу же вспоминается призыв Боэция к тому, чтобы «дисциплинировать» ум. Их автор выказывает свои интеллектуальные пристрастия и здесь: «Итак, как это бывает в математике, да и в других науках, я предлагаю вначале определения и правила, которыми буду руководствоваться в дальнейшем рассуждении»[86]. «Математический» подход должен быть подкреплен философским осмыслением — вот почему Боэций намерен писать сжатым и кратким слогом и «обозначать новыми, ранее не использовавшимися» словами то, что почерпнуто из «сокровенных учений философии».
Не оставляет сомнений, что пафос теологических трактатов Боэция не в доказательстве истин веры, а поиске понимания. Понимание же может базироваться на логике, которая для «последнего римлянина» есть прежде всего логика Аристотеля. Обращение Боэция к Аристотелю, пусть и истолкованному в духе философии Платона, — это свидетельство зрелости его как мыслителя. Вспомним, что обращение к Аристотелю стало одной из важнейших черт зрелости и средневековой культуры. Мыслительная эволюция Боэция как бы перекликается с мыслительной эволюцией средневековья, и в этом смысле он тоже «свой» для наступающей эпохи.
Аристотель, ставший к концу XIII в. после затяжной и напряженной идейной борьбы высшим философским авторитетом на Западе, был не популярен в западной апологетике и патристике первых веков нашей эры. Хотя ряд положений Стагирита косвенными путями проникли в круг идей ортодоксального христианства, однако пытливый «научный» характер его учения более соответствовал настрою еретических кругов, в которых впервые были использованы логические и метафизические понятия аристотелизма для истолкования вероучения. С аристотелевскими идеями были, в частности, связаны ереси, отрицавшие троичность бога — монархиане-динамисты II в., феодотиане, «испытывавшие благоговение перед Аристотелем и Феофрастом»[87], последователи Павла и Лукиана Самосатских, с помощью аристотелевских аргументов доказывавших невозможность воплощения Логоса (эта мысль получила дальнейшее развитие в арианстве).
И не случайно отец церкви Иероним Стридонский воскликнул, что «арианская ересь…. выводит ручейки своих аргументов из аристотелевских источников»[88]. На востоке крупнейший христианский ортодоксальный мыслитель Василий Великий обвинял ариан в злоупотреблении «хрисипповыми умозаключениями и аристотелевыми категориями»[89]. Другой отец восточной церкви — Григорий Нисский называл учение Аристотеля «злохудожеством» (какотехнией). По мнению ортодоксального греческого автора Феодорита, под пером еретически настроенных аристотеликов «теология превратилась в технологию» (не в современном смысле этого слова, но в науку, близкую к свободным искусствам). В V–VI вв. аристотелевская логика была на востоке особенно популярной в несторианских и монофиситских школах[90]. Тем не менее отзвуки аристотелизма отдаленно слышатся и в ортодоксальной доктрине. Не случайно понятие «единосущный», после Никейского собора прилагаемое в обязательном порядке ко второму лицу троицы, невольно вызывает аристотелевские ассоциации. Но то была лишь слабая и непризнаваемая громогласно инфильтрация.
Боэций же предпринял решительную и беспрецедентную попытку использования логики Аристотеля для истолкования догматики. Он развернул проблему в таком ракурсе, который был до него практически неизвестен, но которому предстояло доминировать в средневековой философии. Более осторожно аристотелевская логика вводилась в ортодоксальную теологию на Востоке его современником Леонтием Византийским, что несомненно свидетельствует о «назревании» проблемы. Однако успешно эта задача в Византии была решена лишь Иоанном Дамаскином в VIII в.
Боэций, конечно, не мог не быть в курсе всех этих перипетий. И то, что он делает с аристотелевской логикой, вводя ее в круг чуждых ей до тех пор идей, свидетельствует, во-первых, о его несомненно философской, а не теологической ориентации, а во-вторых, о его незаурядном видении интеллектуальной исторической перспективы, ибо то, что было свершено Боэцием в VI в., в XIII в. будет повторено на новом витке развития европейского мышления, когда в борьбе за наследие Аристотеля столкнутся ортодоксия и свободомыслие, когда на базе выхолощенного аристотелизма Фома Аквинский воздвигнет новую теоретическую систему католицизма, а истолкованное в XII в. великим арабским комментатором Аверроэсом (Ибн Рушдом) учение Стагирита станет основанием латинского аверроизма и началом возрождения научного интереса к нему.
Итак, у Боэция мы находим начала обоих этих подходов. Он провозглашает, что «истины веры должны быть подкреплены доказательствами разума»[91]. «Последний римлянин» не сомневается, что вера должна быть не просто принята, но обязательно понята. Он приглашает к размышлению: «Последуем здесь превосходному, на мой взгляд, высказыванию, гласящему, что ученый человек должен пытаться достичь такого понимания каждого предмета, которое соответствовало бы его, предмета, сущности»[92]. Это утверждение, как представляется, несет в себе опасность для вероучения, ибо история показала, сколь часто попытки достичь понимания богооткровенных истин в конце концов приводили к их отрицанию. Боэций предлагает разграничить сферы науки и теологии, различающихся не только по своему предмету, но и по способу мышления: «Спекулятивное знание [вообще делится на] три части: естествознание, математику и теологию. Первая часть — [естественная], [рассматривает вещи] в движении… Она исследует формы тел вместе с материей, ибо в действительности формы неотделимы от тел… [Вторая часть] математическая, неотвлеченная, [рассматривает вещи] без движения. Она исследует формы тел без материи и потому без движения… [Третья часть] теологическая, отвлеченная, или отделимая, с движением дела не имеет, поскольку божественная субстанция лишена как материи, так и движения. Так вот, предметы естественно должны рассматриваться с помощью рассудка, математические — с помощью науки, а божественные — с помощью интеллекта[93]. В последнем случае не следует опускаться до воображения: надо вглядываться в форму, истинную форму, а не образ; ту форму, которая есть само бытие и из которой происходит бытие. Ибо всякое бытие — из формы»[94].
Идея разграничения науки и теологии, сформулированная в трактате «О троичности», с новой силой зазвучит уже в иных исторических условиях — в XIII в., получив противоположные толкования у ортодоксально настроенных теологов и радикально мыслящих философов.
Отличительная черта метода Боэция — стремление к точности и не подлежащей интерпретации определенности. На это же в идеале будет нацелена средневековая схоластика, добивавшаяся создания таких схем рассуждения, которые бы давали достоверное и исчерпывающее, с позиций логики, объяснение для любого содержания, разъятого и проверенного с их помощью. Трактаты Боэция, как уже говорилось, посвящены определенным теологическим проблемам, но автор не обсуждает их существа, не касается онтологических или собственно богословских аспектов. Все свои рассуждения он концентрирует в сфере логики. Так, например, доказательство единства и равнозначности всех лиц троицы он облекает в форму логической проблемы тождества и различия. Вот как, в частности, он полемизирует с арианами, наделявшими ипостаси троицы различными степенями достоинства: «…принципом множества является различие; без него невозможно понять, что такое множество. Всякие три или более вещи отличаются друг от друга либо по роду, либо по виду, либо по числу, ибо отличие в стольких же отношениях, в скольких и тождество. А тождество устанавливается трояко: во-первых, по роду: так, например, человек — то же самое, что и лошадь, поскольку у обоих один и тот же род — животное; во-вторых, по виду: так, Катон — то же, что и Цицерон, поскольку оба по виду люди; в-третьих, по числу, как, например, Туллий и Цицерон — числом ведь один. Точно так же и различие устанавливается либо по роду, либо по виду, либо по числу»[95].
Можно ли сказать, что здесь идет теологическая полемика? Думается, что нет. То, что говорит Боэций, может быть отнесено к любому виду множества. Он показывает, что всякое различие есть основной принцип множества. Интерпретация философа строго выверена, безупречно логически выстроена. Она превращает теологический вопрос в схоластическую (в смысле метода и формы) проблему, постулаты которой выглядят обязательными для любого рассуждения. Ход рассуждения в результате своей строгой логичности, как кажется, вытекает из самой природы человеческого мышления. Его итог представляется простым и однозначным, ибо строго отработан. Но это итог не только того, что проделано Боэцием. Он, по существу, делает последний (хотя и весьма значительный) шаг в той четкой графической схеме, к которой стремились, начиная с Парменида и Платона, античные философы, желавшие познать основание и законы человеческого мышления, с тем чтобы сделать его максимально точным и определенным, совершенно адекватным в своем понятийном аппарате. Боэций опирается на этот мощный пласт древней философии, придавая логическому рассуждению виртуозную форму, и в то же время открывает новую страницу в истории европейского мышления — торжества схоластического метода, превращавшего обсуждавшиеся в античной философии принципы и не подлежащие сомнению дефиниции (определения).
В теологических трактатах Боэция уже явственно просматривается четкий и жесткий мир средневековой схоластики, в которой строгость и определенность языка, облекающего мыслительные конструкции, превалировала над онтологической стихией, изменчивой и текучей; в которой любая вещь фиксировалась в форме понятия, а любая связь реального мира отражалась в стремящемся к однозначности отношении. Этот мир был размерен, малоизменяем и неуютен, но человеческое мышление какое-то время должно было обязательно пребывать в нем, чтобы выработать строгую дисциплину и вкус к точности, без чего последующее развитие науки было бы просто невозможным. Это, в частности, показала уже деятельность первого «мученика науки» средневековья Роджера Бэкона, стоявшего у истоков опытного знания, изобретателя интереснейших механизмов, высказавшего идею подводного корабля и многие другие мысли, намного опередившие его время.
Ключом к трактовке теологических проблем у Боэция становятся десять аристотелевских категорий, «проявляющихся во всех без исключения вещах; это — субстанция, качество, количество, отношение, место, время, обладание, положение, действие, страдание». Боэций делит их на сущностные и акцидентальные, т. е. привходящие, случайные. Для доказательства триединства он использует категорию отношение. Она никогда не обозначает, что есть вещь сама по себе, но только то, что есть эта вещь по сравнению с чем-либо другим или даже по сравнению с самой собой. Философ приводит простой пример для пояснения своей мысли: «Допустим, например, что кто-нибудь стоит. Так вот, если я подойду к нему справа, то он будет слева по сравнению со мной, не потому, что он сам по себе левый, а потому, что я подошел к нему справа»[96]. На основании такого рода заключений он делает вывод, что ипостаси троицы «суть сказуемые отношения».
В трактате «Против Евтихия и Нестория» Боэций разрабатывает категории субстанция, а также сущность и бытие и дает классическое определение понятий природа (через ее отношение к мышлению и видовое различие) и лицо, личность как «неделимой субстанции разумной природы», он также указывает на связь последнего понятия с древней маской-персоной.
В сочинении «Каким образом субстанции могут быть благи…» Боэций сопоставляет категории сущности и существования, существования и бытия (различение которых столь важно и для философии XX в.), отмечая, что «разные вещи — бытие (esse) и то, чтo есть; само бытие еще не есть; напротив, то, что есть, суть и существует, приняв форму бытия»[97], без обоснованного и детального разграничения этих понятий средневековая мысль просто не могла бы дальше развиваться.
Логическая конструкция доминирует у Боэция над содержательным рассмотрением. Теологические проблемы решаются логическими средствами, главным образом через анализ языковой реальности, осуществляемый «по примеру математики и подобных ей дисциплин…»[98] Благодаря строгости и доказательности метод «последнего римлянина» претендует на получение однозначных и общезначимых результатов и в этом предвосхищает схоластику. Разграничение областей разума и веры, предпочтение, отданное логическим методам, и их оригинальная разработка дали основание ряду исследователей назвать Боэция не только «последним римлянином», но и «первым схоластиком» (в самом положительном значении этого слова, т. е. ученым[99]).
Известный исследователь наследия Боэция Э. Рэнд пошел еще дальше, заявив, что «только преждевременная смерть помешала Боэцию осуществить великий синтез, который совершил выдающийся доминиканец (Фома Аквинский. — В. У.) в XIII столетии». Кстати, именно Аквинат был первым, кто обратил внимание на принципиальное отличие метода «последнего римлянина» от метода Августина, на то, что Боэций для подкрепления своего суждения крайне редко обращается к авторитету. Изначальная заданность истины принималась им как логическое условие, как определенный мыслительный ограничитель (это во многом было характерно и для схоластики).
Теологические трактаты Боэция, особенно «О троичности», были очень авторитетными у средневековых мыслителей. Следует обратить внимание на то, что названный трактат особенно привлекал внимание в самые ответственные моменты истории средневековой философии. Его прокомментировал в IX в. оригинальный и смелый мыслитель Иоанн Скот Эриугена, с которого начинается ряд собственно средневековых философов и от учения которого в исторической перспективе линия тянется к немецкому идеализму XVIII — начала XIX в. Апеллируя к Боэцию, он пытался снять различия между разумом и верой, не отдавая абсолютного предпочтения последней.
В XII в. комментарий к этому трактату Боэция написал известный логик Жильбер Порретанский. Этот комментарий стал одной из причин крупного идейного конфликта, которыми и так изобиловало столетие, именуемое иногда «средневековым Возрождением». Жильбер, причисляемый современниками к «наиболее ясным умам» своего времени, был обвинен в ереси непримиримым противником Абеляра Бернаром Клервоским, прославившимся своей бескомпромиссной преданностью церкви, личной святостью и слывшим гонителем еретиков, в которых он видел «лис, портящих виноградники». Однако и Бернар проявил незаурядное рвение в истолковании Боэциева сочинения. Каждая из сторон стремилась привлечь «последнего римлянина» на свою сторону. Борьба, в которую оказались втянутыми видные философы Иоанн Солсберийский и Петр Ломбардский — представители крупнейшего центра тогдашнего свободомыслия Шартрской школы, достигла апогея на соборе 1147 г. Жильбер был обвинен в ереси, неправильном истолковании различия между «богом» и «божественностью». Отзвуком этой борьбы стал написанный в начале 50-х годов XII в. Кларенбальдом комментарий к трактату Боэция «О троичности».
И наконец, это сочинение в XIII в. избрал в качестве образца для аристотелианско-христианского синтеза Фома Аквинский. Создание системы «ангельского доктора» имело существенное значение не только для западноевропейской философии, но и для идейной и даже политической жизни. Отвергнутое вначале католической церковью учение Фомы Аквинского после смерти его создателя стало ее официальной доктриной и продолжало оставаться таковой почти до настоящего времени, во всяком случае до II Ватиканского собора (1962–1965 гг.).
Значение деятельности Боэция, впервые заставившего теологию говорить философским, неспецифическим для нее языком, состоит в том, что на заре средневековья он показал плодотворную возможность не авторитарно-догматического подхода к самым общим и «высоким» проблемам бытия и мышления. «Последний римлянин» не только призвал человека иметь мужество пользоваться собственным умом, не полагаясь на авторитеты, но и показал, как это можно сделать на практике. Разум, воплощенный в философии, указал ему выход не только из лабиринта теологии и логики, но и из мук и страданий, сопряженных с личной трагедией, внезапно обрушившейся на него.
Философское утешение
Вершина творчества Боэция — небольшое сочинение «Об утешении философией», написанное в тюрьме перед казнью. Оно теснейшими узами связано с культурой западного средневековья, а своими поэтичностью и гуманизмом сохраняет притягательную силу и для людей нашего времени. В течение многих веков «Утешение» оставалось неисчерпаемым кладезем философского познания и источником, откуда черпались силы для нравственного совершенствования и противостояния злу и насилию.
Трудно определить жанр этого сочинения. Казалось бы, название указывает на его близость к «утешительным» произведениям Цицерона и Сенеки, от которых оно отстоит на несколько столетий. В то же время это и философский трактат, наставление в мудрости — «протрептик»[100]. Две первые книги «Утешения»[101] носят характер исповеди, но постепенно она переходит в философский диалог, почти монолог, напоминающий поздние диалоги Платона.
В «Утешении» проза чередуется со стихами — Боэций избрал довольно редко встречающуюся в античной литературе форму сатуры, т. е. своеобразного сочетания прозы и стихов. До него лишь несколько римских авторов прибегли к ней: видный деятель просвещения Варрон, писатель-сатирик Петроний, философ-стоик Сенека и Марциан Капелла, автор популярного в средние века сочинения «О браке Филологии и Меркурия». Однако сам факт использования сатуры в произведениях «утешительного» жанра не имеет аналога в предшествующей Боэцию литературе. Писатели последующего времени также избегали обращения к этой сложной форме, и лишь через семь столетий Данте, страстно почитавший Боэция, вновь прибег к ней при создании «Новой жизни». Форму Боэциева «Утешения», объединившую два различных жанра, можно считать в определенной степени новаторской для своего времени.
У Боэция каждый последующий прозаический текст как бы надстраивается над предыдущим, опирается на него. Понятия, данные в предшествующей прозе, рассматриваются на новой качественной ступени, а затем сказанное в прозаическом отрывке обобщается в кратком поэтическом резюме, подчас в аллегорической форме. В то же время стихи служат ступенью для перехода к обсуждению автором новых тем. Они несут в себе важные смысловые акценты и как бы позволяют взглянуть с высоты на то, что говорилось ранее. Стихотворные тексты у Боэция очень разнообразны как по своему содержанию, так и по форме. Это может быть обобщенный пейзаж или гимн звездоносному небу, историческая аналогия или изложение известного мифа, однако за всем этим обязательно скрыт более глубокий философский или нравственный смысл. В «Утешении» использовано около 30 метрических размеров.
Прозаический текст написан в форме диалога между узником и Философией, предстающей в образе богини. Поверженному и страдающему человеку не могут дать утешения Музы, стенающие вместе с ним, ибо отравой жалости к самому себе они разъедают его мужество. Внезапно над головой узника «явилась женщина с ликом, исполненным достоинства, с пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой; хотя была она во цвете лет, никак не верилось, чтобы она принадлежала к нашему веку, и трудно было определить ее рост. Ибо казалось, что в одно и то же время она и не превышала обычной человеческой меры, и теменем задевала небо, а если бы подняла голову повыше, то вторглась бы в самое небо и исчезла бы из поля зрения взирающих на нее людей. Она облачена была в одежды из тончайших нитей, их, как я узнал позже, она соткала собственными руками. На этих одеждах лежал налет прошлого, как на потемневших старинных картинах. На нижнем их крае была выткана греческая буква п, а на верхнем — ф. И казалось, что между обеими буквами обозначены ступени, как бы составлявшие лестницу, по которой можно подняться снизу вверх. Эту одежду рвали руки каких-то неистовых существ, растаскивавших ее частицы, кто какие мог захватить. В правой руке она держала книги, в левой — скипетр»[102]. Утешительницей Боэция становится Философия — персонифицированная Мудрость. Она заново проводит его по лабиринтам выпавшей ему судьбы, сопрягая ее с судьбой мира и вечностью. Факелом знания Философия освещает тропы, по которым души, «словно пьяные», бредут в поисках истины. Философия предстает в образе величественной женщины, однако она не неприступная госпожа, но чуткая и заботливая наставница, которой можно поверять свои сомнения и которая сопровождает ищущих истину в их странствиях. Чем прекраснее и глубже смысл, придаваемый человеком мудрости, тем вернее и прочнее сложит она ступени, ведущие к высшей истине.
С помощью Философии Боэций осмысляет трагедию своей жизни не только в узколичном плане, но и в соотнесении ее с законами мироздания, в системе универсального космоса, неотъемлемой частицей которого является человек. Такая «космологизация» человеческой жизни, поглощающая и делающая не важными ее личностные аспекты, прямо указывает на неразрывную связь Боэция с античной философской традицией. Поэтому кульминацией «Утешения» становится не повествование о превратностях личной судьбы Боэция, которым отчасти посвящены две первые книги этого сочинения, а раскрытие идеи высшего блага и универсального разума, управляющего миром. Боэций обретает утешение в надличностной сфере, и это не просто риторический прием, но единственно возможное для него успокоение и утоление духовной боли через рациональное в эмоциональное переживание своей причастности вечному бытию мира.
Беседуя с Философией, Боэций от размышлений о своей участи постепенно переходит к рассмотрению природы судьбы (фортуны) — сюжет, неизменно популярный затем в средние века. Боэций и Философия рассуждают о преходящем характере таких благ, как богатство, знатность, высокие должности, слава, об иллюзорности человеческого благополучия, не подкрепленного духовностью, и подводят читателя к идее высшего блага. Это основная тема третьей книги.
В четвертой книге рассматриваются различные аспекты иерархии пребывающих в мире сущностей в их отношении к источнику всякого бытия, награды и наказания за человеческие деяния. Пятая книга посвящена толкованию соотношения высшего закона, управляющего миром, универсального разума, провидения и человеческого познания, свободы воли. Постигнув с помощью Философии сущность вещей, автор «Утешения» обретает несгибаемую силу духа и готов мужественно встретить смерть.
По мере усложнения рассматриваемых проблем диалог между узником и Философией все более «утяжеляется», утрачивает динамичность, однако в целом проза Боэция лаконична, изящна, соразмерна. «Утешение» насыщено не только сложнейшими философскими рассуждениями, но и художественными образами. Автору присуще поэтическое видение мира, его частые обращения к античной мифологии и истории подчас приобретают зрелищную выразительность, как, например, образ страдающего Орфея, исторгавшего своими песнями слезы из камня, или жестокого Нерона, хладнокровно оценивавшего достоинства телосложения убитой им матери. Боэций не только воспевает великую гармонию, царящую во вселенной, мировой порядок, но и создает картины природы спокойного или разбушевавшегося моря, земли, покрывающейся весной розовыми цветами, а осенью — наливными виноградными гроздьями, восхода и заката солнца. Даже самые сложные и отвлеченные проблемы он умеет раскрыть как философскими методами, так и чисто поэтическими средствами.
Избранная форма и цельная структура произведения позволили Боэцию построить повествование как бы в двух планах — психологическом, отображающем внутренний мир и душевные терзания узника, постепенно скидывающего бремя земных страстей, поднимающегося над несправедливостью и соблазнами «дольнего» мира, и философском, теоретическом. В какой-то мере «Утешение» можно назвать и своеобразным откликом на политические потрясения того времени, что подчеркивается наличием отступлений биографического характера.
Боэций, оказавшийся не слишком удачливым политиком, возможно, до определенного периода не осмысливал в полной мере перемены, происходящие в мире, как коренную ломку веками сложившихся устоев римского общества.
Ни в одном из его многочисленных произведений до «Утешения» не сохранилось никаких намеков на ту или иную оценку современных ему явлений. Его трактаты и комментарии, как правило, посвящены разработке отвлеченно философской тематики. Но причины этого, как представляется, следует усматривать не только в некоторой «политической инертности» Боэция, но и в том, что у него не было достаточно весомых поводов для изложения своего политического и этического кредо. И лишь когда для него стала очевидной эфемерность надежд на сохранение «римской свободы» под властью остготского короля, когда он стал ощущать, что по его времени и его жизни прошла граница между всем тем, что составляло славу Рима, и новым, еще непонятным, но уже чужим нарождающимся миром, он попытался осмыслить глубину катастрофы и найти из нее хотя бы духовный выход.
Автор «Утешения», сетуя на суровость судьбы, сначала осмысливает все происшедшее с ним как столкновение любящего философию, добродетельного человека с «многочисленным воинством глупости»[103]. Однако далее это расплывчатое и, как явствует из высказывания самого Боэция, «традиционное» объяснение причин несчастий уступает место рассказу о конкретных событиях, предшествовавших осуждению «последнего римлянина». Перед читателем предстает картина беспорядков и беззакония, царящих в государстве, причем виновниками их, по мысли философа, являются варвары (хотя король и не упоминается). Осуждая их, Боэций выступает как представитель римской аристократии, находящийся в оппозиции к существующему режиму.
Боэций повествует о несправедливости государственного управления, находящегося в руках бесчестных людей, подобных королевскому управляющему Тригилле. Он сетует на «остающуюся безнаказанной жадность варваров и сопутствующие ей бесконечные козни»[104], на грабежи, погубившие имущество провинциалов, и непомерные подати. Более того, по мнению Боэция, королевская власть тоже покоится на непрочной основе, ибо опирается в своих действиях на лживые показания клеветников. В этих условиях уже невозможно надеяться не только на сохранение какой-либо свободы, но и на простое уважение к человеческому достоинству. Перед ним разверзается потрясшая его истина: угасла слава римского имени. И невозможно добиться правды в государстве, «где кто-то возводит новые лживые доносы, а честные люди, оцепенев от страха при виде ужасной несправедливости по отношению к нам (Боэцию и его сторонникам. — В. У.), повержены; бесчестные же поощряются безнаказанностью злодеяния к наглости, а наградами — к свершению преступлений»[105].
Потерпела крушение не только жизнь Боэция, обрушился казавшийся незыблемым мир, вскормивший его. И тогда перед ним встает вопрос: может ли вообще человек найти счастье и обрести хоть какую-нибудь устойчивость в этом «жизненном море, которое треплет бурями, налетающими со всех сторон»[106]. И каков путь к счастью? Тот, которым шел он с юношеских лет, ведь оказался неверным. Следуя заветам Платона, Боэций не уклонился от бремени власти, дабы «управление, оставленное на попечение каким-либо злодеям, не принесло несчастья и гибели добрым людям». Однако стремление осуществить на практике утопические платоновские идеалы о благе государства при условии, что им бы управляли ученые-мудрецы или его правители стремились бы научиться мудрости, привело философа к личной трагедии и никоим образом не способствовало улучшению положения в государстве[107].
Однако Боэций, «взращенный на учениях элеатов и академиков», все-таки не сдается и пытается найти духовный выход из тупика. Философия спасает его от отчаяния. Более того, с ее помощью он наконец начинает постигать, чтo есть человек и для чего он живет и страдает, чтo есть добро и зло. И как мыслитель, всю жизнь стремившийся к строгости и точности знания, к облечению идей в выверенную систему понятий, Боэций ищет ответы на вечные проблемы человеческого существования с помощью сложной взаимосвязи философских категорий и рассуждений, теперь уже относящихся не к математике и логике, но к метафизике, теории познания и этике.
Конечно, «Утешение» — это в определенной мере «плод личного опыта»[108], но не только. Это — мыслительный и поэтический итог предшествующей культуры и завещание культуре будущей. В этой связи особое значение приобретает вопрос об источниках Боэциева «Утешения» и о характере их использования. Хотя, создавая последнее свое сочинение, Боэций был лишен возможности пользоваться своей богатейшей библиотекой (об этой утрате он с сожалением вспоминает), однако «Утешение» изобилует прямыми и косвенными обращениями к идеям и произведениям греческих и римских философов, ученых, писателей и поэтов. Цитаты, приводимые автором, всегда точны и уместны. Боэций привлекает их не только для подтверждения собственных мыслей, он как бы стремится сделать великих людей древности свидетелями современной ему реальности и собеседниками.
Традиционно Боэция относят к числу философов-неоплатоников. Текст «Утешения» свидетельствует, что он был знаком не только с сочинениями комментировавшегося им ранее Порфирия, но и с произведениями Плотина, Прокла, Ямвлиха и, вероятно, Халкидия. Влияние неоплатонизма чувствуется в системе боэциевых философско-художественных образов. Значительное место «последний римлянин» отводит световой символике, занимавшей важное место в неоплатонизме. Так, высшее начало трактуется им как неиссякаемый источник света, изливающий на все свое сияние, убывающее по мере соединения с материальным началом. Во тьме пребывает разум человека, отягченного суетными земными заботами.
В то же время влияние неоплатонизма на Боэция нельзя преувеличивать. «Утешение» в большей степени несет на себе отпечаток учения самого Платона. Об этом прежде всего свидетельствует ряд прямых высказываний о философии Платона в сравнении с другими философскими учениями. В частности, Боэций вкладывает в уста Философии прилагаемое к имени Платона определение «наш». Более того, он ставит знак равенства между понятиями философия и наследие Платона, когда от имени Философии провозглашает: «Позже, когда толпа эпикурейцев, стоиков и прочих им подобных стремилась завладеть его (Платона. — В. У.) наследством, заботясь в первую очередь о собственной пользе, они тащили меня, несмотря на мои крики и сопротивление, как часть добычи, а одежду, которую я выткала своими руками, разодрали и, вырвав из нее лоскутья, ушли, полагая, что я досталась им целиком»[109].
В самые ответственные моменты философских рассуждений Боэций всегда обращается к Платону. Без усилий прослеживается влияние таких диалогов, как «Апология Сократа», «Горгий», «Федон», «Менон», «Тимей», «Государство» и других.
Наряду с платоновскими произведениями важным источником для Боэция явились произведения Аристотеля, которого он также называет «мой». Это прежде всего «Никомахова этика», «О душе», «О небе», «Физика» и, вероятно, утраченной «Протрептик» («Увещание» к философии). Однако утверждения Аристотеля всегда преломляются автором «Утешения» через призму философии Платона.
Несмотря на достаточно резкую оценку учений стоиков и эпикурейцев, Боэций все же испытал на себе их влияние. По-видимому, он имеет в виду Эпикура, когда рассуждает о возможности или невозможности существования зла в мире. Идеи стоицизма вдохновляют гносеологию и этику «последнего римлянина». А философов-стоиков Кания, Сорана, Сенеку, подтвердивших истины своего учения собственной жизнью, он ставит в один ряд с великими греками Анаксагором и Сократом. В «Утешении», помимо возможных аналогий с «Нравственными письмами к Луцилию», «Утешением к Марции», «О счастливой жизни» Сенеки, встречается множество прямых или косвенных заимствований из его трагедий.
Боэций неоднократно обращался к Цицерону, в частности к его «Тускуланским беседам», «О природе богов», «О предвидении», «О судьбе», «О государстве» и др.
Из литературных источников «Утешения» прежде всего следует назвать «Илиаду» Гомера и «Андромаху» Еврипида, которые Боэций цитирует по-гречески. По-гречески же он приводит одну строку из утраченного сочинения философа Парменида, встречающуюся, впрочем, в «Софисте» Платона. Автор «Утешения» обнаруживает и блестящее знание римской поэзии и литературы. Гораций, Вергилий, Овидий, Катулл, Лукреций, Лукан, Ювенал цитируются или вспоминаются им всегда весьма кстати. Круг источников философа очень широк, что еще раз подтверждает его незаурядную образованность. Не случайно в эпоху средневековья «Утешение» стало одним из важнейших источников знаний по античной философии и литературе.
Обращает на себя внимание не только отсутствие обращений к Библии, сочинениям христианских авторов, но даже полное забвение имени Христа. А ведь упование на утоление страданий богом-спасителем со стороны верующего человека было бы вполне естественным. Однако даже самые тщательные изыскания позволили обнаружить лишь туманные намеки на возможность того, что в нескольких местах «Утешения» можно усмотреть некие отдаленные отголоски христианских мотивов. Так, Э. Жильсон, крупнейший неотомист, указал на одно предложение в XII прозе третьей книги, которое можно трактовать как измененную передачу фразы из Книги премудрости 8,1[110]. Быть может, перекликается с христианской молитвой начало Х стихов третьей книги. Однако не исключено, что это просто привычное употребление выражения, бывшего в то время «на слуху».
Конечно, столь упорное стремление избежать всего того, что может быть отнесено к христианству, или, точнее, естественное забвение его не могло не вызвать различных предположений у исследователей: от утверждения, что это чистая случайность, до мысли о том, что «Утешение» — это лишь первая часть сочинения, в которой автор изложил основы античных философских взглядов на мироздание, а вторую часть, посвященную христианству, он якобы не успел написать. Однако подобное утверждение ничем не подкреплено. Приходится констатировать, что дошедшее до нас «Утешение» — произведение не христианской ориентации. Это подтверждается не только отсутствием обращения к христианским источникам, но и всей его философской концепцией.
Постоянное обращение Боэция к авторитетам прошлого не раз навлекало на него обвинения в эклектике, философской и литературной. Боэций действительно не был оригинальным мыслителем, если под оригинальностью понимать лишь создание самобытной в своих исходных посылках философской системы. Но справедливости ради следует отметить, что в истории человечества таких абсолютно самостоятельных систем вообще чрезвычайно мало. Боэций схватывает самое существенное в уходящей культуре, стремясь отразить это существенное многогранно и глубоко, синтезировать в некую устойчивую универсальную форму.
Используя огромный исходный материал, автор «Утешения» тем не менее создает целостную мировоззренческую концепцию, даже своеобразную философскую систему. Система вообще и система взглядов в частности предполагают прежде всего наличие определенных, характерных именно для нее связей между составляющими ее элементами, что и обусловливает существование некоей целостности, единства. Каждая часть системы, как бы важна она ни была сама по себе, может быть понята в полном объеме лишь при условии анализа всех ее связей с другими элементами, в комплексе. Взаимосвязанность частей, определяющая единство структуры, — основной признак системы. Обратимся к мировоззрению Боэция. Можно ли его определить как систематическое? На этот вопрос следует ответить положительно. Все концептуальные построения «последнего римлянина», все его рассуждения соединены теснейшим образом, и связь эта в первую очередь осуществляется и детерминируется пониманием предмета философии и ее задач, являющимся отправной точкой его философских построений и в то же время связующим звеном между предлагаемыми им решениями различных проблем. И подобно тому как персонифицированный образ Философии способствует осуществлению единства структурного построения «Утешения», боэциево понимание предмета и задач философии определяет внутреннее единство и соразмерность его мировоззренческой системы. Литературная аллегория позволяет Боэцию более точно и ярко показать, сколь значительную роль отводит он философии в жизни человека.
Придавая исключительное значение познанию, осуществляемому с помощью философии, как единственному способу достижения счастья человеком и выполнения им своего предназначения, Боэций полагал, что задача эта могла бы оказаться невыполнимой, если к ее решению подходить только с субъективных позиций, ибо человек «не ничтожная часть этого мира». Поэтому смысл существования человека становится понятным лишь при условии раскрытия общих закономерностей бытия и мышления.
«Найти знак истины»
Боэция волнует вопрос: «Где ж понимание мира скрыто тогда в человеке? Сила, что частности видит, знанье от тьмы отделяя, та, что опять собирает разъединенное вместе, путь пролагая к вершинам, иль, до земли опускаясь, правду вздымает над ложью, снова к себе возвратившись?»[111]
В математических и теологических трактатах, в сочинениях по логике Боэций неоднократно пытался дать определение философии, полагая, что она есть «мудрость сущего», «любовь к мудрости» и «постижение истины». При этом им подчеркивались два момента: то, что философия воплощает в себе объективную разумность, заключенную в вещах, и одновременно путь познания человеком природы всего сущего. В соответствии с античной традицией «последний римлянин» придерживался деления философии на две составные части — активную и созерцательную (пассивную), обозначенные буквами п и ф, вытканными на одеждах явившейся Боэцию (вспомним его «Утешение») Философии. Приходит на ум и высказывание из Боэциевого комментария к «Введению» Порфирия о том, что «существует единый род философии, включающий в себя два вида… а именно: спекулятивный и действенный».
Итак, единое тело философии, как полагает автор «Утешения», состоит на двух частей. Практическая, или активная, философия — это основание, на котором зиждется великое строение созерцательной философии, устремленной к познанию высших законов мироздания и универсального разума. Символизирующие лестницу познания ступени на одежде Философии — это не просто образ. В нем воплощен единственно возможный путь познания истины. Все «Утешение» — это непрерывное восхождение от положений практической философии, от этической проблематики к высшим сферам созерцательной философии — учению о первоначале бытия. Поступательное восхождение от низшего к высшему, от практической этики к науке о мире, а от нее к высшей истине — основная линия развития боэциевых рассуждений и вместе с тем их основное связующее начало, главная структурная и смысловая закономерность. В изложении своих взглядов Боэций руководствуется принципом поступательности, ступенчатого характера философского познания, в результате которого человек поднимается до постижения божественной сущности, тем самым приобщаясь к высшему благу.
Автор «Утешения» видит объективное содержание предмета философии в знании всей иерархии субстанций мироздания. Вместе с тем философия, по его мнению, есть не только позитивное знание; но и сам процесс постижения истины, т. е. непосредственно познание. Боэций называет философию «провозвестницей истинного света». И это не просто риторическая фраза, в чем убеждает вложенный в уста Философии монолог о том, что приобщившийся к ней человеческий разум обретает крылья. Затем «разум поднимается в небо» и «обозревает землю»[112], т. е., приобщившись к источнику всякого познания универсальному разуму, он рассматривает все происходящее и имеющее место на земле с высот общих законов мироздания.
В «Утешении» отстаивается концепция строгой последовательности процесса познания. Сначала разум (рассудок) схватывает земное существование, т. е. овладевает знанием о материальных сущностях, которыми занимаются отчасти и практическая философия, и физика, затем постигает законы, управляющие мирозданием, небом и движением светил, выражая все это в числах, и лишь потом его озаряет свет высшей истины. «Когда же крылья обретает разум, он холодно взирает вниз… пока тропу к созвездьям не проложит…»[113]
Предлагаемая в «Утешении» иерархическая структура познания подытоживает многолетние искания Боэция в этой области. Хотя гносеологическая концепция философа основывается на некоторых положениях Аристотеля, в частности учении о восприятии, Боэций избегает прямого обращения к теории Стагирита о двух разумах — активном и пассивном. Как и в теологических трактатах, исходя из аристотелевских положений, он приходит к выводам платонического характера.
Опираясь на предположение, что «обо всем познаваемом составляется суждение не согласно его собственной силе, но скорее согласно способности познающего»[114], Боэций предлагает следующую схему процесса познания в соответствии с различием «способностей» человеческой души. Человек неодинаково воспринимает объекты чувством, воображением, рассудком. Высший разум, или, по определению Боэция, божественная интеллигенция, неизмеримо превышающая человеческий разум, «видят» все по-иному. Чувство схватывает форму, овеществленную в материи. Воображением постигается нематериальный образ. Но общие понятия, универсалии, доступны лишь рассудку. Он, минуя внешнюю форму предмета, выявляет его принадлежность к определенному роду, т. е. постигает общее понятие, его идею. Универсальный, высший разум обладает самой совершенной познавательной способностью. По мысли Боэция, он, «поднявшись над вселенной, проникает лезвием чистого разума в самую простоту форм»[115].
Способности постижения окружающего мира чувствами, воображением и рассудком строго разграничены. Так, чувство не в состоянии воспринимать что-либо, не заключенное в материи. Воображению чужды общие виды, а рассудок непосредственно не схватывает чистую, конечную сущность. Универсальному же разуму, т. е. божественной интеллигенции, доступны и общие понятия, постигаемые человеческим разумом, и образы, воспринимаемые воображением, и то, что дается в ощущениях. Но высший разум, подчеркивает автор «Утешения», не пользуется этими способностями, ибо сразу «воспринимает не только форму, но и судит о том, что за ней скрывается», и при этом постигает собственную форму, которую никто иной, кроме него, не может познать. Совершенно очевидно, что высший разум — интеллигенция — не носит у Боэция личностного характера, как это имеет место в христианстве. Но это и не сугубо космическое, внеличностное начало, как то интерпретировалось в неоплатонизме. В «Утешении» акцент смещается в сторону преимущественно гносеологического истолкования высшего разума как исходной и в то же время кульминационной точки познания, взятого во всеохватывающем, универсальном масштабе[116]. И в этом «последний римлянин» не похож ни на философов-предшественников, ни на христианских теологов.
Боэций утверждает, что существует столько же ступеней познания, сколько в мире пребывает сущностей. Животные обладают лишь чувственным восприятием, причем им и ограничиваются, например, неподвижные представители фауны моллюски. Воображение же присуще более высокоорганизованным животным, ведущим подвижный образ жизни. Разумом же обладает только человек, «божественное знание превосходит прочие, оно в соответствии со своей природой содержит в себе не только понятие собственной сущности, но и все, что доступно на других ступенях познания»[117].
Исходя из иерархии ступеней познания, Боэций приходит к выводу, что если при познавательном акте окажется, что воспринятое в чувствах или воображением противоречит свидетельствам разума, то следует верить последнему, ибо он дает более совершенное знание о вещах. В этих рассуждениях о превосходстве разума над чувственным восприятием Боэций развивает идеи, высказанные еще в его «Наставлениях к музыке». Подобно тому как чувство и воображение должны подчиниться рассудку, человеческий разум должен быть подвластен высшему, т. е. интеллигенции. (Эта мысль впоследствии развивалась Фомой Аквинским в его «Теологической сумме» и трактате «О единстве интеллекта против аверроистов», где влияние Боэция по этому вопросу прослеживается даже при простом текстологическом сопоставлении.) «Последний римлянин» заявляет: высшее стремление для человеческого разума — приобщение к разуму универсальному, что сделает его сопричастным беспредельной простоте высшего знания.
Возводя многоступенчатую пирамиду познания в духе перипатетического (аристотелевского) учения об абстракции, Боэций также отмечает, что в деятельности рассудка ей предшествует «страдание» тела[118], пробуждающее в своих проявлениях деятельность разума и вызывающее к жизни покоящиеся в нем образы. О них душа судит, исходя не из чувственного восприятия, но из своей собственной силы, хотя именно чувственное восприятие служит как бы толчком к этому. Внешнее воздействие пробуждает образы, заложенные в человеческой душе еще тогда, когда она была приобщена к высшему разуму, своему первоначалу, и не соединена с телом. Таким образом, Боэций, основываясь на аристотелевском учении о познании, все же интерпретирует его в духе философии Платона, заявляя, что человеческой душе присуще изначальное знание.
Итак, по мысли Боэция, высшее знание заключено в божественной интеллигенции. Она содержит в себе чистые формы и расположение всего сущего. «Происхождение всех вещей, и развитие изменяющейся природы, и то, каким образом все движется, причины, порядок, формы берут начало из неподвижности божественного разума»[119]. Человеческая душа, являющаяся неуничтожимым началом, т. е. бессмертная, некогда, находясь в лоне высшего разума, обладала в равной степени знанием общего и отдельного. Однако когда она была отделена от своего истока и «заточена в мрачную темницу тела», то сохранила лишь смутный, едва уловимый образ доступного ей ранее знания. Рассудок, связанный с телесными членами, как отмечал Боэций, не может проникнуть в тончайшие связи вещей. Но в душе живет воспоминание о совершенной истине, некогда известной ей. В ней хранятся зыбкие представления об общих понятиях. Как же может человек вновь обрести знание истины? В поисках ответа на этот вопрос Боэций отвергает гносеологическую теорию стоиков, полагавших, что «сущности и образы внешних тел привнесены в умы человеческие извне… подобно тому как быстрый стиль[120] наносит буквы на поверхность чистой страницы»[121]. Философ считает, что человеческая душа не есть лишь зеркало находящихся вне ее образов, как утверждали стоики, но в ней заключено первоначальное знание, которое временно ею забыто, так как она отягчена земными заботами. Для того чтобы снова познать истину, постичь скрытую форму сущего, человек должен вспомнить то, что было известно его душе, когда она пребывала в высшем разуме. Цель эта может быть достигнута только путем совершенствования души. Процесс совершенствования, по Боэцию, есть не что иное, как восстановление в душе прирожденного знания, ранее доступного ей и сохраняющегося в ее глубинах в виде неясных образов. Процесс познания сводится Боэцием к воспоминанию забытого и трактуется очень близко к теории реминисценции в том виде, как она изложена в платоновских диалогах «Менон» и «Федон».
В соответствии с иерархией ступеней познания Боэций рассматривает и задачи философии, которая понимается им не только как «высшая мудрость сущего», но и как живое мышление. Философия — это знание, заложенное в умы мудрых. Ее «отчизна» — обитель высшего разума, некогда являвшаяся и колыбелью человеческой души. Человеческая душа, обладавшая, находясь в высшем разуме, природой, близкой к высшим духовным субстанциям, теряет «присущее ей прозорливое суждение», как только соединяется с телом. «Тупеет разум, повергнутый в бездонную пропасть. Влечет его в чуждые тени вредная забота, растущая до бесконечности под тяжестью земного высокомерия», — с горечью восклицает Боэций[122]. Из пропасти невежества и нечестия человека может извлечь только философия. Он познает суть бытия, если всецело обратится к ней.
Весьма показательной представляется оценка Боэцием роли философии в процессе «воспоминания». После утверждения, что человек легко вспомнит забытое, «если только постигнет философию», он представляет в образной форме, что сулит человеку открытие этой истины, определяющей весь остальной путь познания. По Боэцию, философское озарение подобно внезапному появлению из мрака «лучезарного Феба». Когда человек осознаёт, что лишь философия, олицетворяющая собой процесс познания, может помочь его душе вернуть утраченное знание и тем самым приобщить его к высшему благу, к первоначалу сущего, он уже делает первый шаг по пути возвращения в свою отчизну обитель высшего разума.
Это возвращение не может совершиться единовременно. Оно есть поступательный процесс, который автор «Утешения» изображает метафорически как лечение души, поверженной ударами страстей и земных забот. Человек, забывший себя, страдает летаргией — обычной болезнью обманутых или впавших в заблуждение умов. Избавиться от страданий ему поможет только целительница философия. Посредством познания философии устраняется причина болезни забвение. Начинается «лечение» философией с легких лекарств, поскольку душу, которую томят многие страсти, нужно подготовить к принятию высоких истин. Под легкими лекарствами Боэций разумеет познание наиболее доступных человеку вещей, связанных с земным бытием. В соответствии с этой схемой он строит и изложение собственных философских воззрений, начиная с рассуждений о непостоянстве фортуны, бренности земных благ и т. п., а затем постепенно переходя к трактовке проблем более высокого порядка, высшего блага, которое, как он считает, есть высшая божественность и высший разум, заключающий в себе архетипы всего сущего и каждой частицы мироздания.
От познания природных вещей; которые он сумел некогда «выразить в числах», философ переходит к раскрытию идей, осознаваемых, по его мнению, душой в процессе воспоминания — цели бытия, вечности бога и высших духовных субстанций. Их толкованием Боэций и завершает свое сочинение. Тем самым цель процесса познания оказывается достигнутой, задачи философии — выполненными.
Приведя человека к пониманию высшей истины, философия исчерпывает свою гносеологическую и этическую функции, ибо человеческий разум достигает доступного ему уровня совершенного знания, приобщаясь к разуму универсальному, а сам человек, освободившись от суетных мирских забот и тщеславия, избавившись от пороков, являвшихся следствием забвения изначально заложенного в его душе понятия о добродетели, познает чистую истину и тем самым становится сопричастным высшему благу. Таким образом, философское познание, созерцание оказываются единственным средством, с помощью которого человек может достичь стабильности, а следовательно, и счастья в этом мире. Обретя совершенное знание (насколько это возможно для человеческого разума), человек становится мудрым и тем самым сопричастным началу и конечной цели бытия, обретает блаженство.
Высшую истину Боэций, сын своего времени, ищет за пределами земного существования, в сфере совершенного бытия, от которого, по его мнению, все сущее находится в прямой зависимости и которое в то же время является высшим и абсолютным благом, универсальным чистым разумом, порождающим отраженное знание о себе в человеческих душах и тем самым побуждающим их к совершенствованию, познанию и самопознанию.
Не мистическое озарение, не иррациональная вера, а лишь последовательно выстроенное познание, движущееся от рассмотрения природных явлений к общим понятиям и поднимающееся к созерцанию вечных идей, — таков путь, по которому ведет человека Философия к истинному благу, тем самым выводя его из-под воздействия жестокой и коварной Фортуны.
Свое учение в целом Боэций строит в соответствии с разработанной им гносеологической концепцией, точнее, с концепцией высшего универсального разума. Особая роль отводится им философии как мудрости, процессу познания и пути достижения высшего блага. Единство такого «методологического» подхода обусловливает и смысловую взаимосвязь между решениями космологических, этических, теологических и всех прочих проблем, выдвигаемых автором «Утешения», и способствует объединению их в единую интеллектуальную систему. Оригинальность и целостность философского учения Боэция определяются прежде всего той интерпретацией, которую он дает философскому знанию, рациональному совершенствованию, представляемому им в качестве единственно реальной возможности достижения человеком цели его существования. В этой связи следует подчеркнуть рационализм боэциева мировоззрения, который распространяется и на его метафизику, этику, на весь комплекс представлений о мире и человеке.
Однако ограничиться лишь констатацией философско-гносеологической значимости «Утешения» явно недостаточно, хотя бы потому, что она не вполне объясняет живой интерес к этому сочинению, не угасавший в течение многих веков. Причина такого интереса глубже. Основная тема «Утешения» — вечное противоборство и неразрывность судьбы и мудрости, тайну которых пытались постичь в разные исторические эпохи и которые неизменно волновали людей, задумывавшихся над смыслом бытия.
Мудрость и судьба
Тайна связи человеческой жизни с высшим законом, управляющим мирозданием, загадка редчайшей гармонии между ними, в обыденной жизни называемой счастьем, с глубокой древности обладали огромной притягательной силой и для выдающихся умов, и для великого множества людей, чье существование, чьи чаяния и страдания остались безвестными, но безымянной частицей вошли в исторический опыт человечества. Идея рока, не знающего пощады ни к людям, ни к богам, стремящегося растворить каждую человеческую жизнь во всеобщем бытии мироздания, пронизывает мировоззрение эллинов и греческую трагедию.
Капризная и коварная Фортуна поднимает простого смертного к царскому трону и низвергает правителей в прах, руководствуясь лишь собственной прихотью. В Риме она делит власть с непреложным Фатумом, столь же всеохватывающим, могущественным и безразличным к отдельному человеку, как универсалистская римская государственность. Поиски последних оснований судьбы заставляли людей устремлять свои взоры к звездам, чтобы по их движениям прочитать будущее, разгадывать казавшиеся исполненными сокровенного смысла знаки грядущего по полету птиц и внутренностям животных.
Христианству, победившему и низринувшему небесного самодержца Зевса-Юпитера и весь сонм богов-олимпийцев, неожиданно преградила путь хрупкая и легкомысленная богиня Фортуна. Она пережила падение язычества и падение Рима. И в последующую эпоху «ее фигура на колесе или шаре украшает многие средневековые манускрипты, редкие стихи обходятся без обращения к ней, философы серьезно дискутируют о ее природе, а историки и законоведы принимают ее всерьез, полагая возможным с ее помощью объяснять происходящее»[123]. Властительница случая и распорядительница земных благ, несмотря на решительное сопротивление христианских теологов, утверждавших, что она просто не существует[124], проникает в культуру средних веков и Возрождения и прочно обосновывается там, чтобы затем, приняв более мужественное обличие судьбы, заставить биться над решением своей загадки философов-идеалистов от Новалиса и Шопенгауэра до Ницше и Шпенглера.
У истоков средневековых представлений о судьбе-Фортуне высится трагическая фигура Боэция, который шел к этой теме не только от философии, но и от жизни, казалось, задавшейся целью проверить крепость его души и искренность теоретических рассуждений. Долго оставаясь счастливейшим из смертных, он в один миг потерял все. Из отвлеченной философской категории судьба превратилась в грозного последнего судью. Длительные ласки Фортуны обернулись западней, из которой не было выхода. Люди, слывущие баловнями судьбы, подчас утрачивают стойкость, ибо из не тренированного препятствиями и несчастьями духа незаметно истекает способность к сопротивлению. Но не таков Боэций. Зная, что его ждет смерть, он останется верным себе и решит победить судьбу не напряженными всплесками чувств, но доводами разума. Индивидуальная борьба человека с обрушившимися на него несправедливостью и непоправимым несчастьем оборачивается философским осмыслением судьбы как одного из главных законов мироздания. Лишенный книг, дружеского общения, наконец, надежды на спасение, мысль о котором даже не проскальзывает в «Утешении», Боэций делает оружием своего сопротивления и человеческого самоутверждения разум. Высший разум для него — управитель вселенной, а человеческий разум — сфокусированное зеркало, в котором отражается мироздание.
Думает ли Боэций о спасении? Нет, если говорить об этом в обычном житейском смысле. Он принял свой жребий просто и с достоинством, как его предок принял удар вражеского меча. Он довольно быстро пресекает стенания о случившемся и не помышляет о просьбах о помиловании. Но что более удивительно, принимая во внимание свойственную тому времени экзальтацию не так давно восторжествовавшего христианства, Боэций не думает и о религиозном спасении, предчувствием которого пронизана духовная жизнь италийского общества VI в. Все его устремления — не к личному бессмертию, не к спасению собственной души, наконец, не к вечной жизни, осененной божественной благодатью, — не к тому, о чем грезили отцы христианской церкви и каждый новообращенный. Напротив, все силы его духа, все интеллектуальные устремления сосредоточены на том, чтобы соединиться с высшим разумом, разлитым в мироздании и управляющим им, ибо «все живет лишь тогда, когда, движимое любовью, возвращается к первопричине, давшей ему бытие»[125].
В поисках пути к первоначалу философ основное внимание уделяет обсуждению трех проблем: что есть высшее благо и как оно может быть достигнуто; соотношение добра и зла в онтологическом и гносеологическом смыслах; природа божественного предопределения, его связь с судьбой и свободой воли. Концепция человека и судьбы — наиболее оригинальная часть этики Боэция — отражает центральные идеи его философской системы.
Особый интерес мыслителя к вопросу о соотношении необходимых законов, управляющих миром, и возможности осуществления человеком морального выбора не случаен и в свете интеллектуальной традиции. Начиная с Гераклита, этот вопрос не переставал обсуждаться в античной философии, так как понятия высшего закона или законов, представляемых часто в качестве провидения, бога или судьбы, служили для мыслителей логическими моделями в поисках решения проблемы детерминизма и индетерминизма в интерпретации бытия, связи необходимого и случайного в истории общества и жизни человека. Признание существования абсолютной и всеобщей необходимости низводило бы человека до уровня всех остальных вещей, а это, в свою очередь, не могло быть согласовано с осознанием его особенного положения в природе, связанного с тем, что он является существом, наделенным разумом, способностью познавать или по крайней мере сознательно подчиниться или не подчиниться необходимости мироздания. Попытки разрешить это противоречие постоянно предпринимались представителями античного стоицизма и неоплатонизма, но особое значение эта проблема приобрела с возникновением христианства, породив многовековые дискуссии в теологии и философии. Незадолго до Боэция к вопросу о соотношении божественного предопределения и свободы воли обратился Аврелий Августин, детально развивший учение о благодати и практически сведший свободу человеческой воли к субъективной иллюзии.
Боэций исходит из того, что человек является неотъемлемым, важным, в какой-то мере даже основным элементом мироздания в целом, вследствие чего правильные суждения о нем могут основываться только на знании природы и структуры бытия и познания. Отсюда тесное переплетение в концепции философа онтологических, гносеологических, теологических и этических моментов. Боэций полагает, что все сущее имеет один источник и одну неизбежную конечную цель, тождественную источнику происхождения. Он называет их словом «бог», который в то же время есть Единое, или единство, истинное благо и блаженство. Необходимыми качествами блаженства, или высшего блага, философ считает наличие совокупности всех благ, совершенство, не привносимое извне, но происходящее из самого себя, способность дать полное довольство. Определив понятие блаженства, Боэций стремится доказать его онтологическую правильность, утверждая, что если существуют несовершенные формы блага, к которым он относит богатство, почести, славу, царскую власть, телесную красоту, наслаждение и другие, то с необходимостью должен существовать источник всех благ, представляющий собой нерасчлененное, совершенное и несотворенное благо. Это единство и совершенство, дающее начало бытию и являющееся его целью, функционально отождествляется с устроителем мироздания. Боэций несомненно теист, он признает существование высшего начала и бога. Иначе и не могло быть в его время. К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали: «Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и природой»[126].
Однако теизм Боэция особого свойства, он имеет ярко выраженную рационалистическую окраску. Для философа бог — это первопричина бытия, совечная миру, чистый разум и высший закон мироздания. Лишь изредка у Боэция проскальзывают попытки отождествить его с надмирной личностью, что так характерно для христианства, но они практически не получают развития. «Последнему римлянину» поэтому глубоко чужда идея творения богом мира из ничего — одна из определяющих в христианской доктрине.
Бог, в понимании Боэция, находится как бы внутри мира, а не над ним, поэтому взаимодействие бога со всем сущим и с человеком, который является органичной частью мироздания, есть естественная, природная связь и в ней не может быть творца и твари, господина и раба, даже судьи и ответчика (несмотря на то что в заключительных словах «Утешения» слово «судья» применительно к богу употреблено). Однако, по Боэцию, бог не заставляет человека отвечать за свои поступки ни в его земной жизни, ни после смерти[127]. Связь между богом и человеком в боэциевой системе мира, по существу, безличностна и выражает отношение между высочайшей и более низкой ступенями совершенства, не исключая, а скорее даже утверждая возможность для человека как носителя разума вернуться к его первоисточнику, снова слиться с чистейшей рациональной субстанцией. Эта связь и есть широко понятая судьба, судьба мира, всего сущего и человека.
Боэций как бы возвращает нас к классической стоической концепции всемирного закона — логоса, действующего и как природа, и как судьба, связующего естественной детерминацией все сущее, но пропускает ее через призму платоновских представлений. В человеке, несущем в себе частицу мировой души, оживляющей космос, непреодолимая тяга к первоначалу приобретает форму стремления к благу как к внутренней цели философско-теологического познания.
Своеобразный сплав стоицизма и платонизма порождает у Боэция оригинальную картину действия судьбы, которой предстояло утвердиться в средневековой культуре. Как представляется, именно «последнему римлянину» на пути рациональных поисков, а не соединения догмы и мистических озарений удалось логически примирить всезнание высшего разума, судьбу и свободу человеческого выбора, справиться с задачей, которую последовательно не мог разрешить Августин, основываясь на принципах христианской теологии.
По мысли автора «Утешения», высший разум, отождествленный им с высшим благом, несет в себе образ мира, в соответствии с которым он формирует, как мастер, мироздание. Боэцию гораздо ближе идея бога-демиурга, устроителя, столь показательная для платоновской традиции, чем идея бога-творца. Поэтому в «Утешении» бог «упорядочил громаду хаотической материи»[128]. Все в мире сохраняет единство, целостную соразмерность, упорядоченность, взаимосвязь. Посредницей между первообразом, миром чистых форм и природой является мировая душа, вращающая небо, уподобленное высшему архетипу. Проистекшая из первоначала, она стремится к нему же вернуться.
Сохранение единой формы мира и сочетание составляющих его элементов (огонь, воздух, земля и вода), бытие мироздания и каждой его частицы определяются их целенаправленностью к благу, которая реализуется, с одной стороны, в силу невозможности избежать линии судьбы, а с другой — вследствие существования в мире необходимого закона, которому подчинено все сущее. Эти представления вытекают из двух аспектов боэциевой трактовки блага.
За плечами автора «Утешения» несколько веков поисков античными философами того, что есть благо, споров, есть ли оно наслаждение, как полагали Эпикур и его последователи, или отказ от всех внешних атрибутов счастья в поисках духовной свободы, как считали стоики, или торжество высшей разумной природы, воплощенной в добродетели, как утверждал Аристотель. Пожалуй, у Боэция можно так или иначе обнаружить все эти мотивы, кроме эпикурейских. Но в интерпретации высшего блага он оказывается связанным наиболее тесными узами с платонизмом, отождествлявшим благо с высшей ступенью в иерархии бытия. Благо детерминирует единство и тем самым бытие сущего. Благодаря его направляющей и связующей силе оказывается возможным существование отдельных вещей, их относительная устойчивость и взаимосвязанность и в конечном итоге их сущность — то, что делает вещь именно этой, а не другой вещью. В то же время благо, как считает Боэций, определяет направленность и форму всего сущего, стремление бытия к единой цели, а именно к высшему разуму. В наибольшей степени это относится к человеку.
В боэциевой вселенной, конструируемой им по образу космоса, представленному в платоновском «Тимее», ничто не может быть чуждым благу, все сущее наделено им в большей или меньшей степени. Поэтому зло есть не что иное, как иллюзия, ибо оно, будучи лишено блага, реально не существует, а только кажется злом несовершенному человеческому разуму, который не схватывает глубинных причин и связей вещей. Для Боэция совершенно чуждо острое психологическое переживание противостояния добра и зла, столь показательное для христианства и в особенности для Августина, находившегося под влиянием манихейства [129], абсолютизировавшего два мировых начала — добро и зло.
Итак, мир по природе своей благ, его бытие есть отражение образа, покоящегося в высшем разуме. Возникает вопрос, каким образом можно примирить абсолютное знание с наличием изначально присущего вещам закона, побуждающего их к движению; стабильность и определенность модели в высшем разуме — с бытием мира, отличающимся текучестью и изменчивостью. Боэций пытается решить эту проблему, исходя из двух моментов — из разделения временных планов, в которых заключены абсолютное знание и необходимый закон, или судьба (фатум), и из иерархической системы разумных сущностей, которую венчает чистый разум; далее идут высшие духовные субстанции, а ниже находится человек, следующую за ним ступень занимают животные, обладающие восприятием, и так до вещей, лишенных даже низших проявлений разумности.
Находящийся в высшем разуме образ, по примеру которого строится мироздание, Боэций определяет как провидение. Все то, что получает от него движение, устраивается посредством судьбы. Уже в этих первоначальных определениях подчеркивается различие провидения и судьбы. Провидение есть порядок, модель бытия, в нем содержится единомоментно все многообразие сущего, равно как и бесконечность. Провидение относится к миру чистых форм или чистой сущности, которую представляет высший разум. Судьба же располагает и связывает не общие формы, а единичные вещи, находящиеся в движении, ограниченные во времени и пространстве. Она, по существу, есть проявление провиденциального образа во времени по отношению к тому, что уже соединяет в себе форму и материю, и тем самым перестает быть чистой сущностью, т. е. приобретает временные и количественные характеристики. Если провидение, по мнению философа, есть непреложный план миропорядка, существующий извечно и всегда, то судьба — реализация этого плана во времени и пространстве, поскольку она претворяется через вещи, имеющие начало и стоящие ниже высшего разума, или блага, это — связь между ними, миром и человеком.
В какой-то момент чистый разум перестает самодовлеть, происходит его эманация (истечение), в результате чего и начинается мировое движение, в которое по своей природе включен и человек. Это движение высший разум устраивает посредством судьбы, которая уже не есть чистая сущность, но отражающий ее внутренний закон всего того, что существует во времени и пространстве, соединяя в себе форму и материю. В результате судьба предстает как проекция провидения на мир, она — «подвижное сплетение и временной порядок того, что божественная простота располагает к появлению»[130]. Итак, фатум, судьба — это уже не провидение, но еще и не мир в его конкретности. Это — мировая связь, как бы растворяющая бога в природе. Такая трактовка отчасти приближает Боэция к пантеизму.
Судьба, полагает Боэций, связана не с сущностью, а с существованием, предполагающим наличие нестабильности, переменчивости, движения. Для автора «Утешения» стабильность и простота являются началами, из которых проистекает переменчивость, многообразие. На этом основании философ делает вывод, что поскольку судьба имеет дело с вещами изменчивыми и расположенными во времени, а провидение обладает простотой, то судьба берет начало из провидения, а «все, что подчинено судьбе, подвластно и провидению…»[131].
Божественная субстанция представляет собой чистую сущность, все остальное образовалось вследствие ее истечения, или вырождения. В результате не все в мире в одинаковой степени подлежит воздействию судьбы. Чем дальше нечто отстоит от высшего совершенства, тем большему воздействию судьбы оно подвержено. То же, что ближе всего примыкает к стабильности высшего разума, избегает необходимости подчинения судьбе.
Многочисленные последователи и комментаторы Боэция в средние века облекли его трактовку в своеобразную схему, состоящую из концентрических кругов, неподвижный центр которых есть провидение, следующий круг обозначает совершенные духовные субстанции, непосредственно подлежащие провидению и избежавшие действия судьбы, затем следует круг мирового фатума. Наибольший круг на схеме означает линию судьбы, посредством которой осуществляется движение неба и звезд, располагаются в должном соответствии элементы, составляющие основу мира, и совершается упорядоченная смена времен года, Кроме того, «она (линия судьбы. — В. У.) возобновляет происхождение всего сущего, даруя подобие через оплодотворение семени, через рождение и смерть»[132]. Она также обусловливает действия людей нерушимой связью причин, берущих начало в совершенном образе провидения. Таким образом, судьба не есть нечто, относящееся лишь к человеку, напротив, она естественно вписывает его в природный порядок.
Боэций создает свою концепцию судьбы спустя столетие после Августина, развившего христианское учение о предопределении. Нам уже известно, что в теологических трактатах он даже называл себя учеником автора «О граде божием». Однако в данном случае они стоят на совершенно различных позициях.
Мир, по Боэцию, — это природный космос, в котором нет и не может быть личностной связи между богом и человеком. В этой системе царствует внеличностный закон, судьба, которой человек подлежит не в силу своей исключительности (ибо он не сотворен по образу и подобию божьему, как в христианстве), а потому, что он является наиболее одушевленной частью природы. В христианстве же бог и человек — два агента, занятые исключительно друг другом. В христианстве бог, по существу, творит мир для человека, а не человека для мира и этот мир не пребывает, как античный космос, а разворачивается, как история, имеющая свое начало, кульминацию и конец.
Несовершенство человеческой природы, которое автор «Утешения» вслед за неоплатониками считал следствием эманации Единого, убывания совершенства, в христианстве представляется следствием первородного греха. «На все жалобы по поводу тяжелых времен и по поводу всеобщей материальной и моральной нищеты христианское сознание греховности отвечало: да, это так, и иначе быть не может; в испорченности мира виноват ты, виноваты все вы, твоя и ваша собственная испорченность!»[133] Из этого сознания греховности исходил и Августин. Он пытался доказать, что в основе истории лежал реально совершенный акт свободного выбора. Несовершенство человеческой природы, которое в неоплатонизме рассматривалось как следствие неполноты бытия, у христианского теолога становится грехом, т. е. волевым злом. Совершая грехопадение, человек тем самым творил первую подлинно историческую ситуацию, предоставляя богу возможность осуществить свой спасательный труд и развернуть историю как развитие и претворение идеи спасения человечества, воплотившейся в искупительной жертве бога-сына Иисуса Христа. Первородный грех Адама заключался в неповиновении богу, и этот грех проистекал из природы Адама как человека. Наказанием человеку стало лишение его привилегированного положения среди прочих божьих творений, низвержение его в поток времени, нестабильности, страданий, борьбы и смерти. В результате «всякое мгновение укорачивает срок жизни, так что вообще все время жизни не что иное, как погоня за смертью, погоня, в которой никто не может остановиться даже на миг или замедлить шаг — все принуждены идти одинаково быстро»[134].
Искупление первородного греха, по существу, есть спасение от смерти, предопределение к вечной жизни, т. е. искупление человека из времени, а следовательно, и из истории как процесса временного человеческого бытия, подобного «бурной реке» или «волнующемуся морю». И движение человека в этом потоке направляется божественной волей в соответствии с планом творца. Поэтому августиновское предопределение и есть личная воля бога в отношении человека, жесткая детерминированность поведения последнего, предполагающая его спасение посредством особой божественной силы благодати или осуждение в жизни вечной. Отсюда отрицание имперсонального высшего закона, управляющего миром, и отрицание случайности, противопоставление бесцельной, неразборчивой в своих действиях судьбе-фортуне концепции бога как истинного «виновника и подателя счастья..».
Боэций тоже, казалось бы, отрицает случайность и изменчивость, но он их отвергает не в принципе, а как «простонародно» понимаемые, т. е. как явления, которым якобы не предшествовала цепь причин. Философ опирается на определение случая, данное Аристотелем в его «Физике»: «Когда что-нибудь предпринимается ради какого-нибудь определенного исхода, но по каким-либо причинам получается нечто иное — это и называется случаем»[135]. Иными словами, случай является событием или явлением, не предвиденным человеком, однако совершающимся в силу определенного стечения причин и следствий, смысл которых скрыт от человеческого рассудка, но вытекает из всеобщего закона и судьбы. Кажущееся на поверхности случайным в глубине оказывается детерминированным основной направленностью всего сущего к единой цели высшему благу, универсальному разуму. Все кажущееся людям случайным и лишенным смысла на самом деле подчинено необходимости и рационально.
То же самое можно сказать и о фортуне, представляющей собой внешнее проявление необходимости судьбы в земном человеческом мире. Несведущему человеку фортуна кажется цепью случайностей. Этим, согласно человеческим рассуждениям, определяется ее непостоянство.
Боэций, следуя традиции, изображает Фортуну в образе двуликой слепой богини, которая делает один и тот же миг «губительным и счастливым». Человек не в состоянии изменить свой жребий, но одно непреложно: Фортуна никогда не сделает принадлежащим человеку то, что отделено от него по природе. Этим еще раз подчеркивается, что и Фортуна есть проявление естественного, управляющего миром закона, а не индивидуальной божественной воли. Фортуна может наградить человека лишь внешними благами — богатством, властью, славой, красотой, здоровьем и т. п., не имеющими, по мнению Боэция, подлинной ценности, или отобрать их. Сама изменчивость Фортуны позволяет человеку надеяться на лучшее, и часто то, что кажется ему несчастьем, на самом деле таковым не является. Фортуна изменяет лишь внешние обстоятельства жизни человека, т. е. она относится к сфере вещей, по природе своей от него отделенных. Сущность же человека Фортуна не затрагивает: ведь она не может сделать злого добрым и наоборот. Человек, очистившись от страстей, удаляет себя из мира случайности и смело подчиняется любой судьбе, ибо, склоняясь перед общим для всех законом, ведущим к благу, выполняет свой долг.
В этих рассуждениях Боэция чувствуется влияние учения стоиков о необходимости подчинения человека общему закону, но далее он, как и прежде, возвращается к платоновской интерпретации. Кажущаяся изменчивость Фортуны, ее случайность и непостоянство приобретают иную окраску в свете изложенного выше понимания случая. Его Боэций объясняет действием причин, вытекающих из провидения. Высший разум посредством судьбы направляет Фортуну. Он, схватывая все в единовременном акте познания, ведает, какая участь кому подходит, соответственно ею и наделяет. Поскольку человеческое знание находится несравненно ниже чистого разума, то кажущееся несправедливым человеку на самом деле может являть собой высшую справедливость.
Так, например, некоторые люди в состоянии сохранить добродетель, только достигнув земного счастья, оно им и дается провидением. Другой настолько украшен всяческими добродетелями, что провидение не позволяет какому-либо несчастью поразить его. Третьи для проверки и укрепления их добродетели получают тяжкие испытания. Часто власть, доставшаяся порочным людям, вследствие их отталкивающего примера способствует воспитанию добродетелей у многих. Боэций считает, что божественный порядок настолько всеобъемлющ, что все, отошедшее от него, снова к нему возвращается и в царстве провидения не остается случайности. С помощью линии судьбы зло удаляется из пределов мира, следовательно, любая фортуна имеет благую природу, т. е. ведет к блаженству, так как добрая и злая фортуна «справедлива и полезна», ибо способствует воспитанию добродетелей.
По этой причине, полагает автор «Утешения», не нужно отчаиваться в несчастье или слишком радоваться счастью. Мудрый человек, познавший сущность и истинную цену фортуны, поднимается выше превратностей жизни, и его не сломят бедствия и не испортит счастье. Он всегда будет сохранять терпение и спокойствие. Следовательно, лишь от того, насколько человек поймет природу фортуны, будет зависеть мера его несчастий, ибо он сам ее оценивает.
Подчиняясь благой фортуне, человек выполняет свое предназначение, чтобы вернуться к первоначалу в лоно чистого разума. Однако, если провидение через судьбу направляет все сущее и исключает проявление случайности, можно ли говорить о свободе воли и имеют ли смысл различные человеческие устремления, нужны ли награды и наказания за человеческие дела? Боэций пытается отмести все сомнения в этих вопросах. Он утверждает, что всякое разумное существо обладает волевыми движениями души и способно осуществлять свободу воли. Автор «Утешения» мотивирует это следующими соображениями. Существо, обладающее разумом, способно отличить, что хорошо и что плохо, поскольку знание о благе присуще его душе изначально, следовательно, оно наделено способностью желать и отвергать.
По Боэцию, высшим знанием обладает универсальный разум. Знание это утрачивается (или забывается) по мере удаления от него. Отличительными чертами близких к высшему разуму субстанций являются проницательность суждения, не подверженная слабости воля, соразмерность желаний и способностей к их осуществлению. Относительно же человеческих душ можно сказать, что они более свободны, когда пребывают в своей отчизне — высшем разуме, чем когда они связаны с телом, «омрачающим» знание. Человеческие души оказываются лишенными свободы, когда, предаваясь порокам, люди окончательно утрачивают знание и тем самым уклоняются от своего предназначения, ибо, «как только их взор обращается от света высшей истины к погруженному в тень дольнему миру, их тотчас окутывает облако незнания и начинают терзать гибельные страсти, которые настолько подчиняют людей, что они как бы оказываются в рабстве, а этот выбор некоторым образом зависит от их собственной воли»[136]. Для того чтобы представить свою мысль более наглядно, Боэций в стихах излагает миф о волшебнице Кирке (Цирцее), дочери бога солнца Гелиоса, превращавшей путешественников, попадавших на ее остров, в свиней и диких животных, тем самым лишь приводя их истинную сущность в соответствие с внешним обликом. Однако при этом философ утверждает, что, хотя провидение извечно и всегда «знает» все помыслы и желания людей, свобода воли все же существует. Это оказывается возможным вследствие принципиального различия между божественным и человеческим знанием.
Провидение, о котором идет речь в «Утешении», не есть предопределение в смысле однозначной и абсолютной детерминированности бытия и действий человека богом, как это, например, имело место в концепции Августина. Боэций, отождествляя понятия провидение и предузнание, или предвидение, стремится снять противоположность между богом и миром, представляя существование мира как определенную ступень бытия высшего начала. Таким образом, при трактовке проблемы провидения делается акцент на моменте предварительного знания чистого разума, а не на наличии необходимого, неизбежного закона, в чем обнаруживается прямая связь Боэция с античной философской традицией и их отличие от иррационалистической интерпретации предопределения у Августина. Последний связывал его с учением о благодати, распространяющейся на людей по произволу бога и, по существу, обесценивающей любые попытки человека к самосовершенствованию, парализующей его волю.
Для выяснения возможности существования свободы воли «последний римлянин» задается вопросом, что является первичным — предвидение или существование вещи. Такая постановка вопроса имеет прямое отношение к обсуждению проблемы универсалий, или общих понятий, о которой говорилось выше. Пытаясь раскрыть сущность соотношения божественного и человеческого знания, провидения и свободы воли, философ стремится выяснить, определяет ли образ в высшем разуме появление всего сущего, т. е. влечет ли за собой провидение необходимость появления вещи или же само ее существование служит необходимой причиной божественного предвидения. Если встать на первую точку зрения, то все оказывается предопределенным заранее. Во втором случае нельзя говорить об абсолютности и непогрешимости божественного знания, так как временне и связанные с материей вещи являются как бы его основой. Можно предположить, что предвидение не может определить, будет ли нечто иметь место в будущем или нет, но тогда оно ничем не отличается от человеческого знания, а это, полагает Боэций, невозможно.
Провидение — предвидение — предузнание, считает философ, безусловно предваряет появление всех будущих вещей и делает их существование необходимым. Далее же он прибегает к следующему логическому рассуждению, чтобы все-таки оставить место для свободы воли: предвидение не заключает в себе прямой необходимости бытия вещей, оно есть лишь знак этой необходимости. Всякий знак представляет собой лишь обозначение вещи, он только указывает на нее, но не раскрывает ее качественной специфики; вместе с тем невозможно наличие знака вещи, не обладающей существованием. Значит, то, что провидение располагает к появлению, должно стать реальностью, но его возникновение оказывается необходимым лишь по отношению к провидению, внутренней же необходимости существования оно лишено. Если же могут иметь место вещи, «появление которых отделено от всякой необходимости», то может существовать неприкосновенная и абсолютная свобода воли. Таким образом, неизбежная необходимость, заключенная в высшем знании, в провидении, и свобода человеческой воли не исключают друг друга, так как они существуют в различных сферах, на различных уровнях иерархически выстроенного бытия: первая — в высшем разуме, вторая — в жизни человека.
Чтобы понять эту аргументацию, возвратимся еще раз к гносеологической концепции автора «Утешения». То, что высший разум, чистое знание непогрешимы и абсолютны, для Боэция — аксиома. Человеческое знание есть лишь их несовершенное отражение. Так как акт познания и степень его глубины вытекают не из сущности познаваемого, а из природы познающего, вещи и события постигаются неодинаково высшим разумом и человеком. Высший разум содержит в себе форму и сущность вещи, не расчленяя их, мгновенно схватывая все в своей простоте. Человеческий рассудок осуществляет акт познания посредством первоначального расчленения воспринимаемого, так как он менее совершенен, чем высший разум. При характеристике высшего и человеческого знания Боэций вводит в качестве отличительных моментов не только представление о степени совершенства знания как такового, но и временной критерий, а именно: высший разум созерцает все в вечности, а человек — во времени. Здесь присутствует такое же разделение во временном отношении, как при характеристике провидения и судьбы.
Под вечностью, которая рассматривается как необходимый атрибут высшего разума, Боэций понимает «целостное и совершенное обладание бесконечной жизнью, что с очевидностью следует из сравнения с тем, что расположено по времени»[137]. Вечность связана с чистым, совершенным бытием, которым обладает только высший разум, она самодовлеюща и неподвижна. Показательно, что Боэций связывает вечность не с количественными, но с качественными характеристиками. Он пытается показать специфику вечности и через сопоставление со временем. Для современного человека нет ничего более естественного, чем отождествить вечность и бесконечность во времени. Для Боэция именно в их противопоставлении кроется выявление сущности той и другого.
Философ утверждает, что все существующее во времени непостоянно, изменчиво. Непостоянство существующего «вбирает» в себя непостоянство самого времени, его движение и текучесть. «Жизнь» времени есть не более чем движущееся, меняющееся и преходящее мгновение. Настоящее мгновенно утекает в прошлое, а в соотнесении с прошлым всегда есть будущее. Каждый момент времени существует и не существует, ибо он не может быть зафиксирован, совершенен в себе самом. Его нельзя даже помыслить в покое. Будучи одним, он тут же перетекает в нечто иное.
Время дискретно-протяженно. Оно состоит из отдельных точек — моментов прошлого, настоящего и будущего, которые последовательно переходят друг в друга, образуют непрерывно движущийся вполне однородный поток времени, в котором нет существенных вех, способных стать указующими ориентирами его определенной направленности. Боэций считает время бесконечным. Для него постановка вопроса о начале и конце времени, столь волновавшая христианских мыслителей, наполнявшаяся ими священным содержанием, представляется лишенной смысла. В этом еще раз проявляется философская самостоятельность Боэция и его независимость от христианской мысли.
Вспомним, что проблему времени незадолго до Боэция очень остро поставил Августин: «Что обыкновеннее бывает у нас предметом разговора, как не время? И мы, конечно, понимаем, когда говорим о нем или слышим от других. Что же такое, еще раз повторяю, что такое время? Пока никто меня об этом не спрашивает, я понимаю, нисколько не затрудняясь; но, коль скоро захочу дать ответ об этом, я совершенно захожу в тупик… Но в чем состоит сущность первых двух времен, т. е. прошедшего и будущего, когда прошедшего уже нет, а будущего еще нет?»[138] Хотя и у Августина, и у Боэция можно найти ряд моментов в характеристике времени, общих неоплатонизму вообще, принципиальное различие между ними в том, что для отца церкви «времен не было, если бы не было творения, которое изменило нечто некиим движением»[139], т. е. время имело некогда начало, затем оно разворачивается как однонаправленное движение, как процесс, чтобы в итоге прийти к своему концу, если иметь в виду священную историю, то это будет Страшный суд, после которого время опять перестанет существовать. Иначе говоря, время — это поле человеческого существования.
У Боэция не так. Повторим, что для него время бесконечно и в прошлом и в будущем, оно также связано не сугубо с человеческим существованием, но с бытием мира вообще. Временнaя стихия — естественная среда для человека, а не место его изгнания из блаженной жизни, как представлялось христианам. Человек подвержен смерти и страданиям, ибо это закон для всего существующего во времени. И причина тому природная — такова природа времени, а не субъективная, заключавшаяся, по мысли христианских теологов, в грехопадении первого человека, обрекшего тем самым все свое потомство до конца времен на муки. Боэций полагает, что человеческая жизнь по самой своей природе лишена полноты совершенного бытия; ему чужда жажда или ожидание свершения какого-либо обетования, пронизывающая христианство. Страдания человека не могут служить будущему как искупление греха. Будущее все время ускользает в прошлое, становясь «бездонным», а точнее, «замкнутым». Налицо возвращение автора «Утешения» к античной теории вечного «круговорота», которую с таким пылом осуждал Августин.
Итак, по Боэцию, жизнь существующего во времени есть не более чем движущееся, меняющееся и преходящее мгновение. Существующее во времени не способно объять время своим существованием, ибо настоящий момент, когда наступает будущее, переходит в прошлое. А поэтому, хотя мир существует во времени, а время не имеет ни начала, ни конца, стремясь к бесконечности, время нельзя назвать вечным. Это проистекает из того, что вся протяженность времени не может быть охвачена бесконечностью жизни, ибо во времени есть прошлое, настоящее и будущее. Вечным же является то, что охватывает всю полноту неограниченной жизни и обладает ею, чему не недостает ничего в будущем и что не утекает в прошлое. Вечное, утверждает «последний римлянин», «с необходимостью обладает властью, исходя из своей собственной природы всегда быть настоящим и содержать в себе истинную бесконечность текущего времени»[140]. В вечности нет места бесконечной, раздробленности времени, все слито, спаяно в неразрывном единстве и простоте. Вечность есть единое мгновение, вобравшее в себя всю бесконечность времени, которое в вечности попросту растворяется, перестает существовать. Пребывающее во времени обладает существованием, но не подлинным бытием, ибо в последнем должна быть заключена способность в себе самом всегда быть настоящим. Если время — это бесконечное становление, то вечность — целостность, неподвижность и полнота, из которой ничто не утекает в прошлое и ничто не прорастает будущим.
Боэций обращает особое внимание на проблему возникновения времени. Он считает, что вечным является только бог, высший разум, несущий в себе архетип сущего. Вместе с тем и существование мира бесконечно во времени, ибо он организован согласно образу, пребывающему в высшем разуме; следовательно, в каком-то смысле мир хотя и возник, но не имел начала, во всяком случае резко выраженного. Боэций снимает кажущееся противоречие тем, что трактует время как эманацию вечности: «Вселенная, не будучи в состоянии сохранить покой, вступила на неизмеримый путь времени, и движение составляет суть ее жизни…»[141]
Вечность отождествляется им с простотой, неделимостью, постоянством, стабильностью; время — свойство существования, оно есть движение, изменчивость, становление. Во времени все раздробляется на бесконечное число частей и явлений будущего и прошлого, здесь царствует разнообразие, и нельзя говорить о единстве сущности. А вечность связана с чистой сущностью.
Время же распадается на множество отдельных явлений — точек, бесконечно расчленяется, обретая количественные характеристики. Временне явления существуют не совокупно, но в преемственности. При таком условии время ни в коей мере не может обладать полнотой бесконечности жизни, ибо у всех вещей, находящихся во времени, всегда есть будущее, им в настоящий момент недоступное. Собственно, бесконечное движение времени лишь «подобно неподвижному состоянию пребывающего в покое бытия, но его отобразить или сравниться с ним не может, так как от неподвижности удаляется к движению, из простоты настоящего раздробляется на бесконечное число вещей будущих и прошедших»[142]. Время лишь отражение вечности. Оно стремится возвратиться в нее и движется как бы по замкнутому кругу. То, что существует во времени, несовершенно, оно лишь «истечение» того, что наличествует в образе в высшем разуме, обладающем вечным бытием. И следуя за Платоном, Боэций называет бога, т. е. высший разум, «вечным», а мир — «всегда существующим».
Очевидно, что боэциево представление о времени как проекции вечности связано с платоновской традицией. Учение о происхождении мира и возникновении времени, изложенное в «Утешении», продолжает линию платоновских «Тимея» и «Парменида», хотя «последний римлянин» не избежал влияния и неоплатоновской школы, в частности Плотина и Прокла. Тем не менее Боэций создает довольно самостоятельное в концептуальном отношении учение, представляющее интерес, быть может, не столько новизной идей, сколько внутренней целостностью, последовательностью и тонкой аргументированностью суждений.
Философ вводит в характеристику высшего знания еще один момент, в интересующем нас аспекте наиболее важный, а именно его вечность. По мысли Боэция, высшее знание, заключенное в разуме бога, — это всегда настоящее, причем не временное и относительное, а настоящее, в котором прошлое и будущее слиты в неразрывном единстве настолько, что в привычном смысле они совсем перестают существовать. Вся полнота преемственности временнх явлений всегда присутствует в простоте высшего знания. Таким образом, высшее знание не есть в строгом понимании предвидение будущего (ибо последнее для него не существует), но содержит в себе постижение всех возможных свободных актов, которые для него настоящи постоянно, а во времени лишь должны будут обрести существование.
То, что всегда наличествует в разуме бога, имеет там свою необходимость, но совершенно не обладает такой необходимостью появления во времени. Вследствие этого если бог предполагает существование чего-либо, то в рамках его знания это что-либо окажется необходимым, но ведь для высшего разума нет будущего, и то, что зависит от свободного выбора человека, уже является реальным бытием. Нетрудно увидеть в этой проблематике отражение патриотических дискуссий и особенно поисков Августина. Но тем интереснее предложенное Боэцием решение, выявляющее отличие его теизма от христианства. Бог, полагает он, содержит в своем разуме все акты свободной воли, но сохраняет за человеком право выбора. Свободное и независимое осуществление выбора не противоречит божественному предузнанию — провидению, которое «устанавливает образ всех вещей и ничего не заимствует из порождаемого»[143]. Высший разум охватывает всю переменчивость человеческих желаний в их совокупности, для него они все существуют всегда, человек же может поступать согласно своим побуждениям; следовательно, свобода воли существует. Так как человек может осуществлять свободный выбор, вполне справедливо, что он должен отвечать за свои поступки, но ответственность эта не перед высшим разумом, а прежде всего перед самим собой.
Гармонизируя идею судьбы как необходимого и имманентного порядка природы, как внутреннего закона, регулирующего все сущее, с провиденциальной концепцией присутствия бога в мире, Боэций обходится без понятий спасения, благодати, столь важных для христианства, и без рассуждений о посмертной судьбе души. Провидение, по Боэцию, пребывает в совершенной вечности, которая есть атрибут высшего разума, бога, а судьба, фортуна, принадлежат к миру временных явлений. Идея, пребывающая в высшем разуме, отражаясь в существовании мира, вступает в противоположную ее вечной природе стихию времени и приобретает характер судьбы, которая представляет не только сокровенный смысл происходящего во времени, но и саму последовательность временных явлений. Взаимосвязь, отношение человека и судьбы разрешаются у Боэция в картине большого космического масштаба, создаваемой в традициях философской классической культуры с особой значимостью платоновской и стоической концепций.
Судьба связует великое многообразие временных явлений, направляя их движение. Но их истинной связью, определяющей целостность и гармоничность мира, является не менее могучая и великая сила — любовь, «что правит землею и морем, и даже небом высоким…»[144]. Через несколько столетий, в зените средневековья, Данте повторит вслед за Боэцием: «Любовь, что движет солнце и светила…»[145]
По Боэцию, судьба, мудрость, любовь — это космические силы, противоборствующие и согласные, связующие воедино мироздание. Все сущее в этом гармоничном космосе имеет свое определенное место. Человек — высшее звено в иерархии земного существования. Тело его принадлежит «дольнему», материальному миру, а дух устремлен ввысь, к вечной истине. И поскольку человек живет в мире, благом по своей природе, в котором нет места злу как космическому началу, то у него стремление к благу как к цели всего сущего является актом свободной воли, а не результатом предопределения. Человек лишь тогда оказывается несвободным, когда он порочен и не устремлен к познанию. Совершенствуясь, человек приближается к высшему разуму и тем самым ускользает от необходимого закона судьбы, чтобы стать совершенно свободным, возвратясь к своему первоисточнику. Совершенства человек может достичь лишь путем обретения знания и упражнения в добродетелях, ибо именно так реализуется в нем изначально заложенная идея блага. Человек же, постигший ее, приобщается к богу, к высшему благу, блаженству и поэтому становится блаженным и наконец обретает могущество — способность удовлетворения всех своих желаний и устремлений. Так уже при жизни с помощью знания и мудрости, достигаемых в процессе овладения философией, человек обретает награду, проникает в тайну бытия и тем самым реализует свое предназначение, которое в то же время является результатом проявления свободы воли.
Боэций видит возможность осуществления человеком независимого от провидения или судьбы выбора в сфере познания и созерцания. По его мнению, человек самоутверждается, освобождаясь в процессе познания от заблуждений, порождаемых соединением души с телом. В связи с этим важнейшими добродетелями философ считает те, что связаны со знанием: мудрость, благоразумие, твердость рассудка, спокойствие духа. Пороки же порождаются незнанием, поэтому глупость и безрассудство, по мысли автора «Утешения», худшие из пороков и служат причинами появления всех других. Боэций полагает, что добродетель — это достоинство души, а порок — следствие победы тела над разумом, незнания над знанием.
Исходя из благой природы мира и рациональности бытия, Боэций пытается решить проблему, касающуюся наград и наказаний за человеческие деяния. Так как основная задача человека — жить согласно природе, ведущей к благу путем познания, и в этом смысл его существования, то человек, погрязший в пороках и тем самым отвратившийся от блага, теряет обладание существованием в собственном смысле этого понятия, переставая быть человеком, утрачивая человеческую сущность. Порочный человек, утверждает философ, наказан тем, что он всегда отделен от блага и, таким образом, погружен в «небытие», из которого его может вырвать только перенесение наказания, получаемого им при жизни, ибо «наказание, согласно разумному порядку правосудия, есть благо». Вместе с тем если порок — это «болезнь души», а больных людей следует лечить, то с помощью наказаний следует исцелять порочных людей от их недуга, пробуждая в их душах заложенное изначально знание о благе, забытое под действием губительных страстей.
Мысль Боэция сводится к тому, что блаженство может быть обретено человеком при жизни, а поэтому не следует торопить «бег крылатых коней смерти», ибо, если «ты украсил душу наилучшими добродетелями, нет тебе дела до судьи, определяющего награды: ты сам приобщил себя к наилучшему. Если же ты склонишься к пороку, не сетуй на наказание, ты сам предопределил себя к самому плохому концу»[146]. Философ не придает значения потусторонним наказаниям и наградам, для него не существует рая и ада, он не признает существования в мире двух начал — добра и зла как противостоящих друг другу, не упоминает основных христианских добродетелей, у него полностью отсутствует понятие греха.
Считая, что не бог предопределяет человека к наградам и наказаниям, а сам человек избирает путь, ведущий к благу или уводящий от него, и оценивает свои поступки, исходя из собственной природы, Боэций создает определенный этический идеал. Настоящим человеком, по его мнению, является мудрец, подобный Сократу, достигший совершенства в познании и добродетелях, сумевший не пассивно подчиниться судьбе, а знанием, мудростью достичь полного слияния между необходимостью провиденциального закона и осуществлением внутренне присущей каждому человеку цели его собственного существования. Человеческое благо оказывается связанным не с материальными интересами, а лишь с умственным и нравственным самосовершенствованием человека.
Таким образом, Боэций пытается снять противоречие между детерминированностью человеческой деятельности божественным провидением и существованием свободы выбора, признавая моральную значимость человеческих поступков, определенную тем, что заданной оказывается лишь цель человеческого существования, а не конкретные пути ее достижения. Еще раз в комплексе проследим, чем отличается концепция Боэция от учения Августина о предопределении.
У Августина божественное предопределение — это не предузнание, как у Боэция, а жесткая детерминация человеческих поступков. Предопределение действует в сфере человеческой жизни и человеческой истории. У Боэция провидение проявляется в бытии мира и человеческой жизни как природный имперсональный (безличностный) закон, понятие всеобщей истории и ее связи с провидением отсутствует.
У Августина все зло мира, превратности человеческого существования расплата за первородный грех, за неповиновение воле бога. У Боэция зло вообще изъято из системы мирового бытия, а поэтому не может быть и злой судьбы. Несчастья человека — от недостатка блага, изъяна совершенства, присущих ему вследствие того что он занимает по своей природе такое место в иерархии бытия.
У Августина человек может быть спасен только через божественную благодать. Заранее неведомо, кто предопределен к спасению, а кто к гибели вечной. Боэцию глубоко чужд взгляд на человека как на существо греховное. Человек несовершенен, подвержен порокам, но таковы свойства его естественного происхождения, а не его злой воли. Человек несет в себе божественное начало, и уже это делает его восприимчивым к благу. Следовательно, лишь усилия каждого, сконцентрированные на достижении высшей истины, определяют для него степень и возможность приобщения к высшему благу.
Эта устремленность к благу и способность ее реализовать и определяют личную судьбу человека во всеобщей судьбе мироздания. У человека, считает Боэций, нет и не может быть никакой вины перед богом. У него есть единственная по-настоящему страшная беда — забвение своего первоисточника, своей изначальной причастности к высшему разуму. Выход из этой ситуации не может быть найден на пути веры, служения богу или религиозно понятой добродетели. Именно поэтому у Боэция и не идет речь о спасении в христианском смысле как дарованном благодатью искуплении от земных страданий, предполагающем существование личностной связи между богом и человеком, переживаемой глубоко интимно и эмоционально человеком верующим.
Автор «Утешения» не обращается за спасением к богу, потому что даже представить не в состоянии, чем может помочь ему этот надмирный и бесстрастный высший разум, управляющий великим в своей соразмерности и гармоничности мирозданием. Этот бог не может вмешаться в отдельную человеческую жизнь, ибо ему нет до нее никакого дела. Он управляет делами мирскими и человеческими лишь как необходимой частью мироздания через безличностный закон, через фатум (судьбу) и фортуну. Человек даже не игрушка в его руках, ибо игрушка предполагает какое-то личностное отношение к себе, быть может, даже любовь или нелюбовь. Человек лишь частица мироздания, индивидуальным обликом и индивидуальной судьбой которой можно пренебречь.
В отношении бога к человеку и человека к богу у Боэция нет ни индивидуальной любви, ни подлинного служения, ни остро переживаемого драматизма. У человека перед таким богом нет и не может быть греха как преступления некоего установленного божественной волей закона, заповеди, ибо и добро и зло (вернее, то, что таковым кажется) есть проявление единого закона, правящего вселенной и человеческим существованием. Злые, порочные люди наказаны уже тем, что они таковы, ведь они заключены в теневой, как бы не существующей стороне бытия. Но и добрые люди добры не потому, что они ревностно служат богу, выполняют его волю, надеясь на воздаяние в ином мире, на вечную жизнь. Не индивидуальная вечная жизнь, но причастность к великому разумному, духовному началу мира и осознание этого и есть подлинная и главная награда. Благо проявляется через человека, вернее, через мировой закон в нем, реализующийся и через его дела. Поэтому человек отвечает не перед богом, а перед самим собой. И он сам себе высший суд, так как нелепо просить заступничества или спасения у универсального разума или высшего блага. К ним можно лишь стремиться. Человек оказывается той последней индивидуальной инстанцией, где произносится окончательный приговор относительно добра или зла человеческих помыслов и деяний.
Отсюда призывы Боэция познать самого себя, пробудить в себе силы, способные поднять человека до небес, до первоисточника бытия, а не надеяться на спасение извне. Боэция не снедают ни мечты, ни упования. Это строгая и рационалистическая натура. Он все-таки приходит к постижению первоначала и смысла человеческого существования через науку размышления, а не через страдания души, как бы не доверяя душе интуитивной и чувствующей (и в этом он тоже противоположен Августину).
У Боэция нет и тени мистического опыта, нет темноты и нет ожидания и неожиданности чуда. В конце концов для него нет и тайны в боге, в котором лежит последнее основание бытия. Но ведь это открыто человеку с самого начала и лишь забыто им. Поиски автора «Утешения» — это, строго говоря, не искание бога, а отыскание путей, способных поднять человека до него, сделать его «как бы богом», ибо, как полагал Плотин, «глаз никогда не увидел бы солнца, если бы не принял форму солнца». Боэций показывает, что человек больше и глубже самого себя. Философ преподает науку подлинно человеческого, а не божественного величия и своими рассуждениями, и своей жизнью. По Боэцию, удивительнее всего в человеке скрытая в нем и подчас неведомая ему самому мудрость. Душа должна быть внимательна к себе самой и не делать ничего бесполезного, отвлекающего ее от главного.
«Последний римлянин» приближается к границам человеческой жизни и мышления. Сквозь строй философских аргументов в «Утешении» подчас прорывается боль сердца: автор не скрывает, что бывают мгновения и часы страданий, когда мудрость не утешает. Но Боэций преодолевает сомнения. Он убежден: мудрец не может быть несчастным, ибо цель мудрости — истинное счастье, блаженство. Путь к благу лежит не через страдания. Христианскому идеалу — «сердцу болезнующему» — противостоит обладающий несгибаемой душевной стойкостью мудрец. Боэций считает, что мудрец не может быть страдальцем. Постоянно пребывает в печали лишь неразумный и ленивый душой человек. Мудрец сумеет преодолеть несчастья. Он не будет вести изнуряющей борьбы со своими страстями, ибо в борьбе с самим собой нельзя подняться к высшему благу. Идти вперед надо, прежде всего утверждая благое начало в самом себе, гармоническое единение с миром. Не следует уклоняться и от ударов судьбы, надо понять ее лживые лики, выйти ей навстречу, не боясь смерти. Для Боэция очевидно, что речь не идет ни о борьбе с судьбой, ни о покорности ей. Мудрец познает суть судьбы, ее сокровенный смысл и тем самым как бы разрывает круг временнх явлений, в котором она имеет силу. Спасение не индивидуальный акт бога, не проявление благодати, но результат концентрации всех рациональных и духовных усилий человека, который сам делает себя подобным богу или низводит до уровня животного. Человек силен разумом, не знающим оков, вырывающимся из времени, уничтожающим пространство, сжимающим вселенную до ослепительной световой точки средоточия истины. Предназначение человека нести свой дух «все выше и гордо смотреть в высокое небо!»[147]. И он может осуществить этот огромный труд, ибо в его «груди скрыта великая сила жизни»[148].
Атмосфера рока, судьбы, неизбежности, окутывающая человека, поглощенного земными заботами, рассеивается, как только он вверяет себя заботам мудрости. Быть по-настоящему счастливым, могущественным, жить, не опасаясь ударов судьбы, можно только за оградой познания, устремленного к высшему разуму, и самосовершенствования. И когда Боэций писал: «Никогда Фортуна не сделает так, чтобы принадлежало тебе то, что отделено от тебя по природе»[149], он имел в виду не только внешние блага, но и духовную суть человеческого существа, которое осуждает или оправдывает свою жизнь, являющуюся точкой в безграничном движении бытия.
Средство достижения блаженства не нищета духа, но его исключительное богатство. Не ограниченное благоразумие, но истинная мудрость, не пассивная добродетель, но нравственная устремленность ведут человека к счастью. Чтобы преодолеть несчастья, человеку надо стать совершеннее, чем сама судьба. Только тот, кто постоянно находится на вершине своей души, может стать действительно счастливым. Оптимизм Боэция — это не поверхностный оптимизм человека, не ведающего последствий своих поступков, но оптимизм мудреца, сознающего всю меру своей ответственности перед жизнью и будущим. И в этом огромная нравственная сила его «Утешения».
Боэциеву концепцию провидения и судьбы в отдельных составных частях можно отождествить с постулатами того или иного философского учения, но, спаянные воедино, они образуют оригинальное и стройное целое. Боэций, как представляется, весьма далек здесь от христианства, приход к которому казался бы вполне закономерным и естественным в его время и в его положении. Однако, отталкиваясь от платоновской концепции мироздания, от стоического учения о логосе, пройдя через горнило мистической диалектики Плотина и Прокла, Боэций отобрал из них лишь наиболее созвучное его своеобразно рационалистическому взгляду на мир.
Особое влияние на средневековую культуру оказала та часть учения Боэция о провидении в судьбе, которая была посвящена непосредственно Фортуне. Фортуна — это еще один, кроме Философии, аллегорический образ «Утешения», приобретший исключительную популярность в средневековой и ренессансной Западной Европе.
Фортуна поначалу выглядела явно инородным элементом в христианской картине мира, подчиненной непреложной воле всезнающего, всемогущего бога. На первых порах богословие повело против капризной богини счастья и удачи решительную борьбу, продолжая, впрочем, ту же тенденцию, которая в полной мере проявилась в позднеантичном стоицизме и неоплатонизме, поскольку их представления о всеобщей причинности и абсолютно благом разумном, хотя и безличном промысле-провидении, определяющем миропорядок, не оставляли места для действия сил слепых, неупорядоченных, воплощением которых всегда была Фортуна. Христианский теолог Лактанций объявил ее злым и коварным духом. По его утверждению, самой по себе Фортуны не существует. Сходное мнение высказывали и другие христианские писатели (Тертуллиан, Иероним, Павлин из Нолы), считавшие Фортуну лживой и пустой фантазией язычников. Отцы церкви стремились изгнать из круга привычных представлений образ капризной, никому не подвластной богини, несовместимой с христианской концепцией единого бога-творца и господствующего в мире божественного промысла.
Августин противопоставил бесцельной, неразборчивой в действиях Фортуне концепцию бога как истинного «виновника и подателя счастья… раздающего земные царства и добрым и злым. И делает он это не без разбора и как бы случайно, поскольку он есть бог, а не Фортуна, но сообразно с порядком вещей и времен — порядком для нас вполне сокровенным, а ему вполне ведомым»[150]. Все происходящее, полагал гиппонский епископ, строго обусловлено, поэтому так называемые «случайные причины» (принимаемые несведущими людьми за Фортуну) на самом деле есть «сокрытые причины», действие которых подвластно воле истинного бога или некоторым духам (вспомним, что Боэций, также отрицавший наличие слепого случая, обосновывал это порядком природы, а не волей всевышнего).
Однако эта, казалось бы, всеразрушающая критика христианскими теологами античных представлений о Фортуне все же не помешала этой капризной богине проникнуть затем в систему средневековых представлений о мире и человеке. Это произошло во многом благодаря Боэцию. Представленные им в «Утешении» аллегорический образ Фортуны и его философское истолкование заняли прочное место в западноевропейской культуре средневековья и Возрождения.
Вернемся еще раз к интерпретации Боэция. Он понимает Фортуну двояко: как богиню и как мировую силу, посредством которой организуется миропорядок. «Последний римлянин» противопоставляет «вульгарному» народному представлению о Фортуне — богине с «лживым ликом», по собственной прихоти наделяющей человека дарами, «чародейке», принимающей множество обманчивых обликов, «устремляющей свой леденящий взор» или осыпающей человека ласками по своему капризу, — философский взгляд, стремящийся проникнуть в суть того, что именуется Фортуной, понять ее изменчивость как естественное проявление ее природы. Боэций отстаивает «право» Фортуны на непостоянство, сравнивая его с закономерностями природных явлений, их чередуемостью, сменой: «Ведь разрешено небу порождать светлые дни и погребать их в темных ночах, позволено временам года то украшать цветами и плодами облик земли, то омрачать его бурями и холодами. У моря есть право то ласкать взор ровной гладью, то ужасать его штормами и волнами… Наша (Фортуны. — В. У.) сила заключена в непрерывной игре — мы движем колесо в стремительном вращении и радуемся, когда павшее до предела возносится, а вознесенное повергается в прах. Поднимись, если угодно, но при таком условии, что ты не сочтешь несправедливым падение, когда того потребует порядок моей игры»[151]. Игра Фортуны лишь на поверхности может восприниматься как не имеющая оснований переменчивость; сущность ее та же, что и природных превращений, происходящих в мире согласно правящему им закону. Непостоянство, бренность — непременные условия существования мира и всех вещей, его составляющих. В мире с завидным постоянством совершаются перемены, так что уже и сами они становятся устойчивыми моментами круговращения природы. Согласно Боэцию, Фортуна есть проявление порядка природы в человеческой жизни. Ни одно из благ, даруемых ею, равно как и ни одно из несчастий, не принадлежит ни ей, ни человеку, они есть лишь конкретные проявления общего миропорядка, доступные людям в непосредственной данности и психологически ими переживаемые. Постоянство чуждо не только природе Фортуны, но и природе человека. «Фортуна, когда гордая десница вершит перемены жребия, несется, как стремительный Еврип[152], - пишет Боэций. — К тиранам, ранее устрашавшим народы, она может стать жестокой и поднимает, неверная, склоненную голову поверженного. Она не слышит несчастных и равнодушна к рыданиям, смеется над стенаниями, которые сама же и вызывает. Так она играет. Так пробует свои силы. Ей привычно совершать чудесное, делая один и тот же миг губительным и счастливым»[153].
Символом Фортуны, отождествленной с природой, является стремительно вращающееся колесо — излюбленный образ в античном и во многом благодаря Боэцию, придавшему ему большую выразительность, в средневековом мире. Не знающее пощады вращение колеса Фортуны, символизирующее великое мировое круговращение, никому не предопределяет выигрыша заранее, перед ним все люди равны.
Связывая воедино Фортуну и провидение, природную изменчивость и абсолютное постоянство высшего разума, Боэций создает философскую концепцию Фортуны — судьбы, ставшую для средневековья «классической». Будучи переформулировано в терминах христианского мышления, понимание Фортуны как безличного начала, исполняющего волю бога, органично вошло в мировоззрение и культуру в целом. Такому переосмыслению, вероятно, способствовало и «наложение» на философскую концепцию представлений германских и кельтских народов о судьбе, выражавших идею глобального и всеобщего детерминизма, объективной необходимости, пронизывающей все в мире и заставляющей человека подчиниться ей.
Фортуна, хотя отчасти и сохраняет античные «одеяния», у средневековых писателей довольно мирно «уживается» со всемогущим богом-творцом, беря на себя роль орудия божественного управления, божественной справедливости. Теологическое развитие этой идеи дано Фомой Аквинским в его «Сумме теологии». Однако, указав на то, что все представляющееся в земном мире Фортуной или случаем имеет истинную причину в божественном провидении, он все же не отвергает полностью необходимость пользоваться дарами Фортуны, или мирскими благами, т. е. богатством, властью, славой, если они выпадают на долю человека. Налицо снятие жестких религиозных запретов и определенное моральное оправдание земной жизни, отражающие сдвиги в общественном сознании XIII в., непосредственно предшествующего началу Ренессанса.
Предвозрожденческие тенденции более полно и ярко проявились у Данте, давшего развернутое описание Фортуны в VII песни «Ада», где он повествует о грешниках, «кто недостойно тратил и копил»:
…Что есть Фортуна, счастье всех племен Держащая в когтях своих победных? «О глупые созданья, — молвил он, — … Тот, чья премудрость правит изначала, Воздвигнув тверди, создал им вождей, Чтоб каждой части часть своя сияла, Распространяя ровный свет лучей; Мирской же блеск он предал в полновластье Правительнице судеб, чтобы ей, Перемещать, в свой час, пустое счастье Из года в год и из краев в края, В том смертной воле возбранив участье, Народу над народом власть дая, Она свершает промысел свой строгий, И он невидим, как в траве змея. С ней не поспорит разум ваш убогий: Она проводит, судит и царит, Как в прочих царствах остальные боги. Без устали свой суд она творит: Нужда ее торопит ежечасно, И всем она недолгий мир дарит. Ее-то и поносят громогласно, Хотя бы подобала ей хвала, И распинают, и клянут напрасно. Но ей, блаженной, не слышна хула: Она, смеясь меж первенцев творенья, Крутит свой шар, блаженна и светла».У Данте, хотя над Фортуной возвышается бог, она не безвольное орудие, осуществляющее его замыслы. Фортуна — сила вполне автономная, управляющая миром поднебесным. Тем самым в каждом ее движении уже не усматривается прямое божественное вмешательство, в нем теперь не обязательно искать сокровенный безотносительный моральный смысл, что открывает для человека возможность самому оценивать, принимать или не принимать Фортуну (именно этот мотив имел особое значение в боэциевой концепции Фортуны).
Идея противоборства или возможного союза с Фортуной начинает доминировать в ренессансном мировоззрении. Людям Возрождения, которым было свойственно острое индивидуальное переживание действительности, высокая самооценка и вера в человеческие возможности, более близкими оказались абсолютизация Боэцием в Фортуне изменчивости и непредсказуемости, олицетворения случая, способного даровать счастье, удачу или принести несчастья, случая, который надо преодолеть или не упустить, и, наконец, призыв противостоять Фортуне, полагаясь лишь на собственные силы.
Боэциевы мотивы получают развитие в сочинении первого гуманиста поэта Франческо Петрарки «О средствах против всякой Фортуны». «Индивидуальное переживание действительности, символизированной Фортуной, порождает целиком личное, эмоционально окрашенное, чаще всего недоверчивое к ней отношение. Она рисуется коварной и опасной у Поджо, завистливой к достоинствам человека, о каковом ее качестве особенно часто упоминает Кастильоне, притворной, лживой, вероломной, о чем не устает предупреждать Петрарка, иррациональной, согласно Понтано, наконец, по общему мнению, как женщина капризной и непостоянной»[154].
В этих условиях переосмысляется развитое Боэцием понимание взаимоотношения мудрости и судьбы. Большое значение придается не мудрости как таковой, не созерцанию, а доблести и действию, способности не только противостоять Фортуне, но обуздать ее и обратить на пользу себе, иным становится и этический идеал. Однако линии, ведущие к «последнему римлянину», прослеживаются в «Изгнании торжествующего зверя» Джордано Бруно, в котором восхваляется торжество Фортуны в мире, создается ее своеобразный аллегорический апофеоз. Завершающее «историю» Фортуны в эпоху Возрождения сочинение как бы перекликается с «Утешением», замыкавшим античность и знаменовавшим начало средневековья.
«Прекрасный мир с прекрасными частями»
Разум — это истинный бог Боэция, однако было бы неверно представлять автора «Утешения» сухим рационалистом. В не меньшей степени, чем стройностью логических конструкций, он мог и наслаждаться красотой мира, образно и поэтично воспевать в великолепных гимнах, и анализировать ее с помощью философских методов. Не случайно эстетические воззрения — важная часть философской системы «последнего римлянина», которого можно считать в определенной степени и одним из основоположников средневековой эстетики.
Мысль о прекрасном постоянно волновала Боэция. Ответы на вопросы о том, в чем заключена гармония мира, гармония мира и человека, что такое красота и каковы ее конкретные проявления, он искал, начиная с ранних сочинений — «Наставления к арифметике» и «Наставления к музыке», и даже ожидание казни не сделало его мироощущение мрачным и пессимистическим. До последнего часа философ верил в неизбежность торжества разума, блага и красоты.
В эстетике Боэция можно условно выделить три основных раздела: 1) учение о числе как эстетическом первопринципе и его модификациях; 2) музыкальную эстетику, в которой основное внимание уделено рассмотрению гармонии, определению музыки и ее задач (более широко — искусства вообще), психологическому и моральному воздействию музыки на человека; 3) раскрытие понятия эстетического предмета, завершающееся своеобразной иерархической концепцией прекрасного.
Отправной точкой эстетики Боэция, как и его философской системы в целом, является представление о том, что мир устроен по образу, покоящемуся в высшем разуме: «Происхождение всего сущего и то, каким образом все движется, причины, порядок, формы берут начало из неподвижности божественного разума… Заключенный в круг своей простоты, он располагает образом многообразия всего сущего»[155]. Этот первообраз отождествляется Боэцием с числом (в этом он следует пифагорейско-платоновской традиции, придававшей исключительное значение не только математическому выражению мировых связей, но и их математическим основаниям).
Посредством соединения числа-образа с материей происходит отчуждение бытия от высшего разума и развертывание бытия во времени, с тем чтобы оно снова возвратилось к своему первоначалу. Таким образом, бытие и структура всего сущего рассматриваются философом как рациональные и математические. «Все созданное из первичной природы вещей… сформировано расположением чисел», — утверждает Боэций. В числах кроется начало многообразия сочетаний четырех элементов, составляющих физическую основу мира. Они определяют смену времен года, движение светил, вращение неба. По их примеру «располагаются» обычаи людей[156].
Число составляет сущность вещи, но в то же время оно представляет собой некое энергийное начало, сообщающее форму материальным объектам, поскольку материя, если она не соединена с числом, бесформенна и инертна. Следовательно, по Боэцию, число определяет внутреннюю и внешнюю структуру вещи, т. е. выступает в качестве эстетического первопринципа, В то же время благодаря числу осуществляется соединение всего сущего. Числа не только причины вещей, но и посредники, связывающие идеальное бытие с материальным миром. Для «последнего римлянина» именно в числах кроется источник единообразного строения мира, его гармоничности.
Философ определяет число как собрание единиц-точек, или как количественное множество, составленное из единиц. Первое определение носит пифагорейско-платоновский характер, второе, по-видимому, восходит к Аристотелю. Однако первое, структурное, понимание числа у Боэция преобладает.
Единица, лежащая в основе числа, как и точка, неделима. Она выступает как бы «математическим атомом». Подобно тому как единица, не являясь числом в собственном смысле, все же оказывается началом чисел, как бы содержа в себе весь их поток, так и точка, «не вмещая никакой длины» и «не будучи ни промежутком, ни линией», все же порождает протяженность. В этом — тождество единицы и точки.
Чтобы образовать число, единицы-точки должны быть расположены на каком-то расстоянии друг от друга. Здесь нашло отражение присущее античности представление о связи между понятием числа и пространственной протяженности. Число представляется Боэцию пластически в виде линии, фигуры на плоскости или объемного тела. Так возникают числа линейные, треугольные, четырехугольные, многоугольные, пирамидальные, многогранные и т. д. В основе всех фигурных чисел лежит треугольник. Такое наглядное изображение чисел берет начало в пифагорейском учении и свидетельствует об исключительной живучести структурно-пластического понимания числа.
С другой стороны, Боэций трактует числа как диалектическое единство противоположностей: «Всякое число, следовательно, состоит из совершенно разъединенного и противоположного, а именно из чета и нечета. Ведь здесь стабильность, там — неустойчивое изменение; здесь — крепость неподвижной субстанции, там — подвижная переменчивость; здесь — определенная прочность, там — неопределенное скопление множества. И эти противоположности тем не менее соединяются в некоей дружбе и родственности и, посредством формы и власти этого единства, образуют единое тело числа»[157].
Устойчивое мужское начало воплощено в единице, так как она «первична и не составлена и, единственная из всех чисел, не измеряется никаким другим числом, она мать всего». Единица олицетворяет стабильность и определенность. Двойка таит в себе источник переменчивости, неустойчивости и неопределенности. Она несет женское начало, потенциально содержа в себе возможность бесконечного числа вариаций. Боэций не углубляется, подобно Макробию, Марциану Капелле или Августину, в рассуждения о мистических свойствах чисел, ограничиваясь характеристикой единицы и двойки.
Понимание числа как диалектического единства противоположностей тесно связано с онтологическими представлениями Боэция, берущими начало в философии Платона и неоплатоников. Главным условием бытия он считает единство: «Все, что существует, до тех пор лишь продолжается и имеет бытие, пока является единым, но обречено на разрушение и гибель, если единство будет нарушено»[158]. С исчезновением единства уже нельзя говорить о том, что та или иная вещь существует. Число, полагает «последний римлянин», олицетворяет принцип единства, господствующий во всем сущем. Подобно тому как число соединяет в себе противоположные начала, составляющие его единство, в мире также осуществляется постоянное слияние противостоящих друг другу вещей и начал. Следуя высшему мировому закону, «враждебные начала сохраняют вечный союз»:
В мире с добром постоянным Рядом живут перемены, Вечен союз двух враждебных, Разных вполне оснований. Феб на златой колеснице Розовый день нам приносит. Геспер восходит ночами. Море смиряет волненье. И не дозволено суше В водный простор разгоняться. Связью единой скрепляет Все лишь любовь в этом мире, Правит землею и морем, И даже небом высоким. Если бразды же отпустит, Все, что слилось воедино, Сразу к борьбе устремится. Все, что рождает движенье В дружном согласии, мигом Гневным противником станет, Мир повергая в руины. Только любовь и способна Смертных в союзе сплотить всех. Таинство брака чистейших Свяжет влюбленных навеки, Верным диктуя законы. Счастливы люди, любовь коль Царствует в душах. Любовь та правит одна небесами[159].Любовь — это одухотворенная гармония, царящая в мире. Боэций не сомневается, что мир гармоничен и разумно устроен. Гармонию мироздания, мировой порядок он считает возможным выразить через посредство категории числа: «Небесполезно, стало быть, и не без оснований те, кто, рассуждая о нашем мире и общей природе вещей, исходили именно из этого деления субстанции всего мира. Так, Платон в „Тимее“ говорит о всем сущем в мире как имеющем ту же самую и иную природу и одно полагает пребывающим в своей природе неделимым, неслитым и первоначальным, иное же — делимым и никогда не пребывающим в состоянии своего же собственного порядка. А Филолай[160] утверждает: необходимо, чтобы все существующие вещи были или бесконечны, или конечны, то есть он хочет доказать, что все сущее состоит из этих двух из конечной природы и бесконечной — без сомнения, наподобие числа, которое слагается из единицы и двойки, из нечетного и четного, каковые, очевидно, суть определенные и неопределенные субстанции равенства и неравенства, того же самого и иного. И потому сказано не без причины — все слагающееся из противоположностей объединяется и сочетается некоей гармонией. Ибо гармония есть единение многого и согласие разногласного»[161].
Мир в интерпретации Боэция предстает как гармоническое соединение конечного и бесконечного, дискретного и непрерывного. Мысль о гармоничности, или музыкальности, бытия пронизывает всю философию «последнего римлянина». Отождествление понятий гармоничности и музыкальности, столь явственно прослеживающееся у философа, характерно как для античной, так и для средневековой эстетики.
Существование гармонии, согласия, созвучия Боэций находит во всем — в числе, в соединении четырех элементов, в чередовании времен года, в звуках, в человеческой душе. Только посредством гармонии сливаются в единую систему небесные сферы. Мир наделен гармонией, чтобы «прекрасные части слились в прекрасный мир»[162]. Гармония — основной закон, которым связано все в мире. Ее можно «уподобить сладкой игре на податливой кифаре»[163]. Гармоническое единство мира было бы невозможно, «если бы не существовало Единого, сочетающего столь различное и несогласное»[164]. Только Единое, высший разум, направляя все к единой цели — высшему благу, сочетает посредством гармонии противоположности, не давая вражде их разрушить мир. Высшее благо заключено в высшем разуме, но достичь его может лишь то, что по природе своей согласовано и едино. Таким образом, обретение блаженства, или высшего блага, являющееся основной целью бытия, обусловливается внутренним единством всего сущего, выступающего как результат гармонического соединения противоположных начал.
Основным принципом гармонического единства во всем, утверждает Боэций, представляется мера. Он определяет эту категорию с музыкальной точки зрения. Мера есть то, «что не позволяет понижению [звука] дойти до полного безмолвия, а в струнах высоких соблюдается такая мера высоты, которая не позволяет сильно натянутой струне лопнуть от тонкости звука; поэтому в музыке мира, очевидно, не может быть ничего настолько чрезмерного, чтобы оно своей чрезмерностью разрушало другое»[165]. Мера должна соблюдаться как в количественных, так и в качественных соотношениях. Так дается мера стихиям, сочетаются холод и жар, влажность и сухость, «чтобы они уступали друг другу во взаимном доверии», так соизмеряется с достоинствами и крепостью души человека мера его счастья и несчастья.
Гармоническое единение всего сущего происходит на основе пропорциональных соотношений. Учение о пропорциях изложено Боэцием в пифагорейско-платоновской трактовке. Желая создать всеобщую картину музыкально-математической пропорциональности, он в своих «Наставлениях к арифметике», помимо трех основных типов пропорций — арифметической, геометрической и гармонической, выделяет еще семь. Именно пропорциональные соотношения определяют степень приятности музыкальных созвучий, пластическую красоту видимых форм. Прекрасное для Боэция есть прежде всего соразмерность, пропорциональное соединение частей.
Космос, по Боэцию, также построен на принципах музыкальной пропорциональности. Отношения между сферами неба равны отношениям, выражающим музыкальные интервалы. Семь небесных сфер составляют музыкальный гептахорд[166], в котором каждая планета соответствует определенной струне кифары, т. е. космос представляется в виде гигантского, особым образом настроенного музыкального инструмента, — идея, весьма характерная для античной эстетики.
Пропорции выступают, по мнению философа, и в качестве аналога государственного устройства. Арифметическая пропорция сравнивается с государством, управляемым немногими, возможно монархией; гармоническая олицетворяет собой республику оптиматов, или аристократическую олигархию; геометрическая пропорция — символ демократического государства. Развивая античную теорию пропорций, Боэций придает исключительное значение их толкованию как одному из основных аспектов математики и теоретической музыки.
«Последний римлянин» относил музыку, как мы уже упоминали, к числу математических дисциплин, поскольку в ее основе лежит познание числовых модуляций. Но вместе с тем он отмечает, что «всякое восприятие чувств настолько непосредственно и естественно свойственно всем живым существам, что без него нельзя и представить себе, что такое есть животное»[167]. Однако невозможно получить верное и устойчивое представление о чем-либо, основываясь только на свидетельстве чувств, ибо природа самих чувств известна не всегда и не любому человеку. И подобно тому как всякий видящий треугольник или квадрат не может сам правильно судить об их сущности, а вынужден спрашивать об этом у сведущего в науке математики, так и человек, воспринимающий звуки, должен о природе их справляться у знающего науку музыки, т. е. только разум может судить о различиях в звуках.
Развивая столь показательную для античной эстетики мысль о том, что «музыка связана с нами настолько естественно, что мы, даже если бы захотели, не могли бы лишиться ее», Боэций тем не менее разъясняет: «Следует напрячь силу мысли, чтобы тем, что дано нам природой, могла также овладеть и наука. Ведь как и в случае зрительного восприятия, когда недостаточно видеть цвета и формы, а требуется исследование их природных качеств, так и при слушании музыки недостаточно лишь наслаждаться музыкальными кантиленами (напевами. — В. У.), а требуется знать, какие пропорции звуков связывают их»[168]. Наука музыки изучает ту музыкальную гармонию, которая естественно присуща миру и человеку и связывает воедино космос, человека, явления природы; их внутреннее строение определяется гармонической пропорциональностью. Музыка то, что соединяет их, составляет суть их родства. Все в мире гармонично и поэтому музыкально, мир органично един и разумен. Это пифагорейско-платоновское понимание гармоничности мира пронизывает всю музыкально-эстетическую концепцию Боэция. Гармония, царящая в мире, может быть познана музыкантами, суждения которых основываются на разуме, а не на свидетельствах чувств. Но все же, если бы человек был совершенно лишен слуха, то он не мог бы обладать способностью к различению высоких и низких тонов, поскольку они оцениваются и чувством и разумом. Чувства играют подчиненную роль по отношению к разуму, оценивающая способность разума гораздо выше таковой у чувств[169].
«Чувство и разум представляют собой как бы инструменты гармонической способности: чувство схватывает смутно и приблизительно в предмете то, что составляет сущность этого ощущаемого предмета, тогда как разум судит о целом и, проникая вглубь, выявляет различия. Итак, чувство обнаруживает нечто смутное и приближающееся к истине, но целостное представление — результат деятельности разума»[170].
В соответствии с оценкой взаимоотношений разума и чувств Боэций полагал, что «всякое искусство и всякая наука по природе имеют более почетный порядок, чем ремесло»[171], поскольку первые связаны с разумом, а второе — с чувством и мастерством. Мысль о том, что «гораздо важнее знать природу дела, чем самому делать то, что знаешь», — лейтмотив «Наставлений к музыке». Философ четко разграничивает область разума и действий, теории и практики; в его глазах более высокое положение занимает «наука музыки, основанная на разуме, чем искусство исполнения [музыки]». Духовная деятельность преобладает над телесным искусством — ремеслом, поскольку «рассудок выше тела, а тело, лишенное разума, пребывает в рабстве». Со свойственным ему стремлением к предельной четкости определений Боэций столь резко разграничивает сферу умственной и физической деятельности, что практически совершенно не уделяет внимания музыке исполнительской, доводя до крайности характерную для античной музыкальной эстетики мысль о выделении из сферы искусства части, «касающейся, скажем, счисления, измерения и взвешивания», но в то же время он признает существование музыки, «строящейся не на мере, но на чуткости, приобретаемой упражнением»[172]. Эта идея именно в формулировке «последнего римлянина» и была воспринята средневековой эстетикой.
Боэциево же определение музыканта для средних веков стало классическим: «Тот является музыкантом, кто приобщился к музыкальной науке, руководствуясь точными суждениями разума, посредством умозаключений, а не через исполнение»[173]. Абстрактное теоретизирование противопоставляется в данном случае исполнительскому мастерству, однако далее Боэций все же упоминает музыкантов-исполнителей, правда отводя им крайне незначительное место. В «Наставлениях к музыке» выделяются три типа людей, имеющих отношение к музыке: те, кто играют на инструментах, те, кто слагают песни и стихи, и те, кто судят об исполнении на инструментах и о песнях. Люди, играющие на инструментах, например кифареды, органисты и им подобные, доказывающие свое искусство непосредственным исполнением музыки, не имеют о ней реального знания, поскольку труд их лишь ремесло, отделенное от всякого умозрения, составляющего сущность музыки. Поэты, относящиеся ко второму типу, стоят несколько выше первых, так как, по-видимому, наделены природной склонностью к сочинению песен, но лишены способности к суждению о них. И только третьи, обладающие опытом умозрения и могущие судить о ритмах и кантиленах, ладах и песнях, основываясь на оценках разума, суть действительно музыканты.
В своих умозрительных рассуждениях боэциев музыкант сталкивается с тремя видами музыки: «Первая — это музыка мировая, вторая — человеческая, третья — предназначенная для тех или иных инструментов, как-то: кифары, флейты и им подобные…»[174] Трактовка космоса как некоего особым образом организованного музыкального инструмента колоссальных размеров аналогична пифагорейской, изложенной в платоновском «Тимее» и аристотелевском «О небе».
По мнению Боэция, музыку, «и особенно первую, мировую, следует прежде всего искать в устройстве самого неба, в сочетании элементов или в разнообразии времен года. Ведь невозможно, чтобы махина неба столь быстро двигалась в бесшумном и беззвучном беге»[175]. И даже если звуки, сопутствующие движению небесных тел, не улавливаются человеческим ухом, то это не есть результат их отсутствия, а лишь следствие того, что мы с рождения привыкаем к ним. Между небесными телами существует гармония, «нельзя и представить что-либо иное, что отличалось бы такой слаженностью и было бы столь приспособлено друг к другу»[176].
Второй вид — музыка человеческая. Ее понимает всякий, кто углубляется в самого себя. Ведь «что иное сочетает бестелесную живость разума с телом, как не согласие и некое гармоничное соотношение, подобное тому, которое рождает единое созвучие из низких и высоких голосов? Что иное соединяет друг с другом части души, состоящей, как полагал Аристотель, из частей рациональной и иррациональной? Что связывает друг с другом элементы тела или должным образом согласует одну с другой его части?»[177]. Человеческая музыка — гармония души и тела. Душа, в свою очередь, гармония тела. Трактуя душу в таком аспекте, Боэций ближе скорее не к Аристотелю, на которого ссылается, а к его последователю Аристоксену, испытавшему сильное влияние пифагореизма.
Третий вид музыки — инструментальная. «Она получается либо путем натягивания, например жил, либо путем выдыхания, как в флейтах, либо посредством инструментов, приводимых в движение водой или каким-то ударом, например по вогнутым медным инструментам, отчего получаются различные звуки»[178]. Теория звуковой, инструментальной музыки, казалось бы, и является предметом Боэциевых «Наставлений», но эта теория очень отделена от современной ему музыкальной практики.
Боэцием разрабатывается вопрос о музыкальном этосе (настрое). Боэций полагал, что «ничто так не свойственно человеческой природе, как расслабляться от сладких ладов и укрепляться от противоположных им»[179]. Этому подвластны все возрасты и все темпераменты. Ссылаясь на Платона, автор «Наставлений» развивает далее мысль о взаимосвязи между различием ладов и различием в нравах. Исходя из того, что «подобие дружественно, а отсутствие подобия ненавистно и разделено на противоположности», он приходит к выводу: «Распутный дух или получает наслаждение от разнузданных ладов, или при частом восприятии их расслабляется и бывает побежден ими. Наоборот, ум суровый или радуется более энергичным ладам, или закаляется ими».
Согласно своему характеру, каждое племя более склонно к какому-либо определенному ладу, наиболее соответствующему ему своим этосом. По имени племени получал название и излюбленный им лад, например лидийский, фригийский, дорийский. «Веселит же каждое племя лад, соответствующий его характеру, и не может случиться, чтобы мягкое сочеталось с жестким, жесткое с мягким и радовалось этому, но, как говорится, любовь и наслаждение обретают меру через подобие. Вот почему Платон полагает, что прежде всего следует опасаться какой-либо перемены в уравновешенной музыке. Он утверждает, что в государстве нет большей опасности для нравов, чем постепенный отказ от музыки стыдливой и скромной»[180]. Платон самым подходящим ладом для воспитания юношества считал дорийский (суровый, мужественный и строгий) и допускал использование фригийского. Аристотель критиковал Платона за это допущение, потому что фригийский лад носит разнузданный, оргиастический характер. Боэций не акцентирует внимание на характеристиках этоса каждого лада в отдельности. Он лишь отмечает, что «народы более суровые наслаждаются более жестокими ладами гетов[181], а люди более мягкие — ладами средними»[182].
Музыка оказывает такое сильное воздействие на людей потому, что «нет лучшего пути учения, чем через уши. Поскольку, стало быть, через них достигают глубин души ритмы и лады, нет сомнения, что они-то и воздействуют на чувства, делая их сообразными им самим»[183]. Очевидно, что для Боэция музыка важна не как способ внутреннего самовыражения человека, но как средство воздействия на его нравственное состояние. Он подчеркивает лишь одну сторону музыки, что свойственно античной эстетике в целом, отводившей музыке чаще прикладную роль. В период античности музыкальное искусство считалось скорее упражнением, чем выражением души, подобно тому как гимнастика служила упражнением для тела. Музыкальное воспитание призвано было наилучшим образом формировать общественного человека, отсюда и тяготение древних к ладам сдержанным и мужественным.
Боэций сетует на то, что в его время род человеческий развратился, лишился мужественности и предпочитает сценические и театральные лады. Он указывает, что музыка оставалась более стыдливой и скромной, пока пользовалась более простыми инструментами. Если Платон в своем идеальном государстве отводит место кифаре и флейте, а Аристотель — только кифаре, то Боэций лишь выражает пожелание, чтобы музыка была более скромной, обходя стороной вопрос о наиболее подходящих для этой цели инструментах. Однако философ полностью согласен с Платоном, который «предписывает вовсе не обучать юношей всем ладам, отдавая предпочтение действительно ценным и простым… А потому считал, что лучшая охрана государства — музыка степенная и достойным образом слаженная, а не дикая или разнообразная»[184].
В подтверждение Боэций приводит рассказ о лакедемонянах (спартанцах), весьма строгих в отношении воспитания, пригласивших для обучения своих детей Тимофея Милетского. Спартанцы разгневались на него за то, что, прибавив к струнам лиры еще одну, он сделал музыку разнообразнее и тем самым повредил душам мальчиков, взятых на обучение, направил их на стезю, уводящую от скромности и добродетели; и за то, что гармонию, которую он получил скромной и достойной, обратил в хроматический строй, более изнеженный и женственный.
Разделяя точку зрения античных авторов на музыку как действенное средство воспитания, «последний римлянин» подчеркивает, что она также способна подавлять гнев и воздействовать положительно на различные состояния души и тела. Пифагору, например, напоминает автор «Наставлений», с ее помощью удалось усмирить буйство пьяного юноши, возбужденного звуками фригийского лада.
Музыка может быть использована и для врачевания. На это особое внимание обращали пифагорейцы. Боэций ссылается на историю Ариона из Метилены, избавившего посредством своего пения жителей Лесбоса и Ионии от болезней, вспоминает Исмения Фиванского, излечившего многих беотийцев, которых мучили сильные подагрические боли, Эмпедокла и Гиппократа, также врачевавших некоторые заболевания с помощью музыки.
Силу морального, магического и медицинского воздействия музыки философ видит в том, что состояния человеческой души и тела подчинены в известном смысле тем же самым пропорциям, которые обусловливают и создают гармонические модуляции. Музыка оказывается созвучной тому, что уже есть в нас самих. Она вызывает ответное движение в душах людей, поскольку представляет собой определенным образом организованное движение. Музыка сопричастна человеку и органично с ним связана, она не может быть от него отделена. И отсюда следует вывод, что нельзя лишь довольствоваться наслаждением, получаемым от восприятия музыки, но необходимо знать математическую, пропорциональную ее основу, поскольку эти пропорции аналогичны пропорциональной структурности человеческой души. Обязательным условием возникновения эстетического переживания является наличие в воспринимаемом объекте определенного аналога знания и чувственности, заключенного в том, кто воспринимает. Однако лишь разум может дать адекватное, соответствующее знание о предмете, поскольку чувство «схватывает только форму, овеществленную в материи», разум же постигает суть вещи, то общее, что в ней содержится.
Как же Боэций определяет понятие «прекрасного»? Прежде всего «прекрасное есть соразмерность частей». Понимание прекрасного у философа оказывается тесно связанным с такими категориями, как гармония, мера, согласованность, единство формы. Лишь то, что находится «в дружественном согласии», может быть прекрасным. Следовательно, прекрасное должно обладать внутренним и внешним единством. Прекрасное — то, что услаждает взор и слух. Сияние и блеск, ясность — также необходимые атрибуты прекрасного. В красоте небесных светил Боэций как основной их признак подчеркивает сияние, в красоте драгоценных камней — их блеск и т. д. Для него предмет оказывается прекрасным не только благодаря своей собственной природе, т. е. объективно, обладая внутренней соразмерностью, будучи единым и отличаясь блеском или сиянием, но и в зависимости от субъективного восприятия по степени приятности, доставляемой ими взору или слуху воспринимающего.
В «Утешении» Боэций воспевает красоту и соразмерность мира, в которых, по его мнению, «проявляется то, что вдохновляет жизнь во вселенной». Однако наряду с восхищением при этом звучит мотив сожаления о бренности и неустойчивости красоты земной и человеческой. Это происходит потому, что в разных частях мироздания присутствует неодинаковая степень красоты. Высшая, истинная красота заключена в Едином. Она вечна и совершенна. Единое источник света и сияния, обладающий неделимостью и простотой. Этот источник бытия и есть причина и образец совершенной красоты. Сам наипрекраснейший, он содержит в себе образ прекрасного мира. Однако красота мира ниже изначальной красоты, так как мир существует во времени, и красота его преходяща и всегда имеет какой-либо изъян.
Эта концепция красоты связана с неоплатоновским учением об эманации (истечении) Единого. Почти одновременно с Боэцием в Византии ее детально развивает христианский неоплатоник Псевдо-Дионисий Ареопагит. Боэций отмечает: «Все, о чем говорится как о несовершенном, проистекает вследствие выделения несовершенного из совершенного. Природа того, откуда все сущее берет начало, неделима и совершенна, однако по мере удаления от божественной сущности оно вырождается в нечто ограниченное и разобщенное»[185]. Высшее начало является наипрекраснейшим, в нем же заключено высшее благо. И подобно тому как в земных благах нельзя найти совершенное счастье, земная красота также лишена подлинного совершенства и содержит лишь часть высшей нетленной красоты, венчающей пирамиду прекрасного.
У подножия этой пирамиды находится красота вещей неодушевленных. Человеческий взор наслаждается блеском драгоценных камней, видом богатой одежды. «Но то, что присуще этому поразительному сверканию, эта роскошь камней не принадлежит людям… Как происходит, что нечто, лишенное движений души и тела, кажется действительно прекрасным одушевленному существу, наделенному разумом?»[186] — поражается философ. В драгоценных камнях должна прежде всего привлекать не поверхностная красота, но «труд создателя и их своеобразие». И драгоценности, и красивая одежда, по его мнению, не обладают истинной красотой. Они ниже человека по природе, и, следовательно, эстетическое наслаждение, вызываемое ими, обманчиво.
Человека радует красота природы, людей восхищает вид зеленеющих полей, спокойного моря, весенних цветов. Эта красота выше прелести драгоценных камней или одежды, ибо она одушевлена и более приближена к первоначалу сущего. Но и она отделена от человека. Красота окружающего мира лишь источник наслаждений для взора. По природе сущего она тоже не принадлежит человеку. Эстетическое наслаждение, вызываемое этой красотой, представляется Боэцию «пустыми утехами», ибо красота отделенных от человека вещей является случайной, внешней, воспринимаемой лишь чувственно. Она преходяща, бренна и не имеет для человека подлинной ценности, не затрагивает его собственной природы.
Мысль эта тесно связана с этической концепцией автора «Утешения». Красоту, как и истинное благо, следует искать не во внешних вещах, а в душе человека. «Разве таков порядок мира, чтобы существо, сопричастное божественному разуму, могло блистать не иначе как через обладание неодушевленными предметами? Другие [существа] довольствуются принадлежащим им, вы же, разумом подобные богу, ищете в низменных вещах украшение отличнейшей природы и не понимаете, какое оскорбление вы наносите своему происхождению… Ваше заблуждение простирается столь далеко, что вы считаете, что вам может придать блеск чужая красота, но это невозможно; ведь если нечто приобретает блеск благодаря украшениям, то прославляется само то, что приложено, скрытое же под ним сохраняет свое безобразие»[187].
Красота человеческого тела представляется Боэцию явлением более высокого порядка, чем красота отделенных от человека вещей. Но и на ней лежит отпечаток бренности, присущей всему земному. Поэтому не следует желать красоты лица и тела. Ведь то, что вызывает восхищение, может быть уничтожено болезнью. С этической точки зрения красота относится к числу внешних благ, «которые и не указывают пути к блаженству, и сами не делают людей блаженными». Эта красота лишь следствие несовершенства зрительного восприятия человека: «Если бы, как говорит Аристотель, люди обладали глазами рыси, то они своим взглядом проникали бы через преграды. И если бы существовала возможность проникнуть взором внутрь человеческого тела, разве не показалось бы безобразным тело Алкивиада[188], обладавшего прекрасной наружностью? Следовательно, то, что ты кажешься прекрасным, определяется не твоей природой, но слабостью взирающих на тебя глаз»[189].
Характеризуя различные виды красоты, заключенной в чувственно воспринимаемых вещах, в природе и человеке, философ утверждает, что красота эта не является сущностной, истинной. Она носит чисто внешний характер, «более быстротечна и склонна к исчезновению, чем изменчивость весенних цветов». Для того чтобы познать истинную, нетленную красоту, надо обратиться к «дивному образу неба».
Эстетическая концепция Боэция, составляющая один из важных аспектов его учения в целом, сложилась в эпоху перехода от античности к новому типу культуры, характеризующемуся господством христианской церкви. Однако при этом «последний римлянин» не выходит, по существу, за рамки античной философской традиции. Это особенно характерно для его ранних произведений, содержащих трактовку числа и теоретических проблем музыки. Здесь Боэций излагает основные моменты пифагорейско-платоновской музыкально-математической теории. В своей интерпретации числа и некоторых других положений он, возможно, выглядит более «архаичным» и теснее связанным с древней традицией, чем, например, Августин, живший раньше него. Но ценность боэциева учения о числе и музыке не в новизне трактовки, а, напротив, в сохранении и систематизации античных знаний. Благодаря ему для последующих поколений стали доступными целые фрагменты из сочинений античных авторов о музыке, в частности Аристоксена, Филолая и даже современника «последнего римлянина» Альбина. От Боэция берут начало многие современные музыкальные термины, переведенные им на латинский язык с греческого, такие, например, как консонанс, диссонанс и др.
«Все крупные теоретики последующего тысячелетия воспитывались на трактате Боэция „Наставления к музыке“. Особенно значительным был его авторитет в средние века, когда буквально все музыкально-теоретические сочинения были испещрены ремарками: „Как сказал Боэций“, „Боэций утверждал“, „Согласно Боэцию“ и т. д. Для того чтобы читатель полностью поверил в справедливость высказываемых положений, средневековому автору нужно было прежде всего сослаться на авторитет Боэция…»[190] В эпоху Возрождения «Наставления к арифметике» и «Наставления к музыке» также высоко оцениваются, однако уже не как учебники, а как «памятники культуры», содержащие подробное изложение знаний древности, как источники по истории античной математики и музыки.
Более широкая эстетическая концепция, представленная в «Утешении», активно влияла на средневековую литературу и эстетику и своими теоретическими положениями, и самой системой аллегорий и поэтических образов. Боэций выступил как теоретик красоты гармонической и пропорциональной, выдвинув разум в качестве основного критерия эстетического восприятия. И до настоящего времени сочинения Боэция продолжают оставаться в числе основных источников, откуда ученые и музыканты черпают сведения по истории античной эстетики и музыкальной теории.
Не рвется связь времен
Своим творчеством Боэций решал задачу, поставленную его временем, которое было одним из узловых пунктов исторического развития, требовавшим синтеза прошлого и интуиции будущего. Под пером Боэция элементы античного знания и философии превращаются в строительный материал для новой системы мышления, новой культуры. Философ не только охвачен предчувствием этого будущего, но и реально помогает ему взрасти не на вытоптанном поле, но на ниве, подготовленной к посеву сложной духовной работой многих поколений. Боэций был сыном своего времени, но благодаря интуиции будущего стал «своим» и для средневековья. Этому способствовали многие причины, однако в значительной степени и то, что в Боэции не было непонятности, неразгаданности гения, но строгая логика, доступность в изложении сложнейших философских проблем, «прозрачная» универсальность, сочетающаяся с художественной образностью и аллегоризмом, не затемняющими, а, напротив, высвечивающими существо кардинальных вопросов бытия, мира и человека. Боэций писал, чтобы быть понятым, и это ему удалось.
Боэций подтвердил провозглашенные им истины своей жизнью и смертью. Вскоре после гибели «последнего римлянина» неизвестный поэт начертал на его могиле: «Здесь покоится Боэций, толкователь и питомец Философии, стяжавший славу, достигшую звезд. Его превозносит Лациум[191], о нем скорбит поверженная Греция. Но не погиб ты от чудовищного злодеяния тирана. Твое тело принадлежит земле, но имя переживет века!» Безвестный поэт оказался хорошим пророком, Боэция, отнюдь не обделенного признанием современников, не забыли и потомки.
«Утешение» с удовольствием читали в подлиннике на латинском языке, начиная со времени его появления и вплоть до нового времени, но все же делать это могли сравнительно немногие образованные люди, хорошо знавшие древний язык, ставший официальным языком западноевропейской средневековой цивилизации. Однако еще в раннем средневековье появились переводы и переложения сочинения Боэция на еще только зарождавшиеся национальные языки.
В IX в. англосаксонский король Альфред перевел «Утешение» на живой язык того времени — староанглийский. С этого момента творение «последнего римлянина» стало активно влиять на развитие складывающихся европейских литератур на народных наречиях. На рубеже Х- XI вв. «Утешение» в переводе Ноткера Косноязычного зазвучало по-верхненемецки. В XI в. появляется версия (переложение) «Утешения» на провансальском языке. XII в. стал временем поистине огромного интереса к Боэцию. Его авторитет в науках, логике, философии, поэзии, музыке чрезвычайно возрос. Многочисленным пересказам «Утешения» был подведен определенный итог в XIII в. французским поэтом Жаном де Меном, перевод которого пользовался широкой известностью.
На итальянский язык «Утешение» переводилось несколько раз, в том числе учителем Данте Брунетто Латини, а в XIV в. — Альбертом Флорентийским. Сочинение Боэция читали и в Византии в греческом переводе Максима Плануда (XIV в.). Тогда же новый перевод «Утешения» на английский язык сделал великий английский поэт Чосер. Среди переводчиков «Утешения» Боэция была и английская королева Елизавета I, в шекспировской Англии «последний римлянин» был хорошо известен. Существовали также многочисленные версии «Утешения» на «новоевропейских» языках, весьма вольные, но являвшиеся относительно «массовой» литературой той поры.
Почему же коронованные особы, ученые и поэты переводили и пересказывали Боэция? Конечно, знание его сочинений входило в обязательный «интеллектуальный набор» и в начале средневековья, и на его исходе. Образованный человек в средневековой Западной Европе не мог не знать Боэция. Знать же его глубоко, иметь о нем тонкое суждение было своеобразным свидетельством высокой образованности, знаком особого культурного престижа. Но чтобы достичь этого, достаточно было изучить «Утешение» в оригинале, особенно в конце средневековья, когда знание латыни уже само по себе становилось признаком некоей культурной элитарности.
Представляется, дело было в том, что переводчики «Утешения» считали необходимым довести его до широкого круга читателей, сделать его более близким для времени, в котором жили. Они стремились, чтобы приобщение читателей к «Утешению» было более интимным, человечным, чтобы это сочинение становилось не вызывающим любопытство раритетом, но действующим элементом культуры их времени.
Король Альфред, который весьма пекся не только о благосостоянии, но и о духовном здоровье народа, счел, что едва ли для просвещения подданных можно найти лучшее произведение, нежели боэциево «Утешение». Человек, познакомившийся с этим произведением, получал представление о макрокосме и микрокосме, обретал универсальное знание, наставления в правильной жизни, преподанные в форме поэтической аллегории, утоление душевных мук. О том, сколь непосредственно Альфред воспринимал «Утешение», свидетельствует хотя бы тот факт, что Фортуна под его пером обрела черты представлений германских народов о судьбе, ссылки на римскую мифологию и историю были заменены примерами из германской мифологии и истории англосаксов. Если бы король переводил «Утешение» только для себя, ему едва ли бы понадобились такие замены. Альфред, как представляется, стремился сделать «Утешение» понятным своим современникам.
Эрудит из Сен-Галена Ноткер считал, что знание усваивается лучше, если преподнесено не на латинском, а на родном языке. (Мнение для того времени неординарное и прогрессивное.) Он больше заботится о точности перевода, тщательно подыскивает верхненемецкие эквиваленты латинским понятиям. Перевод Ноткера сохранял широкое хождение в Германии вплоть до XV в. Показательно, что интерес к «Утешению» не угас в Германии и в XVIII в., когда по требованию жены Фридриха I Софьи Шарлотты, чьим другом являлся выдающийся философ Лейбниц, оно было опубликовано в новом немецком переводе. (Кстати, сама Софья Шарлотта пыталась перевести его на французский язык.)
Провансальский перевод Боэция на рубеже X–XI вв. как бы предварял расцвет поэзии трубадуров, на которой лежал отблеск древней классической культуры, и в этом есть заслуга «последнего римлянина» Боэция. В его даме Философии уже таились черты Прекрасной дамы провансальской поэзии.
Жан де Мен, живший в XIII в., когда философско-теологическая борьба определяла развитие западноевропейской культуры, в переводе сделал акцент на философских и теистических аспектах «Утешения». Он упивается боэциевыми аллегориями, доводя их до почти театрализованной яркости, вполне в духе того времени.
Английская королева Елизавета вслед за Чосером поняла «Утешение» как произведение гуманистическое, в котором органично соединялись поэзия и философия.
Начиная с VI в. появилось огромное число подражаний, пересказов «Утешения» Боэция, а также сочинений, в которых его мотивы получали то или иное звучание. Можно сказать, что Боэций был как бы участником культурных процессов в средние века в эпоху Возрождения, ибо в те времена его постоянно вспоминали. Это касается не только философии, литературы, музыки и т. п., но, что гораздо важнее, это относится к мировоззрению и мироощущению в целом. Ведь не случайно боэциевы мысли, образы и аллегории, даже утрачивая четкую авторскую принадлежность, становились элементом массовых представлении, стереотипами общественного сознания. Даже краткое описание всех подражаний Боэцию и заимствований из него заняло бы значительную часть нашей книги. Остановимся лишь на наиболее важных.
В первой половине VII в. были написаны «Синонимы» Исидора Севильского «первого энциклопедиста средневековья» — с их призывом познать самого себя, не мириться со злом даже под угрозой смерти. В них прослеживается влияние Боэция. В прозе и метрах Каролингского возрождения звучат боэциевы мотивы. Эрудиты Академии Карла Великого Алкуин, Ремигий, Хинкмар Реймсский комментируют трактат Боэция «О троичности». Это же, но с большей глубиной делает один из величайших умов средневековья — Иоанн Скот Эриугена, почерпнувший немало идей из «Утешения».
В Х в. известный ученый-математик Герберт из Реймса обращается к математическим и логическим трактатам Боэция, тогда же за «последним римлянином» закрепилась слава создателя абака. Появляются комментарии к сочинениям Боэция, составленные Бруно Корвейским. На рубеже X–XI вв. к «Утешению» обратилась немецкая поэтесса Гросвита из Гандергейма. Затем сочинение и метрика «последнего римлянина» стали предметом внимания Германа из Рейхенау.
Дама Философия увлекает за собой не только ученых и школяров, но и поэтов XI–XII вв. Тогда же появился «Роман Философии» Симунда Фрейна и «Утешение Разумом» Петра де Компостелла. Мудрость и Разум, Природа и Любовь, Добродетели и Фортуна с легкой руки Боэция кочуют по страницам рукописей того времени. Под влиянием автора «Утешения» находились и философы того времени Петр Абеляр, Гильом Коншский, Аделярд Батский, Иоанн Солсберийский, Жильбер Порретанский и др. «Последний римлянин» наряду с Аристотелем являлся тогда крупнейшим авторитетом в логике. Образы Боэция затем прочно входят в мир рыцарского романа, куртуазную поэзию, даже изобразительное искусство, особенно в искусство книжной миниатюры.
На рубеже средних веков и Возрождения к Боэцию обращается Данте. Его «Новая жизнь» построена по примеру «Утешения», а в «Пире» насчитывается 17 реминисценций из боэциева произведения. Идеи «Утешения» развиваются и в «Божественной комедии», где Франческа да Римини, рассказывая о своей трагической любви, цитирует стихи Боэция, а сам поэт опирается на его концепцию судьбы и миропорядка и где появление Беатриче, опоэтизированной Мудрости, напоминает явление Философии в «Утешении» Боэция.
Много почерпнули у «последнего римлянина» крупнейшие философы XIII в. Альберт Великий и Фома Аквинский, Роберт Гросстет, Петр Пизанский и Николай Парижский, известный ученый того времени Роджер Бэкон прекрасно знал сочинения Боэция.
В эпоху Возрождения Боэций продолжал оставаться в числе признанных авторитетов, широко читаемых и глубоко чтимых авторов. Среди его поклонников был Петрарка, написавший подражание «Утешению» и развивший боэциеву концепцию Фортуны. Боэций был любимым автором Боккаччо, создателя знаменитого «Декамерона», и Чосера, не только переведшего «Утешение» на английский язык, но и черпавшего из него гуманистические мотивы, высокую оценку человека, тему Фортуны.
Жизненный путь английского гуманиста Томаса Мора в чем-то напоминает трагическую историю Боэция. Та же любовь к научным занятиям, такая же блистательная карьера, а в конце ее — обвинение в государственной измене и казнь. Находясь в Тауэре, Мор написал своеобразное подражание «Утешению», которое, однако, гораздо в большей степени, чем сочинение «последнего римлянина», проникнуто религиозным чувством.
Шекспир, как известно, не получил систематического образования, и трудно сказать, читал ли он Боэция в подлиннике. Хотя, судя по популярности «Утешения» в его время и в тех кругах, с которыми соприкасался великий драматург, вполне допустимо, что он мог быть знаком с этим сочинением Боэция. Целый ряд тем, характерных для традиции Боэция и ставших уже ко времени Шекспира «общими местами», в пьесах драматурга присутствуют: фортуна и любовь, человеческое благородство и его природа, невозможность соединения счастья и порока и др. Слова Гамлета: «Ты человек, который и в страданиях не страждет и с равной благодарностью приемлет гнев и дары судьбы; благословен, чьи кровь и разум так отрадно слиты, что он не дудка в пальцах у Фортуны, на нем играющей»[192], - невольно вызывают в памяти аналогичные высказывания Боэция.
Выдающийся астроном Иоганн Кеплер при создании своей оригинальной концепции «гармонии мира» отчасти опирался и на Боэция. Не раз вспоминал «последнего римлянина» и Галилео Галилей, стоящий у истоков современного естественнонаучного знания.
«Утешение» Боэция нашло своего читателя в новое время и в наши дни. Его первое печатное издание вышло в 1473 г. в Нюрнберге и с тех пор многократно переиздавалось. «Утешение» не раз переводилось на английский, французский, испанский и другие языки. Его знали и ценили деятели европейской культуры, в частности французский писатель-гуманист Анатоль Франс, поэты начала века. Советский писатель П. Загребельный завершил роман «Роксолана» подражанием «Утешению».
Русскому читателю «Утешение» стало доступно на родном языке в переводе иеромонаха Феофилакта, вышедшем в 1794 г.[193] Первая книга «Утешения» в прекрасном переводе известного советского филолога профессора Ф. А. Петровского была опубликована в 1970 г.[194] Четыре стихотворных фрагмента «Утешения» вышли в переводе С. С. Аверинцева.[195] В 1984 г. «Утешение» было полностью опубликовано на русском языке (перевод В. И. Уколовой, М. Н. Цетлина, вступительная статья и комментарий автора этой книги)[196], в этом же издании помещен перевод части «Введения к Порфирию», сделанный и прокомментированный Т. Ю. Бородай.
В 1980 г., когда мировая общественность отмечала 1500-летний юбилей Боэция, в разных странах, в том числе и в СССР, были проведены научные сессии, вышли исследования, специально посвященные творчеству и духовной традиции Боэция.
Через произведения «последнего римлянина», его многогранную популяризаторско-просветительскую деятельность не только осуществлялась преемственность между античной и средневековой культурами, их значение шире. В течение многих веков они оставались действенным фактором культурной связи поколений, развития европейской культуры, ее гуманистических начал. И к нашим современникам обращены слова Боэция: «Победив все тягости земные, звезд достигнете!» — его призыв к человеку всегда жить, мыслить и творить на пределе своих возможностей и никогда не отступать от высокого, истинно человеческого предназначения.
Примечания
1
Данте Алигьери. Божественная комедия. Рай. Х, 124–129 / Пер. М. Лозинского. М.; Л., 1950. С. 330.
(обратно)2
Цит. по: Lang Р. Music of Western Civilization. N. Y.; L., 1942. Р. 61.
(обратно)3
Изучение творчества Боэция было начато еще в XVIII в. См.: Gervaise D. Histoire de Boece. Р., 1715. Научная литература о Боэции обширна. Она в основном проанализирована в статье В. И. Уколовой «Человек, время, судьба в трактате Боэция „Об утешении философией“»// Средние века. М., 1973. Вып. 37. Из исследований зарубежных авторов следует назвать прежде всего: Usener H. Boethius. Bonn, 1877; Stewart H. F. Boethius: An Essay. Edinburgh; L., 1891; Rand E. К. Founders of the Middle Ages. Cambridge (Mass.), 1928; Cooper L. A Concordance of Boethius. Cambridge (Mass.), 1928; Courcelle P. La consolation de Boeceses sources et son interpretation par les commentateurs latins. Р., 1934; Idem. Les lettres greques en Occident. De Macrobe a Cassiodor. Р., 1943; Rapisarda E. La criso spirituale di Boezio. Catania, 1947; Grabmann М. Geschichte der scholastischen Methode. В., 1957. Bd. 1–2; Barret Н. Boethius: Some Aspects ot His Time and Work. L., 1940 (2 ed.- N. Y., 1965); Liebeschutz H. Boethius and the Legacy of Antiquity // Cambridge History of Later Greek and Early Mediaeval Philosophy. Cambridge, 1970; Chadwik Н. Boethius: the Consolations of Music, Logic, Theology and Philosophy. Oxford, 1981. В последние 10–15 лет Боэций привлек внимание советских исследователей. См.: Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972; Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. М., 1979; Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979; Мачавариани М. М. Философское мировоззрение Боэция: Автореф. дис… канд. филос. наук. Тбилиси, 1984; Лосев А. Ф. Творчество Боэция как переходный антично-средневековый феномен: (Некоторые уточнения) // Западноевропейская средневековая словесность. М., 1985; а также ряд работ автора этой книги. См.: Средневековье в свидетельствах современников. М., 1984. С. 4, примеч. 1.
(обратно)4
Рутилий Намациан. Возвращение на родину / Пер. О. Смыки // Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 284
(обратно)5
Аполлинарий Сидоний. Жалоба на враждебность варваров / Пер. Ф. Петровского // Поздняя латинская поэзия. С. 543.
(обратно)6
Вопрос чести.
(обратно)7
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 414.
(обратно)8
S. Augustini Soliloquia. I, 2.7.
(обратно)9
Донатизм — религиозное движение в Северной Африке в IV–V вв., выступавшее против ортодоксальной церкви, к нему примыкали в основном неимущие слои населения. Донатисты отрицали какой-либо компромисс со светской властью, требовали безусловного следования евангельским заветам, возвеличивали мученичество за веру.
(обратно)10
Пелагианство — течение в христианстве, основанное выходцем из Британии Пелагием и распространившееся в IV–V вв. в Средиземноморье. Было осуждено ортодоксальной церковью как ересь. Пелагий отрицал изначальную греховность человека и утверждал, что человек обладает свободой выбора, не зависящей от божественной благодати.
(обратно)11
«Сон Сципиона» — заключительная часть сочинения «О государстве» выдающегося римского оратора и мыслителя Цицерона (106-43 гг. до н. э.).
(обратно)12
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 361.
(обратно)13
Гуревич Л. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. С. 77.
(обратно)14
Скиры — одно из германских племен.
(обратно)15
Арианство — течение в христианстве, названное по имени его основателя александрийского священника Ария (около 256–336), отрицавшего равенство трех ипостасей троицы. Осужденное ортодоксальной церковью как ересь, арианство тем не менее получило широкое распространение среди варварских племен в Западной Европе.
(обратно)16
Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963. С. 100.
(обратно)17
Senatoris Cassiodori Variae. II, XVI, 5. (Далее: Cas. Var.).
(обратно)18
Удальцова 3. В. Италия и Византия в VI в. М., 1959. С. 6.
(обратно)19
Cas. Var. III, 23.
(обратно)20
Ibid. III, 17.
(обратно)21
Комит — здесь: одна из высших административных должностей, учрежденных Теодорихом.
(обратно)22
Ibid. VII, 3, 3.
(обратно)23
Ibid. X, 31. 8
(обратно)24
Столица остготов Равенна вообще славилась своей архитектурой и мозаиками.
(обратно)25
Ibid. II, 16, 5.
(обратно)26
Ibid. 11, 27, 2.
(обратно)27
Anonimi Valesiani Fasti Vindobonenses priores, pars posterior. XII, 57.
(обратно)28
Прокопий из Кесарии. Война с готами / Пер. С. П. Кондратьева. М., 1950. I, 2.
(обратно)29
Там же.
(обратно)30
Виварий — поместье Кассиодора на Юге Италии, где он основал школу, мастерскую по переписке книг (скрипторий), собрал богатейшую библиотеку.
(обратно)31
Первый министр.
(обратно)32
A. M. T. S. Boetii De consolatione Philosophiae libri quinque. II, рг. 3. (Далее: Cons.).
(обратно)33
Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. М., 1884. Т. 4. С. 39.
(обратно)34
Ей приписываются два дошедших до нашего времени гимна религиозного содержания.
(обратно)35
Cons. II, pt. 3.
(обратно)36
Cas. Var. Praefatio.
(обратно)37
Momigliano A. Cassiodorus and the Italian Culture of his Time // Studies in Historiography. N. Y.; Evanston, 1966. Р. 190–191. Философия истории одна из тех областей, где античное и христианское мировоззрения были особенно непримиримы. См.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 84–108.
(обратно)38
Usener H. Anecdoton Holderi: Ein Beitrag zur Geschichte Roms in Ostgotisher Zeit. Leipzig; Bonn, 1877. S. 4.
(обратно)39
Cons. II, m. 1, 8
(обратно)40
Cons. I, pr. 4; Anonimi Valesiani Fasti Vindobonenses priores. Pars posterior. XV.
(обратно)41
Удальцова З. В. Указ. соч. С. 225.
(обратно)42
Cas. Var. VIII, 12.
(обратно)43
Ibid.
(обратно)44
Apulei Florida. V, 2.
(обратно)45
Отсюда русское слово тривиальный, т. е. известный всем.
(обратно)46
Сам термин «квадривиум» впервые встречается в его трактате «Наставления к арифметике».
(обратно)47
Artz P. The Mind of Middle Ages. N. Y., 1958. Р. 184–185.
(обратно)48
Цит. по: Буассье Г. Падение язычества. М., 1892. С. 147.
(обратно)49
Vasoli С. Filozofia medioevale. Milano, 1961. Р. 32.
(обратно)50
См.: Бубнов Н. М. Абак и Боэций. Пг., 1915.
(обратно)51
Bubnov N. Gerberti opera mathematica. В., 1899.
(обратно)52
А. М. Т. S. Boetii De institutione arithmetica libri duo. I, 1. (Далее: Arithm.).
(обратно)53
Ibid.
(обратно)54
Ibid.
(обратно)55
Ibid.
(обратно)56
Ibid.
(обратно)57
Ibid. I, 2.
(обратно)58
Ibid. I, 1.
(обратно)59
Ibid.
(обратно)60
Аристотель. Вторая Аналитика. XXVII, 87а.
(обратно)61
Arithm. 1,1.
(обратно)62
Ibid.
(обратно)63
Ibid.
(обратно)64
A. M. T. S. Boetii De interpretatione. Red. II. Migne J.-P. Patrologiae latinae cursus completus, series latina. T. 64. Col. 433 ed. (Далее: PL).
(обратно)65
Васильева Т. В. Афинская школа философии. М., 1985. С. 160.
(обратно)66
Боэций. Комментарий к Порфирию. I // Средневековье в свидетельствах современников. М., 1984. С. 159. (Перевод «Комментария», теологических трактатов и примечания Т. Ю. Бородай.)
(обратно)67
См., например: Cons, III, m. 11.
(обратно)68
Платон. Софист. 253 de.
(обратно)69
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 19.
(обратно)70
Так иногда по месту рождения (Стагир) называют Аристотеля.
(обратно)71
Аристотель. Топика. I, 1.
(обратно)72
Средневековье в свидетельствах современников. С. 161–162.
(обратно)73
Там же. С. 209.
(обратно)74
Там же. С. 177.
(обратно)75
Аристотель. Физика. 184а. Цит. по: Средневековье в свидетельствах современников. С. 212.
(обратно)76
Средневековье… С. 180.
(обратно)77
Там же. С. 184–185.
(обратно)78
Prantl К. Geschichte der Logik im Abenlande. Bd. 1–2. Leipzig, 1927. Bd. 2. S. 203; Grabmann М. Op. cit. Bd. 1. S. 152–160.
(обратно)79
Этот аргумент не преминул использовать против Абеляра Бернар из Клерво, впрочем и сам таким же образом погрешивший в своих сочинениях и от этого, быть может, еще яростнее нападавший на своего противника.
(обратно)80
Стяжкин Н. И. Формирование математической логики. М., 1967; Durr К. The Propositional Logic of Boethius. Amsterdam, 1957; Minio-Paluello L. Les traductions et les commentaires aristoteliciens de Boece // Studia Patristica. В., 1957. N 2.
(обратно)81
Впрочем, в конце IV — начале V в. законы эти все-таки нарушались, о чем убедительно свидетельствуют, примеры старшего Симмаха и философа Макробия.
(обратно)82
См.: Уколова В. И. Боэций и христианство// Религии мира. М., 1982
(обратно)83
Usener Н. Anecdoton Holderi. S. 5.
(обратно)84
A. M. T. S. Boetii De Trinitate. Praefatio.
(обратно)85
A. M. T. S. Boetii Contra Eutychen et Nestorium. Praefatio.
(обратно)86
А. М. Т. S. Boetii Quomodo substantiae in eo quod sint bonae… Praelatio.
(обратно)87
Eusebii Historia ecclesiastica. Vol. 28//Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Series graeca (PG). T. 20. Col. 516.
(обратно)88
S. Hieronymi Dialogus contra Luziferuanos, 11//PL. T. 23. Col. 166 ab.
(обратно)89
Basilii Magni Contra Eunomium. I // PG. T. 29. Col. 515.
(обратно)90
Несторианство — течение в христианстве, возникшее в Византии в V в. Его сторонники считали, что Христос, будучи рожден человеком, лишь потом обрел божественную природу. Монофиситы же, напротив, абсолютизировали в Христе божественное начало. Оба течения осуждены ортодоксальной церковью как еретические.
(обратно)91
De Trin // A. М. T. S. Boetii Philosophiae consolationis libri quinque. Acc. atque incertorum Opuscula Sacra, Rec. Peiper. Lipsiae, 1871. Р. 152.
(обратно)92
De Trin. 2.
(обратно)93
По Боэцию, рассудок и интеллект — разные ступени мышления, при этом интеллект, как высшая способность к абстрагированию, более совершенен.
(обратно)94
Ibid.
(обратно)95
Ibid. 1.
(обратно)96
Ibid. 5.
(обратно)97
Quomodo substantiae… 5.
(обратно)98
Ibid.
(обратно)99
Rand E. К. Op. cit. P. 135–180; см. также: Grabmann М. Ор. cit. Bd. 1. S. 152.
(обратно)100
Немецкий исследователь Г. Узенер даже высказывал предположение, что Боэциево «Утешение» лишь переложение некогда утраченного «Протрептика» Аристотеля, однако это было опровергнуто научной критикой.
(обратно)101
Оно состоит из пяти книг.
(обратно)102
Cons. I, pr. 1.
(обратно)103
Ibid. I, pr. 3.
(обратно)104
Ibid. I, pr. 4.
(обратно)105
Ibid.
(обратно)106
Ibid. I, m. 5
(обратно)107
Вспомним, что и попытка Платона «научить» мудрости тирана потерпела полное поражение.
(обратно)108
Barret Н. Ор. cit P. 159.
(обратно)109
Cons. I, pr. 3.
(обратно)110
Gilson E. History of Christian Philosophy. L., 1972. Р. 102.
(обратно)111
Cons. V, m. 4.
(обратно)112
Ibid. IV, m. 1.
(обратно)113
Ibid.
(обратно)114
Ibid. V, pr. 4.
(обратно)115
Ibid.
(обратно)116
См.: Лосев А. Ф. Творчество Боэция… // Западноевропейская средневековая словесность. С. 25–27.
(обратно)117
Cons. IV, pr. 5.
(обратно)118
По Боэцию, это «страдание» — реакция тела на воздействие внешнего объекта, воспринимаемого в чувствах.
(обратно)119
Ibid.
(обратно)120
Заостренный стержень из кости, металла или дерева, которым в старину писали на восковых табличках.
(обратно)121
Ibid. V, m. 2.
(обратно)122
Ibid. I, m. 2.
(обратно)123
Patch H.R. The Goddess Fortuna in Medieval Literature. N. Y., 1967. Р. 4.
(обратно)124
Кудрявцев О. Ф., Уколова В. И. Представления о Фортуне в средние века и в эпоху Возрождения // Взаимосвязь социальных отношений и идеология в средневековой Европе. М., 1983. С. 174–175.
(обратно)125
Cons. IV, m. 6.
(обратно)126
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 90.
(обратно)127
Вспомним, что идеи греха и ответственности за него, божьего суда исключительно важны в христианстве.
(обратно)128
Cons. III, m. 9.
(обратно)129
Манихейство — религиозное учение, возникшее в III в. в Персии; для него характерно признание двух субстанциональных начал бытия — добра и зла, непримиримой борьбы света и мрака, материи и духа.
(обратно)130
Ibid. IV, pr. 6.
(обратно)131
Ibid.
(обратно)132
Ibid.
(обратно)133
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 314.
(обратно)134
S. Augustini De Civitate Dei. XII, 10.
(обратно)135
Cons. IV, pr. 6.
(обратно)136
Ibid. V, pr. 2.
(обратно)137
Ibid. V, pr. 6.
(обратно)138
S. Augustini Confessiones. XI, 14.
(обратно)139
S. Augustini De Civitate Dei. XI, 6.
(обратно)140
Cons. V, pr. 6.
(обратно)141
Ibid.
(обратно)142
Ibid.
(обратно)143
Ibid.
(обратно)144
Cons. II, m. 8.
(обратно)145
Данте Алигьери. Божественная комедия. Рай. XXXIII, 145. М.; Л., 1950. С. 426.
(обратно)146
Cons. IV, pr. 4.
(обратно)147
Ibid. V, m. 5.
(обратно)148
Ibid. IV, m. 3.
(обратно)149
Ibid. II, pr. 5.
(обратно)150
S. Augustini De Civitate Dei. V, 1.
(обратно)151
Cons. II, pr. 3.
(обратно)152
Еврип — пролив между Эвбеей и Беотией, известен стремительностью и непостоянством течения, которые вошли у древних в поговорку.
(обратно)153
Ibid. II, m. 2.
(обратно)154
Кудрявцев О. Ф., Уколова В. И. Указ. соч. С. 190.
(обратно)155
Cons. IV, pr. 6.
(обратно)156
De inst. arithm. I, 2.
(обратно)157
Ibid. II, 32.
(обратно)158
Cons. III, pr. 11.
(обратно)159
Ibid. II, m. 8. Стихотворный перевод М. Н. Цетлина.
(обратно)160
Филолай из Кротона (V в. до н. э.) — крупнейший представитель пифагореизма.
(обратно)161
De inst. arithm. II, 32.
(обратно)162
Cons. III, m. 9.
(обратно)163
Древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент.
(обратно)164
Ibid. III, pr. 12.
(обратно)165
De inst arithm. I, 2.
(обратно)166
Гептахорд — семь расположенных рядом ступеней звукоряда.
(обратно)167
A. M. T. S. Boetii De institutione musica libri quinque. I, 1.
(обратно)168
Ibid. I, 2.
(обратно)169
Ibid. I, 34.
(обратно)170
Ibid. V, 2.
(обратно)171
Ibid. I, 34.
(обратно)172
Эту идею развивает Платон в диалоге «Филеб». См. также: Лосев А. Ф. Античная музыкальная эстетика. М., 1960. С. 142.
(обратно)173
De inst. mus, I, 34.
(обратно)174
Ibid. I, 2.
(обратно)175
Ibid.
(обратно)176
Ibid.
(обратно)177
Ibid.
(обратно)178
Ibid.
(обратно)179
Ibid. I, 1.
(обратно)180
Ibid.
(обратно)181
Геты — одно из фракийских племен, родственное дакам.
(обратно)182
Ibid.
(обратно)183
Ibid.
(обратно)184
Ibid.
(обратно)185
Cons. III, pr. 10.
(обратно)186
Ibid. II, pr. 5.
(обратно)187
Ibid.
(обратно)188
Алкивиад (около 450–404 гг. до н. э.) — один из афинских стратегов в период Пелопоннесской войны. В античном мире считался образцом мужской красоты.
(обратно)189
Cons. III, pr. 8.
(обратно)190
Герцман Е. В. Боэций и европейское музыкознание // Средние века. М., 1985. Вып. 48. С. 235; см. также: Potiron Н. Воeсе le theoricien de la musique greque. Р., 1961; Gevaert F. Histoire et theorie de la musique de lantiquite. Ganl., 1881. Т. 1–2; Abert Н. Die Musikanshauung des Mittelalters und ihre Grundlage. Halle-Saale, 1905; Bruyne Е. de. Etudes destetique medievale. Brugges, 1946. Vol. 1–2. Формированию средневековой эстетики, в том числе и музыкальной, посвящена книга: Бычков В. В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.
(обратно)191
Здесь — Рим.
(обратно)192
Шекспир В. Гамлет / пер. М. Лозинского // Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. 6. С. 77. В целом о влиянии Боэция на средневековую и ренессансную литературу см.: Patch В. The Tradition of Boethius. N. Y., 1935.
(обратно)193
Боэтий А. М. Утешение философское / пер. иеромонаха Феофилакта. СПб., 1794.
(обратно)194
Памятники средневековой латинской литературы IV–IX вв. М., 1970. С. 134–146.
(обратно)195
Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 603–606.
(обратно)196
Средневековье в свидетельствах современников, М., 1984, С. 4–214.
(обратно)
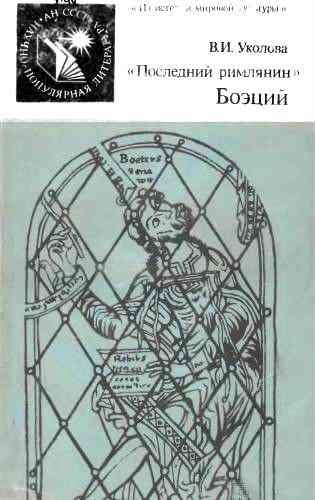



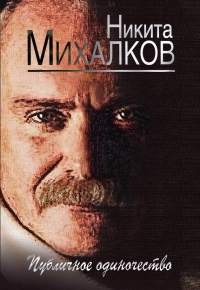
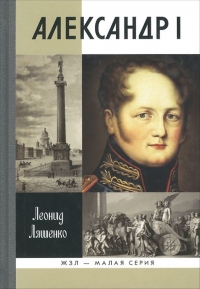

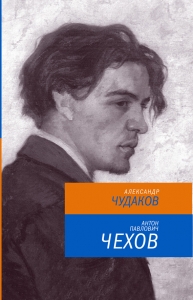

Комментарии к книге ««Последний римлянин» Боэций», Виктория Ивановна Уколова
Всего 0 комментариев