Они и сейчас там хранятся, в деревне у матери, в самом надежном месте, истертые до просветов на сгибах заветные треугольнички — в клетку, в линейку и в две, и в косую,— тесно исписанные неровными, то и дело соскальзывающими вниз строчками: каска служила или приклад карабина вместо стола. Со временем строки расплылись от сырости в доме и тайных слез матери — чернильным писались огрызком, чтобы не стерся адрес,— прочесть их почти невозможно, разве что через лупу, да и, по правде, не хочется их читать. Все, что там есть, мы помним, даже и больше, в том-то и дело: боимся, друг другу не признаваясь, чего-нибудь нам привычного не найти. Многое со стороны в них вплелось, в эти строки,— из радиопередач по утрам у крыльца сельсовета и из газет, из рассказов «по чистой» вернувшихся фронтовиков и из слухов,— так что на глаз теперь было бы видно, если все треугольнички разложить: не могло в них вместиться столько. Даже если бы «толстыми» были все.
Словечко такое в ходу у нас было. Разные они приходили — из одинарных листков и двойных, «из середины», как называли в школе,— и отличались не толщиной, а размером, но кто-то из маленьких братьев или сестренок «толстыми» их прозвал. «Толстым» мы радовались больше, по наивности полагая, что это зависело от отца, от настроения его в те минуты, а значит, и от обстановки на том участке, где он находился и находиться, по нашему мнению, должен был и сейчас. И только мне — старшему из семерых и бывшему в семье за мужчину — со временем пришло в голову, что дело скорей обстояло наоборот. На отделение доставалась тетрадка, а то и на взвод, и от наличия в нем бойцов...
И для них, для солдат, неизвестно, что было лучше. Мало того, что писать большинство их были не мастера, но и о чем писать в те-то годы? А от семейных и деревенских дел оторвались уже настолько, что посоветовать путного не могли.
Да и не разрешалось писать о многом. Отец же порядок любой уважал. Может быть, даже слишком. Так что и о профессии скромной солдатской своей сообщил окольно: кто ошибается один раз... Понимая, наверно, что формулировка такая нам беспокойства никак не убавит. Но, как теперь думаю, именно то и имея в виду — чтобы готовы были...
И когда это случилось, мать только и прошептала: «Ну вот...»
А во мне долго сидела обида. Не такой человек отец, как бы ни понималась ошибка в той поговорке...
И может, поэтому тоже боюсь перечитывать письма. Как это и ни нелепо: не мог же он смерть свою сам описать.
Не знаю, откуда запала в память эта картина, из кинохроники, из газет... Но был в ней боец один очень похожий, хоть и не сам отец. Уж по каким там законам, но так вот, намеком запечатлелся. Картина же представляла собой контратаку. Лавины вражеских танков рвались на улицы Сталинграда, напирали волна за волной, не хватало у артиллерии сил, чтобы сдержать их, пушки волнами подтягивать ведь нельзя...
Страшная контратака саперов! Торопливо суют в вещмешки связки толовых шашек, поджигают запальные трубки и... С горящими в руках шнурами выбегают навстречу стальным громадам, прямо у них на виду бросают заряды на мостовую... Именно — на виду. Ведь не полезут! Приостановятся, станут вилять, а это и нужно артиллеристам...
И когда подошел мой срок — в конце сорок четвертого исполнилось мне семнадцать, — твердо знал: буду сапером. В военкомате сказал: «На год с лишним и так опоздал заменить отца...»
Оказалось, не на год. Вообще опоздал. Оказалось, сапером не сразу станешь.
И все-таки заменил. Первое время — совсем буквально. Ведь не сразу бы отпустили, наверно, отца. Делал то, что и он бы делал после победы.
И дальше воевал с войной, со смертью.
И, как о войне, рассказать о всем пройденном трудно. Даже и отобрать, что полезней бы было и интересней для молодых.
Расскажу, что запомнилось лучше. А почему — может, даже со стороны и видней...
ЕЖИК ВМЕСТО КОШКИ
Когда с молодыми беседы проводишь, заранее знаешь: первый о храбрости будет вопрос. Будто все в ней заключается, нужное для сапера. И будто саперу намного нужнее она, чем солдатам других родов войск в боевой обстановке.
Но вопрос есть вопрос. И, понятно, не лишний.
Первое, что я об этом знаю, и в чем по опыту убежден,— это то, что любой человек, даже тот, что себя от природы считает робким, может быть настоящим героем. И удалец — жалким трусом, если удаль в нем — ради себя. Много встречал и тому и другому примеров, расскажу, что касается лично меня. Кстати, сам о себе тоже точно не знаю, кем я родился, таким ли уж храбрецом.
Расскажу о поступке, который и до сих пор самым отчаянным в жизни считаю и в котором и до сих пор не раскаиваюсь, как он ни безрассуден на первый взгляд.
В самом начале моей минерской работы это случилось, только что прибыл из запасного в линейную часть. Часть та, прославленная, трижды орденоносная, хоть к тому времени и успела демобилизовать свои старшие возраста, но в большинстве из фронтовиков состояла и жила боевыми еще делами. В запасном я прошел специальную подготовку немалую, отличником был и, когда курс закончил, считал себя чуть ли не бывалым минером: к войне ведь готовился, думал успеть.
Но в боевой части с первых дней понял: куда мне до них, до бывалых бойцов, даже тех, что войны только кончик хватили.
На третьей неделе вызывает меня командир роты и направляет на помощь к двум старичкам, находящимся, как он сказал, на работе в поле. «В колхозе, что ли?» — мелькнула мысль. Слово это, знать, «старички», на нее натолкнуло. Потом вспомнил, что фронтовиков стали так называть, с тех пор как мы, новички, в части появились.
В тот же день и отправился на полевые работы к неведомым старичкам.
Двое их было, Куземкин и Кологрив, соответственно старший сержант и младший. Дело к зиме шло, к первой послевоенной, все рядовые их возраста избы да клети по селам родным утепляли, «сотки» по третьему разу перелопачивали, чтоб до последней картошины выбрать и кой-как с семьей дотянуть до весны, а им двум с придачей — со мной-то, специалистом из запасного,— поля на чужой стороне предстояло сперва прочесать от посевов войны вчерашней. И утеплять — не родимый угол, а медициной пропахшую, с дырявым боком брезентовую палатку, что где-то в санчасти чужой откопал помпохоз и послал со мной вместе, как дополненье к подарку.
В палатке житье для фронтовиков непривычно, попроезжались сержанты порядочно на ее счет, лишь за дыру за прожженную похвалили: моргом по крайности, значит, хоть не служила. Но тут же и за работу взялись. Подлатали брезент, обложили сосновой лапой, так что шалаш получился, если снаружи взглянуть. Печурку-малютку еще смастерили из неразорвавшейся бомбы-двухсотки, вытопив тол из нее на костре. Глиной обляпали, горкой камней-голышей обложили — вроде как каменка в баньке, в парной. Трубу проржавевшую где-то в заваленном блиндаже откопали, даже и с поворотным коленом, чтоб ветер не задувал. Оглядели, обшлепали, провели экспериментальную топку, дали оценку: «Ташкент!».
За ночь Ташкент оборачивался Якутском. Под шинелишкой да на перине из ломкого будылья, накрытого пылью процементированной, теплопроводной, как жесть, плащ-палаткой, без тренировки до света не улежишь. Рассветы же день ото дня отдалялись. Сержанты — оба исконные сибиряки — только покрякивали спросонок: не мы в Сибирь, так сама она, матушка, к нам идет. Мне же она и двоюродной тетушкой не приходилась. Когда до последнего позвонка пронимало, вылезал с острой завистью к мерно похрапывающим старичкам, согревался на воле спринтом. Затем и печурку протапливал с вечера заготовленными дровами длиной с карандаш.
Выскочил так однажды, топоча, как стреноженный конь, кирзачами с запасом на пару портянок, отбежал сколько надо, справил что надо, стуча зубами, и лишь тогда и заметил, чего не заметить мог, только вконец ошалев. Поле — объект наш, еще не разведанный толком, — метрах в двухстах начиналось, за жиденьким лозняком, и все напичкано было разнообразной начинкой, по краткой оценке моих командиров, что довоенный тещин пирог. Два лета, как сдвинулась оборона отсюда, никто и ногой на него не ступал, а не то чтоб костром баловаться. Может, кого из проезжих с шоссе занесло? За будыльем от огня отойдут, разве заметят сослепу вешки, что мы расставить успели вчера…
Предупредить надо было, и поскорее. Спринт тут, однако, не подходил: время хоть мирное, но не все люди заняли в жизни положенные места. И за карабином не позволяло достоинство возвратиться. Двинулся спорым, насколько возможно, шажком, пальцами ног отжимая подошвы, чтобы не хлопать голяшками в тишине, и от огня отводя взгляд в сторонку, чтоб самому не ослепнуть, ориентира не потерять. Помню, еще порадовался везенью: кто бы там ни был, а угадал выбрать место — как раз у куста, на который мы вышли с миноискателями вчера. Обогнул его сбоку, раздвинул прогальчик в прутьях, вижу — два силуэта в малиновом отсвете от догоревшего костерка...
Тут только и вспомнил, что храпа сержантов своих не слышал, в панике покидая «Ташкент». Вон они оба, сдала закалка! Дернулся выйти, их с этим поздравить, но как раз имя услышал свое. Ну да, обо мне разговор и в связи с «картошкой» — гранаты ручные привыкли так на войне называть.
— По Васе как раз работенка...
— И то, чай, как волк стосковался по ней...
Странно, однако. Когда это было мне тосковать? Волк — и вовсе. К «сачку» подходит. Я же и в запасном не был им, а уж тут... Это каким надо быть человеком? Раза два, правда, остался у шалаша. Так ведь сами ж и попросили: «Ты тут спроворь пока, Вася, обедик, а мы прошвырнемся до той вон дубравки, делать там нечего и двоим...» Было засомневался, но не усталые возвращались, даже бруснички нащиплют: «На-ка, пожуй-ка вот витамин». Шутят, конечно. Ну да, ухмыляются вон в усы, здесь отрастили их, чтоб на бритье не расходовать светлое время.
— Вася, он может!
— Как семечки пощелкает!
Тоже и это едва ли всерьез. Хоть и приятнее слышать, Семечки, коли «лимонки», допустим, наши. А как немецкие, да в земле? Корпус тонюсенький, даже и без запала: крапина ржавчины, и — пикрат...
— Семечки времени требуют, в чем и соль. Кстати, за солью тоже ему прошвырнуться придется, в кармане не носит по благородной привычке к столовым-то тыловым. Ну-ка потыкай, чай, уж доходят?
— Что помельчее, должны. Может, напрасно все заложили? Жаль, как остынут.
— Дойдут, как в печи! Завалим золой, уголечками сверху...
Вот так гранаты! Картошка и впрямь? Где это, с вечера, что ли, спроворить успели? Вот уж действительно — фронтовики!
Разгребли на две стороны жар, прутиком выкатили по штуке, с рукава на рукав покидали, помяли.
— В аккурат посередке идет на излом!
Не сшелушивается, то есть, как скорлупа, с сердцевинки непропеченной. И, уж понятно, не перепрела, как у «мальчишек бывает, до тыквенной красноты. Ветерок, как назло, на меня потянул, и таким райским духом в нос шибануло! Только тот и поймет, кто семь месяцев в запасном проскучал на крупе да гороховом концентрате. Снилась она, как невеста, поверите ли, ночами, проснешься, а под щекой на подушке — то ли слюна, то ли, может быть, и слеза.
А они как ни в чем не бывало жуют, присыпая сольцой из пластмассовой круглой масленки: немцы с собой их в карманах носили, с нашим украинским маслом, пока им благоприятствовала война. Ладненько все, по-хозяйски у них получается, именно так: где они, там и дом.
— А... как не клюнет? — старший, Петр, по-судачьи хватнув ртом воздух, чтобы кусок на ходу остудить. Возрастом старший, а званием младше Куземкина, хоть и ни то ни другое меж ними значения не имело, как и различия остальные, о которых не стоит и поминать.
Да и похожи были и в самом деле — издали в поле не различишь. Сутуловатые оба от постоянной привычки прощупывать землю глазами, с несуетливой походкой, одинаково спорой, на ровном лугу ли, в лесу, даже в старой траншее, где миноискатель боком лишь протолкнешь. Петр покостистей, потяжелее, угрюмоватей лицом. Но это — когда при деле. А обратись — и разгладятся шрамом стянутые на лбу морщины, поголубеют глаза. Даже и поле иной раз вот так оглянет...
Николай круче скулами, посмуглей. Больше в моем представлении сибиряк. И командир больше.
Но это — если усилием памяти их по отдельности разглядеть. А и не стоит усилий. Слово одно их в уме моем сразу соединило, употребительное в деревне у нас — степенный. Степенный мужик — значит не балабол, не затычка, мнением о себе дорожит, на него «положиться можно». И их любимое тоже словечко, приставшее с первых дней и ко мне.
— Так по-хозяйски же все обставим. Записку приколем у шалаша. Со схемкой, где клад захоронен. Пока его ищет да уплетает, шутя и успеем лягух тех распотрошить.
— И то, с гулькин нос уголок-то...
Вполголоса рассуждали, но явственно в тишине. Еще по одной подкатили, понянчили, разломили. Без хруста того, отдающего в нервы зубные, когда одним боком до черноты пригорит. Дров, значит, с вечера натаскали, не пожалели терпенья углей нажечь. Любое дело так обставляют, что даже не зависть — жалость к себе берет.
— Пока еще схватится... Мастер жука придавить.
— Пацан, понятно.
— В том и дело, хошь бы война...
Вот так и все у них разговоры — один скажет, другой подтвердит. Но что-то тут замышлялось, помимо сюрприза с кладом. И слово «пацан», как ни ласково прозвучало, но что-то в себе содержало сверх объясненья способности жать жука. И как ни тянуло к картошке и к их уюту и ни претило стоять затаясь, но дело не одного любопытства касалось. Оправдал себя тем, что и вдруг появись, так подумают — слышал их разговор на подходе.
Выпустил струйкой набившую рот слюну, опустил полегонечку ветки —- прогал задернуть, чтоб лишней работой рефлексы не утруждать. Главное, не забыться, звуком себя не выдать, слух-то у них, как война ни глушила, на подозрительный шорох — что у сибирских котов.
— Заслужились, браток, мы с тобой,— снова Петр, зашвырнув за плечо ошкурок.— А думали как? До Берлина дойдем — все одно, что до дома...
— Надо же сор за собою убрать.
— Только бы за собою...
И в самом деле! Взять да фашистов бы и заставить выгребать этот «сор» с полей. Если что тут и наше, так все равно же по их вине.
— Вон оно — две весны не пахано! А и землицы в здешних-то местностях...
— Да куда уж до нашей!
Вздохнули. Сочувствуя вроде бы скудости здешней земли. С излишним стуком оббили ладонь о ладонь, зашуршали газеткой — книжечкой неразрезанной размером со спичечный коробок, — поскребли по дну общего, для экономии курева, портсигара. Самодельного, из дюраля, от самолетов разбитых отламывали его.
— Ждут нас, Никола, чай, не дождутся! Чего уж ни передумали про себя.
— Объяснили те, что пришли. И в газетах было.
— В газетах... Я ей и сам десять раз отписал, все взять в толк не хочет. Напоследок уж вон что... И смех и грех! Может, пишет, другую себе завел, так скажи, легче будет, чем так-то. Твоя не писала такого еще?
— Не...
Помолчали, попыхтели, прикуривая от уголька.
— От гордости, стало быть?
— Всяко может. А только в мыслях... Мысли у всех одни. При одинаковой жизни. Помоложе, вот и вся гордость ее. А я вот что подумал, Петро. Может, попросим Семеныча старшину, как приедет с продуктами, чтобы им справки из штаба послал? Так и так, в подтверждение, мол, указа...
— А? А что... А смеяться не станут в штабе?
— Какой смех? Только чтоб что не надо не написали.
— Ну да, об указе, и боле чтоб ничего. Не одних же минеров касается. Накажем, чтоб ни гу-гу! Чай, не маленькие и в штабе.
Умолкли, обдумывая вопрос. Или делая вид, что обдумывают в деталях: верно, каждый-то про себя не сегодня пришел к этой мысли, только вслух не решался сказать. Заплевали окурки, опять занялись картошкой.
Тут бы и мне обнаружить себя, разыграв, что, ага, мол, сумел подкрасться. Вряд ли к моей уже теме вернутся. Но обрывать не хотелось важный для них разговор. И для меня почему-то важный.
— Правда, не знаю, брат, как твою, а мою не обманешь и справкой с печатью. Пива выпьешь, бывало,— узнает с крыльца! Не нюхом же, не по виду?
— С пива какой вид. Чует. Вот как и мы порой раньше, чем миноискатель голос подаст. Это у всех у них, если любят. Мать так и вовсе за тысячу километров... Мальчишкой я на Урал уехал, и вот когда начал сбиваться с пути...
— По этой части?
— Еще и хуже. В карты втянулся, компания там нашлась. Ни сна, ни работы... Она же и помогла.
— Мать?
— А каким способом, представляешь? Деньги вдруг вздумала посылать! До того сам помогал им, затем и ехал. А тут получаю, и раз и два. Я обратно — она обратно. Как-то в пух просадился — на отыгрыш их пустил. Ну, понятно, продул до копейки. Тогда и зарекся уже на всю жизнь. Последнее продавала...
— А может, прознала через кого?
— Откуда! И думать не думала. В отпуск приехал — что с тобой было, спрашивает. Я ей начистоту. Удивилась. Вот, говорит, не знала, что в нашем роду такое... Одно знала, что сердце у тебя доброе.
— Жива?
— Вместе теперь, с моей-то, живут, а поначалу... Не больно поладили меж собой. Глупость, конечно, и пережиток. Вроде упреков в том опасаясь, что та и другая — без ничего. Война породнила, серьезная-то нужда.
— Страх тем боле.
— Там, в Сибири?
— Ну дак понятно, не за себя.
— Ну да, и это. Легче вдвоем-то. Сынишке опять же глаз...
Аппетит не велик у них был на картошку, слышно, опять перестали жевать.
— Ведь каково им там ждать нас было, а, Николай? Каждую-то минуту! Мы-то на отдыхе, может, и в батальонных тылах загораем, а им это разве известно? Только и мысли — вот-вот сейчас... Круглые сутки та пуля одна свистела, месяцы, годы у них в ушах...
— Это, брат, верно, нам было все ж веселее.
— Виднее хотя бы.
— Ну да, и так.
Впервые, должно быть, им ясно нарисовалось, как это было, дома, без них.
А мне почтальонка привиделась, эвакуированная Нинка. В том же колхозом даренном платке, но не в нашем селе, а в далеком сибирском. В этот именно час, там давно уж не ранний, поскольку в Сибири часы вперед. И холода туда раньше приходят. День самый скучный, последний предзимний, какой лишь один и бывает в году. Сковано все, только свалянные снежинки, как пух тополиный, шевелятся у крылец. Общее будто родное село их, хоть Николай-то, по разговору, жил вроде и не в селе. И избы их будто бы по соседству. И мимо них-то и пробегает, мелькая за пряслами, Нинка, вьется, как голая, на ветру. А миновав и вздохнув всей грудью, пальчиками откидывает платок за шею, вроде как капюшон плащ-палатки, расправляет на лбу повлажневшую челку, поскольку невеста уж по годам. И позади уже страхи. И только из этих вот двух окошек ее караулят глаза, как в войну...
— Да, вот и ребятишки... Завидно, чай, ко всем батьки пришли...
— Ну уж, ты скажешь...
— И правда, брат, извини...
— Что ж извиняться передо мной-то...
Лица мне были уж не видны, только кучка подернутых пеплом углей в косой рамке из черных прутьев да блеклый отсвет на полах шинелей и сапогах. «Лучше, чем так-то...» Где это раньше я слышал и от кого? И отгонял, будто вспомнить боялся, и знал, что не вспомню — не отступлюсь.
А когда вспомнил, так жаром и окатило! Словно мой куст полыхнул от костра. Чуть с кулаками не кинулся в тот момент на Прасковью. На тетю Пашу, соседку, что помогала нам чем могла...
На похоронку в то утро к нам бабы сбежались. Паша одна у порога стояла, не голося. А как отвылись, губы склеенные разжала и внятно сказала под материн обессиленный всхлип: «А может, и легче будет, чем так-то...»
Мать не услышала, и остальные не удивились. Кто-то за плечи успел меня охватить. И я решил, что умом она тронулась, тетка Прасковья. Одна во всем доме жила, свою похоронку на дядю Степана первая получила, за месяц призвали его до войны...
С тех пор по избам не голосили. Кончился этот обычай в селе.
— Мы-то как выжили, а, Никола?
— Должен был кто-то. Выпало нам.
— Смеху-то — свету вот дожидаемся. Как темна! Чтобы к утру проходы успеть проделать. Луну и ту кляли за то, что светила, как испокон. Ощупью по полусотне их разряжали, тех же хоть и лягух...
— Кой в чем, положим, и проще было. Главное было — систему их разгадать. А тут все смешалось, и никакого порядка. Тоже вот и бурьян. Как тетиву натянул, поди, нитки, стебель какой затронь...
Вот он когда, весь их план, объяснился. Хоть до ума это позже дошло. В тот миг другим все внимание занято было. Не знаю, с какого момента, в секундной ли полудреме, в путанице воспоминаний, но стал мне слышаться голос отца. Будто он сам там сидит с фронтовым своим другом, тоже сержант ведь, старший. Справится, кончит работу благополучно, тогда и объявится, а прежде времени что ж обещать...
Чей из двух голос в ушах незаметно так подменился — я их уже и не различал. Не отдавал и в словах отчета. Пока эти стебли вот, натянувшие нитки, не резанули по сердцу ножом. Вспомнил я тот уголок с бурьяном. А лягухи, и так ясно было: «гольдсмины» немецкие, 5-1. «Прыгающие», натяжного действия. Хлопнет заряд вышибной, подбросит на полтора-два метра лягуху, та с треском лопнет, начинку смертельную расплюет. Шрапнель из бракованных шариков для подшипников, обрубков металла, специально нарезанных из проката кусков. Вспомнил, как переглянулись они, обойдя этот клинышек поля, там и договорились без слов.
— Время минеру — известно, что не помощник. Тем боле спасибо тебе, Николай.
— Это еще за какие заслуги?
— Ты все ж за командира. С парнем ты по-хозяйски решил.
— Вот чудо-юдо, вместе решали. Или причину имеешь свою?
— Есть, брат, признаться, одна причина... Глупость, конечно, как сон, понимаешь, дурной. Кто в них всерьез, в сны, верит? А чуть похожее что случись... За Гумбиненом, помнишь, чай, вешек понавтыкали? Ну вот наш взвод и вернули, как наступление задержалось, и молодняк заодно натаскать. Двадцать шестого года рожденья, помнишь, как раз получили? Ну вот, один мне попался точь-в-точь на Васятку похожий. А может, теперь уже видится так. Упрямый, не тем будь помянут, и удальством своим хвастать привык. Чай, сопляком первый парень был на деревне, поскольку все стоящие ушли. Попридержишь кого — насмехается после: «Пошарь в шароварах, отличник, примерзнут! Сержант нас воспитывает, а ты... Тут целая армия трамбовала, трофейщики на два метра истыкали в глубину...»
И, как назло, ничего в самом деле не попадалось. Ясно, что до поры. Раз и его вот так придержал: постой, мол, сперва сам пошарю. А миноискатель и засигналь. Ну я кругами ловлю, рисую — ровный снег, понимаешь, искрится, как скатерть, — ну его с глаз-то и упустил. Вдруг сбоку — шлеп! Сам знаешь... Я мордой в снег, хоть и где ж там успеть. Тр-рах!! Просвистало, понавтыкалось. Слышал — значит, совсем не убит. Щупаюсь — вроде не тронут, во чудо! Глянул — и удалец мой стоит. Стоит, понимаешь, глазам не верю. Долго стоял так, как оглушенный, я уж догадку построить успел: в мертвую зону попал, под зонтик. Но стал клониться, как манекен. В детстве, портной у нас жил одну зиму, страх как боялся я горницей проходить... Ну вот склонился, и видно мне стало, откуда и манекен-то, — без головы! Все на нем, все при нем, а ее, понимаешь... Солнце — всю зиму ту, помнишь, его не видали,— а тут как на праздник. И тишина... Снег, понимаешь, в искрах, как покрывало...
Долго молчали.
— Васе потом расскажи. Коли заметим, что забалует. С ними ведь как. Сперва-то и где не надо глаза большие, а чуть уверится — все нипочем. Пока не дозреет до нужной нормы.
Вот, значит, как. И теория есть на Васю. Не дозрел, значит, так надо понимать. Тоже, чай, первый парень был на деревне. И костерок кстати вспыхнул — подбросили напоследок остатки сучьев,— полностью положение осветил. Вон же и все снаряжение их для работы сложено аккуратно в сторонке. Васино здесь искать — лишний труд. То-то вот и дубравки ваши, бруснички... Не первый раз в дураках. Семечки... Ну погодите! Посмотрим, кому в этот раз их щелкать.
Выйти, все выложить? Только и не хватало. Прикажут остаться, и дело с концом. Хоть и ни разу еще до прямого приказа не доходило, но знал: сумеют, еще и как. Вида не подавать — на костер притопал? Так по-хорошему что-нибудь здесь по хозяйству сделать попросят или в другой конец поля с миноискателем отошлют. Одно оставалось — опередить их. Раньше хотя бы на место прийти. На восток оглянулся — щель в небе уже прорезалась, им-то не видная за кустом. Вынул из сапога одну ногу, другую. Умненько сделал — носков не снял на ночь, как-никак не босой. Иней на травке, следы это ладно, лишь бы не хрустнуло под ногой. Так с сапогами в руках, как по броду, до шалаша и докрался. Сунул ноги, как костяные, в портянки, собрал что надо, помедлил еще. Кабель там телефонный трофейный свернут в моток был в углу — и его прихватил. Видно, тогда уж идея мелькнула...
Поле пока обежал, едва ноги не поломал в индивидуальных окопах. Только рад был: на правильном, значит, пути. Вон он, их уголок секретный. Зашел с запада, на руки опустился — ну да, вся полоска рассвета порублена на зеленый пунктир. Миноискатель тут лошадью не протащишь. Да и тащить — в самом деле любой из стеблей может с проволочкой быть сцеплен. А поверху дужку вести — чуть не в рост будыли, а магнит берет на полметра.
Здорово окопались жабы эти фашистские. Оккупацию продлевают! Злиться, однако, время не позволяет, надо выкуривать их поскорей. Первый проект и подсказан был этим словом. Проще простого — бурьян подпалить! Даже и спички в кармане были — редкая редкость по тем временам. Тут же, однако, и ясно стало: огонь по верхушкам пойдет, не прогреет настолько землю, чтобы полопались жабы в ней.
Живо представил в уме обстановку. Ту, что в войну здесь сложилась, поскольку войну же и продолжал. Вон она дыбится сзади, траншея — бывший фашистский передний край. Окопчики, вдоль которых бежал и где ноги чуть не оставил,— линия боевого охранения. Ее не минировали, чтобы не подорвались свои, на ночь сюда выползая. А под бурьяном — низинка, что толку и выползать, все равно ничего из нее не видно...
Ясно все, как на карте, нарисовалось. Не ясно лишь, для чего. Ага, направление ниток! Вдоль траншеи тянуться должны, раз к ней путь преграждают. И начинаться на линии охранения, поскольку ее заменяют собой.
Тут-то и осенило. Пес с ним, что шум подниму и сержантов своих всполошу, все равно же рассвет подпирает. И все равно не успею, если буду гадать, как бы действовали они...
Значит, вот для чего и провод. В целлулоидной изоляции, прочный и скользкий, что тоже ценно сейчас для нас. Метров двести в мотке, хватит, если и перекусят его раз-другой лягухи. А может, и не достанут, под зонтиком убережется, как поминалось в рассказе о первом парне-то, у костра. «Васе потом расскажешь...» Будто так уж не терпится Васе без головы остаться. Васе жениться еще как-никак предстоит. Мнение вам о себе подтверждать, что еще не дозрел до минерской нормы...
Пошарил вокруг, отыскал окопчик — фрица сажали все ж перед низинкой слушать, чтоб наши саперы не подползли,— быстро очистил его лопаткой. Даже и «лисью нору» вбок прокопал, нишу от поражения сверху: в наших окопах видел не раз, спасалась пехотка в них, когда густо снаряды ее молотили.
Так, теперь кошка необходима. Не живая, но тоже с хвостом — вроде той, какой ведра вылавливают из колодцев. Впрочем, вряд ли бы тут она подошла, якорьком в рыхлый грунт бы впивалась и сквозь бурьян без лебедки не продралась. Нет, тут округлое что-то надо, что бы бурьян под себя подминало, и в то же время способное нитки цеплять...
Еж тут нужен! Жил у нас дома целую зиму, любому коту мог дать фору по ловле мышей. Может быть, и лягух половит?
Что, что, а колючку в районе переднего края достать не проблема, скорее в штанах ощутишь дефицит, коли подольше здесь погуляешь. Вон она, зацепила! Не хватало, чтобы сапог глядя на зиму продрала. Хватит и рукавиц с тебя, с ними-то в мыслях уж распрощался.
Сдернул проволоку с полегших кольев, в ком потуже скатал — вот и еж. Породистый получился, ростом чуть не с футбольный мяч. Провод к нему подвязал, раскрутил, как пращу... Ого! Гранату забросить так в запасном — увольнение в город, считай, в кармане. Хоть там и города не было, а село. Зашуршал, как снаряд дальнобойный, метров сорок шнура сквозь рукавицу в себя всосал. Еж-макаронник! На ровном, по звуку судя, приземлился, подпрыгнул и откатился — значит, всю глубину захватил. Молодец!
Теперь в окопчик. В стенку уперся, силенок набрался на концентратах-то калорийных, тяну. Слышу, вошел в клин, похрустывает мой ежик. Исправно ползет, пережевывая сушняк. На секунду застрял, провернулся, подпрыгнул... Шлеп! Тр-рах!! Просвистала шрапнель, зачмокала сзади по брустверу взрытой траншеи... Есть одна! Провод цел? Цел, с натягом идет, значит, жив и ежик. Работает, громче еще хрустит... Шлеп! Тр-рах!! Теперь в нору, осколки хлестнули метрах в пяти за спиной. Молодчина, ежище! Две лягухи сжевал и сам цел!
Из «лисьей норы» неудобно тянуть, песок сыплется в рот и в уши. Зато еж ближе к дому, охотней ползет. Бум-м-з!!! Сроду не думал, что может земля так звенеть. Рядом, проклятая, маскировалась... Вот и под зонтиком побывал. Точнее, под колоколом церковным. В ушах вата, в черепе — резонанс. Зато три, с одного заброса. Работяга, ежик! Вот и сам подкатился. Что с тобой, друг? Оброс, поседел... Герой джунглей! Сейчас мы тебя в парикмахерскую и в баньку...
Повытаскал намотавшиеся волокна, обстукал ежа о кол, на добычу с уверенностью отправил. Щупальца у лягух метров двадцать, для надежности на десять будем по фронту шагать. Всю глубину не захватим — сменим рубеж, перейдем в обезвреженный край бурьяна. Справа налево, по рубежам — система. Так-то, товарищи фронтовики!
Ползет, хрустит ежик... Тр-рах! Тр-рах!! Ладно сработались, как по нотам. Четыре заброса, последний уж холостой. Собрался еще запустить для проверки, но вдруг увидел, что рассвело.
И сержантов своих увидел. А лучше б не видеть, образ сложившийся не нарушать. Где вся хозяйственность их, степенность? Марш-бросок «25+5», с полной выкладкой, по пересеченной... Ну держись, братец ежик, наша задача теперь — все расслышать, существенного не пропустить. Поскольку готовились, надо думать, начальники всю дорогу, яркие подбирали слова. А что в башке у нас, как в колоде пчелиной, так это откуда ж им знать? Выступить — их забота.
Подбежали, остановились. На дистанции несколько большей, чем строевым предусмотрено даже уставом, — чтобы дисциплинарный устав по возможности соблюсти. Не считая, понятно, уж правил словесных внушений.
Впрочем, и слов тех не слышно пока, только рты раскрываются, как в кино, когда звук не включится. И сама лента, похоже, забуксовала — раз за разом одни все движения губ.
— ...детский садик... такой-растакой... — прорвалось наконец или где-то соединилось.— Игрушки тебе, хлопушки? Не знаешь, что мы в ответе за этакого тебя?!
Не помню уж, что меня больше задело, но вдруг взбеленился не хуже их.
— Да? — заорал. — Это вы-то? В пояс вам поклониться, да? А я? Я за вас этаких не в ответе? Может, и больше еще в сто раз!
Сам себя испугался, признаться. Озадачились и они. Переглянулись, соображая. Затем старший сержант подошел, осмотрел меня с внимчивым интересом. Вроде как доктор на призывном.
— Это, — спрашивает,— перед кем же ты, братец, в ответе за нас?
— А не знаете? — пуще еще распаляюсь. — Или вконец одубели, с железом-то ржавым возясь? Перед детьми, перед женами вашими, что все глаза проглядели, перед окошками сидя! Сердцем вздрагивая на дню по пять раз, как шинелишку вдали увидят... Мыслимо счастье у них отнять? Вовсе уже и не жданное, может... Подарить его, а потом... Перед однополчанами вашими, что и вот здесь... вон будыли-то вымахали какие! Мыслимо к жизни за них не вернуться, не рассказать о них женам их, матерям?..
Не знаю, что еще накричал им, знаю только, что никогда уже после не подбирались так к месту слова и так ладно друг к дружке не пригонялись. Сколько политинформаций, бесед подготовленных в жизни провел и всегда вспоминал как потерю эту минуту. Вот уж действительно — вдохновение! Разом всю обстановку переменило. Куземкин отворотился, и видно стало, как сдвинулись лучиками морщинки на темных висках, возле глаз. Затем вновь посерьезнели оба.
— У тебя что, — осторожненько спрашивают, — отец...
— Неважно,— отмахиваюсь,— при чем тут...
— Как так неважно, — голосом тем же, что у костра. — Очень, брат, нам это важно. Откуда последнее написал?
— Из самого Сталинграда...
— Вот видишь, из самого. Как так — неважно? Ты ведь там тоже как будто был ранен, Петро? Не приходилось встречать его батю? Надо думать, известный был Савин боец. В каких частях, а, Вася?
— В саперах тоже...
— Тоже... Ну вот. Это все дело, брат, в корне меняет. Хотели, признаться, мы тут без тебя... Извини, больше этого не позволим. И ты, брат, пожалуйста, лишней инициативы не проявляй. Друг за друга на равных будем в ответе. И перед батей твоим. Ладный сапер был, в роду у вас, видно, смекалка. С лягухами это ты, брат, по-хозяйски разделался, хоть и порядочно шороху напустил. Ну да и то — не ничейка. Для мирных условий способ твой даже и очень подходит. И положение наше доходчиво разъяснил. Правда, Петро, неплохой агитатор? Напомни потом замполиту о нем сказать.
Оглядели окопчик, ежа моего трудягу.
— Траление вроде вручную... Что ж. В соответствии с обстановкой. Правда, Петро, голова? А теперь... Дуй-ка, Василий Яковлевич, на базу! Мы уж тут без тебя примем работу твою по акту, а ты, пока время, качай к шалашу. Зачетик там для тебя по теории приготовлен. На настоящего боевого минера! Схемка на Прутике, разберешь? Тотчас и премию, значит, получишь. Не ошибешься, не промахнешь?
— Минеры не ошибаются, — тоже и я подобрел, пряча понятную мне усмешку.
Они подозрительно переглянулись. Пощурились вдумчиво на меня. И вдруг оба расхохотались. И я вместе с ними, еще громче их.
Вот с того утра я и считаю себя минером. Премию как-никак заслужил от фронтовиков!
А и на полном серьезе — с того же. Поскольку в то утро главное мне открылось. Что храбрость — не дар какой-то природный, что независимо ни от чего человеку дается, как рост или там красота, а вместе с другим лишь существовать в нем может.
С пониманием, например, за кого в данном случае ты в ответе.
«ЕЩЕ И НА МАШКУ, АГА, НА ОДНУ!..»
Меньше бы стало, ага, на свете. Как это сам-то я мог упустить? Это ж о ней я в ужасной заботе топал обратно в овраг, весь в поту, с огоньком состязаясь, туда же бегущим. Метра три оставалось ему по ровнехонькому шнуру, а мне — тридцать, по высоченной осоке. Скачками, с подлетом, как на «гигантских шагах», но без плавности той, что чарует, как в сне приятном. Тут было как в неприятном, когда в жуткой панике рвешься бежать, а ноги в свалившихся брюках увязли. Но это от спешки опять казалось, а по тому же шнуру рассчитать, так и личный рекорд на коротком отрезке поставил. В сапогах мог почетный второй свой разряд пересдать бы на мастера спорта. Окажись вместо Машки в овраге — с секундомером физрук полковой. Чему тоже не очень бы стоило удивляться, поскольку спортивная честь для него, физрука, как известно, дороже жизни.
Глупой Машке, напротив, милей была жизнь. Спорт служил ей для сохранения шкуры. И когда над ней в воздухе шлепнул запал, Машка побила рекорд и мужской, дав классического козла, вокруг задранного хвоста крутнув «бочку». После чего в раскорячку воткнулась копытцами в землю, как вкопанная скамья, обалдело скосив удлиненное — в предвосхищении нынешней моды — чертячьи глазищи: «Не стыдно девчонок-то обижать?» Рефлекс в ней сработал врожденный — на кнут. Длинный и с кисточкой конского волоса, оглушительно хлопающий и жгущий. Каких в ее время уже, к сожалению, не плели. К нашему сожалению, а не Машки.
И вообще-то и пес бы с ней, с Машкой, ей-то как раз бы и поделом, но просто специфика нашей работы такая, что до подробностей помнится каждый производительный день.
Тот по началу был вовсе безрезультатный. Знойный и нудный, с вялыми холостыми пунктирами зуммера в липких от пота наушниках, и без них — с многослойной морзянкой кузнечиков в хрустких переспевающих травах в минуты положенных перекуров, с маревом дальним дрожащим, тоже как будто стрекочущим, меж перекладин белесых изгородей. Местность саперы по ходу войны проскребли на совесть, мин не встречалось, осколки да железяки, и только низинка у края капустного поля влажной прохладой насторожила: может, когда проходили, была залита?
Дернулся было назад на пригорок вернуться, ребятам пораньше махнуть на обед, чтобы со свежим вниманием после ее прощупать, как вдруг заметил в осоке прогал. В ровной ее седине, аккуратно причесанной сквознячками, — будто порядочный клок кто-то вырвал, темную снизу прядь обнажив. Кто его выдрал, следа не оставив? Не с вертолета ж на трапе спустился ради такого добра? Значит, расти ей там что-то мешало — камень, колода ли, птичье гнездо...
Но не гнездо и не камень, чутье подсказало. Опыт, накопленный в памяти глаз. Всем, чья профессия с поиском связана, необходимо присущий.
И миноискатель догадку решительно подтвердил. Подал голос уверенно и по делу.
Обед был отложен, само собой. Присел, аккуратно раздвинул осоку руками — вон же он, голенький, точно огурчик, в тине на грядке забытый, лежит. Только во много раз посолидней, даже и тех колбасин огуречных, что на прилавках впервые в то время как раз появились, видом пугая религиозных старух. Немецкий снаряд 150-миллиметровый! Дальнобойная осколочно-фугасная граната, если точнее определить. Сталистого чугуна — если еще полнее. В грунт не ушел, лишь влежался уютно: корни осоки под ним — что пружинный матрац. И поржавел не больно. Чугун окисляется медленней, чем заурядная сталь, в быту именуемая железом. В морской, говорят, воде размягчаться имеет свойство, но это чистый чугун, во-первых, а во-вторых — это важно лишь морякам. Здесь же море, если когда и было, так уж не меньше чем миллион лет назад.
Так что корпус вполне приличный. Нормальный взрывоопасный предмет. Средней мощности, если сравнить с другими. Радиус сплошного поражения пятьдесят метров, действительного — до ста. То есть в первой окружности все ростовые фигуры получат как минимум по осколку, во второй — три четверти всех фигур. Существует и третья — вероятного поражения. Отдельные же осколки сохраняют убойную силу еще и за ней.
Вот это нам знать важно. И то, что не полигон здесь — колхозное поле, и не фанерные, а живые фигуры располагаются на кругах. Капусту сажая, по осени убирая, в летнее время с вредителем-гусеницей борясь. О плодородии почвы заботясь, о вывозе урожая — из году в год, по кругам временным. Кругам жизни, исконным для всей природы.
И не подозревая о смертных кругах. Ни на календаре не означенных, ни на карте, ни на земле не очерченных острым колом. Только отсюда и видных, из геометрического их центра, и только тому, кто способен его отыскать. Отыскать и представить, из опыта исходя и из знаний, что неизбежно должно здесь случиться в некий негаданный миг. Когда вдруг наскучит ему быть воображаемым центром и придет в голову эти круги наяву очертить.
Именно в голову, сказано не случайно. Поскольку взрыватель в нем — головной. И именно вдруг, без особых напоминаний: солнышко ли пригреет, чуть удлинит пружинку, морозец детальки из разных металлов в различной же степени подожмет, сцепление между ними ослабит, или и та же коррозия некую заусеничку малую переест, что не зачистили в Гамбурге где-то, во Франкфурте ли на Майне лет тому десять ли, двадцать назад. И вздрогнет ударник, будто спросонок, сдвинется с места и поползет, и острым бойком ужалит чувствительный детонатор...
Малой причины ему довольно, поскольку свое уже все получил. То, что по штату положено было. И по случайности только остался в долгу.
Ну так чего же ты философствуешь, скажете, тут стоишь? Жизнь надоела, с судьбой поиграть захотелось?
Вот уж чего бы не мог о себе сказать. Семья у меня тогда уж была, сын и дочка. И вообще не любитель подобных игр. Мало того, что исход их конечный доподлинно знаю — быть приходилось свидетелем, и не раз,— но и еще кой-что в память навек запало. С улицы сельской увиденное — глаза. В лунках-проталинках, жарким дыханием отогретых, в нашем окошке и по соседству с обеих сторон. Когда почтальонка та, эвакуированная девятиклассница Нинка, насунув на брови платок, меж сугробов мелькала. Долго мелькала, будто вперед-назад. И в каждом окошке — по глазу за ней, сквозь дырку. И сама дырка — как глаз, от страха расширенный непомерно. Если платок-то у Нинки надвинут был, несмотря на любую погоду. Знаком служил он условным, без уговора: пряталась Нинка под ним от ужасных глаз...
Да, работенка была у девчонки. А над снарядом чего же не постоять? Может взорваться в любую минуту. Но именно в эту — шанс невелик. Сколько он пролежал здесь спокойно? Лет, скажем, десять. В минуты их обратим. На пять разделим, на те, что стою я. Частное в знаменатель поставим, под единицей, — вот вам и вероятность, что это случится при мне.
Теория, скажете? Вдруг он ее не знает? Чугунная, сами заметили, голова.
Ну тогда к практике обратимся. К собственной, чтоб далеко не ходить. Сколько мне довелось обезвредить взрывоопасных предметов? Счет на то время не помню, но если учесть, что на первые годы побольше их приходилось, тысяч пятнадцать, наверняка. А за всю службу едва до полсотни не дотянуло. Вот и берите на выбор любой знаменатель — хоть на сегодняшний день, хоть на тот. Дробь будет больше, понятно, зато уж не на одну философию, но и на основную, рабочую часть. То есть не на пять минут неподвижного любованья, а и на то, чтоб понянчиться с ним часок.
Это одна оговорка существенная. Другая...
Ясно, что служба к концу подходит. Моя-то, как ни бодрись. И все-таки может еще подрасти знаменатель. А если вовсе бы возраст не ставил предел? Теоретически можно ведь допустить такое?
Так что не велика вероятность. При неизменных условиях главных: взрывоопасный предмет, и сапер с ним один на один. В чистом поле, сапер как сапер, и предмет как предмет, нормальный. Задачка для пятого класса, с учетом повышенных школьных программ.
Есть, однако, и посложнее. Которой бы в первую очередь и заняться, а эту на дом оставить, если охота и вообще не отпала бы к ней возвращаться потом. Сколько людей здесь прошло за все годы? Без миноискателей, щупов, без подготовки и опыта эти предметы распознавать? И вот для них, для всех вместе, дробь будет, понятно, иной. И с каждым часом растет, к единице стремясь, к пределу...
Такая вот философия. Правда, не лишняя? А вообще... Все к ней склоняются, даже и лишней, кому подолгу с собой оставаться приходится наедине. С полем, С небом, с высокими облаками. С маревом дальним, извечно текущим, будто в сосудах невидимых кровь. И вряд ли случайно так получилось, что лучшие из мною встреченных в жизни саперов большим и обладали умением с виду ненужную мысль до нужды довести.
Но сейчас — о снаряде.
Так почему же он не сработал, если все свое получил? А? Откуда это известно? Расписку, мол, что ли, вам предъявил?
А вон она и расписка. На медном ведущем его пояске ровная строчка с наклоном вправо — ротному писарю образец. След от полей нарезов. Знак, что прошел он канал ствола, выстреленный снаряд, а не просто забытый, скажем, на бывшей позиции огневой. Не просто подарок, а именно с неба, не на колесах приехал — по воздуху прилетел. И не с парашютом здесь мягонько приземлился — на бок, как учат инструкторы новичков,— а ткнулся, как и положено, носом, чему свидетель — тот самый же поясок. Поскольку на месте, в пазу своем прочно сидеть остался, а не сорвался, как это бывает, когда до нарезов в казенник снаряд не дошлют. Как поросенок визжит в таком случае он в полете и плюхнуться может хоть боком, хоть дном.
Нет, этот по правилам внешней баллистики траекторию прочертил, для устойчивости вращаясь. И ладно уж — не взорвался, но и лежит-то, заметьте, как. Точно в коробочке бархатной ювелирная драгоценность или в музее под стеклышком экспонат. Видный, как на перинке, нисколечко в грунт не зарывшись.
Конечно, можно б и вовсе в его биографии не копаться — шашку на спинку ему положил, шнур протянул вон туда, за гребень, трах! — и прощай интересный предмет.
Но в том и дело, что интересный. И ладно здесь местность с ним так поступить позволяет, а если в селе бы нашелся, на огороде заброшенном, в лопухах? Тогда бы понянчиться с этим подкидышем милым пришлось, аккуратно поднять, на подушечку мягкую уложить, покатать на машине, каждый ухаб объезжая, как мину, а то и на ручках подальше его от жилья отнести, прежде чем навсегда с ним расстаться.
Вот откуда и интерес, в чем и дело.
Дело в том, что взрыватель артиллерийский инерционный на два удара рассчитан. Первый наносится в дно снаряда — взрывом порохового заряда в казенной части ствола. При этом с первой «зарубки» ударник снимается, взводится, по инерции отползая назад. Точнее, наоборот, — задержавшись, тогда как снаряд весь рванется вперед. Второй удар — после полета, головной частью о грунт. Этот, напротив, снаряд тормозит, а ударник вперед посылает — на капсюль, чувствительный к механическим «раздражениям», гремучей ртутью заряженный, скажем. Капсюль взрывается от укола, и от него детонирует основная начинка снаряда — тротил.
Вот что он должен был получить под расписку. За что и остался по сей день в долгу. В долгу — перед кем? Перед расчетом тем в форме серо-зеленой, и до сих пор ненавистной всем людям, даже не видевшим и войны, — шестью орудийными номерами, которые с лету в казенник его запихнули, со звоном дослали, задвинули наглухо клином затвора и дернули шнур боевой, которых давно и в живых-то уж нету, если свершить своевременно не догадались то, что у них называлось, вот именно, «хэнде хох». Перед их «обером» щеголеватым, который собаку съел в деле рассчитанного убийства и, наблюдая вон с той, вероятно, высотки, посредством испытанных вычислений по телефону направил его сюда, в ложбинку, где наша пехотка к обеду скопилась — с гроздьями котелков вереница неторопливых папаш, облеченных доверием «представителей» от некомплектных взводов и пополненных отделений. Перед той гаубицей брыластой, которая выплюнула его на параболу в пять километров с кухней походной, хищно наклюнутой на конец,— гаубицы той в мире подавно не существует, танк краснозвездный под Познанью или Варшавой, год, полтора ли спустя опрокинул ее в кювет...
И чертыхнулся сквозь зубы «обер», точно бухгалтер какой, приписник, потеряв свой разрыв на поле; и подивился заминке в командах юнец лейтенант, без ума в своего командира влюбленный, с поднятой ручкой застыв сзади фронта орудий на огневой; и поднялись, отряхнулись папаши, пыль с котелков рукавами смахнув и покосившись на «представителя» помоложе, который о яблочках райских взамен опостылевшей за оборону овсянки, шутя, разумеется, пожалел...
Такие вот рисовались картинки. Из отгремевшей войны, на которую я не успел. Не успел и сам тоже в долгу остался. Долг на долг. Долг снаряда — слепой, запоздалый, бессмысленного убийства, — и мой, на меня по наследству сквозь годы переведенный: не дать совершиться убийству ни в чем не повинных людей. В белых, до глаз, платочках колхозниц из огородной бригады — послевоенных вдов и невест, меж собой ни походкой, ни видом не различимых; в кепочках-блинчиках допризывников-шоферов, подносящих им ящики с изумрудной рассадой под перекрестным огнем их зазывных взглядов и шуток отчаянно-озорных. Или и в красных галстучках юных натуралистов, за бабочками в поход марширующих из поселка под строгой командой красивенькой их вожатой, на ту же Нинку похожей, только глазами, при строгости всей, живей...
А в первые годы, когда и окопы еще были целы и в блиндажах запах дыма и скученного жилья, тогда и не мирные люди спасенными представлялись, а непосредственно те папаши, повар их черноусый, с маху захлопнувший крышку котла, прежде чем коней хлестнуть вожжами...
Так что война для меня продолжалась. И каждый снаряд вот такой чуть не ожившим врагом представлялся, тем же и «обером», смертью грозящим сквозь годы и мне. И чем больше их, уничтоженных, на счету моем нарастало, тем легче и на душе становилось. И об отце вспоминалось покойнее и светлей. Из раннего детства картины всплывали, что и не вспомнились, верно бы, никогда, если бы сам он, отец-то, домой вернулся. Молодым чаще виделся и веселым, вовсе и не похожим на тех с котелками папаш, которые сами с него же и срисовались, каким он из писем вставал фронтовых.
Но это уж лирика. Или история — как для кого. Но только счет наш по обезвреживанию и до сих пор боевым именуют, как на войне.
А то, что мы философией в шутку назвали, — необходимый этап. Оценка взрывоопасного предмета. Местности, обстановки, в которой работать с ним предстоит.
К местности и пришла теперь очередь обратиться. Опросим ее по тем пунктам, на которые нам снаряд дать ответ отказался.
Ну, во-первых, с какой стороны прилетел он сюда? С запада? И, значит, лежать должен был бы взрывателем на восток. Так по логике. А на деле? Можно и с компасом не сверяться, видно по солнцу — к югу значительно отклонен. Что это значит? Ничего ровно. Мало ли как батареи располагались и под каким углом к фронту вели огонь. Да и сама она, линия фронта, не по линейке же проводилась, даже и при наметке предполагаемых рубежей. А именно к местности применяясь. Тем более — если рубеж занимался в боях. Tyт само дело учитывать каждую складочку заставляло. Где оборона могла здесь установиться? Их оборона, немецкая, поскольку они отступали тогда. И поскольку — как это ни странно для невоенного человека — именно отступающий выбирает рубеж. Выгодный, на котором лишь и возможно ему закрепиться, если до этого отступал.
Где здесь возможно? По тем вон высоткам. Речка там протекает. По карте судить, пустяковая и речушка, но, видимо, шире была в старину, бушевала в разливах по веснам. Высоты — ее правый берег. На географию гитлеровцам везло: чуть не все реки текут у нас к югу, и западный берег — высокий у всех. И при форсировании удобен, и оборону легче на нем держать.
На географию-то везло, да по истории кол схватили. Осиновый, тот что для нечисти всякой особенно неприятен, если народные сказки не врут.
Но все это — рассуждения в крупном масштабе. Вернее, буквально в крупном — у нас. Не география — топография. Вот и прикинем, из топографии исходя, где батарея могла здесь располагаться? Четыре те тупорылые гаубицы, позади фронта которых и красовался юнец лейтенант в молодцеватой готовности руку вниз бросить со звонкой командой «Фойер!».
Задачка. Местность открытая, как ладошка. Однако же воевали, не день и не два, а значит, и укрывали орудия где-то. Стоя в овраге, немного увидишь, но я с утра с разных точек успел осмотреться, полосы нарезая ребятам, приглядывая за ними издалека. Запомнил штришки за высотами — гребень дубравы ли, березнячка. Еще помечтал: по жаре подарок. Им-то подарок был и вдвойне. «Оберу» с лейтенантом. Прямо-таки золотой гребешок! С воздуха маскировка, и угол укрытия обеспечен: вспышки выстрелов с передовой не видны.
Вот на опушке той рощицы, по всему, она и стояла, их батарея, пользуясь преимуществом, по калибру, позиции поудобнее занимать.
На воде вилами писано, возразите? Спорить не стал бы, если бы только из местности исходил. Но и снаряд сам. Больше он рассказал мне, чем вслух я решился перевести. Догадка одна и вначале еще мелькнула, вот в связи с тем, что лежит он как на матраце и даже мембрана взрывателя не повреждена. Случай один из тысяч. Интересно бы побеспокоить его, на другой бок повернуть, проверить гипотезу нашу. Но любопытство минеру запрещено, когда без него обойтись возможно.
Попробуем обойтись. К скату в овражек наш обернемся, осмотрим его в направлении гребешка. Градусов тридцать уклон? А характер грунта? Проплешины, видите, вниз, как сосульки, сползают? На что уж неприхотлива степная трава, а и та не растет. Глина, еще какая! Гончарной ее зовут. Галечкой-чечевицей отблескивает вдобавок, верно и впрямь был когда-то здесь водоем. Не грунт — бетон! Жарой ли прихватит его, морозцем — искры из-под кирки брызжут, точно из-под кресала, десять потов сойдет, пока верхний слой пробьешь. Летом здесь фронт стоял, жаркое было лето и в смысле прямом.
Ну так тем более, скажете, должен был смяться взрыватель!
Должен. Но это еще не все. «Обер»-то как был представлен? Съевший собаку артиллерист. Верно, подумали — для картины. Ну а картина сама для чего?
Хоть исходя из калибра. Чушки такие бросать не доверят ни офицерику-скороспелке из гимназистов, ни резервисту бухгалтеру, с кем и сам «обер» себя сравнил, на момент допустив, что разрыв потерял из виду. Только лишь на момент. И тут же взглянул на карту.
И еще раз помянул «доннер-веттер», увидев яичко- горизонтальку, скатившуюся к соседней черте вплотную. Или, наоборот, ухмыльнулся, догадкой своей довольный, если и не было этой горизонтальки на карте, наспех топографами уточненной на чужой местности в ходе боев.
Есть такой способ стрельбы у артиллеристов. Доступный лишь асам — лучшим из командиров даже и корпусных батарей. Раньше я про лягух рассказал — вроде того и здесь. Разница в том, что не легонькая лягуха, а чушка в полцентнера рвется над головами с немыслимым треском, в чем и моральный еще эффект.
Стрельба на рикошетах. Взрыватель ставят замедленный и траекторию выбирают настильную — угол встречи с землей небольшой. Снаряд в грунт уходит неглубоко и, просверлив в нем дугу, как крот, вновь вырывается в воздух. Физику помните? Масса земная выталкивает его. Тогда и взрыватель срабатывает, на высоте метров двух — пяти.
Смысл? Больше осколков убойных. На грунте до трети их в землю уходит, даже и при крутой траектории, выгодной для обычной стрельбы.
Ну а об остальном вы и сами, наверно, уж догадались. Конечно бы, интересно еще установку взрывателя для подтвержденья проверить. Но, повторяю, без надобности нельзя. Надобности же особой нету. Поскольку не так и важно, «обера» склон подвел или и не было «обера» вовсе в природе, а тот из запаса бухгалтер, не мудрствуя с разными там углами, пальнул на полном заряде, так что снаряд лег на склон плашмя и даже при установке взрывателя на «осколочный» в воздух обратно взвился, визжа.
Факт, что срикошетировал. Оттого и в сторонку глядит, как замечено было. Явление деривации вам известно? От вращения отклоняется вправо в полете снаряд. Ну а тем более, если земли коснется. Под углом вбок взмывает, как бы закручиваясь дугой.
Наш именно только коснулся. Центрующим утолщением по окаменевшей глине черкнул. И прыгнул сюда, в осоку. Улегся на долгие годы в ней.
Вот это с порядочной вероятностью можно принять за факты.
А вывод?
А что не все он свое получил. Хоть и по воздуху прилетел и расписку нам в том представил.
Второго удара не получил. И не взорвался — вполне законно. Остался ударник в нем на «зарубке» стоять.
Ну так, выходит, не так сейчас и опасен?
Вот в «сейчас» все и дело. Был бы не так. Но год-то сейчас какой? И не на складе он пролежал это время — под снегом, под проливными дождями. В половодье — и вовсе на дне озерка. Физику с вами вкратце мы повторили? Химии очередь подошла. Будь он и вовсе теперь без взрывателя, все равно от малейшей причины рвануть бы мог. Как бы еще не скорее, пожалуй. Доступ влаге в него сквозь отверстие был бы открыт. А значит, коррозия больше. Окислы же металла, вступая с тротилом в реакцию, образуют так называемые пикраты — вещества, по чувствительности не уступающие гремучей ртути.
Так для чего и все рассуждения наши тогда?
В самом деле, вопрос резонный. Но, во-первых, другой мог быть вывод. Во-вторых, и этот важность бы представлял, если работать пришлось бы в другом-то месте. А в-третьих...
Да просто с учебной целью. Способность к минерскому образу мысли в себе развить. Не только для нашей профессии это необходимо — свой способ мыслить; не говоря уж для следователя, что из кино всем известно, но и для инженера, учителя, для врача. К врачу-то, пожалуй, минер в этом смысле всего и ближе. К хирургу, к примеру. Так же все признаки должен учесть, поставить диагноз, выбрать способ, как операцию произвести. И степень риска, и то же чувство в решающую минуту: собственной жизни бы не пожалел, лишь бы беду отвести чужую...
Один я был, на все поле один. За все утро не то чтобы встретить кого, но и вдали ни живой души не приметил. Кроме ребят моих — трое их было, — то один, то другой возникал на минуту на фоне неба и, помаячив, точно неторопливый косец, вновь скрывался в лощинке. Но у них у каждого свой участок, за пределы которого без сигнала — ни-ни. Зной, что ли, голову задурил или марево это — беспрестанно струящийся перед глазами пунктир, точно электроток на учебной схеме, — только и вылезти наверх, как следует оглядеться в мысль не пришло. Отсюда и Машка... Теперь-то все видится чуть не забавным, а в тот момент... Ладно, свойство волос у меня такое, что не седеют, а то бы и не узнала, когда бы домой возвратился, жена.
В чистом поле, сапер как сапер и предмет как предмет — задачка для пятого класса. Четырехсотграммовая шашка — вот она, вынул из вещмешка, дырка заранее высверлена для запала, запал со шнуром в одну трубку соединены. Выбрал недлинную, что зря жечь, до бугорка того с плешками шагом — минута.
Вставил запал в отверстие, шашку пристроил под бок снаряду, взял свободный конец шнура в руку, отошел шагов пять, поджег. Пошагал вверх по склону, чувствуя по привычке спиною, как он бежит, огонек там в осоке, искря и шипя. Обернулся — уже дна оврага не видно. Стоя не видно, а ляжешь — запас еще будет: на высоту травяного покрова, слой рыхлого грунта, что может прорезаться крупным осколком. Метрах в трех впереди прочертился мой «горизонт» — линия видимости противоположного склона. Лежи, наблюдай, как турист. Через минуту толкнется слегка земной шар под тобою, молния слепо блеснет, осоку рванет ураганом на склоне, встанет куст, обесцвеченный, мертвый, будто с иной планеты сюда занесен. Затем в уши разряд грозовой надавит...
Помню, еще пожалел благодати: рухнет, расколется тишь, как хрустальная люстра, воздух отравится вонью тротила, и онемеют, оглохнув, кузнечики и сверчки...
Никогда прежде уши не затыкал, даже бомбы когда подрывали, а тут — о кузнечиках, что ли, об этих подумав — сам пальцами потянулся к вискам. Как еще не успел, судьба-то! В тот же миг близкий крик услышал...
Сразу весь мокрый стал. Почудилось? По ветру донесло? Ничего не успел подумать. Очнулся — уже бегу. Выскочил к краю оврага — коза! С обрывком веревки, несется к снаряду. А следом — мальчонка...
Вот тут и поставил я свой рекорд. Гигантскими-то шагами. Подбежал, схватил хвостик запальной трубки — уж руку жжет. Тут же бы через себя перекинуть, а я шашку стряхиваю с нее — туго запал загнал в дырку. Стряхнул, бросил вверх его над собой — вот тогда и дала козла Машка...
А я обессилел. Опустился в осоку, дышу. Улыбаюсь, должно быть, счастливо. Поскольку и он, мальчишка, белый весь с перепугу, тоже стал рот кривить. Не знает — смеяться, плакать? Притянул я к себе его за рубашонку, обнял за плечи — косточки тоненькие, сердчишко колотится, что воробей.
— Как зовут-то тебя? — спрашиваю.
— Василием,— говорит.
— Ну вот, и меня, брат, Василием. Вот опоздай я сейчас на шаг, и на два Василия стало бы меньше на свете.
Он посопел, подумал.
— Еще и на Машку, ага, на одну!
— И на Машку,— я согласился.
Проводили глазами желтое облачко, медленно отплывавшее в вышину, вдохнули вновь посвежевший воздух. Полем он пахнул, спелой травой, полузабытым моим деревенским детством. Вася вскочил, кинулся к Машке, обнял ее за шею, щекой припал. Машка очнулась, взбрыкнула, пустилась стремглав по склону.
— Оставь, — придержал я. — В деревню со страху рванула. Что б на чужом огороде в плетне ей рогами увязнуть, пока не приспеет хозяйка с хворостиной поздоровей!
— Ага, с хворостиной!
И оба мы весело расхохотались. Одинаково звонко, будто сравнявшись в годах. А и на деле бы каждому стоило с этой минуты заново счет своей жизни начать...
РАССКАЗ О ВОСЬМИ КОЛОДЦАХ
С пуговицы начну. Хоть и можно бы, верно, удачней сравнение отыскать. Но примеры берутся где ближе. А ближе всего человеку что? Профессия, дело всей жизни. А если дел таких два? Тогда и выходит само собой: об одном говоришь, из другого пример приводишь.
Более тридцати лет жизни минером мне прослужить довелось. И неполные тридцать — старшиной роты. Должность по штату одна, а профессий две, и достаточно разных. Но немало и общего есть, хоть со стороны, может быть, и не видно.
Прежде всего — это глаз. Внимчивый, любопытный. Въедливый — тоже могут назвать. Кому он некстати придется.
Вот и с пуговицей пример. С той самой, что отлетает у нерадивых солдат как раз за минуту до утреннего осмотра. Только ухватит, бедняга, в петлю ее продеть, и почувствует слабину, а затем и обидную пустоту в щепоти. Бряк — покатилась, закручиваясь, под койку. Ехидной такой завихряющейся дугой, как петух вокруг курочки пишет. Тьфу ты, нечисть, будто того и ждала!
Ну что теперь? Нитку хватать с иголкой? Только обманывать зря себя. Вон уже и дневальный, голосом тоже до крайности неприятным, выпевает, будто нарочно для вас: «Пр-ригото-о-вить-ся...» Старается, будет ефрейтор. Он-то будет, а вам приготовиться. А к чему? Слушать очередную мораль перед строем? Из-за какой-то несчастной... И главное, ведь предчувствовал, вот же и пальцы-то задержались, как ее очередь подошла. Второй день на сопле паслась, если уж откровенно. Думал, и третий подержится. Индюк думал!
Ну что? Вон и на середину все потянулись, и Бондаренко... А? Бондаренко-то тут при чем? Он-то, ну да, ни при чем, но при нем... «Эй, Бондаренко, хваленый твой, закаленный...» «А как же, всегда при нас! Только, пожалуйста...» «Ага, проволоку рубить на гвозди!»
Остальное — дело сноровки. Кустик-обрывок ниток нащупал, под палец нацелился — тр-ры...
Да. Вот это уж звук объективно противный. В казенном-то обмундировании — дырку концом ножа! «Спичку?» «Спасибо, свои имеем». За пуговицей под койку нырнул, ушко в прорез продавил, в ушко — спичку. Ногтем прижал, обломил — все дела. Застегнулся, пригладился, сделал заправочку — уф-ф! Даже в строй успел не последним. Ухмыляется, светит физиономией, как луной.
Ну дальше все по порядку. «Пер-рвая шеренга...» Пожалуйста, два шага. «Кр-ру-гом!» Пожалуйста, и тем более. «Пр-ри-ступить...» Да, товарищ сержант, приступайте.
Сержант новенький, неделя как из учебного, к правофланговому не успел подойти, вы уж грудь колесом: «Во, как глазки у милки!» И в самом деле блестят все, не новую взял, потрудился за старой начищенной слазать под койку.
И как раз тут-то вот — голос знакомый. Очень знакомый, но не сержанта, на котором все ваше внимание сосредоточено, а чей-то не подходящий совсем к настроению вашему в ожидании, может быть, даже и похвалы: «Рядовой Симочкин...» Я?! Вы — кивочек. И уже гладкий зачес под луной. Тоже знакомый, и именно, да, под нею, моментально пригасшей, будто подернутой облачком. А почему? Почему облачком — это вполне понятно, а почему непосредственно-то под ней? Ну, во-первых, луне и положено помещаться повыше, а во-вторых... Вон ведь вы, Симочкин, вымахали какой! А товарищ прапорщик, чей и зачес-то, из того поколения впереди идущих, что недокормленное росло. Как из истории вам, вероятно, известно. Ширину успел нагнать после на полноценном пайке военном, а вышину свою упустил. Хоть, возможно, не ниже и вас был заказан. Но сейчас это роли существенной не играет, поскольку здесь-то не волейбол. «Сверху вторая, товарищ Симочкин». И голос не скажете — неприятный, даже при самом и субъективном подходе нельзя не отметить интимную лирику в нем. «Впрочем, указывать вам, полагаю, излишне...»
Вот когда в полную силу-то запылала луна! Не отраженным покойным светом, а, вопреки астрономии, раскалившись из собственных недр. И не от лирики, хоть и от лирики тоже, но главное оттого, что и в самом деле ведь совершенно излишне, сверху какая, указывать вам. Ахти, мамочки, надо ж так влипнуть! И знал ведь, предчувствовал, пес его, Бондаренку, и чего вечно носится, как черт с торбой! Впрочем, не повезет, так...
И что теперь? Виноват, товарищ?.. Ну, правильно, виноваты, но в чем? Вот какой возникает вопрос. В чем виноваты, товарищ Симочкин? Может быть, сами подскажете, а? Уж не в неряшливости, которую можно бы счесть и случайной, даже не в порче рабочей тужурки, которую можно, в конце концов, починить, а сформулируйте, Симочкин, в чем?
И, тем не менее, интересно. (Это потом уже будете рассуждать, в процессе мытья полов внеочередного.) Что ли, и зрение от поколений зависит? Иное устройство глаз? Надо же, сквозь «хэбэ»...
Что «хэбэ»! Хоть и шерсть с лавсаном. Если бы строились в увольнение, например, и если рука бы у вас поднялась даже и повседневное обмундирование портить. И все же, Симочкин, не насквозь. Это только так говорится. А то больно жить бы нам было легко. Нам-то в особенности, саперам. Если б сквозь землю-то видели, по поговорке. Можно, однако, и без того. Если внимательным быть вот хоть, скажем, к рельефу.
В рельефе и было дело. Там-то, на Минском шоссе, — это мы от примера к рассказу уж переходим. Шоссе знаменитое, из столицы на запад ведет, по загруженности — одно из первых. Сколько машин тут проехало за двенадцать с лишним лет, сколько водителей на сиденьях тряхнуло. Раз тряхнуло, через сто метров — второй. Еще через сто — третий. И все на одном отрезке — где дорога приподнята над болотом. На Смоленщине это, между старинным городом Вязьмой и малоизвестным райцентром Издешково, образовавшимся из былого села.
Каждый раз трижды. Хоть по этой стороне поезжай, хоть по той, обратно. Или дважды — если по середине, в ночное время, к примеру, когда свободно шоссе.
Ну и по временам года. Летом легкий качок, к осени посильнее, а по весне, как от снега освободится асфальт, не качок, а удар ощутимый под мягкое место.
Сколько угодно раз. Сколько ездите в месяц, скажем, из Вязьмы в Смоленск и обратно, столько и получайте. И помножайте еще на шесть.
И ничего. Ничего из того и не выводили. Разве оценку работы дорожников — кратко и ясно и одинаково всякий раз.
Но и дорожники делали свое дело. Клали заплаты каждую весну: три справа, три слева, посередине — две. И тоже ругались, еще и покрепче, кто здесь работал-то не впервой. «Чертово место, болотина...» И так далее. И тоже на этом все.
Вот вам и глаз поколений, товарищ Симочкин. Будущий, хочется думать, минер. Будущий, извините, были бы настоящий, так сообразили, что и не требуется вовсе взглядом просвечивать ваше «хэбэ». А уж тем более — шерсть с лавсаном. Лучше они от этого вряд ли делаются. То есть от Бондаренкина-то ножа. Смекнули бы, что бесполезное это дело — не то чтобы прапорщика, а и толкового рядового минера на эдакой штучке пробовать провести. Ушко пуговицы в ткань утоплено? Шляпка вплотную притянута к ней? И что образуется вокруг петли, когда застегнетесь? Как ни приглаживай, а рельеф.
В начале июня было, пятьдесят четвертого, последнюю заплату загладить успели как раз ремонтники, когда я с бригадой придвинулся с поля к шоссе. Да, не с командой, не с подразделением, а по-граждански — с бригадой: вольнонаемных на помощь нам дали тогда. Сколько лет миновало, как войну с земли нашей прогнали, а уборки много еще оставалось за ней. То из одной области, то из другой поступали заявки. Мы в то лето работы вели в трех областях. А и учеба должна была двигаться своим порядком.
Вот и решил ДОСААФ нам прийти на помощь. Бросил клич на местах — нашлись добровольцы. Запасников брали, в армии отслуживших, всех родов войск. Обучили их под командой бывалых инструкторов на курсах. И я к этому делу был привлечен. Потом получил бригаду. Семьдесят два человека, парни солидные, лет по двадцать пяти — тридцать, тоже семейные в большинстве, так что общий язык найти было нетрудно. Дисциплину военную соблюдали, хоть и в гражданском, — вроде как партизаны в войну.
Хорошие, в общем, ребята. Но саперов на всю бригаду — я да помощник мой, рядовой Морозов, что больше базой заведовал, взрывчаткой, инвентарем. Работали группами, во главе каждой — мастер. Четверо было их, мастеров, на месяц большую подготовку прошедших. Обнаружит кто из ребят взрывоопасный предмет — флажком место отметит, сам дальше идет. Прощупает свою полосу, доложит мастеру. Мастер мне — о своем участке. Я оцепление ставлю, флажки обхожу, подрываю все сам на месте.
Так что опасности для них не было никакой, не «свежее» поле, годами ходили и без миноискателей люди, где что и осталось, так не наверху.
Так и шли, и дошли до шоссе. Прежде чем на другую сторону перейти, задержались — всем вместе собраться, имущество пересчитать.
Вот тут и заметил я на дороге заплату. Первое, что внимание привлекло, — это форма. Правильная уж слишком для вмятины или выбоины обычной — квадрат с округленными уголками. Не по циркулю закругленными, разумеется, и сам квадрат можно видеть лишь в воображении, однако ясно и без рулетки: противоположные стороны соедини — точь-в-точь равными будут отрезки.
И на другой стороне заплата. Перешел и ее осмотрел. Квадрат меньше напоминает, но того же размера, тот же впишется в нее крест. Напротив как раз, на перпендикуляре к оси шоссе и от обочины, как и та, метрах в двух с половиной.
Вот это второй важный признак — расположение.
Дальше прошел по дороге, Ну вот! Еще одна — посредине. Метрах в пятидесяти от тех двух. Чудо, конечно, столько лет, столько транспорта здесь прошло — сотни тысяч машин, миллионы! И все равно бы поспорить мог в тот момент: дальше пройду — еще две обнаружу. А то и сверх двух еще три, треугольником, приравненным к «конверту», — или со стороны Вязьмы, или Издешкова.
Так в итоге и получилось. Три справа, три слева, две в середине — в порядке шахматных клеток. Между парами метров по восемьдесят — по сто, от каждой пары до средней заплаты — около полусотни.
Геометрия...
Полкилометра еще отшагал — на износ оценить дорогу. В полном порядке покрытие, в меру наезженный, гладкий асфальт, нигде ни следа починки.
И — последнее, что еще раньше отметить успел: характер местности. Метра на три над горизонтом приподнято полотно, по обе стороны — заболоченная низина. Дефиле, по-военному, узкий проход.
Вот и все пока, глазом большего не возьмешь, хирургическое исследование необходимо.
— Ну-ка, Володя, — подзываю из мастеров одного,— покомандуй тут, на часок отлучиться мне надо.
Володя парень толковый, сержантом срочную отслужил, все это время за мной наблюдал, пока я там колдовал на дороге.
— Неужели что есть? — спрашивает тихонько. — А, товарищ старшина? Ведь сколько...
В том и дело. Поди теперь убеди кого, тем более если ты не генерал. Свежие латки, только что наложили...
— Трудно сказать, — отвечаю. — Одно пока ясно — система. А отчего? Может, дренажный расчет подвел, просасываются там пластыри или прокладки какие. А может быть, и по нашему делу, да вынуто все давно, недостаточно плотно затрамбовали пустоты. Разведать необходимо, однако, коли сомнение родилось.
Пошагал я в деревню — в полутора километрах виднелась силосная башня на бугорке. На пустой улице повстречал двух колхозниц, разговорились почти как знакомые: ребята мои из бригады ходили сюда на ночлег. Женщины молодые, в войну вовсе девчонками были, однако припомнили: немцы перед уходом сгоняли жителей на дорогу — копать.
— Между болотинами, где насыпь?
— Вроде там...
— Там, — вторая кивает.
— А не можете, девушки, познакомить с тем, кто копал?
— Кто ж бы это... Дома-то никого. Вон дедусь разве?
— Дед Михайло? Не, он не копал, он рубил что-то...
— Рубил? — меня словно толкнуло.
— Ну да, он же плотник, дедусь!
— А рубил что, не помните?
— Да вон же он сам, его и спросите!
Еле себя удержал, чтоб не кинуться через дорогу, достоинство соблюсти. Поздоровался мимоходом, присел в стороне на бревна, будто передохнуть. На разговор не напрашиваюсь, знаю, какие они бывают, деревенские эти деды.
— Вы там бабахаете на пустошах? — спрашивает спустя не меньше как пять минут.
— Мы, — отвечаю еще неохотнее вроде, чем он. — До сих пор вот приходится...
— Да, война...
Угощаю его папироской, исподволь подвожу разговор к дороге.
— Рыли, — дед подтверждает, — ямы вроде могил. Только кого ж хоронить на тракте? Догадались — минируют. Думали, постреляют после-то всех. Недосуг, знать, было. Ночью наши танкисты в село ворвались...
— Предупредили их о тех ямах?
Дед молча хмурится: глупый вопрос.
— И что же танкисты? Раскапывали дорогу?
— Не, надо думать. Ходом же, следом за немцем прошли. Немец и сам по шоссе бежал, боле негде.
— Вас-то, по возрасту, чай, не гоняли копать?
Старик сплевывает в досаде. Оглядывает меня выцветшими глазами — стоит ли продолжать разговор. Но вспоминает, видимо, о «бабаханье».
— Пенсии, може, еще от их ждать. На другое поставили днями раньше. Срубы для их же рубить. А куда денешься, коль автомат в нос тычут...
— Для блиндажей, что ли, срубы?
Дед, очевидно, нервы решил поберечь.
— Не, вроде как для колодцев.
— И много? Пять? Десять?
— Десять бы не осилил, дюже оголодавши был. Неделю на все сроку дали, не то, обещали, капут.
— А восемь? Восемь смогли бы за этот срок?
Дед сдвинул брови, зашевелил губами. Понял, что спрашивают неспроста.
— Восемь — пожалуй, под автоматом…
— Глубокие, что ли, колодцы?
— Не, венцов, може, по десять... В ваш рост, чуть поболе.
— А размер? Вдоль, поперек?
— Чуть помене. Что вдоль, что поперек. Двумя машинами все увезли за раз.
— В ту сторону? На Издешково?
— Може, и в ту...
— Или на Вязьму?
— Може, на Вязьму, не провожал...
Ну что ж, и на том спасибо. Есть с чем к дорожникам подойти. Ох уж, признаться, мне эти подходы! Сам бы охотней один всю работу проделал — вскрыл асфальт и обратно его залатал.
На попутке доехал до ближней сторожки, где участковый мастер квартировал. Хорошо встретил, чайком угощает — дипломатический вроде прием. Да, хлопотливый, жалуется, участок, ладно бы от весны до весны, а то и средь года случается вызывать рембригаду. Киваю сочувственно, вижу, что человеку приятнее говорить, чем слушать. Свойство нередкое и вообще в наше время, а при его-то жизни... Сколько людей промелькнет перед носом за день, и ни с кем словом не перекинешься! Машинально как будто вынимаю из сумки блокнот, черкаю. Две линии через весь лист, между ними квадратики. Болото штришками обозначаю, кустарник — маленькими кружками.
Чувствую, вглядывается, любознательный оказался мужик.
— Этот вот самый ваш беспокойный отрезок? — оборачиваю схемку к нему.
За очками даже полез.
— Ишь ты, красиво как наши заплаты расположили!
— Так разве я?
Беру у него блокнот, расстояния проставляю. Аккуратно, со стрелочками, с пунктирным выкосом на поля.
— Рулеткой промерили? — не сдается.
— Шагами. Но дело-то разве в том?
Соображает, вижу, в чем дело. Досадует, как не приметил сам.
— Не с вертолета, часом, смотрели?
— У каждого, — утешаю, — свой взгляд. За тем и пришел к вам, что моего недостаточно оказалось. Возможен тут инженерный просчет какой?
— Не должно, — отвечает, подумав. — Не первый год на дороге, подобного не встречал.
Тогда рассказал ему, что узнал от колхозниц и деда. Договорились тревоги не поднимать. По ширине часть шоссе он сам перекрыть вправе; моя рабочая сила, его инструмент.
Мигом ребята разбили одну заплату, расковыряли под ней слой щебенки с цементом — основание, как он назвал, — внизу бревна прогнившие оказались.
Мастер в недоумении.
— Не должно,— говорит,— их тут быть!
Есть, однако.
Отослали всех лишних ребят под насыпь, в два лома с Володей приподняли одно бревно, участковый его подхватил руками. А это должно? Под шоссейкой-то пустота, гнилью тянет, как из заброшенного колодца...
Только бы гнилью. Для Володи с мастером так и есть. Но у минера не только глаз, а и нос особый.
Прилегли, посветили фонариком в щель. Через минуту Володя обескураженно засопел, мастер стеснительно хмыкнул.
— Шоколад, — попытался за шуткой смущение скрыть Володя.
А что вы хотели? Торфяник вокруг, вода сверху и снизу. В белых перчатках тут нет работы. Одно утешение — дипломатии всей конец.
— Закрывайте,— мастеру говорю,— всю трассу! На неделю, если особых сюрпризов не встретится в ходе работ.
Не понимают, смотрят оба в недоумении.
— Ну-ка, — киваю Володе,— приляг еще разик, не поленись. Шоколад, ты сказал? Ну так на дольки же должен делиться. А? И тут? И как думаешь, для того чтобы я тебя за сравнение похвалил?
Вообще-то стоило похвалить в самом деле. Может, из-за сравнения я их и сам разглядел — трещинки эти, канавки на ровной поверхности жижи застывшей.
Кликнули с миноискателем одного из ребят, сунули дужку в щель — не подает голос. Глубже продели — заговорил, еще как! Ну вот теперь и начальство побеспокоить не грех. Участковый по своей линии доложил, я — по своей. От помощи отказался: время горячее, ясно, что нет под рукой там свободных минеров, с других участков не стоит снимать.
Пока дорожники размечали объезд, перекрывали движение, расставил Володиных всех ребят копать щели под насыпью — против каждой заплаты, шагах в тридцати. С остальными тремя бригадами отправился за дорогу, нарезать участки для продолжения плановых наших работ.
Вернулся — еле уже на ногах стою. Время, однако, светлое, каждый час дорог в буквальном смысле: тысячам же машин крюк приходится делать километров в полсотни, в объезд болот.
Приступил к детальной разведке.
Снял остатки покрытия с расковыренного колодца, отослал ребят в щель. Володе вернуться велел с ведром и веревкой. Солнце высоко еще стояло, доставало до края дна. Шоколад... Даже глянцем подернут для полного сходства. Палкой прощупал его — сантиметров пятнадцать слой. Под ним ящики со взрывчаткой.
Подтащили с Володей оставленную дорожниками толстую доску-горбыль, положили поперек колодца. Я разулся, повис на ней грудью. Окунул ногу в грязь — ого!
— Ошибся, — говорю,— ты, Володя. Не шоколад — мороженое!
Июнь на дворе, а тут, если не март, так апрель уже точно законсервирован. За неделю немудрено и радикулит нажить.
Но для этого надо прожить неделю.
Помешиваю ногой грязь, как повар веселкой крутую кашу. «Дольки», да. Килограммов по двадцать—тридцать. Интересно, под ними что. Срубы-то в десять венцов дед рубил; два на виду, под взрывчаткой два, а остальные?
Прощупал дно, сколько достать сумел, передвинул доску. Гладко и дальше — ни проводка, ни взрывателя. Значит, главное все внизу. Тротил — для усиления. И чтобы нижний слой скрыть.
Так ли, иначе, с очистки надо все начинать.
Попробовал сверху, ведром на веревке. Не зачерпывается каша, густа. Ну что ж, все равно не минуешь спускаться. В кашу, в котел из-под каши — разница невелика. Разве что — для радикулита.
А если без шуток — разведкой своей недоволен я был. Потому и тянул со спуском. Черт его знает, что там у них под толом? То, что сами они по шоссе отступали, — это танкистов тех страховало, но не меня. Как ни смешно мне по весу сравниться с танком.
Дело все в расстоянии. В этом вот, в два венца, между покрытием и взрывчаткой. Тогда же оставленном — видно по бревнам. Именно для того, чтобы нажимное действие исключить. Мало того, что свои войска пропустить было надо, но и много ли толку им, если б и наш первый танк, хоть и два подорвались на первой же паре колодцев? К чему тогда остальные шесть? Ясно, что обнаружены были бы сразу.
Нет, тут расчет был взорвать все восемь. Одновременно, пусть на пустой дороге, после прохода их войск и до появления наших. Озеро целое бы образовалось, хоть на карту его наноси! Задержать наступление наше, на главном направлении, осью которого служило шоссе...
Впрочем, все это было мне ясно давно — что вся система рассчитана на взрыв машинкой. Только значения не имело. Для меня-то, для спуска сейчас на дно. Что бы там ни планировали гитлеровцы в большом масштабе, а кто помешал бы саперам их для страховки поставить пару-другую минных взрывателей под этот первый слой? Обыкновенных, дешевеньких, противопехотных? Хоть на тот случай как раз, если замысел их сорвется?
— Будь друг, Володя,— прошу как бы между делом, присаживаясь на край колодца, вроде передохнуть собираясь, — сбегай, еще ведерко одно поищи. Извини, не сообразил сразу.
Спиной чувствую — понял. Кой-чему научиться успел.
— Ступай, — повторяю строже, — ступай!
Побледнел даже, смотрит в колодец, будто живого врага в нем увидел.
— А вы, товарищ старшина? Придумать бы что-то надо...
Ну вот. Говорю — не всему еще научился.
— Иди, — подталкиваю, — не мешай. Хороший ты парень, не хочется грубо с тобой. А и на нежности времени нету. Времени нету, пойми, голова!
Чуть не силком проводил его вниз под насыпь. Сам опять на доске повис. Спустил одну ногу. Другую.
По очереди отцепил оба локтя.
Стою.
Стою, на молекулы не распался.
Снял ремень, обтер пот полой гимнастерки...
Разведка, как говорится, боем. Без нее тоже не обойтись — вот чего недопонял еще хороший-то парень Володя. Арифметика, закон жизни. Кто-то должен бывает рискнуть, чтобы риск остальным уменьшить.
Ну дальше пошел уже труд. Второе ведерко и впрямь оказалось кстати: пока он с одним к склону бегал, я другое поднять успевал. Задвигалось дело, усталость будто рукой сняло. К заходу солнца закончили. На часы посмотрел — два с лишним часа забрала очистка. Для первого раза куда ни шло.
— Подумай, — на ночь Володе еще наказал,— как поднимать будем основную начинку. Полагаю, внизу там гостинцы потяжелее твоих шоколадных долек. Метко ты это определил. В нашем деле и слово порой много значит.
Назавтра, однако, пораньше встал, чтобы опередить его; он в селе ночевал, я в палатке. Не хотелось еще раз обижать парня, а дело опять предстояло такое, что лучше справляться с ним одному. Ведь не только же нажимной, а и натяжной могли спрятать взрыватель. Вон плотно как подогнали друг к другу заряды, поди почувствуй рукой натяжение в несколько граммов, когда в полтора пуда плиту выворачиваешь, будто из мостовой...
Кой-что, правда, успел надумать. Удача вчерашняя настроения прибавляла. Чувствовал: еще шаг — и стану хозяином дела. Вдобавок и утро выдалось как на праздник — чистое, звонкое небывало. Но тут же сообразил причину — птицы распелись! Тоже, должно быть, не сразу дошло до них, что замолчало ревущее вечно шоссе. Теперь осознали, смотр самодеятельности решили успеть провести. К вечеру, впрочем, если все ладно пойдет, пугнуть здорово их придется...
Спустился в сруб, стенку ножом ковырнул — так и есть, чуть не до середины прогнили бревна под шоколадом. Без труда выщербил нору — впору коту пролезть. Засучил рукав, по плечо сунул руку — ага, пустота. Сбоку пошарил — головка авиабомбы! Вот на чем ящики-то лежат. Ну ничего, лишь бы сквозь эту броню пробиться, там механика будет вся на виду...
Подсунул ладонь под заряд, дно обшарил. Проводов вроде нет. С боков еще острым ножом окантовал его, будто из пирога себе вырезал долю. Можно и вынимать...
Когда Володя с бригадой пришел, два их уже наверху лежало.
Опять споро пошла работа: я достаю, Володя к склону переправляет, ребята подхватывают, относят — вроде зарядки им это дело.
К завтраку с первым слоем покончили.
Теперь — бомбы.
Вообще, по всем инструкциям, такие предметы не месте положено подрывать. Только места-то бывают разные. Подорви здесь — почти того самого и достигнешь, чего наши враги хотели: не военное, так мирное наступление задержишь на целом участке.
К умным инструкциям нужна и толковая голова.
Пятнадцать штук оказалось их в первом гнезде, стокилограммовых,— только поднять чего стоит! И что механика будет вся на виду — сказано было поспешно. В грязище все утопало и тут в ледяной, и вычерпывать невозможно: полазай с ведерком-то между бомб. Ощупью приходилось опять работать. А хуже всего — настоящей опоры нет. Босыми ногами балансируешь на дощечке, на бомбы положенной, и на самих бомбах, скользких, точно сомы в садке...
Как и предполагал, две взрывные системы немцами предусмотрены были. Дистанционная, главная, с электровзрывателями, с проводами подземными, выведенными под насыпь, и местная — для страховки от тех, кто осмелится разбирать инженерное это чудо. От саперов-разведчиков наших, от партизан. От меня, как фактически оказалось. Чуть не в каждую бомбу, кроме взрывателя основного, еще боковой был ввинчен, с усиками — только задень...
Ничего, разобрался, не в первый раз.
Разбили с Володей бригаду его на три смены, как в карауле: одна в оцеплении отдыхает, другая работает на подъеме, третья бомбы относит. Каждые три часа — смена по кругу.
Самим нам без смен обходиться пришлось.
Володя веревку мне вниз подавал, я обвязывал бомбу, проверенную и обезвреженную насколько возможно. Конец каната под насыпь протягивался, в окоп, по каткам из бревен. Ребята тянули, я снизу толкал. Володя, парень плечистый, рослый, держал доску, уперев конец ее в угол пролома над срубом, — вместо блока она нам служила, чтоб не елозила бомба по стенке. На эту же доску и принимал ее, подавал вниз команду. Трое-четверо из ребят взбегали, оттаскивали очередного сома под насыпь, передавали смене носильщиков.
Те на руках несли к месту подрыва, метрах в двухстах от шоссе.
Как раз последнюю начали поднимать, когда командир нашей части подъехал. Пронаблюдал технологию в деле, одобрил и утвердил. Доволен, должно быть, началом работы остался, помощи больше не предлагал.
И так — все восемь.
В шести по пятнадцать бомб оказалось, в двух — по четырнадцать. Всего — сто восемнадцать. Не считая зарядов в ящиках.
Понятно, что остальные разбирать уже было проще. Только внимание для минера — условие жизни. Ни на секунду нельзя его ослаблять, если руки при деле. Мало ли, что в предыдущих колодцах сюрпризов не встретилось, например, в первом слое, разве мешало это их встретить в любом другом? Тем более, что в сжатый срок снаряжались, одновременно, разными группами гитлеровских минеров, любая инициатива возможна была.
Однако все обошлось. Сказалась любовь их к стандарту, как объяснил Володя, пробывший под оккупацией несколько месяцев.
В срок обещанный уложились.
Правда, и похудел я за эту неделю килограммов не меньше уж как на пять. Весь день по пояс в грязи ледяной тяжелой атлетикой занимаюсь, а вечером оцепление расставляю, иду добычу свою взрывать. Вместо отдыха это мне было. Всю неделю перед закатами гром громыхал верст на десять, считай, в округе. Огромные котлованы образовались на пустыре — для осушения почвы подспорье, как председатель колхоза полушутя сказал.
Кончили мы свое дело, сдали участок дорожникам. Затрамбовали они по всем правилам опустевшие гнезда, заасфальтировали проломы, вновь загудела великая магистраль...
Через год-полтора проезжал я там как-то — уже и заплат не увидел. Остановил машину, вернулся, еще поискал. Нету — асфальт сменили.
— Потеряли что, товарищ старшина? — шофер спрашивает, когда обратно в кабину уселся.
Что ему скажешь? Парнишка молоденький, первого года службы.
— Наоборот,— говорю,— нашел.
— Что? — любопытный тоже попался. — Или секрет?
— Да нет, — отвечаю.— Орден нашел здесь. Вот этот, — пальцем указываю колодочку на груди.
Он на мою грудь смотрит, я машинально смотрю на его. И вдруг замечаю вокруг одной пуговицы рельефчик...
Вот так и сравнение родилось, которым рассказ я начал.
АРХИТЕКТУРНОЕ ИЗЛИШЕСТВО
Много их накопилось за тридцать-то лет, разных случаев интересных. Но вспоминаются чаще не те, что трудней и что жизни больше грозили, а что еще с чем-то связаны были, даже с забавным порой.
Ну вот, например, вызывает меня однажды сам командир части. Замполит тут же. Недавно сравнительно было, в семьдесят третьем, в апреле.
— Присаживайтесь, Василий Яковлевич,— по-домашнему приглашают,— вопросик к вам есть один. К архитектуре вы как относитесь?
Ну, понятно, соображаю. Ага, старшим, верно, назначить хотят на строительство гаража: туго идет там дело. Напрямик приказать неудобным считают — подразделение как-никак на руках. Образцовое, между прочим.
— Излишество это, по-моему, для сапера, — насколько возможно не торопясь отвечаю,— в нашей-то должности...
Вроде попал. Переглянулись, сощурились с интересом.
— А? — командир кивает.— Видали, майор? А говорят, опровергнута телепатия! Чуть-чуть лишь ошиблись, Василий Яковлевич: на гараж Овчаренко пойдет. А что излишество — это точно. И что саперу оно ни к чему.
Молчу, что тут скажешь. Спасибо пока и на том. У Овчаренки-то, кстати, и люди сейчас в расходе, в том числе и на гараже.
Посмеялись, еще задают вопросик.
— Вам ведь, Василий Яковлевич, — замполит уточняет,— в госпитале в Ярославле не раз доводилось бывать?
Как не бывать. Госпиталь наш, окружной, на комиссию, случалось, отвозил солдат, больного совсем недавно. Самому, правда, лечиться не приходилось, местной санчастью пока обходился вполне.
— А церковь там рядом, внимание не обратили? На площади, возле сквера, с другой стороны?
— Видел, наверно, — опять же не тороплюсь. К чему замполиту интересоваться церквами?
— Ну как же, — вздыхает, — замечательный храм! Семнадцатый век, памятник архитектуры!
И рассказал наконец, что по телефону передали из Ярославля.
— Дало, Василий Яковлевич, сугубо добровольное. Случай ответственный, у всего города на виду. Потому и пригласили вас, хоть понимаем, что вам и по должности...
Эх, не умею я своей мимикой управлять. Перед строем-то даже и очень, и вообще во всех случаях, определенных уставом, а вот в таких...
— Ну-ну, — засмущался и замполит, — не обижайтесь, пожалуйста... Обязанность наша напомнить. Человек вы не молодой... Елене Николаевне как скажем?
Жене моей, то есть. А что говорить? Служба есть служба. Командировка.
— Все равно же, — смеется, — узнает потом из газет!
— Из газет, — отвечаю, — приятней. Тем боле — потом.
Выехал так, чтоб к утру быть на месте. Прихватил с собой опытного минера сержанта Ивана Сланко и рядового из молодых, назову его здесь условно Грачевым. Взяли что надо из снаряжения, оделись, чтобы полегче и потеплей.
Приезжаем — к церкви не пропускают, оцепление выставил гарнизон. Осматриваюсь, пока время. Площадь неправильной формы, справа — сквер со взрослыми тополями, старинное здание госпиталя врезано в него углом. Больных из этого крыла уже выселили, сказали; жилых домов поблизости нет. В углу площади — черные «Волги», ухоженные до зеркального блеска, военные вездеходы; перед церковью небольшая толпа. Городское начальство, догадываюсь, офицеры военкомата и гарнизона. Обернулись, махают — ждем!
Обстановочка...
Подгоняю свой виды видавший газик к блестящим машинам, подхожу, представляюсь.
— Здравствуйте, здравствуйте! — как знакомому руку жмет подполковник. — Много слышал о вас, читал. Потому и просил, чтобы вас командировали.
Вот те раз! А я-то себе рисовал всю дорогу: офицера, скажут, мол, не прислали...
— Во, — протягивает бинокль, — взгляните! С гражданской сидит. Если б не реставраторы, и еще бы полвека никто не заметил!
Кивает на ближнюю башню неопределенно. Соображаю — испытывает. Пятнышко одно круглое взял на прицел, но мало ли их там. Делаю вид, что ищу, сам на солнце кошусь одним глазом — вот-вот из-за облака выглянет. Вышло, ага. И в тот же момент треугольник сбоку пририсовался к кружку.
— Ну и кирпич... — удивляюсь как будто бы про себя. — Даже и хвост спрятать не дал!
— Каленый кирпич,— подтверждает один из гражданских — так, будто сам и калил. По-своему как-то его называет.
Военком улыбается: во, видали?
Церковь оглядываю вблизи. Красивая, правда. Бронзовая табличка вделана в стену: памятник, все, как сказал замполит. Об одном позабыл лишь — что персональная поступила заявка. Эх, товарищ майор... Вон же ясно написано: охраняется государством. А сапер кому служит?
Пять крытых железом шпилей наверху храма — шатров, как назвали их реставраторы, — каждый луковкой золотой увенчан, в основании каждого круглый цоколь из кирпича. Вот в одном из них и торчит тот предмет посторонний с тенью.
За спиной кто-то шутит:
— К классической готике бы как раз!
Вспоминаю: в кино, на картинке ли видел — весь шпиль с боков шишками, как огурец, утыкан. Немецкий, что ли, собор. А для русской архитектуры излишество, значит, у командира части-то я угадал.
Начальство, офицеры вполголоса переговариваются, выжидательно поглядывают на меня. На улицах, что на площадь выходят, толпы людей собрались, милиция распоряжается, машинами перекрывает проходы.
Надо соображать.
— Толщина стены там какая? — обращаюсь к тому, что хвалился каленым-то кирпичом.
Семьдесят сантиметров, ого! А отсюда весь цоколь кажется в два обхвата. Что ж, больше вопросов, как говорится, нет. И на разведку незачем лазать: ясно, работка веселая предстоит.
— Завод здесь поблизости есть какой?
Повезли меня на завод.
Слесаря там в инструментальном, ребята смекалистые, молодежь, с ходу поняли, в чем идея. Быстренько изготовили с десяток надежных зубил, от четверти метра длиной до метра, три толстых прута с загибом, как у кочережки, но покороче, с рукояткой в виде кольца. Кувалду еще от себя прилагают.
— Как оно, — спрашивают, — военным?
Увесистый молоточек. Но и кирпич не простой.
С возвратом, — наказывают, — на память!
— Хорошо, что сказали,— отшучиваюсь как умею,— а то думал девушке подарить.
— Ну, у ней много уже, наверно! С собой в сумочке носит, подружкам назло.
С настроением, в общем, ребята. Чего нельзя было сказать обо мне. Верхолаз-то я, сам понимал, неважный. Вовсе, точнее сказать, никакой. Разве что дома мальчишкой на крышу, солому подправить, по крайней нужде залезал. Отчаянный, думаю, человек военком, раз так уверенно пишет заявки.
К церкви вернулись — там уже люлька подвешена к шпилю. По темной лесенке винтовой, как два жука по гороховому усу, вскарабкались с проводником до какого-то яруса, что ли, со всем инструментом-то сувенирным, выбрались на площадку — уф-ф! Оба мокрые, точно из бани. Тут посветлее, проемчик в округлой стене, как в дупле прорезан, ветер свистит в него, как в свистульку, за ним что-то качается. Люлька моя! Веревка с нее, будто с виселицы, свисает...
Надо перелезать. Ладно хоть не по веревке, а и такое предположение было. Кочережками заводскими поймали конец, притянули ковчег к окошку. Выжал я из груди весь воздух, боком протиснулся сквозь проем. Перевалился, принял свой инструмент.
Глянул вниз — ух! Тридцать пять метров, сказали, цоколя высота, а на взгляд — все двести. Вдобавок и церковь-то на пригорке, ветер апрельский бьет с Волги внахлест, клетка, гвоздями сколоченная, стукается с стену, елозит, вот-вот развалится под ногой...
Да, условьица для государственного человека! Мигом просох весь, вплоть до нательной рубахи. Избаловался, подбадриваю себя, на шелковой травке привык работать, с кузнечиками да птахами наедине. Ну пусть не всегда обязательно и на травке, но на земле же. Даже и под землей, все равно на опоре твердой. А тут толком и не примеришься...
А главное, сам про себя не знаешь — сапер ты или артист. Народу за оцеплением — на зависть не то что любому цирку, а чуть ли не Лужникам. Начальство не разъезжается, будто и дел у него других нет, стеклышки объективов корреспондентских взблескивают на солнце... Вот и попробуй тут бухни кувалдой-то не туда.
Вновь самокритику призываю на помощь. Ишь ты, удобно как в жизни устроился, за себя одного отвечать привык. Сказано было: у города на виду. А тут все же не весь, чай, город.
Кой-как приладился. Помогли реставраторы усмирить непослушную люльку, подтянули лебедкой к рабочему месту. Две веревки еще бросили из окошек, где-то там закрепили — все не как на качелях, хоть уже и мутит. И опять страх: вдруг казус случится? На виду-то у города, пусть и не у всего! Никогда прежде морской болезни испытывать не приходилось, но догадался, что легче за делом она переносится. Вспомнил, в войну даже голод перед хорошей работой временно отступал.
Начал с обычной оценки предмета.
Шестидюймовый снаряд, чушка в полцентнера весом. По поясок как раз врезан в кирпич, вся хвостовая часть наружу. Пулемет ли стоял на площадке той, на свистульке, у наших, или же наблюдательный пункт был устроен,— это можно потом у историков местных узнать. Слышал только, что белоэсеры мятежные этот снаряд влепили. Вот только бетонобойного, к счастью, не оказалось у них — с донным взрывателем, который бы начисто снес весь шатер. Головной же взрыватель был смят моментально при страшном ударе, вовсе его и в помине нет. Только, как раньше уже объяснялось, нам это утешение маленькое: весь корпус чувствительным сделался за такой срок.
Вот и главное — радиус угадать. Угадать, не оговорился. Не рассчитать, не измерить, даже и не прикинуть на глаз, потому что глазом ее не увидишь. Зону опасного напряжения материала, в который такой клин забит страшной силой. Вряд ли он вовсе с этим смирился, материал. Как и снаряд, той же сдавленный силой, едва ли сумел всю упругую деформацию в остаточную обратить. А если привыкли, смирились, то так уже сжились, что стукни по кирпичу — все равно, что по самому снаряду. Не напряжения зона, так уплотнения. И вряд ли теперь ее рассчитал бы и инженер.
Проще всего бы, понятно, запас взять побольше.
Но тем и больше работы себе задашь.
Выбрал зубило, отмерил на нем сантиметров пятнадцать, палец приставив к снаряду, отбил на стене метки. Процарапал окружность. Отодвинулся, посмотрел. Внутренним взором еще постарался увидеть картину того уплотнения, приучить себя к мысли, что угадал, что запас еще есть сантиметрика три-четыре.
Поставил зубило на круг, задержал на замахе кувалду. Что чувствовал? Ясно, про цирк позабыл. Как в чистом поле — с предметом один на один. Мысль какая? После не вспомнишь. Вовсе, может быть, никакой. Все учтено, что возможно, совесть, как говорится, чиста.
Впрочем, совет могу дать насчет мысли. Вперед заглянуть. Вон сколько работы, успеть бы...
В этом смысле случай как раз был счастливый: страшно представить, что завтра опять — оцепление, толпы, начальство... Нет уж, спасибочки, лучше уж... А? Может, и правда, на сантиметрик, убавить?
Вот она, самая подходящая мысль.
Но — такой случай. Все от размера круга зависело, которого знать наперед нельзя и который, если себе поддаться, увеличивать можно хоть без конца.
А вообще все вчера решено было, у командира там, в кабинете. Взялся, поехал — сделай. Не сделав, ведь не вернешься? Тоже хорошая мысль.
Ударил. Не в полную, правда, силу — в миг какой-то толкнулась назад рука. Усмехнулся, стукнул сильнее. Ёще и еще, над рукой своей усмехаясь: будто хочет снаряд приучить...
Впрочем, и дело так требовало. Надо же выдолбить лунку сначала, опору зубилу дать. Лишь на четвертый раз плоский осколок отбился, чуть не с убойной силой мимо виска просвистал.
Дальше легче пошло, кирпич мягче внутри оказался. Через минуту зубило стало уж коротко.
Снова почувствовал себя в люльке. Ясно, что не курорт. Ветер слезу вышибает, кирпичная пыль в глаза... Чуть не вслепую порой колотишь, что никуда не годится. Полчаса поработал, понял: не справиться одному. Бросил сквозную проходку, решил поверху обойти всю окружность — сменщика в ней убедить. Дело в том, что сержанта, Ивана Сланко, которого убеждать ни в чем было не надо, в местную часть отослать пришлось, машину готовить: тоже не всякому можно доверить — оборудовать кузов для транспортировки взрывоопасного предмета, инструкция строгая на этот счет.
Грачев один оставался. Молодой тот солдат, чьей фамилии настоящей я не назвал, чтобы задним числом не смущать человека. Для того вообще-то его и взял — пороху дать понюхать. Заметил на зимних учениях, где мы бомбежку и артобстрел имитировали, что не большой он охотник до этого аромата.
Теперь пожалел. Не то оказалось дело.
Сколько возможно держался сам. Отстукал канавку по всему кругу, пробился сквозь стену. На всю глубину уже резать пошел, то и дело меняя зубила. Остановился, взглянул на часы — два часа как корова слизнула. А дело на четверть не сделано. И уже отдых необходим, руке своей больше не доверяю.
Деться некуда, покричал вниз Грачеву. Принял его из проема на ручки, как в самом деле младенца в люльку. Без малого центнер в младенце, попутно определил.
— Вот, — киваю, — не правда ли, увлекательная работка! — Пробую с ходу энтузиазмом его заразить.
Не разделяет мой взгляд, похоже. Любознательности к предмету не проявляет и на кувалду старается не смотреть. Согласно методике приступаю к показу. С аппетитом долблю, как проголодавшийся дятел. На словах поясняю что надо. Осторожности, замечаю, учить не придется: мнется, переступает, плечами поводит зябко. Предполагаю в коленках дрожь. Утешаю себя — от ветра.
— На-ка, погрейся! — передаю инструмент. С сожалением вроде с ним расставаясь.
Нет, не увлек, признаюсь себе сразу, не возбудил интереса в аудитории. Вроде как дамские часики ремонтирует. Из-под шапки на шею капля сползает — не от перегрева, понятно. Однако молчу. На психологию уповаю: уставать начнет — осмелеет. Надоест вхолостую кувалду качать.
Тоже нет, терпеливый, гляжу, попался. Четверть часа, отмечаю, коту под хвост. Десять минут скрепя сердце еще отпускаю. И эти туда же. Ясно: пора академию закрывать.
— Передохни,— говорю, как ни в чем не бывало.— Через силу работать инструкция запрещает. Теорией пока займись. Десять классов окончил? Ну вот задачка. Радиус четверть метра, длина окружности какова?
— А для чего? — себе в ноги смотрит. Точь-в-точь школьник, который забыл число «пи».
— Для того, — обстоятельно объясняю,— чтоб на три затем ее поделить. Три сантиметра, что мы на пару с тобой одолели штурмом. И после помножить на полчаса. С тремя вопросиками задачка, как нас когда-то учили, не знаю уж, как теперь.
Сам на место опять становлюсь, показ повторяю. А рука от неполного отдыха еще хуже — будто под боком ее отлежал. Нельзя в самом деле работать такой рукой, да еще зрителя держа рядом. Крепким словом в душе себя ободряю: умница, долго, наверно, думал, прежде чем выбрал помощничка — печенье совковой лопатой грузить. Заодно и веселых ребят заводских: черти железные, роботам, что ли, привыкли подарки делать. Хоть сознаю, что в последнем не прав, легким-то молотком еще больше бы намахался.
— Ну? — оборачиваюсь. — Решил? Сколько еще нам с тобой здесь болтаться?
Снова на деле испытываю его. Нет, щекочет, но не бьет. Только потеет больше. И тем скорей по снаряду, гляди, угодит.
— Ладно, — уже не затягиваю, — бросай! Один пес, побеседуем лучше.
Усадил его в уголок от ветра, сам напротив на корточках примостился. Терпеливо досаду в себе переждал.
— Вот как дела обстоят, Николай, — начал уже без шуток. — Надо, чтобы ты в положение мое вник. Как вот я в твое, видишь, стараюсь. Хоть мне и легче, понятно, сам в свое время в таком побывал. Все же и ты попытайся, воображение, знаю, богатое у тебя. С тем и секрет свой открою. Что даже и командиру части не сказал. А как скажешь? Сами же, с замполитом, не то чтоб приказывать или там предлагать, а чуть ли не отговаривать меня взялись. О возрасте напоминают и что должность, мол, не обязывает... О жене даже — как объясню. Слышал, вот военком-то упомянул о заявке? Так умолчали. Чтобы мне выбор, значит, оставить...
В глаза заглядываю ему. Вроде бы интерес появился. Впрочем, и сам с любопытством уж за своей мыслью слежу.
— Вот и им тоже, — вслух размышляю, — на моем месте бывать еще не приходилось, оба моложе на целый десяток лет. И все же догадывались, как теперь понимаю. О чем вот тебе-то решился сказать. Да тут и не скроешь... Не та уже стала рука у меня. Силу-то сохраняет, но устает скорее. И дольше отходит, в чем главная и беда...
Сам себя, признаюсь, понимаю не очень. Выдумываю или всерьез? И он косится на мою руку, будто она уже плетью висит.
— Но ведь и их положение надо понять, — перебиваю себя поскорее. — Командира-то с замполитом. Есть, конечно, другие минеры в части, не клином на мне свет сошелся. И военкому можно бы объяснить... А как мне? Ну там, понятно, мог не узнать, не на квартиру пришла заявка. И вообще не об этом речь, какие могут быть объясненья... Но у самих-то осталось бы на душе? Служба службой, а понимаешь...
Понимает, наверно, сам же не без души. А то и не стоило тратить время.
— Так что не думаю,— заключаю,— чтобы ошибку я допустил. Вот и судя по делу... Способ, положим, ясен, другого тут нет. Но радиус... Чуть ошибись, представляешь?
Представляет, и даже слишком. На часы кошусь глазом — пять минут уяснение моего положения заняло. Чувствую: скоро внизу беспокойство начнется.
— Вот и руку-то, — к основной части перехожу, — думал со временем опытом заменить. Помощников, видишь, каких себе выбрал... Усмехаешься? А напрасно. Зря усмехаешься, — повторил, хоть и знал, что какие уж там усмешки. — Видел, конечно, не очень ты жмешься к разрывам. Но и другое знал. Это, брат, вам только кажется: кто меньше переживает, тот и храбрей. А на деле... Как и талант — в неумелом не виден. Не то что до храбрости настоящей, а даже и до того, чтоб задаток ее распознать, дорасти еще всем вам надо. Воображение это, вот что! Кто ярче бомбежку или обстрел всамделишный себе представляет, тот и волнуется больше. А вообще за достоинство надо его считать. В нашем деле и вовсе. Чем я вот эту окружность взял? Лучшие справочники вряд ли бы помогли: и срок, и материал необычный...
Обводит глазами окружность. Канавку, что я для страховки его пробил.
— В людях поздно мне ошибаться, — внушаю. — Сколько сквозь душу их пропустил. На краю жизни повидал сколько... И вовсе не я, а сам ты в себе ошибаешься, брат, скорее. Но ничего, в другой раз помогу. Теперь с делом справляться надо, нельзя здесь и завтра народ собирать. И зрителя в люльке держать не имею права.
Не двигается, сидит. Снова как деревянный. Что ж это, мамочки, думаю, нервный шок? Доконал-таки парня беседой? Рассказывали, кто на войне в окружении побывал, случалось с иным такое — хоть ты тащи его, хоть как колоду бросай.
Нет, гляжу, разжимает губы.
— Спускайтесь, товарищ прапорщик, оставьте меня одного.
Да ну? На мужской разговор похоже. И в глазах не телячья тоска.
— Что ж, — по плечу его хлопаю, — помогай, брат! Как устанешь, сигнал подай, смотреть буду снизу. Нельзя через силу, помни!
Спустился на землю, взял бинокль. Хоть и был уже в нем уверен. Вижу, колотит. Колотит, милый, еще и как! Без злости, размеренно бьет, по делу...
Через два с половиной часа только подал сигнал. Встретились на площадке — не узнать парня. Чистый, как перед свадьбой, пыли кирпичной и той не видать. Подтянулся я к месту, смотрю — чуть не полкруга добавил!
Вскоре сержант подъехал, вовсе дело пошло на лад. Последние сантиметры я сам добивал. Мягонько осадил на зубило шестипудовый кирпичный цилиндр со стальной сердцевиной, просунули в щель с трех сторон крюки, сзади его зацепили, выдвинули до половины. Приняли на руки, опустили на дно. Веревками закрепили, две веревки еще вниз сбросили — оттягивать люльку от кровель и стен, — сами вылезли на площадке.
Благополучно спустили, погрузили на подготовленную машину — на земляную подушку, отгороженную от кабины двойной загородкой с метровым слоем земли. Сам я в кузове ехать собрался — за взрывоопасным предметом присмотр положен, — сержанта в кабину, Грачева в газик наш отправляю.
Не торопится, мнется.
— В чем дело, минер?
— Разрешите мне здесь, товарищ прапорщик...
Смотрит на кузов так, будто медом там мазано. Подумал я, понял его. Оглядел еще раз снаряд: куда он денется в упаковке своей кирпичной, в подушку утоплен до половины, да и дорога — асфальт. Пожалуй, и лучше так будет, шофер хоть и опытный, на перевозке боеприпасов работал, а все-таки не мешает с ним самому. Проинструктировал, за чем следить, как сигнал подать в случай.
Поехали на минимальной скорости, выбирая самые малолюдные улицы, — впереди грузовик с офицером, знающим город, с солдатами для оцепления места подрыва, сзади газик с сержантом. Водитель мой только вначале поволновался, рассудил, видать, что опасность невелика, раз по городу разрешено ехать. Задал я ему нужный режим, начал с устатку задремывать под монотонный моторный гул — время к закату уже клонилось.
Вдруг чувствую — локтем толкает.
— Нет, нет, все в порядке, а только прислушайтесь...
Тьфу ты черт!
— Неужели не слышите?
Что там услышишь, на малой скорости громче гудит мотор. Впрочем, ему-то... Говорил один старый водитель, что птиц даже слушать машина ему не мешает.
— Скворец, что ли? — спрашиваю и тут. Время как раз прилететь им было.
Сбавил он газ — человеческий слышу голос. Поет. Заливисто, звонко, счастливо...
— Новобранцы, — предположил. Тоже время и им подходило.
— Да нет же, солдат ваш!
В самом деле Грачев! Защитный барьер голос так отражает, что кажется, будто со стороны.
— Чего это он, товарищ прапорщик?
Подумал я и не стал объяснять. Все-таки человек посторонний.
— Праздник, — говорю, — у него сегодня. День рождения, потому и поет...
Дальше уж не дремалось. Увиделся день этот, словно издалека,— толпы, машины, корреспонденты... Завтра напишут в газетах: памятник, мол, спасен, с риском для жизни. Трудности те опишут, что снизу увидеть смогли...
А главное так и останется между нами. Между Грачевым и мною.
Еще пройдет время, заделают реставраторы цоколь. По цвету кирпич постараются подобрать. Но как бы ни подгоняли, долго еще отличаться он будет. И будут прохожие головы поднимать, отыскивать взглядом заплату, приезжим показывать и туристам...
Потом и кирпич постепенно сравняется и в памяти у людей след затрется. Кроме как у двоих. И если окажется из них который вновь в этом городе, сколько бы лет ни прошло, а найдет и тот шпиль, и окошко, и круг...
И дело не в риске для жизни. А в том, что в жизни каждого из двоих было означено этим кругом...
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




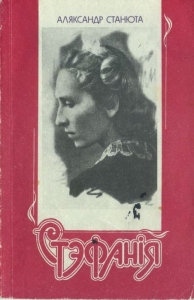
Комментарии к книге «Минёры не ошибаются», Василий Яковлевич Савин
Всего 0 комментариев