Услышьте ее, люди!
Ее лицо, однажды увидев, невозможно забыть. Ее голос, прозвучавший с экрана или со сцены, помнишь спустя много-много лет… Заслуженная артистка России Валентина Малявина. Трогательная и веселая, решительная и беззащитная, она на редкость серьезно относилась к своему призванию, к своему таланту, когда снималась в «Ивановом детстве», которому сопутствовал ошеломляющий успех на Венецианском кинофестивале, да и в других кинофильмах: «Ночной звонок», «Король-олень», «Красная площадь», «Лелька»… Когда играла на сцене Вахтанговского театра.
И сегодня удача не отвернулась от Валентины; больше того, она умножила свое дарование, взяв в руки перо. В этом вы убедитесь сами, прочитав эту книгу, пронзительную, трагическую и благостную одновременно, книгу любви, размышлений, страданий, но не содержащую даже намека на мстительность, книгу, в которой автор не отрекается ни от близких, ни от «далеких», ни от самой себя.
А ведь жизнь Малявиной можно без преувеличения назвать фантастической. Ее судьбу — неповторимой. «Из огня да в полымя» — это про Валентину. Ее любили, ей поклонялись Александр Збруев, Александр Кайдановский, Андрей Тарковский («Именно Андрей Тарковский показал мне весь мир! Я благодарю Бога!»). Успех сопутствовал ей везде и во всем…
И вдруг — трагедия: 103-я статья Уголовного кодекса, это значит — умышленное убийство, и Валя-Валентина переступает не порог 32-й спецкамеры Бутырской тюрьмы, а черту, за которой «просто-напросто» начинается ад. По приговору суда — на девять лет. Но и там, в аду, она осталась человеком, который, оказывается, способен выдержать все — от легкокрылой славы до удушающей неволи.
Она сохранила свое отношение к миру и людям и в ту минуту, когда прочитала выводы повторной судебной экспертизы. Из этой экспертизы явствовало, что было не убийство, а «саморанение» ее возлюбленного — артиста Вахтанговского театра Стаса Жданько…
Прочитайте эту книгу. Вслушайтесь в слова Валентины Малявиной. Как слова всякой исповеди, они обращены, в конце концов, ко всем, к каждому.
Михаил Каминский
Гендиректор издательства «Олимп»
1
— Встать, суд идет!
Я встаю. Встает зал. Сегодня он не просто полон — набит битком: последнее заседание — чтение Приговора. Накануне прокурор просила для меня десять лет… Действительно ли верит она, что я убийца?.. Женщина, убившая своего возлюбленного. О, Стас!..
Мною овладевает странное безразличие. Я поочередно рассматриваю судью, прокурора, истицу, зал… И вдруг четко вижу перед собой сборище скелетов. Есть замечательный фильм с Питером О'Тулом — «Правящий класс», и там подобное происходит с одним из героев, и тоже в зале суда. Смотрю на Инну Гулая, она на меня… и мне наконец-то становится страшно. Вокруг одни скелеты… Ужасно!
Стас… Он один живой среди этого мрака… Не знаю как, но я ощущаю, что он здесь, рядом. Просто его не видно… Неужели это я убила его? Но если да, то ведь за ТАКИЕ убийства не судят, ибо Закону они не подвластны!
Удивительная вещь — Время. Здесь, в суде, оно течет у меня иначе, чем у остальных. То замирая в настоящем, то отбрасывая память и душу назад, в прошлое.
…Пять лет назад, вечером 13 апреля, Стас и Витя Проскурин должны были уезжать на съемки в Белоруссию. А утром мы со Стасом по приглашению Виктора отправились в «Ленком» на утренний премьерный спектакль «Вор» с Проскуриным в одной из центральных ролей. Играл он превосходно. Я и сейчас вижу лицо Стаса во время спектакля — бледное, словно лишенное мимики. У него это был период огромных творческих потерь. Закрытие фильма «Ошибки юности» стало катастрофой, потому что артист Стас Жданько уповал на абсолютное признание после этой работы. В Театре Вахтангова новых ролей у него не ожидалось.
Успех Виктора в «Воре» Стас воспринял болезненно: «Ведь я тоже смог бы сыграть эту роль хорошо… даже лучше», — единственное, что я услышала от него после спектакля.
Весь день до самого вечера Стас провел с Виктором у нас дома. Они пили кубинский ром. Виктор был в приподнятом премьерном настроении, а Стас — во взвинченном.
Когда Стас вдруг заговорил о своем стремлении перейти из Театра Вахтангова в «Ленком», у Виктора неосторожно вырвалось: «Кому ты там нужен?» Его реплика была бедой в тот день для крайне взвинченного Стаса. Уходя на вечерний спектакль, Виктор оставил его в ужасном состоянии.
— Пойдешь со мной в химчистку?
Вот все, что я сумела придумать тогда, чтобы отвлечь его: короткую прогулку по моему родному Арбату…
Я родилась и выросла на Арбате. Так получилось, что меня крестили дважды. Сначала на станции Лев Толстой, бывшей Астапово, где мы с мамой были в эвакуации, потом в Филипповской церкви, что в Афанасьевском переулке на Арбате, куда вернулись после войны. Мне и сегодня кажется, что я помню тот день, даже знаю место, где стояла купель. Помню батюшку в золотых одеждах, помню пресный хлебушек и красное, густое, сладкое вино, радужный ореол вокруг свечей и Взгляд. Единственный Взгляд на свете: Христос смотрит на меня с иконы совершенно живой. И я уверовала в Него. Навсегда. Без сомнений.
Я любила нашу комнату на улице Вахтангова, дом 15, квартира 8. Любила самовар и чай из него. У меня была старинная китайская чашечка цвета терракоты с золотым и черным, а на блюдце — целый мир: изысканные дамы, сказочные деревья, необыкновенные цветы. Я подолгу рассматривала этот волшебный мир.
У меня было свое место за столом. Напротив — много икон, под ними — лампадка темно-синяя. Я любила, когда в ней танцевал огонек. Каждое воскресенье моя бабушка Аграфена Андриановна и мой дедушка Алексей Прокофьевич собирались в церковь к заутрене. Я просыпалась нарочно рано, чтобы посмотреть на них. Бабушка покрывалась неописуемой красоты кружевным платком, а дедушка надевал синюю в горох сатиновую рубашку, костюм-тройку, и они отправлялись в Филипповскую церковь. Иногда брали меня. Я попросила у бабушки крестик. Он был из красного дерева, в центре — стеклышко, когда посмотришь в него, увидишь Распятие. Я носила крестик на бархатной ленточке.
У нас во дворе под высоченным тополем была песочница, и дети, все вместе, возились в ней. Я не любила играть со всеми, но иногда все-таки приходила туда. Как-то вместе с детьми лепила куличики, низко наклонилась, и мой крестик обнаружился. Правда, я его специально не прятала, но это была моя Тайна.
— Смотрите! — закричала на весь двор толстая девчонка. — Смотрите, у нее крест! — и по-дурацки засмеялась.
Мое переживание было таким сильным, что я заболела.
— Бабушка, почему они смеются?
— Сами не ведают.
Бабушка подарила мне шкатулочку для хранения крестика, убедила меня, что он хоть и в шкатулке, но все равно со мной. Мой крест… Мое Распятие…
Оказывается, приговор надо слушать стоя. А если он длинный? Я смотрю на судью. Ее лицо пылает. В глазах прыгают безумные огоньки. Ощущение, что она вот-вот хлопнется в обморок. Странно, но я отчего-то жалею ее…
Стас тогда согласился сходить со мной в химчистку. Хотел, правда, выпить еще, но я категорически возразила.
Совершенно случайно, уже на полпути, нас толкнули подвыпившие молодые люди. Он громко, на весь Арбат, стал выяснять с ними отношения, оскорблял, нецензурно ругался… Помню, как мне было тяжело и неприятно, как уговаривала его уйти. Он снова выругался, и я ушла сама. Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет в обвинительном заключении эта подвыпившая компания будет подаваться как группа поклонников Стаса. Бессовестное вранье! Лишь для того, чтобы продемонстрировать мою «ревность» к его «успехам». А иначе — где же взять мотив убийства? Ведь убийств без мотива не бывает, следовательно…
Оставив скандалящего Стаса на Арбате, я направилась к Смоленскому гастроному. Билеты в Минск для них с Виктором я купила заранее, оставались продукты и традиционное для их поездок вино. Я взяла бутылку «Гурджаани». Очередь, как всегда, двигалась медленно, но домой я все равно вернулась раньше Стаса. Он пришел не просто взвинченный — а какой-то взнервленный, точнее не скажешь, и всю горечь этого рокового дня обрушил на меня.
Странно, но я не помню деталей: тех наверняка обидных и, как оказалось, уже непоправимых слов, которые мы говорили друг другу. Наверное, я истощила свой запас раньше, а иначе — как объяснить непростительную глупость, совершенную мной? Достав из уже упакованной в дорогу сумки бутылку «Гурджаани», откупорила ее и стала демонстративно, на глазах у Стаса, пить вино… Я знала, как беспокоит его мое увлечение алкоголем, как тяжело он на него реагирует. После смерти моей доченьки вино успокаивало меня, а потом вошло в привычку. Стаса страшно раздражал этот мой недуг, и я отказалась от вина полностью. Ради него. Вот почему и не должна была этого делать в тот момент, непростительно было в тот вечер играть на его нервах, даже если Стас не прав, несправедлив ко мне… И только Господь знает, для чего все это было Им допущено!
…Судья все еще читает приговор. Как долго! У меня болят ноги. И спина. Я страшно устала. Но я уже знаю, успела за немыслимо длительное время предварительного заключения поверить, что все это действительно происходит со мной. Именно со мной, актрисой Валентиной Малявиной.
18 июня 1983 года был день моего рождения.
Тогда же сравнялось 18 дней с момента, когда я очутилась в Бутырской тюрьме, в камере № 152 для «тяжеловесов» — так здесь называют тех, кто совершил особо тяжкие преступления. Я обвиняюсь в умышленном убийстве Стаса Жданько, погибшего пять лет назад…
Со мною в камере тридцать семь преступниц. Я уже привыкла к этим женщинам, к этим сводчатым потолкам, к тому, что постоянно горит свет, к моей шконке, на которой я сплю, к кормушке и прочему, прочему, прочему… Но здесь — сплошной досуг, и к этому привыкнуть невозможно.
Самое страшное осталось позади: меня подвели к камере, открыли тяжеленную дверь, а потом ее захлопнули.
Я поняла: всё. Мне уже никогда не открыть эту дверь самой.
Остановилась у порога, бросила отвратительный дырявый матрас и осмотрелась. Словно в тумане, медленно передвигались женщины, прикрытые мокрыми простынями. Их было много. Будто я попала в многолюдную баню. Туман — это табачный дым. Мокрые простыни — от невероятной жары, которая приключилась тем летом.
Как-то тихо было. И все смотрели на меня. А по радио Юрий Антонов пел: «Море-море — мир бездонный…»
Я поздоровалась и спросила:
— Куда мне можно положить матрас?
— А вот тут место есть хорошее, — хохотнула коротко стриженная женщина.
Место было у параши.
Я увидела другое свободное место и пошла туда.
— Здесь нельзя, здесь не положено. Над Глафирой никто не спит, — говорила все та же, с коротенькой стрижкой. Как будто из дурного фильма, где актриса плохо справляется с ролью, наигрывая хулиганку.
— Будет, — строго сказала я. И спросила у Глафиры: — Можно я лягу над вашей постелью?
Глафира расчесывала свои роскошные волосы и внимательно смотрела на меня. Через значительную паузу ответила:
— Можно.
Я никак не могла забросить наверх набитый каким-то тряпьем матрас. Смущенно сказала:
— Я не спала всю ночь. Не получается забросить матрас.
Стриженая опять хохотнула:
— Неужели не спала? Представь себе — нам этого не понять.
Дело в том, что всем прибывающим в тюрьму приходится провести ночь в страшнейших условиях, сидя в боксе. Таков порядок. Отчего таков? Неизвестно.
Мне очень хотелось спать. Уснула.
Проснувшись, обнаружила, что на меня смотрят с еще большим любопытством. Кто-то узнал меня по кино.
Совсем молоденькая моя соседка спрашивает:
— А вы артистка?
— Да, — говорю.
На что стриженая нагло заявляет:
— Какая артистка? Артистку-то по полету узнаешь.
— Ромашка, помолчи, — цыкнули на нее.
Оказывается, зовут ее здесь Ромашкой.
И вдруг я очень громко и повелительно говорю:
— Ромашка, подойди-ка ко мне.
— Чего еще?
— А вот что, Ромашка, моим крыльям тесновато в твоей камере.
Все захохотали. И Ромашка тоже.
Потом просят:
— Расскажи про артистов.
— Расскажу. Не сейчас.
Удивительно, что проснулась я в свой день рождения легко. На душе совсем спокойно. Увидела, что около меня стоит маленький кувшинчик, вылепленный из хлеба; узоры на нем сделаны зубной пастой, а в кувшинчике цветы, вырезанные из тетрадных обложек, — голубые, малиновые, желтые, — красиво очень.
А рядом на ажурной салфеточке — три пирожных, приготовленных из толченых сухарей, масла и сахара. Замечательные пирожные получаются.
Я была рада до слез. Благодарила.
Две веселые девочки, оставаясь по-прежнему в мокрых простынях, из махровых полотенец соорудили по чалме, взяли тазики и били в них, как в барабан, приговаривая в такт поздравления мне. Получился неожиданный праздник. Хохотали до невозможности.
Дежурной была казачка Валя, она несколько раз открывала кормушку, покрикивала на нас, но не сердилась. А мы продолжали дурачиться. Потом слушали по радио Высоцкого. После смерти его разрешили, и редкий день в радиоэфире обходился без него.
— Счастливая ты, — протяжно сказала Птичка, красивая хулиганка, — Высоцкого небось знала…
Я кивнула. Я действительно его знала.
— А я знаю «Песняров», — похвасталась блондинка. Она была всегда накрашена. Косметику, кроме помады, нам не разрешают, но все равно, выезжая на суд, все подкрашены.
Тушь делали сами. Собираешь горелые спички, долго собираешь, а потом поджигаешь их — получается, естественно, пепел. Этот пепел перемешиваешь с сахаром, с крошечками мыла, добавляешь воду и получившуюся массу ровненько распределяешь в спичечную коробку. Масса застывает, и получается абсолютный «Кристиан Диор».
А тени находились в любом месте стены — под белым слоем лежит купорос, соскребешь, и вот тебе тени от «Элизабет Ардэн».
Я не перестаю удивляться изобретательности моей новой компании.
Поджигается палочка от головки чеснока. Затушив огонек, получаешь косметический карандаш, который может соперничать с фирменным французским. Свекла — румяна. Черным хлебом моем голову. Из геркулесовой каши — изумительная маска. Очень смешно мы выглядим после завтрака, когда дают вышеупомянутую кашу. Ею пользуются даже те, кто слыхом не слыхал о косметике. Представьте себе бабушку-горянку из Дагестана в маске из геркулеса, темпераментно рассуждающую о падении нравов.
Украшения у нас тоже есть. Сушим яблочные косточки, потом нанизываем их на нитку, выплетаем, как Позволит фантазия: бусы, серьги, кольца — довольно красиво.
Баня для нас — счастье! Она тоже строилась еще при Екатерине Великой, поэтому в ней просторно и не душно — здорово! Приготовление к бане — целое событие. Достаются невероятной красоты мочалки, тапочки, связанные из цветных целлофановых пакетов. А мыло? Кому не приносят передачи, те собирают обмылки, под струей воды сбивают их в массу, а потом эту массу формуют о стену — получается эффектный мозаичный шар. А мундштуки? Из корпусов старых авторучек — сама элегантность!
— А я знаю «Песняров». С одним из них у меня был роман.
— С кем, Наташ? С кем?
Наташа подняла мордочку вверх и с огромным достоинством пропела, объясняя, с кем у нее был роман:
— С «Вологда-Вологда-Вологда-да»!
Опять взрыв хохота!
Надо сказать, что в тюрьме много смеются. Поразительно, но это так.
Вот и обед. Несколько человек — за столом, остальные — на шконках. Супы или густые — муку добавляют, или очень жидкие, как вода. Когда мне передают миску, Ромашка обязательно заглядывает в нее, даже приподнимается со скамейки, чтобы как следует заглянуть.
Спрашиваю:
— Ромашка, что ты там высматриваешь?
— Ты же у нас культ личности, а вдруг тебе мясо положат…
— И тогда что?
Опять хохочем…
А потом приехала библиотека. В Бутырке потрясающая библиотека! С тех времен еще, с революционного разгула. Я заказывала «Государь» и «Историю Флоренции» Никколо Макиавелли и любимого мною Грина Александра Степановича «Блистающий мир». Привезли!
Хороший день у меня получился — 18 июня 1983 года — день моего рождения.
Когда все уснули, я потихоньку открыла дневник и записала, что записалось.
Кормушка открылась, и вертухайка — так зовут дежурных — сделала мне замечание:
— Малявина, спать! А то в боксик пойдешь.
Боксиком действительно можно напугать. Там воздуха вообще нет. Ужасное место. Печальное.
Я повернулась. Спать не хотелось. Легла так, чтобы неприятная дежурная не видела, что я читаю «Блистающий мир». Потрясающе! Наслаждение!
Заснула под утро, но тут же проснулась: подо мной Глафира плачет. Неожиданно это. У Глафиры всегда одинаковое настроение — без слез и без смеха. Что же делать? Откликнуться? А вдруг ей будет неприятно? Наклоняюсь.
— Глафира, успокойся, милая.
— Валя, ты подумай, где справедливость? Бандиты, убийцы получают по десять лет, а тут рубль у государства возьмешь и сидишь, сидишь, сидишь… В каменном мешке гнию вот уже пять лет, а потом на зоне придется пахать лет десять.
Я не знала, что и ответить. Спустилась вниз.
— Посиди со мной, — попросила Глафира. — Я тебя тоже жалею. — Она вздохнула. — Как ты оказалась здесь? Не понимаю. Порой думаю, что тебя для роли сюда засунули, ну, чтобы ты поняла про эту жизнь.
— Нет, Глафира, не для роли.
— А почему у тебя до сих пор нет обвинительного заключения?
Глафира сказала не так длинно, она сказала проще:
— А почему у тебя до сих пор нет «объебона»?
— Сама удивляюсь, Глафира.
— Как же так? Нет, Валя, это непонятно. Без «объебона» так долго не сидят.
— Не знаем мы законов наших, не знаем прав своих. Да и есть ли у нас права, Глафира?
…Как-то я гуляла по арбатским переулкам. Шел крупный снег. Тихий такой вечер… Встречаю Риту, она в музее Театра Вахтангова работает. И Рита мне говорит: «Тебе бы адвоката хорошего пригласить». «А зачем?» — спрашиваю. Я действительно не понимала, зачем мне нужен адвокат. И позже, когда мне предложили ознакомиться с делом, не приглашала. Читала сама и не переставала удивляться диалогам следователя и некоторых моих коллег.
— Я обнаружила, Глафира, что иные меня предали, а я почитала их всем сердцем. Я не верила в то, что меня могут арестовать, как не верю теперь, что буду осуждена… А заключение пока сочиняется. Трудно, по всей вероятности, оно им дается.
— А покажешь, если пришлют?
— Хорошо. Пойди умойся, Глафира, не надо, чтобы видели тебя заплаканной.
Глафира пошла к умывальнику, спина прямая, тяжелая коса почти до колен.
Ну, вот и гимн: «Союз нерушимый республик свободных…» Началось движение. Мы с Глафирой успели сделать утренний туалет и теперь ждем проверки. От умывальника тянется по всей камере очередь.
Прошла проверка.
Принесли так называемый чай.
И вдруг истерический крик:
— Где моя колбаса, суки? Кто сожрал мою колбасу? — кричало мужеподобное рыжее отвратительное существо со старческим ртом.
Все молчат, занимаются своими делами, только Седовласая, подруга противного существа, соскочила со своей шконки, налетела на молодую грузинку и стала бить ее.
Грузинку уже били не раз, и никто не заступился, потому что она обвинялась в убийстве ребенка. Такие здесь законы.
А Седовласая просто садистка. Ей доставляло огромное удовольствие бить обезумевшую от страха грузинку. Эта Седовласая с удовольствием шарахнула бы кого-нибудь другого, но смелости не хватает, а здесь можно разгуляться, никто не остановит. Скандал вспыхнул, как огонь, и грозил этот огонь обернуться пожаром.
Два раза открылся глазок в двери — в него дежурные следят за камерой. Кормушка не открылась. Замечания дежурные не делают, значит, скандал учинен специально. Я подозревала, что мужеподобное существо — куруха, то есть стукачка, теперь убедилась окончательно.
Что же делать? Как все это остановить?
А Золотая со своей подругой смеются. Что смешного? А они хохочут… Почему — Золотая? Она работала на фарфоровом заводе и имела отношение к жидкому золоту, оно ее и подвело.
Я хотела было спуститься вниз, а Золотая опять хохочет:
— Валюта, не надо. Сейчас кашу принесут, и все успокоится.
Преотвратное же существо уже вопило про какие-то носки — мол, носки сперли.
— Ой, не могу, — хохочет Золотая.
Я нагнулась к Глафире:
— Глафира, почему не появляются дежурные?
— Не обращай внимания…
Приподнялась ко мне:
— Я прошу тебя: никакого внимания.
Ромашка сосредоточенно смотрела на скандалисток, не произнеся ни слова.
Хлопнула кормушка, привезли кашу. «Пионер» называется. Не знаю, почему «пионер», по каким таким признакам, но «пионер» — и все тут. Все ринулись к кормушке…
Какое тяжелое утро после вчерашнего светлого дня. Боже ты мой!
Моя соседка Галочка заботится обо мне:
— Пойдем за стол.
— Не хочу, Галочка.
— Ну я тебе сюда принесу.
— Не надо. У нас что-нибудь осталось из еды?
— Нет, только луковица, — засмеялась Галочка. — Ничего, выдержим, завтра ларек.
Легко спрыгнула вниз и принесла два «пионера» и две кружки чая.
— Луковицу съедим в обед, — сказала Галочка, взяв на себя роль хозяйки.
Я взглянула на грузинку — та уткнулась в подушку и как-то странно мотала головой.
После завтрака я прикрыла глаза полотенцем, чтобы свет не попадал, и стала медленно про себя приговаривать то, что помнила из советов Владимира Леви: «Покой. Священный покой. Всеобъемлющий покой. Великий покой».
Стало легче.
А Седовласая с мужеподобным мерзким существом резались в домино, громко смеясь и стукая костяшками нарочно сильно. Что-то у них не вышло. И смех наигранный, и стук костяшек чрезмерный.
А если бы я вмешалась? Кое-что и вышло бы. Права Глафира: нельзя мне было участвовать в их мероприятии. Скоро прогулка. Опять небо в клетку. Опять ходить по кругу. Но воздуха хочется! Пусть небо в клетку, но ведь небо же!
Когда шли длинными коридорами на прогулку, на одном из постов вертухайка почему-то стукнула меня под грудь тыльной стороной руки. Нет, не больно стукнула — небрежно. Вертухайка была с заплетенной косой, явно приехавшая по лимиту. Не знаю, как уж получилось, но я взяла ее за косу и сильно наклонила ей голову вниз. Она от неожиданности не пикнула..
Седовласая почти проорала:
— Гляди-ка! Ну надо же!
Но никто не обратил внимания ни на мой поступок, ни на реплику Седовласой.
Что за день сегодня тревожный такой?
Все. Буду думать про Грина.
Купаться в небе и думать о летающем человеке по имени Аруд из «Блистающего мира».
Ну что за день? Ввели во дворик. Совсем маленький. Есть побольше, есть даже большие, а этот — крохотный. Здесь и по кругу не походишь. Может быть, это и хорошо, постоим, посмотрим ввысь.
Воробышек прилетел и смотрит, смотрит… и так головку наклонит, и эдак. Я засмотрелась на него. Нашим дамам непонятно — чему я улыбаюсь? Увидели воробышка и тоже обрадовались, как дети. А он «чик-чирик» и улетел. Прислонилась я к теплой от солнышка стенке дворика и не могу наглядеться на причудливые облака. Вверху над нами появился вертухай, симпатичный такой, смотрит на нас, улыбается. Птичка увидела его и кричит: «Радость моя, что-то жарко…»
И стала расстегивать кофточку. Птичка наша красивая, и она, конечно, понравилась симпатичному вертухаю. Пожилые дамы стыдят Птичку, а она посылает их куда подальше. И почти снимает кофточку. Ей сейчас хорошо! Они смотрят друг на друга уже серьезно. Но пора расставаться: прогулка окончена. На прощание она еще раз крикнула ему: «Радость моя!» Грустно так крикнула.
Проходим пост, где дежурит та, с заплетенной косой. Смотрю на нее. Она вдруг говорит:
— Я думала, там книга у тебя.
Оказывается, книгу хотела обнаружить. Но удивительно то, что она заговорила со мной. Молодая еще, неопытная. Тоже оборзеет. Тем не менее настроение мое улучшилось от признания молодой вертухайки.
Грузинки с нами на прогулке не было. Ее увели в санчасть. Когда мы вернулись, не нашли ее на месте. Все обратили на это внимание. Директор ресторана из Адлера вдруг закричала, обращаясь к Седовласой и мужеподобному существу:
— Сволочи! Грузинка не возьмет вашей вонючей колбасы!
И заплакала. Директор ресторана сидела за хищение по статье 93 прим. Таких называли «примовскими». «Сволочи» молчали. Конфликты с «примовскими» не положены.
Я заметила, что все как бы распрямились, всем стало легче. После обеда началось абсолютное ничегонеделание. Трудное время.
Вечером я люблю смотреть сквозь «решку» — это железные жалюзи, намертво приваренные к окну. Смотрю в отверстие между «ресничками»-железяками на белый дом, что напротив. На последнем этаже окно с красноватым теплым светом. Я уверена, что там живут хорошие люди. Судороги беспокойства исчезают, и светлые надежды окружают меня, и я верю, что все в мире идет к лучшему…
Опять не спится, а дежурная сегодня совсем злющая — не почитаешь.
В углу старушка молится. За что сидит старушка — не знаю. Она всегда молчит. Никто не обращает на старушку никакого внимания, вроде бы ее вообще нет, а ей от этого спокойно. Никогда позже я не видела ее чем-нибудь озабоченной. У меня такое впечатление, что она жила здесь всегда.
2
Чтение приговора все длится и длится. Устали все, и все с нетерпением ждут результата: сколько дадут лет? Сколько — вот что интересовало всех без исключения.
Пытаюсь вслушиваться и я. Мелькает мысль, что текст приговора выгодно отличается от обвинительного заключения. Судья, конечно, профессионал в своем деле.
Под ее лихим пером комната наша вся оказалась в крови. Море крови. А между тем доктор «Скорой помощи», вызванный наконец для свидетельских показаний на одно из последних заседаний суда, четко сказал, что у Стаса было внутреннее кровотечение и что он вообще не видел крови до того, как выхватил из моих рук нож и порезал мне пальцы… Я на мгновение прикрываю глаза, и вновь передо мной возникает яркая, словно не потревоженная временем картина: красное на белом. Но это не кровь. Это — вино, с глухим бульканьем стекающее в раковину.
Конечно же, я выпила на глазах у Стаса не все, что было в бутылке. Уйдя на кухню, вылила остатки вина в раковину. Возвратившись, я совсем не удивилась, обнаружив, что Стас медленно клонится на ковер, словно нечаянно уснувший от сильного опьянения человек. Он и прежде, когда был пьян, любил укладываться на ковер. Вот из-за обычности этой картины я и не заметила в первую минуту никаких признаков трагедии. Я просто стала помогать ему лечь удобнее… И только тут увидела окровавленный нож у ножки кресла и рану…
Все последующее отпечаталось в сознании, словно обрывки бредового сна..
Я звоню в «Скорую помощь». Сразу. Сразу делаю вызов на ножевое ранение. Адрес называю четко, правильно. Сажусь на ковер возле Стаса. Он говорит: «Пойдем со мной» И еще раз: «Пойдем со мной…» Отвечаю, что непременно поеду в больницу вместе с ним. Не понимаю я еще на самом деле, что произошло, не понимаю… Только потом словам «пойдем со мной» я придам подлинное значение и попытаюсь выполнить его просьбу… Я все сижу и сижу рядом со Стасом, все прошу его не двигаться, боясь, что откроется кровотечение — крови почти не было…
А «скорой» все нет и нет.
Перезваниваю. Мне говорят, что машина выехала и просят встретить. Убедившись, что Стас лежит спокойно, не двигаясь, лечу вниз, во двор: машины нет нигде.
Рядом с подъездом, в беседке, молодые ребята играют на гитаре, поют. Я прошу их поискать «скорую»: наша улица, на которой ведутся какие-то работы, с двух сторон огорожена забором — шофер мог заблудиться. Молодые люди уходят искать «скорую», я спешу назад к Стасу.
Буквально через минуту хлопает входная дверь, я кричу врачам: «Скорее!» Кто-то из приехавших поясняет: «Извините, пересменка была». Неважно, главное, они наконец-то тут.
И почти сразу вижу доктора, склонившегося над Стасом, слышу дикую, невозможную его фразу: «Ему ничто не могло бы помочь». Он говорит это просто, обыденно, я не понимаю — о чем он?.. И доктор повторяет еще раз: «Ему ничто не могло бы помочь».
Вслед за этим в моем сознании звучит, уже отдельно от неподвижно застывшего на ковре Стаса, его голос, его последние слова: «Пойдем со мной!» И еще раз, повелительно: «Пойдем со мной!..»
У меня такое ощущение, что мой Стас, Стас Жданько, всегда рядом со мной. Это ощущение не покидает меня никогда. Ни в камере, ни на прогулке, ни теперь перед судом. На днях перечитала гаршинский «Красный цветок» — любимый рассказ Стаса.
Никогда не забуду тот день, когда Стас впервые прочел мне «Красный цветок» и рассказ о Гаршине, о его жизни.
Окна нашей комнаты были тогда расшторены. Обычно шторы закрывали окна. Стас любил, когда светится настольная лампа, а окна закрыты. Утренний, очень крепкий чай он пил при электрическом свете, даже если на улице сверкало солнце.
Я никак не могла к этому привыкнуть, но смирялась. В этот день Стас почему-то раздвинул шторы и стал мне читать вслух «Красный цветок». Я смотрела на огромное дерево за нашим окном и внимательно слушала его.
Несколько раз он останавливал чтение и тоже подолгу смотрел в окно.
Теперь, перечитывая «Красный цветок», я особенно задержалась на тех строчках, после которых мы тогда долго молчали. Вот они:
«К чему эти мучения? Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать. Даже жить или не жить… ведь так?»
— А ты знаешь, Валена, что Гаршин позировал Репину для картины «Иван Грозный и сын его Иван»? Репин писал с него молодого царевича.
— Я с детства боюсь этой картины.
— Я тоже. А еще Гаршин говорил: «Если бы не жена, которую я так люблю, то я давно бы порешил себя». И порешил… все-таки…
Я это пишу не к тому, что Стас тоже ушел из жизни страшным и странным образом, более того, я убеждена, что Стас не хотел уходить из жизни. Но его действительно очень интересовали люди, которые накладывали на себя руки.
Как-то я попросила Стаса:
— Дай мне, пожалуйста, вон ту маленькую книжечку. Это Маяковский.
— Почему он застрелился? А, Валена?
Стас достал из шкафа маленькую книжечку, открыл ее и стал читать вслух поэму «Про это». Прочитав несколько строф по книге, он тут же закрыл ее и, не отходя от книжного шкафа, дочитал всю поэму наизусть.
Я была поражена. Мы никогда не говорили с ним о Маяковском. Я не предполагала, что он так умно, так эмоционально, так хорошо может его читать.
…Жарким летом 70-го года наш театр, Театр имени Евг. Вахтангова, выехал на гастроли в Новосибирск.
После спектакля «Идиот», где я играла Аглаю, подходит ко мне молодой человек, благодарит за спектакль и просит подписать фотооткрытку с моим изображением, которую он купил в киоске.
Я подписала: «Стасу — с пожеланиями наилучшего!».
Он был заметно смущен, но тем не менее попросил разрешения проводить меня до гостиницы.
Я отказалась. Меня ждал Саша Кайдановский — он в то время только-только поступил в нашу труппу.
После следующего спектакля я опять увидела молодого человека по имени Стас. Он разговаривал с Николаем Олимпиевичем Гриценко, и они оба держали правую руку как бы для крестного знамения. Я поняла, что они говорили о князе Мышкине, которого в нашем спектакле «Идиот» гениально играл Гриценко.
Мы со Стасом поклонились друг другу.
Я и Саша Кайдановский пошли гулять по городу. Шли переулками. Я оглянулась: за нами шел Стас. Он обогнал нас, наклонился к тротуару, и вдруг обочина воспламенилась. Огонь побежал, освещая белый пух тополя, по направлению к нам. Стас громко засмеялся и быстрым шагом пошел вперед. А мы с Сашей продолжали смотреть на огненную ленточку, которая мчалась по улице. Добежав до лужицы, тут же исчезла.
Стас родом из Черепанова — райцентра, что под Новосибирском.
Позже он мне рассказывал, что специально приезжал в Новосибирск смотреть наши спектакли.
Прошло какое-то время, может быть, года четыре, и я увидела Стаса в спектакле «Мешанин во дворянстве», где играла Люсиль, дочь Журдена. Но не поняла, что тот случайно встреченный новосибирский мальчик и юноша, который вместе с другими студентами «Щуки» танцевал в массовке, — одно и то же лицо. В конце спектакля все исполнители были на сцене, и Стас довольно громко говорил с кем-то обо мне. Меня раздражил этот разговор, этот нарочно неопрятный вид молодого человека, длинные неухоженные волосы, зачесанные за уши, слишком прямая спина и громкий смех по поводу и без него.
Потом я часто замечала его за кулисами или в оркестровой яме на моих спектаклях.
Как-то Женечка Симонова, которую я знала с ее детства и была в милых отношениях с ее родителями, пригласила меня на дипломный спектакль школы-студии «Преступление и наказание».
— Раскольникова играет Стас Жданько, а я Дунечку. Приходите, — приглашала меня Женечка.
Был теплый майский вечер. Я долго любовалась высокими тополями в нашем дворе, которые посадил мой папа. Как хорошо, что я родилась на Арбате! Мама мне рассказывала, что впервые меня вынесли из дома прямо в Театральное училище имени Щукина. Там находилось бомбоубежище, в котором вся округа пряталась во время воздушной тревоги. А когда бомба попала в Театр Вахтангова, нас эвакуировали из Москвы.
Вспоминая мамины рассказы про войну, которую сама не помнила, я отправилась в Щукинское училище на спектакль — то есть вышла из дома и перешла улицу.
В зале кресла для зрителей поставлены так, чтобы между ними, начиная от двери, образовался проход.
Спектакль начался, и в этих дверях я увидела Стаса Жданько — того самого студента, что носил длинные немытые волосы и часто стоял за кулисами на моих спектаклях. Но теперь он был другой. Меня поразила необыкновенная бледность его лица. Он был в черном длинном пальто. Одна рука в кармане пальто, другая покоилась на груди. Рука красивая и тоже очень бледная.
Он прошел от двери по проходу вперед, резко повернулся и заговорил. Это был монолог Раскольникова о Наполеоне.
То, как Стас трактовал Раскольникова, настолько совпадало с моим ощущением этого образа, что у меня сильно забилось сердце.
Спектакль состоял из шести сцен.
Для меня был интересен переход Стаса из сцены в сцену. Он шел по залу к двери, поворачивался и шел обратно. Вот этот-то поворот был для меня самым главным событием в спектакле.
Он шел к двери одним, возвращался в декорацию другим, готовым для новой сцены.
Совершенной мне показалась сцена с Сонечкой. Стас вошел в комнату Сонечки, подошел к ее постели и медленно, очень медленно провел своей изумительной рукой по краешку кровати. Когда Соня — Женечка Симонова — читала Евангелие, Стас — Раскольников, — внимательно слушая ее, смотрел на постель.
Спектакль окончился. Я задержалась у Женечки за кулисами, но была уверена, что Стас ждет меня. И не сумела скрыть своего волнения, когда увидела его. Он доверчиво смотрел на меня. Я поцеловала его и сказала:
— Я тебя понимаю.
Не сказав ни слова, он поцеловал мне руку. Я поспешила уйти, очень уж разволновалась.
…Катюша Райкина получила звание заслуженной артистки РСФСР и пригласила нас, несколько человек, к себе в гости. Приглашен был и Паша Арсенов. Мы с Павлом оставались в дружеских отношениях, хотя уже и не жили вместе. Я была рада видеть его.
От Катюши мы поехали к Свете Тормаховой — она тоже играла тогда в Вахтанговском.
Я спросила Свету:
— Ты знаешь Жданько?
— Знаю. Мы с ним много раз общались.
— Какой он?
— Интересный. Странный. Рассказывал, что ему нравится пробивать тонкий лед своим телом, прыгая с обрыва в зимнюю реку. И потом… непонятная история случилась в нашем училище: студентка Надя Писарева, с которой Стас дружил, выбросилась с балкона высокого красного дома, что напротив Аэровокзала. После ее гибели Стас закрылся в своей комнате и не выходил, пока его оттуда силком не вытащили. Я знаю, он мне рассказывал сам, — продолжала Света, — что он был в этом красном доме в тот трагический день.
Я вдруг сказала:
— Это он убил ее.
Мне стало страшно самой от такого обвинения, но я уже произнесла эти жуткие слова.
Потом, когда меня обвинят в убийстве Стаса, я часто вспоминаю тот день, когда я так жестоко и греховно сказала о нем. Может быть, за мой грех перед ним я и расплачиваюсь.
Аня за три до гибели Стаса мне приснилась эта девочка Надя, которую я никогда не видела. Я рассказала сон Стасу.
— Представляешь, Стас, снится она мне коротко стриженная…. в длинном свитере крупной вязки… и руки ко мне протягивает.
— Ты же не видела ее… Она была коротко стриженная и постоянно ходила в длинном свитере и джинсах.
— У меня грех перед тобой, Стас… Когда ее не стало, я сказала, что это ты ее убил.
— Вот и матушка моя так говорит.
И ушел в театр.
Однажды бессонной ночью он стал рассказывать об этом случае:
— Меня пригласили на свадьбу в ресторан «Арагви»… она тоже там была с каким-то мудаком… Когда они уходили, я вышел за ними. Они взяли такси, и я тоже… Поехал следом… Я ревновал ее. Мне был противен этот тип. Когда он ушел, я поднялся к ней… Через какое-то время я узнал, что она выбросилась с балкона. Мне тоже хотелось умереть. Я закрылся в своей комнате. Жил я тогда на Арбате, напротив Театра Вахтангова, во дворе, в подвале… Я работал дворником… подрабатывал, и комната была своя… не общежитие все-таки…
Я ничего не поняла из рассказа Стаса. Мне было страшно слушать о Наде, которая выбросилась с балкона, и я сказала ему об этом. Больше мы никогда о ней не говорили, и вдруг она мне приснилась.
Я до сих пор многого не понимаю в том, что случилось со мной. А мне нужно понять, мне необходимо понять все.
Курс, где учился Стас, был очень талантливый: Женя Симонова, Леня Ярмольник, Наташа Каширина, Юра Васильев, Наташа Ченчик, Юра Воробьев. Но самым талантливым из них, как говорил мне тогда Саша Кайдановский, был Стас Жданько.
Стаса уже пригласили в несколько театров, но он захотел показаться в Театре Вахтангова. Показа я не видела, но знала, что он очень понравился и что приглашение служить в нашем театре последовало. На что Саша Кайдановский — он уже не работал у нас — сказал:
— Он не пойдет в Театр Вахтангова.
— Ты ошибаешься, Саша, он будет работать у нас, — уверенно ответила я.
Так и получилось. Стас поступил в нашу труппу. Он мечтал сыграть Рогожина. Михаил Александрович Ульянов готов был отдать одну из своих лучших ролей Стасу, в которого он верил и которому симпатизировал.
— Валена, у нас с тобой всего одна сцена, но как мы ее сыграем!
— Стас, но Аглая и Рогожин словом не обмолвились…
— Это ничего… Я знаю, как представлю тебя перед Настасьей Филипповной. Тут не надо слов, Валена.
По каким причинам Стас так и не сыграл Рогожина, я не знаю.
На празднике в честь очередной годовщины училища имени Щукина (начинала я учиться во МХАТе, потом перешла в «Щуку») я стояла сзади на возвышении, чтобы лучше видеть, что происходит на сцене гимнастического зала.
Неожиданно для меня Стас поцеловал край моей юбки и протянул ко мне открытую руку. Я легко пожала ее. С этого дня мы с ним не расставались.
Мне кажется, с того момента, как начался наконец суд, мои воспоминания о нем стали еще живее. И — светлее… Суд начался так.
…— Малявина! Выходи!
Прошла пропускной пункт, вскарабкалась в «воронок». Запихнули меня в раскаленный от жары железный узенький «стакан»» и закрыли на замок. Невыносимо! В этом «стакане» есть маленькое круглое отверстие, куда бы мог поступать воздух, но он не поступал, и дышать было абсолютно нечем. Стала просить, чтобы открыли. Ничего подобного, конвоир даже не отвечает. Задыхаюсь совсем.
— Я так и до суда не доеду. Откройте, пожалуйста! — умоляла я.
Молчание.
— Я прошу вас — откройте!
Ребята за решеткой, в другом отсеке, кричат конвоиру:
— Открой ты ей! Плохо человеку!
— Выедем с территории — открою, — пообещал конвоир.
Как все долго… Стоим и стоим у проходной…
Наконец выехали из Бутырки. Открыл мне дверь конвоир.
Большой отсек за решеткой, который зовут «обезьянником», набит до отказа. Там везут на суд мужчин. Сколько же их, Господи! Спрашивают: как зовут? в какой суд едешь? какая статья?
Когда называешь статью, значительно восклицают: О-о-о!
В этом «О!» есть некоторое восхищение. Ужасно. Но это так. И тени упрека я никогда не слышала в свой адрес.
Привезли в суд и опять закрыли в боксе. Этот бокс оказался морозильником, потому что находился в сыром полуподвальном помещении. На улице жуткая жара, а здесь очень холодно.
Сколько еще ждать? Неизвестно. Я как-то потеряла счет времени. А спрашивать через закрытую на десять ключей дверь не хотелось. Скорее бы уж начинали свой дурацкий суд.
Вытащила из сумки свой длинный шерстяной халат, укуталась в него и стала читать надписи на скамейке, на дверях, на стенах. Не надписи, а целые послания заключенных. Тут и стихи, и признания, и советы, а главное — отборная ругань в адрес неправых судей. Моей судье особенно доставалось.
Вошла конвоир, раздела меня догола и стала «шмонать» все мои вещи.
— Простудишь меня, — говорю я ей.
— Набрось халат, — разрешила она и поинтересовалась: — Волнуешься?
— Нет, не очень.
— Ну, пошли!
И снова повели меня по грязным коридорам — теперь уже в зал заседаний. Ремонту них, что ли? Ужас, какая грязь!
Наконец ввели в большой зал, посадили за барьер, двое конвоиров встали позади меня, а третий остался у двери.
Зал переполнен — полный аншлаг. Приставные места тоже заняты, а сзади толпится молодежь, наверное, студенты юридического факультета.
Увидела своих — Танечку и Сережу. Слава Богу, что мамы нет.
Среди сидящих в зале вижу актеров из Театра киноактера, а коллег из моего театра что-то не видно..
Меня посетило волнение, как бывает перед премьерой.
Народ с нетерпением ждал открытия судебного заседания, поглядывая на меня и шепчась. Лица взволнованные, до торжественности.
Появились судья, народные заседатели, адвокат, прокурор, секретарь, гражданский истец и доверенное лицо обвинителя — Николай Попков, актер. Началась долгая-предолгая история: установление моей личности, объявление состава суда и прочее… Спрашивают, понятны ли мне мои права? Конечно, непонятны, но все, кого спрашивают, отвечают одинаково: «Права понятны».
Я тоже отвечаю, что права понятны, хотя ничегошеньки не понятно.
Почему мы так отвечаем? А по привычке.
Но оказывается, что не явились свидетели, нет экспертов, и посему суд переносится на 11 июля, так как впереди два выходных.
Снова долгое ожидание в холодавшем боксе.
Наконец пришла машина!.
Идиотизм, но я хочу скорее в Бутырку, на свою шконку, хочу выпить кипяточку сладкого. Завтра — читать, гулять и ни о чем не думать.
3
Между тем судья заканчивает читку бесконечно длинного своего произведения. По ее словам получается, что я нарочно не звала никого на помощь. О том, что я вызвала «скорую» на ножевое ранение, вообще не говорится, и что «скорая» задержалась из-за пересменки — тоже ни слова… И так далее… Страшный документ получился.
Если бы все это было не со мной, я подумала бы, что подсудимая — настоящая злодейка.
Судья наконец оповещает, что прокурор, дескать, просила десять лет, а суд, посоветовавшись, лишает Малявину свободы сроком на девять лет.
Мне подумалось: «9 — мое любимое число. Надо же! Сегодня 27 июля, и если сложить цифры 2 и 7, получится тоже 9. Ну надо же!»
На днях адвокат сказал, что судья отправила обвинительное заключение, сочиненное прокуратурой Ленинского района, на доработку. Если теперешнее никуда не годное, какое же было предыдущее? Вот почему я так долго сидела в Бутырке без обвинения. Оказывается, его пересочиняли.
А разве законно пребывать в предварительном заключении столь долгое время?..
Судья вглядывается в меня, но словно не видит и через паузу тихо спрашивает:
— Вам все понятно в приговоре?
Все взоры устремлены на меня. Ждут чего-то… Истерики или какого-нибудь недостойного зрелища ждут… А у меня есть заветные слова Стаса: «Бойся бояться», и я тихо и спокойно отвечаю:
— Да.
Шепот в зале…
Судья вкрадчиво спрашивает опять:
— Вам понятен приговор?
— Да, понятен, — говорю ровно, спокойно.
И думаю: «Нет, не дождетесь вы моей истерики. Есть на свете, дорогие мои, чувство собственного достоинства».
Моя сестра Танюша выглядывает из-за чьей-то спины, держится, слава Богу. Ее муж Сережа старается улыбнуться мне. А Лионелла Пырьева — как струна, поднимает взор поверх всех: держись, мол, показывает мне, держись!
Я помахала рукой Тане и Сереже, и Лионелле, и всем добрым людям, а их было много в зале. Недобрые же недовольно гудели.
Судья неотрывно смотрела на меня, потом неловко, почему-то два раза, поворачивается вокруг стула и поспешно уходит.
За нею выкатились прокурор и общественный истей. Меня увели вниз. Разрешили не входить в камеру. Принесли крепкий, сладкий чай. Спасибо солдатикам!
Телефон беспрерывно звонит. Конвой отвечает: «Девять лет». Я спросила:
— Почему так много звонков?
— Это наши ребята из других судов. Весь конвой о тебе беспокоится.
Я вздохнула так глубоко, что самой смешно стало. Говорю ребятам:
— В театре так обычно вздыхают, когда драму играют. Я думала, артисты наигрывают, ан нет…
И снова вздохнула.
— Скорей бы машина пришла, — говорю.
— Она уже пришла.
— Так пойдемте же отсюда скорее!
Около машины совсем старенькая бабушка сунула мне в руки батон белого хлеба. Я ее очень благодарила, а она все крестила меня.
Хлеб отдала братве.
И мы поехали.
Вдруг машина остановилась, конвоир соскочил вниз, дверцу не прикрыл.
Мы остановились в каком-то переулке. Тополя высоченные шелестят, ветерок дует… Хорошо-то как — ТАМ!
Через какое-то время конвоир прыгнул в машину, подошел к решетке, за которой сидели мужчины, и сказал парню спортивного телосложения:
— Порядок!
И снова соскочил вниз.
Через некоторое время этот парень протягивает мне через решетку бутерброд с колбасой и бумажный стаканчик.
— Осторожнее, не пролей!
Я взяла стаканчик, а в нем коньяк доверху.
Я не умею пить залпом, а тут постаралась. Закусила вкусным бутербродом. И так тепло стало!
А парень спрашивает:
— Еще?
— Погоди, — говорю.
Напротив спортивного парня сидел дед, он поинтересовался:
— Ну? Сколько они тебе лет подарили?
— Девять.
Помолчал дед, покряхтел, а потом говорит:
— Ничего, Валюшка, девять Пасх кряду!
Сказал весело и просто.
Я засмеялась. И братва подхватила.
Парень легонько свистнул. Конвоир вскочил в машину, и мы поехали к себе, в Бутырку..
Я молоденькому конвоиру говорю:
— Как ты думаешь, встречать девять Пасх — это долго?
— Долго, — говорит.
— А если кряду?
— Как это?
— А вот так: девять Пасх кряду — вот и весь срок!
— А-а-а! — обрадованно протянул солдатик.
И правда. Ничего оно, если кряду!
Что там дальше-то? А?
…Первого июня 1983 года я гостила у мамы. Мы с мамой пили кофе. Я собиралась после кофе уехать на дачу к моему приятелю на день рождения. Раздался звонок в дверь. Звонок мне показался ненужным. Мне не хотелось открывать дверь, но мама уже спрашивала:.
— Кто там?
Ей ответили:
— Слесарь.
Мама, всегда осторожная, почему-то открыла этому «слесарю».
Их оказалось человек пять, а может быть, и больше. Быстро вошли и сразу же к окнам. Я потом узнала, почему они — сразу же к окнам. Не дай Бог что…
Мама как-то ничего не поняла и очень вежливо обратилась к этим, что у окна и балкона:
— Проходите, пожалуйста, садитесь.
Они молча оставались на месте.
Дали прочесть какую-то бумагу. То была санкция на арест..
Один из них говорит:
— Валентина, мы только исполнители. Мы на работе. Нам приказано арестовать тебя. Переоденься и поедем.
— Куда?
— В КПЗ.
Бедная моя мамулька спрашивает:
— Адрес этого, как вы сказали, кэпэзе вы оставите?
Ей отвечают:
— Вам позвонят.
— Валентина, переоденься. Там холодно.
Я была в белых брючках и тонкой шелковой кофте.
У меня на постели лежал длинный шерстяной халат — как вязаное пальто.
— Вот его и возьми, — заботливо предложил мне один из них. — И теплые носки возьми. Брюки другие надень. Что еще? Расческу, к примеру… ну, кое-что совсем необходимое.
Странное состояние наступает во время катастрофы, которая явилась нежданно-негаданно — ее как бы не чувствуешь. Я думаю, все, кто пережил очень страшное, согласятся со мной. Оно как бы не твое — это страшное.
Мама тоже казалась спокойной. Была уверена, что это недоразумение и что я сегодня же вернусь.
Я стала переодеваться, тот, что у окна, оставался на месте. Другой стоял в дверях комнаты.
— Ну и что? Ну и как я переоденусь?
— Ты не стесняйся. Мы все равно не уйдем.
Мой взгляд упал на раскрытую тетрадь, которая лежала у меня на столике возле кровати. Там было написано: «…Нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа…» Это из письма Ф. М. Достоевского к Н. Д. Фонвизиной, подарившей ему на пути в острог Евангелие.
С этим я и поехала на казенном «Москвиче» в КПЗ.
Меня арестовали через пять лет после нашей трагедии со Стасом.
Тот длинный июньский день в Бутырке мне будет памятен навсегда. Вечером принесли обвинительное заключение, еще то, первое. Стала читать — диву далась! Самому Гоголю не сподобиться до такой смешной истории. Понимаю, что речь идет обо мне и Стасе, которого нет, понимаю, что меня хотят обвинить в убийстве Стаса; вижу, как авторы нагнетают атмосферу рассказа, и чем больше они ее нагнетают, тем смешнее выглядит история.
Я даже не расстроилась.
Отдала Глафире читать.
А вокруг меня девочки уселись — думали, что я буду переживать после того, как прочту этот «документ», песни стали петь из репертуара Пугачевой, Антонова, а потом так грянули «Поворот» Андрея Макаревича, что Глафира нам сделала замечание:
— Не мешайте читать!
И вдруг я поняла, что у всех девочек, которые окружили меня, была одна и та же статья. Статья, связанная с убийством. Холод прошел, зазнобило даже. Всматриваюсь в липа. Нет и тени рока на этих молодых, милых лицах. Наоборот, взгляд открытый, почти детский.
Это — правда. Я ничего не выдумываю.
Знаю, что одна из них бросила из ревности камень в любимого, попала в висок, и он погиб. Другая, будучи беременной, пришла в общежитие института, где учился ее муж, и задушила свою соперницу. Моя соседка Галочка убила своего насильника. У каждой из них есть своя правда, наверное, поэтому на их лицах не отпечаталось преступление.
Когда разошлись, Галочка мне сказала:
— Не знаю, как я буду с тобой расставаться. С ума сойду!
У Галочки не было ни отца, ни матери. Она никогда не рассказывала, почему ее воспитывал только дедушка. О дедушке говорила с любовью и юмором:
— Мой дед говорит, что у него все есть. Спросишь: «Что у тебя есть? Ничего у тебя нет». А он: «Всё! Ты. Цветной телевизор. И бормотушка. Вот так-то!» И, счастливый, смотрит свой цветной телевизор, пропуская стаканчик за стаканчиком своей бормотушки.
Глафира прочитала обвинительное заключение и попросила спуститься к ней. Спустилась. Не снимая очков, отчего она выглядела очень важной, стала глаголить:
— Они что — совсем ох…ли?
И продолжала важничать:
— Мотива преступления нет, следовательно, нет и самого преступления. Разве это мотив — «на почве неприязненных отношений»? Получается товарищеский суд, и то убогий. Нет ни одного факта, ни одного доказательства твоей виновности. Но самое интересное — это финал: «Может быть, удар нанесен посторонней рукой, но не исключена возможность, что и собственной». Ничего непонятно. Какого х… они тебя здесь держат? Нет, Валентина, тебя отпустят, никакого суда не будет. Посмотришь!
За моими делами мы забыли о том, что Ромашке тоже какая-то бумага пришла. Ромашку, оказывается, Верой зовут. Опустив голову, она сидела за столом. Я подошла к ней. Она грустно и доверчиво посмотрела на меня.
— Вера, — впервые я назвала ее по имени. — Что-нибудь случилось?
— Муж отравился газом. Умер. Поставил суп варить и заснул. Суп убежал. Ну, вот… — больше она не могла говорить, закашлялась, а слезы ручьем бежали по ее щекам.
Я не представляла, что Ромашка может плакать.
Директор ресторана кормила ее бутербродами, печеньем, конфетами.
Ромашка благодарно и ласково посмотрела на нее.
— Он умер неделю назад, а сказали только сейчас. Почему? Почему они так?
Не знала и я, почему они так. И стала успокаивать Веру. Просто сидела с ней рядом, зная, что сейчас я ей нужна.
Буквально на следующий день, вскоре после завтрака, дежурная выкрикнула:
— Малявина, с вещами!
Кто-то:
— Валюшка! Тебя отпускают!
Глафира торжественно заявила:
— Я знала! Я говорила!
А Галочка моя — навзрыд.
Золотая:
— Ты что, Галка, с ума спятила? Помоги лучше вещи собрать.
Галка не смогла мне помочь.
Помогала мне Ромашка, ловко связала мой барахляный матрас, сняла сумку, подтащила все к двери.
Девочки спустились вниз проводить меня.
Я не знала, куда меня поведут, но краешек надежды на то, что совсем ухожу, — был.
Нет, я не ушла из Бутырки. Попав сюда, оставь надежду, что отсюда можно выйти.
Меня перевели на «спецы». Это камеры под особым контролем. Перевели по просьбе прокуратуры Ленинского района.
А пока я не знаю, куда меня ведут.
Ну какие же длинные коридоры в Бутырке, а матрас и сумка тянут вниз, не дают идти… и камеры в ряд… бесконечные лестницы… и множество решетчатых дверей… поворот за поворотом… и снова двери, и снова огромные ключи: др-др… Противно поет свою песнь очередная дверь, потом — хлоп! — железом о железо.
Проходим мимо матрасов. Возле них скучает заключенный, оставленный на «рабочке».
Говорю вертухайке, специально говорю, чтобы узнать, остаюсь я здесь или ухожу:
— Мне матрас надо поменять. Он жуткий.
Она спокойно:
— Меняй.
Значит, остаюсь. Но куда ведут меня? Я понимаю — надо быть готовой к неожиданному, тем более здесь неожиданность на каждом шагу.
Сколько раз я слышала:
— Малявина! Без вещей!
Никогда не говорят, куда ведут — на свидание ли с родными, на встречу ли с адвокатом, к врачу или в карцер. Нервно это. Иным совсем плохо становится. Давление повышается, а сердцебиение такое, что в ушах стучит. Зачем так действовать на нервы? Неужели нельзя сказать, что за поход мы совершаем?
Говорю парню:.
— Поменяй мне матрас, пожалуйста.
Он лениво бросил мой в дальний угол и, как фокусник, одним движением выхватил из стопки матрас для меня. Остальные матрасы даже не шелохнулись.
Ну вот, новый матрас нести легче. Пошли дальше. Господи, когда же кончатся эти коридоры, лестницы, двери, ключи? Когда кончатся эти отвратительные звуки — железом о железо?
Вертухайке тоже наскучило идти молча, она спросила:
— О чем думаешь, Малявина?
— Во-первых, думаю, куда вы меня ведете? А во-вторых, меня интересует, где 103-я камера..
— Зачем она тебе?.
— Там Маяковский сидел.
— Правда? — оживилась спокойная до тупости вертухай ка.
— Да.
— А за что он сидел?.
— Был 1909 год.
— А-а-а, — протянула вертухайка, будто знала, что значил этот год в жизни поэта.
Я продолжаю:
— Маяковский говорил, что в Бутырках, в 103-й камере, у него был важный момент в жизни.
— Еще бы!
Не очень поняла меня вертухайка. Спросила:
— Он что, сердитый был? Да?
— Всякий. Вот, к примеру, в зале, где он выступал, кто-то крикнул: «Мы с товарищами читали ваши стихи и ничего не поняли». Маяковский ответил: «Надо иметь умных товарищей». Или: «Ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают». А он отвечает: «Мои стихи не море, не печка и не чума».
Вертухайка развеселилась.
Я остановилась и в упор ее спросила:
— Куда ведешь?..
Она:
— Не останавливайся, Малявина. Нельзя. На «спецы» тебя переводят.
— Зачем?
— Откуда я знаю?
— Там плохо?
Молчит.
— Там хуже, чем в 152-й?
— Хуже.
32-я спецкамера.
Нет, кто-то явно издевается надо мной.
Синяя от дыма маленькая клетушка, сырая и душная. Как в подземелье. Я поняла, что это или подвал, или чуть выше. Оказалось — «чуть выше».
Четыре женщины курили самокрутки, пятое место было свободным. В камере от стола до железной двери один шаг, тут же параша, тут же буквально друг на друге четыре обитательницы этого ада.
Мое место, слава Богу, наверху. Окно небольшое, как раз на уровне моей шконки, и параша внизу, а не перед носом.
Эти четверо поленились лазать наверх — вот глупые!
Я успокаиваю себя: «Конечно, это лучшее место…»
Сразу мне учинили допрос, чего обычно не делается. Вновь пришедшие сами о себе рассказывают, если сочтут нужным.
А здесь — сразу в душу…
Особенно усердствовала Валя, пожилая женщина с острыми маленькими глазками. За что да почему, когда да как меня взяли?
Не стала я рассказывать. Просто назвала статью и сказала, что я ровно месяц как в заключении.
Забралась я к себе наверх, и грустно стало до невозможности. Тоска меня взяла. Там, в большой камере, я чувствовала, что нужна, и это даже радовало меня.
Здесь была совсем другая атмосфера, тяжелая.
Я стала разглядывать лица.
Валя с колючими глазками — рецидивистка, сидит по 144-й — воровство. Основная масса Бутырки имеет 144-ю или 206-ю — хулиганство.
Птичка в той камере все пела: «Ах, Бутырская тюрьма, лестница протертая, заебла меня статья сто сорок четвертая…».
Около Валиной (иконки Нина расположилась, у нее неглупый взгляд и хорошая речь. Рядом женщина, похожая на мальчика. Ну, мальчик, да и все тут. Почему в тюрьме так много женщин, похожих на мужчин? А дальше — Пышная дама. Все воровки.
Вскоре ввели еще одну даму. Совершенная Катрин Денёв.
Где же она будет спать? Оказывается, на полу. Пол каменный, ей принесли стеллаж, и она расположилась пол столом. У новой ламы тоже была 144-я. Она оказалась разговорчивой и скрасила своим рассказом этот жуткий лень.
Эта Денёв накануне летом, чтобы хорошо отдохнуть где-нибудь на югах, грабила квартиры. Работала в одиночку. Не в Москве, а в городах «Золотого кольца». Они ей нравились. Там по вечерним открытым окнам сразу же понятно, кто богат. Она вычисляла этаж, квартиру и утром шла туда. Звонила в дверь и, если не открывали, доставала отмычки, спокойно входила и брала, что хотела.
Однажды у нее был такой случай. Позвонила в дверь, никто не отозвался, вошла. А там хозяин пьяный лежит. Он глаза открыл, но она не растерялась, взяла недопитую бутылку, налила в большой хрустальный стакан водки и подала ему. Он выпил и стал балагурить. Она осмотрелась и уверенно полезла в вазочку, где нашла большую сумму денег. Денёв говорила, что можно сразу же догадаться, где спрятаны деньги. Она ни разу не ошиблась.
А хозяин весело балагурил. Денёв же прошла в спальню, сгребла в сумочку все драгоценности.
— Ты где? — кричал ей хозяин.
— Здесь, но мне пора уходить.
— Не уходи, пожалуйста.
— Надо, а то скоро твоя жена вернется.
— Нет, она только завтра к вечеру с дачи приедет.
Тогда Денёв заглянула на кухню, нашла в холодильнике еще бутылку и закуску, вернулась к хозяину, выпила с ним и закусила. Поцеловала его на прощание и ушла.
А однажды перед Новым годом она, в шубке из каракульчи, в бриллиантовых сережках жены того самого мужчины, что был так пьян и так мил, открыла квартиру, а там молодой человек атлетического сложения… Что делать? Она ведь открыла дверь отмычкой. Опять помогли находчивость и артистизм.
— Ой, извините меня, пожалуйста, прямо-таки «Ирония судьбы»… Ну, надо же, все перепутала. Какой ваш корпус? Первый? У меня родственники во втором живут, я у них в гостях… А вам надо замок поменять. Видите, мои ключи подходят… Ну, до свидания.
Молодой человек говорит:
— Надо раскрутить «иронию нашей судьбы» до конца. Как вы считаете?
— Нет-нет, не надо.
Он подошел, обнял ее.
— Вы такая хорошенькая, а я дверь не хотел открывать. Как хорошо, что вы явились! У меня трудная полоса в жизни. Предлагаю позвонить вашим родственникам и остаться до Нового года у меня. Как вы считаете?
— Нет-нет.
— Да-да.
— Так и осталась у него. Новый год встречали вдвоем. А родственникам я как бы позвонила. Хотел на мне жениться, — вздохнула Катрин Денёв.
Колючеглазая Валя тут как тут со своим вопросом:
— А мужик-то он как? Ничего?
— Замечательный… — опять вздохнула Денёв.
— Каким же образом ты оказалась здесь? — поинтересовалась Нина, та, у которой был неглупый взгляд.
— Вошла два раза в одну и ту же квартиру, дура. Во второй раз там оказался подвох… Не хочется об этом.
— Надо было выйти за этого, за симпатичного, замуж, вот что, — размышляла колючеглазая.
— Я была на работе, а на работе не следует любовью заниматься. Ушла я от него сразу же после Нового года.
— Взяла что-нибудь? — спрашивала Валя.
— Конечно, — грустно улыбнулась Катрин.
Опять не могу заснуть. Повернулась к окну. Теплый ветерок чувствую. Замечательный вечер, наверное.
Совсем рядом Ленинградский проспект. Чуть в стороне от него, недалеко от метро «Аэропорт», живет моя сестра Танечка с мужем. Танечка работает монтажером на Киностудии имени Горького. Может быть, она еще не вернулась с работы. А Сережа, ее муж, — детский писатель. Очень талантливый. Можно до бесконечности смотреть очаровательные мультики, снятые по сказкам Сергея Козлова. Дай Бог счастья моим родным Танечке и Сереже.
Представляю, как Тане трудно приходить на студию.
Могу предположить, как там судачат обо мне и как ей больно от этого.
А дальше за «Соколом», по Волоколамке, мамулька живет. Что она сейчас делает?
Как хотелось бы хоть на минутку заглянуть туда!
Мысленно полетела к ним, и так хорошо стало, будто увидела всех. Сколько огорчений выдержали мои дорогие.
Почему-то вспомнилось, как папа вернулся с фронта, а я его не признавала. Я прямо говорила ему:
— Мой папа воюет с немцами.
Долгое время ничто не могло переубедить меня. Папа и мама ужасно мучались.
Потом мы с папой стали большими друзьями. Я полюбила его всем сердцем. Папа был кадровый военный, и вскоре после окончания войны его направили в Горький. Мы с мамой, конечно, поехали вместе с ним.
В Горьком я увидела пленных немцев. Они шли длинной вереницей вдоль трамвайных путей. Немцы не вызвали у меня отвращения, наоборот, мне их стало очень жалко. Я подошла к ним совсем близко. Один из них взял меня на руки и стал целовать, что-то приговаривая. Мой друг и сосед Юрка шел за нами, а когда немец отпустил меня на землю, Юрка крикнул мне:
— Беги!
— Зачем?
— Беги, говорю! Сейчас как дам, будешь знать!
Я побежала. Добежала до сугроба, вдруг — бах! — и я лечу вниз головой. Сугроб, как большое облако, — снег был пушистый. Я и нырнула в это снежное облако, только ноги торчат. Кое-как вынырнула, а Юрка сердито смотрит на меня..
— С фрицами дружить? Да? — Юрка заплакал и ушел.
Мне не хотелось потерять моего лучшего друга, и я тем же днем пришла к нему домой, села под стол и громко завопила:
Вот сидят в окопах немцы, чир-дыр на штанах…И хохотали как безумные.
Взрослые нам тоже объясняли, что не «чир-дыр», а «чинят дыры», но мы продолжали петь по-своему, делая особое ударение на «чир-дыр». Каждый раз это приводило к новому приступу смеха.
Там, в Горьком, произошло важное событие.
Я все просила маму и папу купить мне маленького Феликса, которого полюбила после фильма «Моя любовь». Они обещали.
И вот наступил день, когда в дом внесли маленький кулечек, а в нем — малюсенький комочек. Я спрашиваю:
— Это и будет Феликсом?
— Нет, это Татьяна.
Я не огорчилась, мне понравился малюсенький комочек с красивым именем Татьяна. Я очень хотела подержать кулек с Танечкой. Не дали. Юрка держал, а мне не дали. Обидно было.
Неожиданно Денёв громко вскрикивает:
— А-а-а!..
Хорошо, что я не спала, а то так можно с ума съехать. Все проснулись.
— Ты чего?
— Крысы!
Действительно, в камере водились крысы.
— Забирайся наверх, я все равно не сплю.
Катрин Денёв поблагодарила, и мы молча просидели рядом всю ночь, думая каждая о своем.
Поминутно дрыгался глазок. На крик Катрин кормушку не открыли, поняли, видно, что она испугалась крыс.
Утром был шмон. Полезли в пакет искать карты. Нас выгнали и закрыли в вонючем боксе, а сами продолжали шуровать в камере.
Когда вернулись, Нина крикнула Пышной даме:
— Долго будешь курушничать?
В боксе Нина ничего не говорила, а здесь стала материть Пышную даму.
Та пыталась возразить:
— Ты чего, Нина? Какая же я куруха? Ты что? Я ведь никогда не выхожу из камеры.
— Ты во время обеда ментам записки передаешь, — нападала Нина.
Тут и колючеглазая Валька завизжала:
— Ах ты, сука толстая! Зачем нас с картами заложила? — Нет, представляете себе, — обратилась она к нам с Катрин, — мы нарисовали карты, хотели погадать, а она нас заложила.
Мне стало противно до тошноты.
А Валя щурила и без того маленькие глазки и наступала на Пышную.
— Дай ей, дай! — подстрекала Нина.
Рая, похожая на мальчика, улыбаясь, с интересом наблюдала за происходящим.
Вдруг Пышная дама заметила:
— А кто из нас чаше всех из камеры выходит? Никто никуда не ходит, все сидят на местах. Рая один раз ходила к зубному. А куда ты так часто ходишь, Нина?
— Ах ты, сука!
И Нина с кулаками обрушилась на Пышную даму.
Она била ее точь-в-точь, как Седовласая грузинку, пытаясь попасть в глаз и по губам, даже руку заносила так же, и выражение лица у нее было такое же.
— Нина, очнись! — попыталась я ее остановить, но Нина зашлась.
Валька спрятала лицо в ладошки, иногда посматривая сквозь пальцы на то, что происходит.
А Рая, как болельщица на стадионе, то в одну сторону гнулась, то в другую, чтобы было удобнее наблюдать. Потом встала во весь рост. Руки — в карманах брюк, рот — до ушей.
Денёв бессильно взмахивала руками и тоже пыталась остановить Нину, но это было бесполезно. Та остановилась только тогда, когда у Пышной дамы хлынула кровь из носа и изо рта. Раскрасневшаяся, села на свою шконку.
— Вы только пришли и не лезьте не в свои дела.
Дежурные не появились. Несколько раз открывался глазок. Они все видели. Значит, это тоже спектакль, как в той, большой камере.
Для какой цели? Чтобы больше действующих лиц было? Чтобы посмотреть, каковы новенькие? А может быть, для чего-то другого? Курухи живут в постоянных заботах. Их цель — всех перессорить, чтобы, не дай Бог, в камере не возникло какое-то единение. Единение — это уже сила.
Курухи только и ждут, чтобы кто-нибудь сорвался. Находясь в камере, можно получить еще статью, и не одну.
Пышная дама стонет, но не звонит в дверь, не зовет на помощь дежурных.
— Хватит стонать, хватит! — приказала Нина.
Дама замолчала.
Почему она позволяет так издеваться над собой?
Почему над одними измываются, а другие неприкосновенны? Я не представляю, как Седовласая или Нинка могли бы обрушиться на меня или Катрин, на Глафиру или Золотую. Это невозможно. А почему? Может быть, характер на лине написан? Характер виден через взгляд, через пластику, через манеру говорить.
Не занести этим мерзавкам руку на сильных; на независимых. Тишина.
Катрин свернулась у меня в ногах калачиком.
Я смотрю сквозь «решку» на кирпичную стену. Нет передо мной того белого дома, где окошко с красноватым теплым светом так успокаивало меня.
Преотвратно на «спецах».
И вдруг Нинка опять завопила:
— Ах ты, сволочь! Смотрите, что она делает!
Подскочила к дверям и стала звонить дежурным.
Пышная дама рвала золотыми зубами себе вены. Дежурные оказались тут как тут, подхватили окровавленную Даму и куда-то увели.
Через некоторое время крикнули в кормушку:
— Соберите ее вещи.
— Валя, собери ее вещи, — приказала Нина колючеглазой Вальке. — Рая, налей кипяточку.
Валя тут же стала собирать вещи. Рая поднесла Нине кипяточку.
Нина достала пряники и стала пить чай, как будто ничего не случилось.
— Кто из вас будет спать на ее месте? А? — командно спросила она.
— Разберемся, — ответила я.
Я предложила Катрин занять место Ламы.
— Противно. Ну, да ладно… — И стала раскладывать свои красивые вещи.
Нинка удивленно и коротко взглянула на меня, хотела что-то сказать, но промолчала.
Часов в пять вечера под нашим окном шепотом, но слышно кто-то спросил:
— Валя! Валя Малявина, ты здесь? Отзовись!
— Не отвечай, менты загребут, — шипела Нинка.
— Валя, ответь!
— Да! — довольно громко сказала я.
Тут же открылась кормушка, но с улицы уже сообщили:
— У тебя суд будет 8 июля. Готовься!
— С кем это ты переговариваешься? — орала дежурная.
— Я не знаю, с кем.
— А зачем же отвечаешь? В следующий раз карцер тебе обеспечен.
И захлопнула кормушку.
Кто же так заботится обо мне? Не знаю.
А Нинка:
— Почтальонов наняла. Прямо как телеграмму зачитали: «Суд у тебя будет 8 июля».
— Нина, успокойся, пожалуйста, суд будет у меня, а не у тебя.
— Мне не преподнесут число на блюдечке, как тебе.
— Кто это мог быть? — задумалась я.
— А ты не знаешь, — усмехнулась Нина. — Кто-то с «рабочки». Кто в штабе работает. Только там можно пронюхать число.
Да, по всей вероятности, это так.
Спасибо девочкам за их заботу, но ведь Нинка продаст. Она обязательно расскажет про этот случай начальнице, и девочку, которая работает в штабе, отправят в зону. Вот ведь что.
Т-а-а-к! 8-го так 8-го… Но адвокат у меня случайный. Дела моего не знает.
4
Я вспоминаю тот зимний вечер, когда, гуляя по арбатским переулкам, я встретила Риту из музея Театра Вахтангова. Она прямым текстом мне сказала: «Тебе бы адвоката хорошего пригласить».
Яне поняла — зачем он мне? Прошло уже много времени после гибели Стаса. Годы. Моим родным тоже в голову не приходило, что мне все еще грозит опасность. Я и теперь продолжаю надеяться на справедливый суд.
Настроение мое после сообщения стало горазда лучше. Вечером, сразу же после отбоя, слушали местный «телефон».
— 149-я, слышишь?
— Говори! — отвечают из 149-й или какой-нибудь камеры.
Разговаривают, главным образом, подельщики, потому что их всегда разводят по разным камерам, а сказать друг другу нужно многое. «Телефон» этот — дело рискованное: дежурная, услышав, либо тут же уводит в карцер, либо не приходит вообще, потому что курухе дано задание подслушивать диалог подельщика потом все рассказывать начальнице.
А позже из башни по всему государству Бутырскому понеслись неаполитанские песни в исполнении какого-то зека. Голос у него был дивный.
Говорят, что в круглой башне в Бутырках больные живут и что болеют они какими-то особенными болезнями. У нашего певца будто бы проказа. И начальник Бутырки по фамилии Подрез знает об этом певце и разрешает ему петь, потому что его скоро не будет на этом свете. Так говорят.
Замечательно он поет!
Колючеглазая вдруг прослезилась.
Нина смотрела куда-то в потолок, в одну точку. Рая-мальчик резко крутилась с боку на бок. Тронул и ее чудный голос.
Денёв сказала:
— Я сейчас ему закажу что-нибудь.
Валя, всхлипывая, попросила Катрин этого не делать, а то менты нагрянут и помешают слушать его дальше.
На следующий день я взялась за письма. Особенно важным для меня было письмо к адвокату. Полдня я провела за сочинением писем.
Нинка все поглядывала на меня.
— А ты сядь за стол. Тут удобнее, — предложила она.
Да, там действительно было удобнее. Я спустилась вниз заканчивать большое письмо. Поставила точку, тут же дверь открылась, и в камеру влетели три вертухайки. Отняли письма, выгнали из камеры и закупорили меня в крохотном боксике, где абсолютно не было воздуха.
Я поняла, что это дела Нинки, что она каким-то образом стукнула дежурным о моих письмах. Наверное, когда шли на прогулку. Она нарочно посоветовала сесть за стол, чтобы вертухайкам было легче меня шмонать.
Потом… я ничего не помню. Потеряла сознание от духоты и тесноты.
Когда меня открыли, я, по всей вероятности, вывалилась из боксика, потому что очнулась уже у доктора от сильного запаха нашатырного спирта.
Я лежала, надо мной стоял врач, растирал мне виски и давал нюхать нашатырный спирт.
— Ну, как ты?
— Не знаю. Знобит очень.
Он налил мне валерьянки довольно много, разбавил ее теплой водой и дал выпить.
Мне стало тепло. Врач сделал какой-то укол и сказал:
— Полежи. Не волнуйся. Я скажу дежурным, когда тебя можно будет забрать.
У него в кабинете был маленький телевизор. Я приподнялась, чтобы взглянуть. Так странно… телевизор…
— Давай я тебя послушаю.
Я разделась. Он встал за спину и стал меня слушать. Медленно-медленно… Потом правой рукой нашел мою грудь и откровенно начал заниматься ею.
Я повернулась и удивленно посмотрела на него. Он едва заметно пожал плечами, отошел и стал что-то писать в свою большую тетрадь.
Я оделась, села на стул и стала смотреть телевизор, поглядывая на доктора. Он мне напоминал одного модного эстрадного певца, забыла его фамилию.
Доктор закончил свою писанину, улыбнулся и спросил:
— Не хочется в камеру?
— Не хочется.
— Оставайся у меня, я дежурю всю ночь.
Я чуть было не спросила: «А можно?». Зная, что нельзя.
— Зовите дежурных, — вздохнула я.
Он опять улыбнулся и позвонил. Меня увели.
Когда я вошла в камеру, то почувствовала напряженку. Катрин легким движением задела меня, дав понять, что что-то здесь не то.
Я уже хотела взобраться к себе наверх, но Нинка закричала мне:
— Ты почему ментам сказала о моей фотокарточке?
Каким ментам? Про какую фотокарточку она несет?
— У меня сейчас отшмонали фотокарточку моего любимого. Это ты сказала о ней.
Все. Терпение мое лопнуло.
— Замолчи, крыса! — крикнула я что есть мочи. И, подойдя к ней вплотную, тихо сказала: — Молчи, гадина.
Все оцепенели, и Нинка тоже. Немая сцена, как в «Ревизоре».
Я умылась и спросила:
— Меня не звали в окошко?
Колючеглазая Валя и Рая вместе ответили:
— Нет.
Нинка легла и стала бубнить:
— Ты не очень-то…
Я не сказала больше ни слова.
У нее действительно отобрали фотокарточку. Весь этот спектакль был придуман ею вместе с начальством. Ужас! Чтобы навести тень на плетень, нужно было второе действие: шмон по поводу фотографии, мол, не только ты пострадала, но и я.
Скоро суд..
А пока мы гуляем во дворике. Все время смеемся — Денёв веселит. Нинка тоже хохочет. Симпатичный день. Беззаботный. За день до суда открывается кормушка, и врач — не тот, другой — вызывает меня. Подхожу.
— Открой рот.
— Зачем?
— Таблетку при мне будешь глотать.
Своими огромными пальцами, в которых была ярко-желтая большая таблетка, он тыкал мне в лицо.
— Как она называется?
— Глотай, говорю!
— Я спрашиваю: что это за таблетка?
— Открой рот, — приказывает мне врач.
Я отошла от кормушки.
Тогда дежурные открыли дверь, и доктор-амбал вместе с ними ввалился в камеру.
Амбал усадил меня, зажал мои коленки своими и насильно открыл мне рот. В камере была полная тишина. Засунул мне таблетку, прижав голову и лицо своими лапами, чтобы я ее не выплюнула.
Со стороны, конечно, было смешно.
— Проглотила?
Я кивнула головой, так как по-прежнему была зажата.
Он отпустил меня, и они ушли.
У меня одеревенел язык. И скоро я буквально свалилась с ног. Как я узнала позже, по просьбе прокуратуры Ленинского района врач мне сунул амитриптилин. Позаботились. Ну надо же! Антидепрессант довольно сильного действия.
На следующий день, 8 июля, в шесть часов утра меня вызвали:
— Малявина! С вещами!
— Почему с вещами?
— Так положено.
И повезли меня в суд.
Но сначала я долго сидела в вестибюле Бутырки, где по обеим сторонам расположены боксы. С одной стороны боксы для женщин, с другой — для мужчин.
Независимо от того, в какое время должен состояться суд, выводят из камеры в шесть утра, непременно с вещами. Матрас тоже надо свернуть и вынести из камеры. Я не хотела отдавать свой, тот, что выхватил мне из стопки матрасов парень с «рабочки», уж очень удачный попался, но ничего не поделаешь. Опять коридоры, лестницы, железные двери: др-др… тр-тр… шмяк… дверью по железной решетчатой стене. И как начальники не путают эти коридоры, эти двери? Здесь, как в лабиринте.
Суд назначен на 14.30.
Скажите, пожалуйста, зачем за восемь часов до начала меня тревожить? Зачем запирать в бокс на долгое время?
Привели ко мне в бокс женщину. Угрюмую. Перегородки между боксами не достигают потолка, поэтому подельщики, сидя в разных боксах, легко переговариваются.
Угрюмая спросила:
— Какая у тебя статья?
— 103-я.
Она понимающе кивнула головой.
Привезли завтрак: перловую кашу и чаек.
Баландер меня спрашивает:
— В первый раз едешь?
— Да.
И налил мне чайку покрепче.
Завтрак кончился.
Опять сидим.
Говорить с Угрюмой не хочется.
После завтрака еще оживленнее стали переговоры между боксами.
На мужской стороне кто-то пробасил:
— Стас! Ты слышишь меня?
Ответили:
— Говори…
…Даже на втором заседании суда меня еще не покидала надежда, что я уйду отсюда домой.
Обвинительное заключение такое, что курам на смех.
Главное, что в нем нет мотива преступления. О каких «неприязненных отношениях» идет там речь? Ведь Витя Проскурин в тот день пробыл у нас до восьми вечера и видел наши «взаимоотношения».
Основная тема обвинительного заключения: Стас был в славе, а я ему завидовала, потому что моя звезда в театре закатилась. Глупее и бездарнее ничего быть не может!
Мое дело полезно почитать будущим юристам. Надо придумать, как сделать дубликат. Потом ему иены не будет. Судебный фарс начала 80-х годов — пик «самой гуманной в мире» советской юриспруденции.
Второе заседание суда назначено на 11 июля. На 14 часов. Но из камеры выводят в шесть утра. И опять с вещами, матрасом, подушкой и бельем. Благо, молодцы с «рабочки» относятся ко мне с почтением и берегут мой матрас на случай возвращения в Бутырку.
Но надежда, что я уйду из зала суда домой, все не покидает меня…
…Опять долго сидим в боксе, потом долго ездим по Москве, развозя подследственных по разным судам. Я притулилась на стуле рядом с конвоиром, потому что в «стакане» сидит некто Денис. Денис узнал меня, посмотрев в кругленькое отверстие, и попросил:
— Ты извинись за меня, Валентина, перед своими актерами за то, что я побывал кое у кого в квартирах. Мне наводку дали, а у них ничего и нет. Книги да фотографии. Я думал — вы богатые… Переживаю я, так и скажи. И попался я по-глупому… Командир, открой дверь! Задохнусь! — просит Денис конвоира.
Конвоир неумолим.
В «обезьяннике» ребята тоже чертыхаются оттого, что жарко и что долго ездим по Москве.
Кутузовский проспект. Мелькают дома, деревья, люди куда-то несутся… Странно смотреть на Москву в маленькое окошко «воронка». Чужой городе непонятной жизнью.
А в раскаленном «стакане» стонет Денис.
Я прошу конвоира:
— Открой ему. Там невозможно.
— Не могу.
Приехали в Кунцево.
Из «обезьянника» вывели красивого парня. Его уже ждал милиционер с наручниками. Защелкнул его руку и свою. Соединили их наручники, и побежали они вниз по тропинке, словно два приятеля. Бежали и чему-то смеялись.
Тихо здесь. Дорожка совсем деревенская, а на полянке цветов много.
Наконец подъехали к суду Ленинского района. Только вошла в холоднющий бокс, как меня вызвали в зал заседания. Значит, сейчас два часа дня.
Зал опять переполнен. И чего им всем надо? Такая жара, а они, взмокшие, сидят и чего-то ждут. Тут и Конюхова Таня, и Гулая Инна со своей мамой. Знакомые и незнакомые. На лицах у всех одинаковое выражение — нетерпение и ощущение значительности момента. Поэтому все стали похожи друг на друга.
Моя Танюшка и Сережа улыбаются мне. Подбадривают. Милые мои!
Александра Александровна, мать Стасика, вошла. Бледная очень.
Витя Проскурин в упор смотрит на меня. Укоризненно. С пренебрежением.
Марьин, друг Стаса, ерзает на стуле.
А где же доверенное лицо обвинителя? Где Попков?
Суд начался с допроса свидетелей.
Рассказывает Проскурин. Рассказывает все, как было. Подробно и точно, без преувеличений.
13 апреля утром в «Ленкоме» был общественный просмотр нового спектакля «Вор» по Л. Леонову, в котором Витя играл главную роль. Он пригласил нас со Стасом в театр. Витя играл замечательно. Стас смотрел спектакль с большим напряжением и тихо сказал мне:
— Витя хорошо играет, но это моя роль.
В финале один из персонажей мертвый лежит на столе с зажженной свечой в руках.
Аплодисментов не было, они и не предполагались. Билетер сказала, что спектакль окончен. Все стали потихоньку, почти на цыпочках выходить.
Стас оставался на месте.
— Ты иди, Валена, а я посмотрю, как он будет подниматься, как свечку затушит. Мне интересно.
Я вышла из зала и заторопилась к себе в театр. Мы готовились к юбилею Юрия Васильевича Яковлева и в середине дня назначили репетицию.
Стас вышел из зала вскоре.
— Пойду за кулисы к Вите.
— А мне нужно в театр, — сказала я. — А потом зайду к папе, навешу его.
— Только ты не задерживайся, скорее приходи. Репетиция в театре отменилась, я зашла к папе — он жил рядом, на улице Вахтангова. Папа приболел. Он вспоминал, как они ездили со Стасом в Ленинград, и благодарил его за эту поездку.
Стас тоже любил вспоминать их поездку. Папа всю юность прожил в Ленинграде на улице Скороходова. Он долгое время не был в Ленинграде, и Стас, отправляясь на съемки на «Ленфильм» к Боре Фрумину[1], пригласил папу с собой. Позже Стас рассказывал:
— Подъезжаем мы к «Ленфильму», отец выскочил из машины и помчался в сторону улицы Скороходова, только пятки засверкали… Вот, Валена, как тянет в родные места… Ух, как тянет! Поехали ко мне! Ничего нет лучше Сибири! Ностальгия замучила…
От папы я позвонила домой Стасу:
— Что ты делаешь?
— Пью. Скорее приходи. Витя Проскурин у нас.
— Смотрите не напейтесь. Вечером тебе в Минск ехать.
— Не волнуйся, у Вити еще спектакль. Билеты в Минск у тебя?
— Да. Я сейчас приеду.
И еще некоторое время задержалась у папы.
Зазвонил телефон. Это был Стас.
— Валена, скорее приходи, а то напьюсь. У нас бутылка рома.
Стас не был склонен к спиртному, а тут начал выпивать, и довольно сильно. Думаю, это было связано с закрытием картины Бориса Фрумина «Ошибки юности», на которую он делал ставку.
— После этого фильма я прославлюсь! — говорил он. — Вот посмотришь! И ты будешь гордиться мной.
Но фильм положили на полку. Это было потрясением для всей группы, а для Стаса просто трагедией. К тому же он страдал гипертонией с юношеских лет, из-за чего его от армии освободили. Все это меня очень беспокоило, и я поспешила домой.
Бутылка рома была почти допита.
Витя Проскурин был в хорошем, том самом премьерном настроении и вечером собирался на спектакль, а Стас казался каким-то взъерошенным. Ходил из угла в угол по нашей комнатке, разглагольствовал об истинном искусстве и ругал Театр Вахтангова.
— Я уйду! Ты как хочешь, Валена, а я больше не могу тонуть в этом дерьме.
Позвонил в театр и довольно грубо разговаривал с Верой Николаевной Гордеевой из репертуарной части. Стас к ней очень хорошо относился, а тут на нервной почве его занесло.
— Просьбу о разрешении поехать на съемки в Белоруссию напишет Валя Малявина… Ну почему обязательно я? Нет, сегодня я в театр не приду. Валя завтра напишет заявление, — распоряжался Стас. — А сегодня я уезжаю.
Тон был непозволительный, и мы с Витей уговорили Стаса перезвонить Вере Николаевне и извиниться. Он послушался. И вдруг — ко мне:
— Что ты так далеко от меня? Сядь ко мне на колени.
Он приготовил мне кофе, и я присела к нему на колени. Витя хотел добавить мне в кофе чуть-чуть рома, но Стас закричал:
— Она же не пьет!
Шел Великий пост, и я ни капли алкоголя не брала в рот, чем радовала Стаса. Он терпеть не мог, когда я пила, особенно крепкие напитки.
Витя оставил ром и стал собираться в театр.
Я обещала приготовить вкусный ужин и проводить Стаса на вокзал.
И Витя ушел в театр.
Отвечая на вопрос прокурора, Виктор сказал:
— Когда я ушел в 19.30, отношения между Жданько и Малявиной были нормальными.
Так каков же мотив вменяемого мне обвинения?
Не было у нас «Неприязненных отношений». Конечно, были размолвки, но они в основном касались театра.
Однажды Стас сорвал репетицию, пришлось писать ему записку, потому что от разговоров не было никакого толку: «Стасик, дорогой! Ты не прав. Говорить с тобой трудно, от этого и пишу тебе. Позвони Евгению Рубеновичу. Позвони сегодня. Нельзя было уходить с репетиции. Я прошу тебя: позвони Симонову! Это очень надо! Завтра на репетиции будет спокойно и свободно!»
Стас не позвонил Симонову, и мы с ним долго были в ссоре.
Как-то после встречи студентов курса, на котором учился Стас, мы поздно возвращались домой. На этом вечере Леня Ярмольник, совсем непохожий на Стаса, замечательно его показывал. Пели. Смеялись. Стас выпил несколько больше, чем обычно.
— Душа радуется, Валена! Ты посмотри, какие они талантливые! Надо было делать из нашего курса театр. А мы, дураки, разбежались. Ты посмотри на Валю Грушину… Красавица! Как Сонечку сыграла! Люблю я их всех! А Каширина? А? Нет, ты послушай, как она поет!
Леня Ярмольник подвез нас домой и тут же уехал. А Стас как закричит всему нашему прославленному дому, где жили Симоновы, Павел Антокольский, Ремезова, как закричит:
— Спите?! А спать нельзя!!!
Потом подошел под окно Симонова — в кабинете у Евгения Рубеновича, на втором этаже, горел свет — и стал ругать театр и Симонова. На весь двор, во весь голос.
Мы жили этажом выше Симоновых, и надо было тихо пройти мимо их двери, а Стаса разобрало до того, что он хотел позвонить в дверь. Слава Богу, Евгений Рубенович, несмотря на поздний час, музицировал, играл Рахманинова. Стас присел на ступеньки.
— А? Хорошо, Валена! Давай послушаем!
Когда пришли домой, он попросил:
— Сходи завтра к Симонову, извинись перед ним за меня, а то у меня не получится.
Утром я была у Симонова. Он принял извинения. И говорил, что ему хочется поставить Астафьева или Распутина. И чтобы Стас, я и Нина Русланова играли в этих спектаклях. Нет, я не могу быть в обиде на театр. Мы играли много. Играли все, что могли играть в том репертуаре.
Стасу было труднее, он еще мало работал в театре. Рогожина не сыграл, с роли Альбера в пушкинских «Маленьких трагедиях» его сняли. Наверное, то была не его роль. Он бы хорошо сыграл Председателя в «Пире во время чумы», но был еще слишком молод. Очень хотел быть моим партнером в спектакле по пьесе С. Алешина, который так и не был поставлен и даже не репетировался. Но Симонов успел пообещать Стасу главную роль в будущем спектакле, а потом перерешил и назначил на нее Женю Карельских. Женя в это время с успехом играл князя Мышкина и Шопена в премьерном спектакле «Лето в Ноане». Я очень любила Женю как партнера — и в «Идиоте», и в «Лете…» (он играл Шопена, а я влюбленную в него Соланж).
Стас психовал.
Помню раннее синее утро. Стас вернулся со съемки и, не раздеваясь, плюхнулся на постель. Даже шапку не снял. Спрашивает меня:
— Неужели ты никому не завидуешь?
— Нет. И благодарю Бога, что он избавил меня от этого греха.
— Никому-никому?
— Никому!
— Даже Рите Тереховой?
— He-а, не завидую.
— Даже Марине Неёловой?
— Они замечательные актрисы, но нет, я им не завидую.
— Но хоть чуть-чуть…
— Нисколечко.
— А я, Валена, загибаюсь от зависти. Еду сейчас с Боярским Мишей. Глаза у него — во! — показывает. — Зеленые! Голос низкий — обалдеть! И все-то его узнают! А тут носишься из Москвы в Ленинград и обратно. А потом в Минск тащишься… и, по-моему, никакого толка не будет от всего этого. Что делать?.. Как прославиться? А?
— Стасик, миленький ты мой! «И жить торопишься, и чувствовать спешишь», — процитировала я — И еще, помнишь: «…гений свой воспитывал в тиши…»
— «Гений свой воспитывал в тиши…», — повторил Стас. — Нет, Валена, это совсем для избранных, а мне сейчас подавай славушку — славу… громкую!
Хотя наши взгляды на людей, вообще на многое были разные, но в самом главном, в отправной точке, в отношении к тому, что выше нас, мы были едины.
На процессе Витя Проскурин говорил:
— В течение пяти лет я осмысливаю это событие и затрудняюсь ответить определенно на вопрос, как погиб Жданько. Я не могу поверить ни тому, что Валентина убила его, ни тому, что он убил себя сам.
Моим судьям очень хотелось, чтобы в тот роковой день, 13 апреля, я была хмельной.
— С нами она не пила, — отвечал Проскурин.
Мотивы и доказательства преступления уходили из-под рук заинтересованных в моей виновности судей.
Тогда гражданский истей, она же общественный обвинитель, стала такое выделывать, что было стыдно не только мне, а всем, кто был зрителем этого непристойного спектакля. Истица красочно рассказала жутчайшую историю: как пожилая балерина отравила своего молодого любовника, отрезала ему голову и танцевала с ней. Понятно, что балерина сошла с ума, но было ощущение, что и у гражданской истицы слегка поехала крыша.
Виктор Проскурин отреагировал:
— Разница в возрасте между Стасом и Валентиной не была камнем преткновения в их отношениях. Стас говорил, что любит ее и хочет жениться. Повторяю: когда я уходил, а это было в половине восьмого, между ними было все нормально.
Моя прокурор улыбается, когда разговор заходит о любви, тоненько так улыбается, ехидно. Она ведет себя не как профессионал, а как несчастная, неудовлетворенная женщина.
Той зимой я как-то провожала Стаса и Витю на съемки в Белоруссию. Поезд уже подали, пора было прощаться. Стас со мной был очень нежен и сказал:
— Знаешь, чего я хочу сейчас больше всего?
— Чего?
— Вернуться домой, выпить шампанского и прижаться к тебе.
Витя звал Стаса в вагон, а Стас решительно сказал:
— Я не еду.
Мои уговоры не помогли.
Мы вернулись в театральное общежитие, что находилось совсем рядом с театром. В комнате у Стаса было тепло. Стас зажег свечи, расстелил свой роскошный тулуп на полу, откупорил бутылку шампанского. Мы смотрели друг на друга, будто в первый раз увиделись, и пили шампанское, уютно устроившись на тулупе.
Вдруг вошел Витя Проскурин. Он тоже не поехал на съемки. Сел рядом с нами и заплакал.
— Счастливые вы!..
У Виктора что-то не ладилось дома, и мы предложили ему остаться у нас. Но он ушел.
…А сейчас его при многочисленной любопытствующей аудитории допрашивают о наших отношениях.
Почему они болтают о нас, ничего толком не зная? Ведь многие, вызванные в суд, едва знакомы с нами. Провели бы лучше экспертизу, да не одну, обратились бы к нескольким экспертам, компетентным и объективным, чем слушать на суде разные сплетни.
И потом… я не понимаю… ведь суд открытый. Тогда почему нельзя записать на магнитофон показания свидетелей и мои, вопросы судьи, прокурора, адвоката — вообще весь процесс? Почему так категорично судья отказывает в записи процесса на магнитную пленку и даже в стенографировании его? Почему? Не понимаю. Почему не разрешают выступить свидетелям, которых назвала я? Строго говоря, в моем деле свидетелей нет. Никто не видел, как это случилось. Судья выслушивает каких-то людей, которые едва знали Стаса и меня. Разговоры, разговоры… Мне кажется, что и ей, судье, все это надоело.
В перерыве адвокат мне сказал, что в качестве свидетеля хочет выступить Ролан Антонович Быков, но ему пока отказывают. Почему? Опять непонятно.
Быкову все-таки дали трибуну. Он начал с того, что знает меня больше двадцати лет..
…Действительно, очень давно Ролан пригласил меня сниматься в симпатичную комедию «Семь нянек». Я согласилась, но комедийная роль у меня, как говорится, не пошла. Каждый дубль стал наказанием, хотя Ролан был внимателен и терпелив, он даже перед съемкой смешил меня, рассказывая разные истории, и, едва я оживлялась и начинала нормально реагировать, командовал: «Мотор!»
Но как только камера включалась, я снова зажималась.
С восторгом смотрела, как легко и весело работает Сеня Морозов[2] — сама же была зажата до предела. И решила отказаться от роли.
Ролан Антонович меня успокаивал:
— Все получится. Я тебе обещаю.
Я понимала, что режиссер может выйти из положения с помощью монтажных ножниц, но мне хотелось самой легко и весело сыграть свою роль, как играл свою Сеня Морозов. И я наотрез отказалась от съемок.
В фильме Бориса Волчека «Сотрудник ЧК» у меня была интересная роль. Я снималась в ансамбле знаменитостей: Олег Ефремов, Женя Евстигнеев, Влад Заманский, Саша Демьяненко. На этот раз роль у меня шла легко. Борис Израилевич почти не делал мне замечаний. Но вот наступил день, когда надо было снимать ключевую для фильма сцену — свадьбу в логове бандитов, где я стреляю, а потом и сама погибаю. Борис Израилевич говорит:
— Завтра у тебя будет трудный эпизод. На роль священника согласился Ролан Быков.
Я с испугом спрашиваю:
— Быков?
— Да. Он задаст нужный тон.
— Ой, я не смогу…
— Чего ты не сможешь?
— Сыграть хорошо. Я буду нервничать. Я очень нервничаю при Ролане.
— Вот и хорошо. Мне это как раз и нужно, — улыбался Борис Израилевич. — А почему ты так нервничаешь при Быкове?
— А потому что он все-все видит… От этого я чувствую себя, как на рентгене.
Наступило завтра. Я уже психую в павильоне, хожу взад-вперед по декорации. Собираются актеры после грима, и входит в павильон Ролан. В рясе и с иконой в руках.
Началась репетиция, от волнения у меня на глазах выступили слезы. После репетиции Ролан сказал:
— Очень хорошо! Умница!
Я чувствовала, что ему действительно нравилось, как я работала в этой сцене. Влад Заманский — он играл жениха — тоже хвалил меня.
Эпизод получился! И мне захотелось повернуть время вспять и сыграть у Ролана в «Семи няньках». Весело и легко.
…Мои судьи как-то подобрались, приосанились, когда вышел свидетельствовать Ролан Антонович Быков.
Он говорил о Стасе, о том, что с ребятами, которые приезжают в Москву из глубинки, часто происходят драмы.
Большинство из них агрессивно настаивает на своей исключительности. Их цель — самоутверждение. И со Стасом происходила подобная драма, он захотел завоевать столицу, а может, и весь мир, но слишком много препятствий ждало его на этом непосильном пути. Вот он и не выдержал. Так размышлял Ролан Антонович.
Когда Стас снимался на «Ленфильме» у Бори Фрумина, Ролан Антонович там же работал над своей картиной «Нос». Стас очень хотел познакомиться с Быковым, но почему-то не получилось. Зато он познакомился с женой Ролана Леной Санаевой — прекрасной актрисой и незаурядным человеком.
Лена просит судью дать ей слово — ей отказывают. Зато долго допрашивают следователя прокуратуры Ленинского района Святослава Мишина, который выступает на процессе как свидетель.
Выясняется, что Мишин уже не работает на прежнем месте — теперь он старший юрисконсульт Минторга.
В основном Мишина расспрашивали о записке Стаса: «Прошу в смерти моей никого не винить».
Когда записку показали Александре Александровне, матери Стаса, она убежденно сказала, что это не его почерк. Тут же прокуратура сделала графологическую экспертизу. Экспертиза установила: это почерк Стаса Жданько.
Еще тогда, пять лет назад, сразу после трагедии, я объясняла в прокуратуре, что эта записка к делу никакого отношения не имеет. Скорее всего она связана с работой Стаса над дипломным спектаклем. И лежала она в томике Горького на страницах, где напечатаны «Дачники». Впрочем, Стас мне рассказывал, что однажды он оставил подобную записку на столе, зная, что к нему придет студентка, которая училась курсом младше. Студентка была тайно влюблена в Стаса и помогала ему по хозяйству: делала уборку в его полуподвальной комнате на Арбате, иногда готовила обед. Стас относился к ней с симпатией, не более того. Но вдруг ему захотелось увидеть ее впечатление после прочтения текста «Прошу в смерти моей никого не винить. Стас».
Он знал, когда придет девочка, ключи оставил под половичком, как всегда. Девочка пришла. Через некоторое время вошел Стас. И с девочкой случилась истерика — она уже прочитала записку.
Стас сказал мне:
— Знаешь, я лучше к ней стал относиться.
Может быть, именно эта записка была среди бумаг Стаса. И вот — снова здорово. Мои судьи откровенно раздражаются, когда речь идет о том, что записку написал Стас. Хотя знают: это факт, установленный экспертизой.
На одном из допросов 1978 года следователь Мишин грустно сказал мне, глядя в пасмурное окно:
— Я задаю себе без конца одни и те же вопросы, и послушайте мои откровенные ответы. Мог бы Стас Жданько убить себя? Отвечаю: «Мог». Могла бы Малявина убить его? Отвечаю: «Могла». Мог бы Стас Жданько убить Малявину? Отвечаю: «Да». Могла бы Малявина убить себя? Отвечаю: «Да, могла». На четыре разных вопроса один и тот же ответ: да. Вот такое впечатление производят ваши характеры. История трудная. Доказательств вашей вины нет. Экспертизы говорят о саморанении. Свидетелей нет. Мотивов, как таковых, тоже нет. Прокуратура закрывает дело. О своем впечатлении я вам сказал. Вы и Стас не сумасшедшие, но у вас нет ощущения границы между жизнью и смертью. Плохо это. Прощайте.
Шла я по Фрунзенской набережной и осмысливала сказанное следователем Мишиным.
Было не по себе.
А на той стороне Москвы-реки величественно спокойный стоял парк.
Прокурор и гражданский истец явно нервничают при допросе Мишина. Лицо судьи и вовсе полыхает. Это заметно всем присутствующим в зале.
Заседание переносится на завтра.
А завтра — 12 июля 1983 года — день рождения Стаса. Очень хорошо запомнился другой его день рождения — 12 июля 1977 года.
Я снималась под Одессой в фильме Валерия Гажиу «Когда рядом мужчина». Партнером моим был Гена Сайфулин, с которым мы дружны с давних пор. Вместе работали еще у Анатолия Васильевича Эфроса в «Ленкоме». Сниматься было интересно. Валера — талантливый человек. По его сценарию М. Калик снял прелестный фильм «Человек идет за солнцем». Группу, которая работала с Валерой, я обожала, всех их хорошо знала по прежней картине «Долгота дня», чувствовала, что и они с симпатией относятся ко мне.
На крутом берегу Черного моря стоит беломраморная гостиница, в которой мы жили в то прекрасное лето.
Я и прежде останавливалась здесь, когда снималась в фильме «Это сильнее меня» с Ванечкой Гаврилюком и Сашей Михайловым. А потом мы с Сашей Михайловым работали у Марка Евсеевича Орлова в пятисерийном телефильме «Обретешь в бою» и тоже жили в белой гостинице. Ухоженные клумбы оранжевых и белых роз окружали здание. По ночам я всегда купалась в море. Купание было фантастическим — яркого, особенного цвета стояла в небе луна.
Стас звонит из Ленинграда почти каждый день. Он тоже на съемках — у Бориса Фрумина. Разговоры наши долгие, хорошие.
И вдруг 11 июля, накануне дня рождения Стаса, приходит телеграмма: «Валенька, пал духом. Приедь! Стас».
Я забеспокоилась и стала упрашивать Валерия Гажиу, чтобы он меня отпустил в Ленинград. Валера был против.
— Пусть приезжает сам.
— У него завтра день рождения. Разреши хоть на денек.
— Один день не получится, а наш сейнер в сутки стоит о-го-го!
Мы снимали на сейнере, уходя далеко в море.
12 июля моросил теплый дождь. Все оставались в гостинице, ожидая солнца. Но солнышко в тот день решило отдохнуть.
Я пошла к морю. Села на высоком берегу на скамеечку. Море там… внизу… перламутровое. Кораблики кажутся игрушечными — на ладошку поставить можно.
Хочется погладить море, но спуститься к нему невозможно, разве что прокатиться по скользкому, глиняному склону, но жалко юбку.
Все равно буду сегодня плавать… Раз — гребок за Стаса, два — за маму, три… И плыть буду даже под дождем. Так хочется видеть Стаса! Что с ним? Почему он пал духом?
Я отправила ему две телеграммы — одну с поздравлением, другую — с успокоением. Что все замечательно, и падать духом просто нет повода.
В сумке у меня бутылка шампанского и печенье. Открыла бутылку, налила шампанского в красивый стаканчик и выпила за Стаса. Пусть он будет счастлив! Пью за него, уверенная в нем и верная ему.
Вечером все-таки поехали на съемку аж за восемьдесят километров. Снимали танец «Пириница». Я научилась его танцевать в Румынии, когда снималась в фильме «Туннель».
Съемка закончилась поздно, мы вернулись в два часа ночи, а назавтра подъем в шесть и сразу же выход в море.
— При любой погоде будем снимать, — распорядился Гажиу.
Иду к себе. Администратор гостиницы говорит:
— Вам из Ленинграда целый вечер звонят.
— Вы сказали, что я на съемке?
— Да, сказала. Но он нервничал, звонил только что и беспокоился, что уже ночь, а вас все нет.
Я поднялась в номер и легла в ванну.
Когда я снималась в фильме «Это сильнее меня», Ванечка Гаврилюк мне часто дарил розы. Однажды я пришла усталая, а моя ванная комната благоухает. Ванна была наполнена розовыми лепестками. Мне очень это понравилось. И теперь я вынула из мешочка сухие лепестки роз и бросила их в наполненную водой ванну. Лежу. Расслабляюсь. Стук в дверь.
— Кто? — кричу.
— К телефону вас!.. Ленинград!
В номерах телефонов почему-то нет.
Накинула халат, спустилась в вестибюль. Голос Стаса в трубке грустный-грустный.
— Стас, я тебя очень поздравляю!
— Спасибо. Телеграммы твои я получил. Почему ты не приехала?
— Меня не отпускают. Только что вернулись со съемки, а утром в шесть уходим в море до самого вечера.
— Я рад за тебя. Но если бы я получил телеграмму, что ты пала духом, я бы туннель прорыл из Ленинграда к морю и был бы у тебя в тот же день.
И положил трубку.
Заснуть я не могла. Когда наконец заснула, приснилась мне красивая дача. Старинная мебель, огонь в камине, две породистые собаки… Полно народа, все прогуливаются туда-сюда с бокалами…
Опять громкий стук в дверь.
— Валя! Ленинград!
Стас сердито спрашивает:
— Ты почему не звонишь?
— Стасик, ты же знаешь, здесь нет в номерах телефонов, а я очень устала, скоро вставать и ехать на съемку. Я же тебе все сказала.
— Ты считаешь — все?
— Стас! Приезжай! Хоть денечка на два, здесь очень хорошо. Поедем на косу. Там белый песок и много чаек, прямо короли и королевны. Бунин любил это место. Приезжай!
— Нет, не могу. И жду тебя.
Опять повесил трубку. Да что же это такое? Что с ним? На съемках что-нибудь не ладится, и со мной получилось не так, как он хотел. Вот и сердится.
Был 1977 год, 12 июля.
В 78-м году в этот день Стаса уже не было среди живых.
12 июля 1983 года, в день рождения Стаса, на судебном процессе, под конвоем, я буду слушать Александру Александровну Жданько. Матушку Стаса — так ласково он ее называл.
5
Судебное заседание в день рождения Стаса назначено было на 9.30, но отложили до часу дня. Может быть, и в час не состоится.
Холод в боксе пронизывающий. Укуталась во все теплое — не помогает.
Прошусь выйти. Ребята из охраны открывают меня.
— Можно я погреюсь у вас? В боксе ужас какой холод.
— Погрейся. Только от двери камеры не отходи.
Чувствую, что охрана меня жалеет.
— Странный у тебя суд, Валентина. Плетут, плетут… Допросили бы тебя. Сделали бы несколько экспертиз с разными экспертами…
Спрашиваю:
— Как вы думаете — отпустят меня?
— Куда?
— Домой.
Смеются.
— Что ты? Так не бывает. Года три обязательно влепят. Иди в бокс, Валентина.
— А можно дверь оставить открытой?
— Нет, нельзя. Потерпи.
Один из конвоя подходит к моей двери и спрашивает в круглое отверстие:
— Валентина, а почему доктора не вызывают? Ну, который приехал на «скорой»… Он ведь и есть главный свидетель.
— Не знаю я. Ничего я пока не знаю.
Ну, наконец-то! Пришли. Повели в зал заседания.
Зал опять переполнен. Ощущение, что все висят друг на друге.
Судья вызывает мать Стаса.
Александра Александровна очень-очень бледная. Красивая. Стала говорить. И опять повела разговор о найденной в бумагах Стаса записке «Прошу в моей смерти никого не винить».
— Я пришла с адвокатом в прокуратуру Ленинского района. Она же здесь, в суде — гражданский истец. Адвокат подробно знакомилась с делом и показала мне записку. Я закричала: «Это не его рука!..»
И долго-долго Александра Александровна говорит о записке.
Я же о другом думаю. Ну надо же! Я и не представляла, что адвокат может стать обвинителем.
Итак, у меня два прокурора. Один — легальный, назначенный судом; другой — под псевдонимом «гражданский истец». Мой же адвокат совершенно не знает дела и пребывает в каком-то странном состоянии. Впрочем, интуитивно он задает нужные вопросы. Судья же выглядит растерянной. Такое впечатление, что ей в тягость вести эти судебные заседания. Я даже порой жалею ее.
Но кто организатор этой затеи?
Кто пригласил в суд адвоката в качестве гражданского истца? Теперь она главный обвинитель, по крайней мере, главнее прокурора. Еще раз напоминаю, что это она, нанятый кем-то адвокат для зашиты Александры Александровны, рассказывала в гуде о душевно больной балерине, которая танцевала с головой своего любимого. О Господи! Для чего она рассказала об этом ужасе?
Меня интересует вопрос: в одиночестве занималась моим делом гражданский истей или сообразила в прокуратуре Ленинского района, что надо соблюсти букву закона и приставить к ней — хотя бы для видимости — следователя? Почти уверена, что никого с ней не было рядом. Она одна проводила время за чтением моего «дела».
Александра Александровна рассказывает суду, что должна была приехать к нам 18 апреля.
— Слава (так звала Александра Александровна сына. — В. М.) сказал: «Если меня не будет, то тебя встретит Валя Малявина».
Звонила я к ним 9 апреля. Приехала поездом в Москву… С друзьями Славы меня встречала и Валя. Потом меня увезли в театр, завели в канцелярию и сообщили о кончине сына 13 апреля… Валя приезжала хоронить Славу. Я никаких вопросов ей не задавала. Я никак не могла подумать, что она убила. Я даже обнимала ее… А сейчас я знаю, что это она убила.
Мысленно я говорю Александре Александровне:
— Как же так? Почему через пять лет после гибели Стаса вы поверили людям, которые по непонятным мне причинам плетут интригу? Тогда в Сибири, у вас дома, вы были со мной откровенны. Вы доверительно спросили меня: «Скажи, Валя, может быть, из-за меня он это сделал?» Я не поняла, о чем вы: «Что вы, Александра Александровна! Разве вы могли стать причиной его гибели!» — «Ему не нравились мужчины, с которыми я жила… может быть, он был против Николая, моего последнего?» — «Наоборот! Он радовался, что вы не одна, что с вами хороший человек».
Мы с Александрой Александровной говорили о многом. Сидели рядышком за столом, когда поминали Стаса, и тихо разговаривали.
И о Бучневе Алексее Петровиче, отце Стаса, говорили.
Стас по-своему очень любил отца и не переставал ему удивляться. Все мечтал: «Вот бы посмотреть, что он там пишет… Книг у него видимо-невидимо. На полках, на сундуках и в сундуках, в коробках, на столах — везде! Каждый, день он что-нибудь сочиняет. Ин-те-рес-но… Очень интересно, что именно?..
А лопухи возле его дома — непроходимые джунгли. Думаю, он так решил: что природа дает, то пусть и растет. Огромные такие! Тебе Они понравятся, и ты нарисуешь их. Я тебя с ним обязательно познакомлю. Он хоть и не покажет вида, но будет рад нам… Отцу не нравится, что меня теперь зовут Стас. Я был Станислав Алексеевич Бучнев. Стал — Жданько Стас… Он ведь после матушки так и не женился. Ты понимаешь, после развода с ней, с матушкой — не женился. Во как! Я был маленьким, когда они разошлись. Столько лет живет один! Я не хочу тебе всего рассказывать, но думаю, что для отца развод был трагедией. Матушка выходила замуж. Много раз. Но ничего хорошего от мужиков она так и не увидела. И мне в детстве трудно было. Не любил я их, мужиков-то». Спрашиваю у Стаса: «Кто по профессии твои родители?» — «Леха Бучнев, отец мой, конечно, по профессии философ. Матушка, Шура Жданько, по идее-должна бы быть при Лехе Бучневе. Но получилось, что отец мой — проводник в поезде, а мать много лет смотрела в лица алкоголиков. Она работала продавцом в палатке. Потом в привокзальном ресторане. Теперь, кажется, в буфете».
Я смотрю на Александру Александровну. Она очень красивая, и речь у нее складная. Только путается несколько. И про мои письма к ней не то говорит: будто я требую у ней какие-то вещи. И тон моих писем не такой, и содержание другое. У меня есть черновик одного из писем. Вот текст его.
«Здравствуйте, Александра Александровна!
Много раз пыталась писать Вам, много раз мечтала приехать к Вам. Но долгое время не смогла даже написать. По-прежнему кошмары окружают меня.
То, что я ложусь спать и просыпаюсь с любовью к Стасу, то, что я плачу оттого, что никогда не увижу его здесь, на этом свете, — это не кошмары, это трагедия Ваша и моя, и Алексея Петровича, больше — ничья.
Кошмары и ужасы, которые окружают меня, — это звонки, в частности, из городской прокуратуры, мои туда визиты, расспросы их о наших со Стасом вещах. О каких вещах идет речь? Я вошла последней в нашу комнату. Спрашивали о тулупе — его носит Попков. Спрашивали о моем ковре — он у Васькова.
У меня есть кресло, которое мне подарил Стас, рубашка рубинового цвета, курточка, совсем старенькая, и один ботинок. Непонятно, почему один?
У меня были записи Стасика. Мы жили у моей мамы, и он оставлял их в моем письменном столе, некоторые за ненадобностью мне отдали, отдали и фотографии. А 25 февраля теперешнего года, примерно в восемь часов вечера, вошли в мамулькину квартиру (мама сейчас живет в другом месте), вошли пять человек, предъявили документы и стали что-то искать. Из платяного шкафа выбросили все, схватили целлофановый пакет, вывернули его, и оттуда посыпались документы папины, его награды. Что же они делают? И что им нужно найти?
Схватили гороскоп. Зачем он им? Взяли мои записи, телефонную книжку, написанный мною сценарий — словом, все, что их каким-то образом интересовало.
Потом предложили мне поехать на Арбат, в мой дом, оставив у мамы беспорядок.
Приезжаем, а там, уже в парадном, стоят на лестнице здоровенные мужики в штатском.
Следователь прокуратуры Ленинского района сразу же полез в мой письменный стол и стал все из него выбрасывать, наполняя огромный целлофановый мешок записями Стаса, нашими дневниками. Все рассказы Стаса отобрали, два Ваших письма тоже отправили в целлофановый пакет. Со стены сняли портрет Стаса. Зазвонил телефон — не разрешают подходить. Все отняли. Записи о Вас, об отце, о Черепанове, о брате Валере — все было брошено в огромный мешок. Набили его до отказа.
Осталась у меня фотокарточка Ваших родителей, она им не нужна. Стас любил эту фотокарточку. Действительно, очень хорошая. Я могу Вам ее вернуть.
Как хорошо, что мамы не было дома при обыске! Я не представляю себе, как бы она смогла выдержать такое. У нее ведь была операция на сердце. А папу мы похоронили в 1979 году.
Вокруг отвратительные, грязные сплетни. Жуткие сплетни. Я стараюсь не обращать внимания, но друзья звонят, беспокоятся: «Что, разве следствие продолжается?» У меня порою не хватает сил. Хотела уйти к Стасу, но большой глупостью это показалось. Надо нести свой крест. Когда мне вернут наши записи, я хочу напечатать рассказы Стаса. Они того заслуживают. Их надо несколько доработать.
Однажды я получила письмо от Стаса Марьина, где он пишет, что единственный выход из этого положения — это мое самоубийство. Иначе, мол, он не поверит, что я любила Стаса. Ненормальность с его стороны. Друзья мне говорят, чтобы я в суд на него подала за подстрекательство. Я, конечно, не могу этого сделать. По-моему, Марьин — больной человек, ему лечиться надо…
Вот еще что, Александра Александровна. Недавно в квартире артиста Васькова произошло убийство. Васьков и его жена были на гастролях. Оставили свою квартиру студенту режиссерского факультета, которого кто-то убил.
И вот теперь связывают случайный уход из жизни Стаса и это убийство. При чем здесь одно и другое? Разве что убиенного режиссера и Стаса связывал Васьков, но Васьков в последнее время почти не общался со Стасом. Они вместе работали в фильме Бориса Фрумина «Ошибки юности», и Стас хвалил Васькова. Он действительно хороший артист. Наверное, и человек хороший, но Стас относился к нему, как к коллеге — не больше. И потом… студент, которого убили, имел отвратительный порок — гомосексуализм. Его и убили жутким способом, оставив нож в заднем месте. Страшно как. И противно.
Меня в прокуратуре спрашивали об этом студенте, но я не знаю даже его фамилии. Спрашивали, общался ли Стас с ним. Но я и этого не знаю. А у Васькова узнавать не буду.
Получила я вчера письмо из Томска от А. Филатова[3]. Мудреное такое письмо. Его интересует, приеду ли я в Черепанове 13 апреля.
Без Вашего на то согласия я не поеду.
И Попков мне говорил: «Не надо». В прокуратуре тоже не советовали.
Моя душа рвется к Вам.
Хожу в ту маленькую церковь на Арбате, где заочно отпевали Стаса. Меня крестили в этой церкви.
Я постоянно во власти одной и той же мысли — как же это могло случиться?
Все же хорошо было. Особенно в последнее время — все было отлично. Судьба..
Стасик мне как-то сказал: «Я переверну всю твою жизнь». Воистину — перевернул. Сейчас я работаю в штате «Мосфильма», играю несколько хороших ролей в Театре-студии киноактера, но снится мне Театр Вахтангова. Такие прекрасные сны бывают! Часто вижу во сне Стаса. И не хочу просыпаться. Я сны записывала в дневник. Теперь дневники в прокуратуре. В подсознание лезут, чужие мысли подсматривают — маразм какой-то.
Заходила ко мне несколько раз Нина Русланова. Однажды звонит и говорит: «Валя, что это такое? Что за бред? Меня вызывают в прокуратуру. Я отказалась». А потом звонит и плачет: «До каких пор будут память Стаса порочить?»
Я не знаю, до каких.
Лишь бы память о нем светла у нас была, у тех, кто его бесконечно любит. До свидания, Александра Александровна.
Будьте здоровы.
Вы для меня очень родной человек.
С уважением — Валя М.».
…Александра Александровна продолжает диалоги с судьей, прокурором, адвокатами и все больше и больше путается. Это понятно. Очень нервничает. Не надо было в день рождения сына приходить в суд.
Вдруг обрушилась на Проскурина: «Слышал бы Слава, что вчера Проскурин говорил о нем, а сын восхищался Проскуриным».
О Стасе Проскурин не сказал ни одного дурного слова, он говорил только о событиях того трагичного дня — 13 апреля 1978 года.
Мне стало очень больно, когда Александра Александровна стала говорить, что Нина Русланова совсем плохо относится ко мне. У нас с Ниной свои отношения, довольно сложные, но я не верю тому, что Нина может обвинять меня. Я много раз просила судью вызвать ее в суд. Нина хорошо знает и Стаса, и меня. Но она не приходит.
Но кто же поссорил нас с Александрой Александровной? Марьин, друг Стаса, летал в Сибирь. Я провожала его. Просила положить на могилу букет из двадцати четырех роз.
Вернувшись, Марьин сказал, что Александра Александровна расстроена тем, что после похорон я ни разу не была у них. Теперь, в суде, мать Стаса убежденно говорит: «Малявина не любила сына. А Слава любил только Малявину». На вопрос о письмах Стаса к ней Александра Александровна отвечает, что никакие писем у нее нет. Дескать, пропали они.
Уверена, что его дневники и рассказы, которые отняли у меня при обыске, не в прокуратуре, а в чужих руках, у того, кто заинтересован в моей виновности.
В дневниках и в письмах к матери отразился душевный дискомфорт Стаса. Последнее письмо, недописанное, осталось у меня, и я его помню наизусть.
«Матушка родная, здравствуй!
Хотел написать тебе письмо, как только получил посылку, да как-то все не мог собраться. Замотался я вконец. Уже не хочется никакого кино, ни театра, ничего. Четыре дня в неделю я разъезжаю по разным городам, бесконечные ночи в вагоне, а с утра — съемки.
Приезжаю в Москву, тут спектакль.
И так без конца. Просто из сил выбился. Обещал тебе приехать на несколько денечков — не получается. Хоть бюллетень бери».
На этом письмо обрывается. Начальные строки остались в большом блокноте, — где мы со Стасом письменно размышляли о Великом Инквизиторе.
Не увидели при обыске красный блокнот. Многое, слава Богу, не увидели. Я все бережно сохранила.
Вот ведь письма у Александры Александровны пропали. Может быть, и не пропали, но, по всей вероятности, гражданскому истцу нужно, чтобы они пропали.
Вернувшись из Сибири, Марьин рассказал, что был в гостях у отца Стаса и тот передал мне 25 рублей.
Мы с Марьиным были у Алексея Петровича после похорон Стаса. Дом его мне показался очень интересным. Действительно, книг видимо-невидимо, они аккуратно сложены, поставлены на полки. На письменном столе — папки, тетради, бумаги. Дом просторный, ничего лишнего.
У Алексея Петровича замечательное лицо.
Красивые у Стаса родители, и он был красивый.
Александра Александровна на судебном заседании даже сказала: «Слава любил отмечать свой рост, любовался своей фигурой. Было чем любоваться!»
В доме Алексея Петровича мне стало спокойно. «Как же так случилось, мэм?» — на английский манер обратился он ко мне.
Разговаривали мы с ним минут сорок. Марьин торопил меня. Наверное, мать Стаса не должна была знать, у кого мы.
Мне не хотелось ухолить. Атмосфера в доме Алексея Петровича показалась мне такой знакомой. Может быть, оттого, что Стас мне много рассказывал об отце и его доме. А еще — что-то от Александра Грина было в самом Алексее Петровиче.
Марьин давал мне знаки, что надо идти. Мы ушли. Теперь он привез презент от Алексея Петровича! Знал бы он, что 13 апреля за несколько часов до гибели Стас сказал, когда мы шли к Арбату: «Я — Слава Бучнев. Вот кто я! Я — не Стас! Я — Слава!»
…Допрашивают помощника директора Театра Вахтангова Владимира Павловича Петухова.
Судья задает вопрос, посматривая в обвинительное заключение, где открыты страницы с показаниями Петухова. Довольно длинный монолог. В обвинительном заключении записано, что Петухов дал показания на допросе в прокуратуре Ленинского района. Высказывался Петухов, мягко говоря, нелицеприятно, особенно в мой адрес.
Судья пробежала глазами этот монолог и спрашивает Владимира Павловича:
— Сколько раз вас приглашала прокуратура?
Петухов отвечает:
— Я никогда не был в прокуратуре.
Судья то ли не поняла, то ли очень устала и переспрашивает:
— Вас приглашали в прокуратуру Ленинского района на следствие по делу Жданько?
Петухов говорит:
— Меня никто не вызывал и не допрашивал.
Судья и до этого момента сидела с опрокинутым лицом, а тут еще прибавился гнев на сочинителей обвинительного заключения. По всей вероятности, деятели прокуратуры не предупредили ее о возможном казусе. Длинный обличительный монолог кто-то из прокуратуры просто-напросто сочинил.
Совсем интересно стало: кто же сочинил этот документ, кто так безбожно и грубо лжет?
В результате Владимир Павлович Петухов рассказал в суде, что весь театр знал о нас со Стасом, но сплетен о нас никаких не было, что Стаса уважали в театре и что меня тоже уважали — как актрису и как человека. Еще говорил о комнате Стаса в общежитии:
— Мне показалась странной его комната. На обыкновенных неструганых досках висели веники, топор, молотки и какие-то другие предметы, которые не украшали дом.
Я тоже удивилась комнате Стаса, впервые у него побывав. Общежитие Театра Вахтангова находилось совсем рядом с театром.
Он ждал меня после спектакля. Всегда уверенный в себе, очень смущался:
— Ты занята?
— Нет.
— Я хочу пригласить тебя на чай.
По дороге я забежала к маме, сказала, что задержусь, и мы пошли к Стасу.
Молчали. И Стас, и я волновались. Нас уже посетила влюбленность.
Вошли в маленькую комнатку: справа — ящики с пустыми бутылками из-под вина, как в магазине, где принимают тару.
Я простодушно спросила:
— Ты пьешь?
— Нет, не очень. Друзья приходят.
— Зачем бутылки хранишь?
— Сдам, когда много будет, — по-хозяйски, серьезно ответил он.
Первая стена обшита березовыми досками. Тут же маленькая железная кровать. На досках подвешены веники, топоры — большой и маленький, еще что-то… По другую сторону — письменный стол. Прохода между кроватью и столом почти нет. Три стула. Вижу, что они из театра — обиты рыженьким бархатом. Чуть левее стола на стене — овальное зеркало и книжные полки. Чистенько. Тепло. Окошко маленькое, упирается в кирпичную стену. На полу стоят сколоченные наспех мольберты. На них два автопортрета, сделанных карандашом. Рисунок небрежный, но сходство с оригиналом схвачено. Меня поразило вот что: на одном и на другом портрете во лбу Стаса торчит по огромному гвоздю… Они вколочены как бы двумя ударами молотка. Большущий гвоздь почти снаружи, а острие во лбу.
— Зачем ты так? — спросила я, глядя на рисунки.
— Захотелось себя пригвоздить.
И пошел на кухню ставить чай. Принес крепко заваренный. Шоколад был на столе. Достал две рюмочки и коньяк в плоской бутылке.
— Я очень хотел, чтобы ты была моей гостьей. Давно хотел. — И придвинулся ко мне. Встал на колени, положив голову на мои.
Вдруг попросил:
— Расскажи мне какой-нибудь страшный случай из своей жизни.
— Зачем?
— Интересно, что тебя пугает.
— Обман.
И рассказала я Стасу, как год назад — то был 75-й — я работала в фильме «День семейного торжества» у режиссера Халзанова и как город Ленина — Ульяновск, где проходили съемки этого фильма, в котором моими партнерами были великолепные Нина Ургант, Игорь Ледогоров, Маша Вертинская, Андрей Майоров, как этот город обманул меня.
Обманул до глубокого отчаяния.
Меня встретили в аэропорту и привезли на очень чистую и просторную площадь с зелеными газонами — осень в 75-м задержалась и была пышной. Светлые здания — гостиница «Венец» и домики Ленинского комплекса — украшали эту красивую площадь. Гостиница «Венец» — небоскреб в этом невысоком городе.
Поселили меня на двадцатом этаже в номере 2004. Окно в комнате большое, темное — я прилетела в Ульяновск ночью. Звезды чуть вздрагивают, словно намекая на что-то. Волга-матушка светится под половинкой яркой луны, другую половинку закрыло облако. В полнолуние я прилетела.
Скорее бы утро, уж очень хочется поглядеть на Волгу!
Огромный экран телевизора, голубая ванная комната, густо-зеленые мягкие ковры, письменный стол с лампой под старину, изящные кресла делают номер уютным, домашним. Хорошо-то как!
Проснулась оттого, что солнышко палит, запускает свои золотые лучики прямо в лицо.
Приподнялась — Боже! Красота какая! Великую реку ласкает солнце!
Подошла к окну, посмотрела на город: слева теснятся маленькие домики, непролазная грязь окружает их. Они как бы уснули, чтобы не видеть эту безнадежность. Осенние деревья печалят пейзаж. А вокруг тишина… с какой-то своей тайной.
Через большую площадь пионеры тащат длинную железяку, похожую на бревно. Где-то углядели металлолом и теперь несут его через площадь к Ленинскому комплексу. С двадцатого этажа они похожи на симпатичных трудолюбивых смешных муравьишек.
Спустилась вниз. Шофер уже ждал меня, чтобы отвезти на съемочную площадку. Едем. Восхищенно говорю:
— Какая силища — наша Волга!
— Была, — грустно констатирует шофер. — Раньше-то весной ледоход по всему городу слышен был, а сейчас Волга стоит… не движется почти…
— Но она такая могучая, широкая! Море, а не река, — радуюсь я.
— Запрудили ее, вот она и разлилась. А ты об этом не знала? Стоит наша Волга. И рыба по ней не ходит, как прежде, — вздохнул он.
— Значит, это лишние воды выскочили из берегов и сделали ее почти морем? — с ужасом спросила я.
— Во-во! Выскочила из берегов… Ты правильно сказала. Там болото. Вода гниет. А ты — море…
Да что же это такое? Дважды меня обманул этот город — и лик у него не такой, как кажется на площади, и Волга — не Волга. Печально это.
Анна Ильинична Ульянова-Елизарова вспоминает в своей книжечке «Детские и школьные годы Ильича»: «Игрушками он мало играл, больше ломал их. Так как мы, старшие, старались удержать его от этого, то он иногда прятался от нас. Помню, как раз в день его рождения, он, получив в подарок от няни запряженную тройку лошадей из папье-маше, куда-то подозрительно скрылся с новой игрушкой. Мы стали искать его и обнаружили за одной дверью. Он стоял тихо и сосредоточенно крутил ноги лошади, пока они не отвалились одна за другой». А вот еще Анна Ильинична вспоминает: «Любил маленький Володя ловить птичек, ставил с товарищами на них ловушки. В клетке у него был как-то, помню, реполов. Жил реполов недолго, стал скучен, нахохлился и умер. Не знаю уж, отчего это случилось: был ли Володя виноват в том, что забывал кормить птичку, или нет…» Эту книжечку я купила в Ульяновске и, прочитав, неприятно удивилась.
В день отъезда в Москву я решила пойти погулять. Очень люблю бродить одна по незнакомому городу. Купила в магазине разных вкусностей и пошла к Волге. Подошла к Вечному огню — огонь не горел, и пленку с музыкальным сопровождением заело — она буксовала на одной и той же ноте.
Спуск к Волге назван именем Степана Разина. Спускаюсь, вспоминаю Василия Макаровича Шукшина, вхожу в тихий пустынный парк. Неподвижно, наверное, уже десятки лет стоит «чертово колесо». Оно заржавело. Противно поскрипывают кабинки, раскачиваясь на ветру.
Вход в парк остался где-то позади. Никого вокруг. Какой-то молодой человек мелькнул на дорожке и тут же исчез. Опять появился, быстро взглянул на меня и снова исчез. Надо скорее уходить отсюда. Не нравятся мне эти пробежки незнакомца. Поспешила к выходу, но передо мной возник человек. За деревьями, что ли, прятался?
Спросил:
— Вы что здесь делаете?
— Гуляю.
— Не боитесь?
— Пока нет.
— Меня зовут Сережа, а как вас?
— Валентиной.
— Вы приезжая?
— Да.
— Зачем вы забрели именно сюда, да еще одна?
Я смотрю ему прямо в глаза и делаю шаг, чтобы обойти его, но он тоже делает шаг и не пропускает меня.
— Что с вами? Пропустите меня.
— Я хочу поговорить с тобой.
— Сережа, пожалуйста, проводите меня к выходу, а по дороге поговорим.
— Где ты живешь?
— В гостинице «Венец».
— Тогда нам сюда, наверх.
— Но гора крутая и высокая.
— Чуть дальше ступеньки есть.
— Пойдемте, а то темнеет.
Он подвел меня к каменным ступенькам невозможной крутизны, покрытым мхом. Давно никто не поднимался по ним. Ступеньки уходят прямо в небо. Вокруг старые клены, дубы, березы. Лес. Из прошлого века и лес, и холодные крутые ступеньки.
— Это моя территория. Я здесь царствую, — улыбнулся молодой человек.
— Как вас понять?
— Я вечером прихожу сюда.
— Но здесь пустынно.
— Кто-нибудь, да появляется. Вот ты же зашла сюда. Калитка обычно заперта, а я ее открываю, когда прихожу. И обязательно кто-нибудь заглядывает в мои владения.
И он окинул взором «свои владения».
Мне стало жутко, хотя я не из пугливых. Что же делать? Это ведь маньяк. Что? Что делать?
Вдруг вспомнила, что у меня в пакете вкусные вещи.
Говорю:
— Я проголодалась.
Вижу, что он опешил от моего заявления.
Продолжаю наступать:
— Где здесь скамеечка?
— Зачем тебе?
— Сядем, выпьем, закусим и поговорим.
— Скамейка вон там… Гораздо выше.
Я обрадовалась, что мы продвинемся «гораздо выше».
— Пойдем, — обратилась я к нему на «ты».
Стали подниматься.
Я заметила:
— Трудное это занятие идти вверх по древним ступенькам. — Я старалась говорить спокойно и даже весело.
Стало как-то легче подниматься. И на душе стало легче. Обернулась, посмотрела вниз — высокую гору преодолела, но где же коней бесконечным ступенькам? Спрашивать не стала. Вижу скамейку. Совсем она древняя — вот-вот рухнет..
Мне ничего не оставалось, как вынуть из пакета газету, положить на нее бутерброды. Достала коньяк и стаканчик.
— Какая ты, однако, запасливая.
Подала ему коньяк, предложила бутерброды.
— Ну надо же — чудесный вечер получается, — сказал он, — за нашу встречу в этот чудесный вечер!
Я мысленно попросила: «Господи! Помоги мне!»
Он оживился, выпив коньяк.
Я разглядела его. Он был нормальной наружности и хорошего роста. Казалось, у него не должно быть комплекса неполноценности. Отчего же он бродит один в этом заброшенном парке и пугает случайных прохожих?
Чтобы нарезать лимон, он вынул нож. Я запомнила ручку ножа: прозрачная, а внутри как бы плавает голая женщина, довольно упитанная.
— Сам сделал?
Он кивнул головой.
Нарезал лимон потом ловко повернул нож, и лезвие молниеносно исчезло. Взял у меня коньяк и снова разлил в стаканчики.
— Ты прости меня. Неправду сказал. Не Сережа я, а Саша.
— Правда?
— Да. Александр Андреевич я… Там… внизу, на берегу Волги у меня дом был. Однажды прихожу с работы раньше обычного, намного раньше, а в постели кувыркаются моя жена и мой друг. Вот такие пироги. Я ненавижу баб.
— Тогда пойдем от греха подальше. Не буду я тебя раздражать.
— Нет. Подожди.
И тяжело задумался.
— Как же быть?
Он полез в карман и достал нож.
Я пролепетала:
— Говоришь, что не любишь женщин, а у самого в рукоятке вон какая плавает.
— Она не плавает, а давно утонула, — тихо объяснил он мне.
Чувствую, что мне становится плохо — сердце то замирает, то выпрыгивает, прямо-таки рвется наружу.
Я как закричу:
— Пробежишь ступенек двадцать, не отдыхая?
Он вдруг развеселился. Переложил нож в другой карман и тоже крикнул:
— Смотри!
Он легко подпрыгивал и поднимался выше и выше.
Я быстро все собрала и стала тоже продвигаться наверх.
— Все! Двадцать! — он широко улыбался. — Осторожнее, не упади, — позаботился обо мне.
Наконец, из последних сил, я добралась до него, стараясь не показывать своей усталости.
— Мне давно не было так хорошо! — торжествовал он.
Взял у меня пакет, достал остатки еды.
— Мне давно никто не верит. Почти все боятся меня. А ты поверила. Спасибо. Пусть все будет отныне хорошо! — предложил он тост.
— Саша, я сегодня должна улететь в Москву. Пусть будет все хорошо, но я больше не буду пить коньяк.
Он добавил мой коньяк к своему, залпом выпил и сразу же заметно охмелел.
— Пойдем, Саша. Стемнело совсем.
— Сейчас тебе будет легко подниматься, — он встал сзади меня. — Только ты не стесняйся…
Он обхватил меня ниже талии и крикнул:
— Ну! Помчались!
Действительно, очень легко я пробежала с его помощью оставшиеся ступеньки.
Он устал, но не переставал смеяться.
Я увидела «небоскреб» — гостиницу «Венец» и перевела дух.
— Спасибо, Саша. Оставь пакет себе.
Он с удовольствием взял пакет.
Надо было тут же бежать, но я не сделала ни шагу.
И вдруг он наклонился, поднял меня на руки и вместе со мной стал быстро переходить улицу.
Он неожиданности я не успела даже пикнуть.
В один миг мы очутились в каком-то небольшом дворе. Он поставил меня вплотную к стенке красного кирпича, прислонился ко мне. За его спиной стояла огромная серебристая машина, на которой синими буквами было написано: «Болгария».
Он не отпускал меня, крепко прижав своим телом к стене. С трудом переводил дыхание.
Бесполезно было что-либо говорить.
Двор был похож на большой балкон, замкнутый со всех сторон. Впереди он упирался в балюстраду, а там, внизу, была центральная площадь с красивыми газонами, Ленинским комплексом и моей гостиницей.
Я не двигалась. Молчала.
Он распахнул мою куртку и свою. Нашел молнию на моих брюках и резким движением расстегнул ее.
Я по-прежнему молчала и не двигалась, словно замерла.
Это его сердило. По всей вероятности, ему хотелось, чтобы я сопротивлялась.
Стал заниматься своими брюками. Что-то не получалось у него. Чуть отодвинулся от меня. Он психовал. Я смотрела вниз на суетящиеся руки.
— Ты чего? — спросил он. — С ума сошла, что ли? Ты чего молчишь?
Теперь он не двигался и стоял как истукан.
Я наступала:
— Ты что, думаешь я испугаюсь?
Он молчал.
— Убери сейчас же это, — крикнула я, задохнувшись.
Этот жуткий диалог закончился совсем неожиданно.
Трудно в это поверить, но он вдруг пошел за машину, держась за стенку. Он совсем опьянел.
Едва он зажурчал там, за машиной, я двинулась к балюстраде. Надо бежать, а не могу. Не бегут ноги.
Все-таки доползла до балюстрады! Но до земли два этажа, а то и больше, внизу газон с неувядшей еще травой. Я занесла ногу и села верхом на балюстраду. Он увидел и поспешил ко мне. Бежал трусцой.
Крикнул:
— Подожди!
Еще раз крикнул он:
— Не бойся.
И совсем жалко попросил:
— У тебя есть денежки? Мне совсем немножко надо, на дорогу.
Он обхватил руками мой пакет и беспомощно улыбался.
Не могу объяснить своего поведения, но я, вместо того чтобы прыгнуть вниз, бросила ему кошелек. Там была большая сумма денег. Он открыл его, покопался в нем и протянул обратно. Я взяла. Он успел мне что-то вложить в ладонь и поспешил уйти.
Я решилась на прыжок. Вдруг он стоит и поджидает за машиной.
Прыгнула. Приземлилась удачно и пошла в отель.
Левая моя ладонь была крепко зажата, но я не обращала на это внимания.
Не разжимая руки, я как-то умудрилась снять куртку, раздеться и встать под горячий душ. Под струями воды открыла ладонь: в ней было распятие. Не вытираясь, я легла в постель. Укрылась с головой пуховым одеялом и скоро согрелась. Распятие было сделано из медяка. Положила его в кошелек. В нем оказалось всего десять рублей.
Стас внимательно слушал мой довольно длинный рассказ, оставаясь по-прежнему на коленях. Глаза его увлажнились и совсем стали голубыми аквамаринами.
— Очень страшно. Пожалуйста, не ходи по вечерам одна.
Он поднялся, сел на постель и сказал:
— А у меня было вот что… — достал тетрадь и стал читать, как он приезжает в Сибирь, домой, его встречает обезумевшая собака по кличке Кучум. Она хрипит и рвется с цепи. Стас входит в дом. В большой комнате стоит гроб. В гробу лежит мать.
Я заплакала:
— Ты просил меня рассказать какой-нибудь страшный случай, я рассказала. Ты же рассказываешь не случай, ты говоришь о неизбежном. Я не стала тебе рассказывать, как потеряла свою дочурку, потому что смерть — это не случай, это другое.
Он нежно поцеловал меня.
Подвел к овальному зеркалу и стал рассматривать нас.
— Отойди, пожалуйста, — попросил он.
Я отошла.
Стас снял со стены топор и разбил вдребезги зеркало сильным ударом.
Почему-то в сознание влетела фраза: «Стало быть, вставать и уходить». Это слова князя Мышкина.
Но я не ушла.
Молча мы убрали осколки и вынесли их на улицу.
На улице я сказала Стасу:
— Самый страшный случай в моей жизни — теперешний случай, когда ты разбиваешь зеркало ударом топора, глядя на свое изображение. Я почти уверена, что это кураж. И гвозди во лбу автопортрета, и веники вместе с топорами на березовых досках, и разбитое зеркало — не что иное, как кураж.
Стас не реагировал на мое замечание, а спросил:
— У тебя много грехов?
— Да, — ответила я.
— У меня очень много. Мне так хочется тебе рассказать обо всем, но, наверное, никогда не решусь.
В комнате Стас начал ходить из угла в угол. Тесно, но он делал три больших шага, красиво разворачивался, и снова три шага. Ходил туда-сюда и говорил:
— Я взглянул на себя в зеркало, и мне стало тошно. Я убил топором того человека, который был до тебя. Он ужасен. Только ты не пугайся.
А матушка моя жива! Она хорошая, моя Шура!
Не я писал этот страшный рассказ о смерти матери. Это написал тот, которого теперь нет. Я убил его.
И неожиданно улыбнулся своей светозарной улыбкой. — Пойдем погуляем, — предложила я.
Бродили по Арбату. Я показала свою школу в Спасопесковском переулке. Дворами прошли к нашему подъезду, он поцеловал мне руку и ушел.
6
И вновь перед глазами длинные коридоры Бутырки. Скрежет железа о железо.
Меня вводят в камеру.
— Ну? Как?
— Народу в зале много… Душно очень.
— А ты сделай суд закрытым, — советует Нина.
После того страшного дня, когда она меня хотела обвинить, после моего крутого ответа на ее безобразный выпад Нина изменилась. Налила мне кипяточку, угостила пряниками. Денёв достала конфитюр. У меня был сыр, картошка, помидоры, зелень — мне передали конвоиры в суде от Танечки и Сережи. И мы устроили чудесный ужин.
Все были в согласии. Даже камера мне показалась не такой противной.
Два дня свободных!
В баню сходили, играли в настольные игры, слушали рассказы рецидивистки Вали.
— И вот работала я в свинарнике… ну, загоняю я их, свиней, в камеры… тьфу ты черт, — в какие камеры?! Ну, в эти, как они называются? Будь они неладны! Ну, куда свиней загоняют?
А мы хохочем. Рая-мальчик и вовсе захлебывается от смеха:
— В камеры… свиней… ха-ха-ха!
— Ну, ладно-ладно… посиди с мое — не так еще скажешь.
— А я не хочу — с твое, — продолжает смеяться Рая.
Потом стали приводить себя в порядок. Намазали ногти на руках и ногах зубной пастой, дали ей высохнуть и стали сухой тряпочкой натирать их. Лица сосредоточенные, как будто наиважнейшим делом занимаемся. Молчим и до блеска трем ноготки, а на мордочках маски из каши. Денёв сделала из газеты бигуди и накрутила нам волосы, даже Рае чубчик завила.
В воскресенье под ласковым солнышком загорали. Нас вывели на прогулку и больше часа не забирали: забыли, наверное. Вернулись в камеру и до вечера читали.
Безделье парит в Бутырке.
Спрашиваю:
— Сколько же народу здесь бездельничает?
— Ужас! Не перечесть, — вздыхает Валя и продолжает: — Ты прикинь, сколько тюрем в стране! И все полнехоньки. И все бездельничают. А на полях школьники и солдаты трудятся… студенты еще. Вот бы всех нас вывезти! Под конвоем, хрен с ним… Мы бы в миг бы все убрали. И нам хорошо, и стране..
Валя так взволнованно сказала про страну, раскраснелась даже.
— Я думаю, что кто-то специально разваливает страну, сажая нас… иных ни за что ни про что, — говорит Денёв.
— Нет, — возражает Рая, — это пока мы без дела, а потом, после суда, мы-то и будем выполнять эту клепаную продовольственную программу, будем шить на всех сразу — на армию и на ментов, на врачей и на больных, для детских садов белье и для санаториев, для поездов и для ресторанов.
— Что для ресторанов? — поинтересовалась я.
— Как что? Скатерти. А мужики наши, зеки? И лес валят, и хлеб растят за бездельников… на воле которые… Нет, мы то и есть передовой край, мы-то и есть самые главные, — закончила свой монолог Рая.
Денёв обратилась ко мне:
— Почему все любят фильмы про нас, про преступников? И чем страшнее преступление, тем больше зрителей? У тебя на суде напихалось народу… Почему, а, Валюшка?
— Подумать как следует надо, — мне не хотелось философствовать, мне хотелось послушать моих соседей.
— А потому, что у них у всех жизнь скучная, вот они и живут вашей, — припечатала Валя.
По какой-то странной ассоциации мои мысли вновь возвращаются к судебному заседанию. Второму по счету и последнему, перед которым я еще надеялась уйти из зала суда домой.
Судья вызвала свидетеля Марьина Станислава Германовича, который теперь живет в Кемерове. Он артист эстрады и работает в Кемеровской филармонии.
Марьин считает себя самым близким другом Стаса Жданько.
Всматриваюсь в него.
Следователь Мишин спросил когда-то, на первом следствии Александру Александровну, мать Стаса: «А что это за странный человек?»
Да. Более чем странный. Глаза не смотрят открыто на собеседника, а быстро перескакивают с предмета на предмет. Или вовсе вращаются от потолка через пол в сторону, и так по кругу…
При Стасе я привыкла к Марьину, он довольно часто приходил к нам в гости.
Теперь, по прошествии пяти лет после трагедии, я вижу человека с явными отклонениями. Это не странность, а скорее болезненность.
По крайней мере, на судебном заседании он выглядит так. Впрочем, и в 76-м году, когда я впервые увидела Марьина, он показался мне более чем странным.
В том далеком году, когда выпал первый снег, Стас позвонил мне:
— Валена! Снег выпал! Посмотри в окно — красота! Пойдем в Кремль!
— Ты из театра звонишь?
— Угу.
— Подожди, — я взглянула в окно.
Окна нашей большущей комнаты на Арбате выходили в очень красивый парк.
И правда — его много, снега! Чисто как!
— Стас, очень красиво за окном! Твое предложение пойти в Кремль принимаю с удовольствием! Но я еще не завтракала. Позавтракаем в «Праге».
Я выпила чашку кофе и помчалась к Стасу.
Он ждал меня на высоком крыльце небольшого особняка, где жил вместе с коллегами из нашего театра.
Красивый Стас — до невозможности!
— Валена, как ты отнесешься к тому, что с нами пойдет Марьин, его тоже зовут Стасом?
— Ну, что же, — вздохнула я.
Мне, конечно, хотелось в это прекрасное утро быть вдвоем, но я улыбнулась и весело сказала:
— Хорошо. Тогда я желание загадаю, коль его тоже Станиславом зовут.
Мы вошли в комнату, и я увидела Марьина. Сразу же подумалось: при определенном гриме он мог бы быть персонажем Иеронима Босха.
Стас успел мне сказать, что Марьин учится в цирковом училище. Интересно, на кого? Клоуном этот человек быть не может. Мне показалось, что у него нет взгляда на себя со стороны.
Ну, что же…
Пошли к ресторану «Прага», зашли в кафе, заказали завтрак. Я поняла, что Стас и Марьин неловко себя чувствуют — редко посещают рестораны. Старалась их отвлечь, не переставая болтать о смешном, рассказывая об оговорках на спектаклях. Василий Семенович Лановой на премьерном спектакле «Антоний и Клеопатра» красиво выбегает на авансцену. В правительственной ложе смотрит спектакль Косыгин вместе с многочисленной свитой. Уже финал спектакля, и Лановой — Цезарь, глядя в зрительный зал, должен произнести: «Мы похороним рядом их, ее с Антонием». Вася же торжественно произносит: «Мы похороним их». Сделал малюсенькую паузу и еще более торжественно произнес: «Рядом». Опять небольшая пауза, и он закончил: «ее с Антонием!» Добрался до конца фразы, глаза его округлились от удивления. Нет, Вася не испугался, а очень удивился самому себе. «Мы похороним рядом их, ее с Антонием» — вот, что получилось у Василия Семеновича.
Много смешных оговорок бывает на сцене, но их надо показывать. Рассказывать о них менее интересно.
Тут я увидела за соседним столиком школьную приятельницу. Она указательным пальцем крутила около виска. Очевидно, ей категорически не нравилась моя компания. Школьная приятельница с утра пила шампанское, сверкая бриллиантами, улыбаясь красивой улыбкой изумительного фарфора. Еще долго она крутила указательным пальцем у виска, предлагая жестом сесть за их столик.
Мы закончили завтрак и пошли к выходу. Я чуть задержалась, чтобы нам всем вместе не проходить мимо моей приятельницы.
Два Стаса вышли, я наспех поцеловала подругу и поспешила к выходу.
Кремль совсем рядом. Пошли пешком. Как хорошо!
Осмотрели кремлевские соборы. Вошли на площадь, где никого не было, только вороны, которые смешно тонули в снегу, но им явно нравилось купаться в пушистом, белом-пребелом снегу.
Мой Стас разбежался и прыгнул к ним в стаю. Вороны, рассерженно каркая, взлетели и заслонили собой часть неба, а Стас поднялся на ступеньки храма и громко, под крик ворон стал читать монолог Самозванца из «Бориса Годунова»:
Тень Грозного меня усыновила, Димитрием из гроба нарекла, Вокруг меня народы возмутила И в жертву мне Бориса обрекла — царевич я.Потрясающе! Даже мурашки побежали — так хорошо получился монолог!
Какая же дурочка моя красивая, бриллианто-фарфоровая подруга из «Праги»! Она не ведает того, что может быть так хорошо, по-настоящему — ПРЕКРАСНО!
Стас мог бы замечательно сыграть Димитрия; Бориса Годунова, конечно, Михаил Александрович Ульянов; Марину Мнишек — Люда Максакова.
— Здесь, на этой площади можно сыграть множество пьес из русской жизни. Как ты думаешь? А, Валена?
Стас радовался, что на меня большое впечатление произвело его чтение.
Весь день до самого вечера мы провели втроем.
Потом Марьин ушел.
Стас сказал мне:
— Останься у меня. Я очень люблю тебя. Давно. Пожалуйста, останься.
Я осталась.
…Продолжаю внимательно всматриваться и вслушиваться в слова Марьина, записываю его показания.
Судья тоже с особым вниманием, несколько удивленно смотрит на Марьина и осторожно, почему-то тихим голосом, задает ему вопросы.»
Марьин рассказывает:
— 11 апреля 1978 года мы со Стасом Жданько поехали в гости на электричке в Лосиноостровское. Стас был в хорошем расположении духа. Я позвонил Стасу 15 апреля, но его уже не было. Соседи мне дали телефон Малявиной. В то время она жила у метро «Аэропорт». Я позвонил ей, а потом приехал. Застал ее в полном упадке сил. Малявина все говорила, что хочет поехать к матери Жданько; Окружающие ей не советовали. Несмотря на ее состояние, мы долго с ней говорили. Мне показалось, что Малявина говорила не все.
На вопросы прокурора Марьин отвечал путаясь.
С одной стороны, он говорит:
— Чепуха, что Жданько заигрался в жизни.
С другой стороны, Марьин дает такие показания:
— Жданько мог играть в игры со смертью.
Как это понять?
Его переспрашивают. Он добавляет:
— Жданько играл в жизни до определенного предела.
Судья откровенно вздыхает.
Дурдом, а не процесс.
И совсем не надо было говорить Марьину, что Стас не религиозен.
Стас, конечно, был верующий.
На ночь он всегда читал молитву. В ней просил Господа: «Дай, Бог, здоровья моей матушке, отцу, мне, Валене и дружку моему — Воробью».
Воробьев Юра — артист Театра сатиры. Стас и Юра вместе учились у Юрия Васильевича Катина-Ярцева в Щукинском училище. А когда-то Стас начинал учиться в Школе-студии МХАТ.
Мой адвокат спросила Марьина:
— Из-за какого проступка Стаса Жданько выгнали из Школы-студии МХАТ?
Марьин стал рассматривать потолок, затем повел глазами далеко в сторону, а потом долго искал что-то на полу.
Вместо ответа прозвучало нечто неопределенное и невнятное.
Получается, что мой адвокат, организуя защиту мне, находит в Стасе негативное. Задается Марьину вопрос о ноже, от которого и погиб Стас.
Марьин растерянно рассказывает:
— Мы купили этот нож в «Новоарбатском» гастрономе. Вышли на улицу. У нас было хорошее настроение, и мы решили посмотреть реакцию людей на нож. Стас взял в руку нож, лезвие было повернуто в толпу.
Брови моей судьи взлетели вверх…
Да… после показаний Марьина надо сворачивать заседание.
Окончился допрос тем, что Марьин сказал:
— Я был у них в первых числах апреля. Малявина приготовила обед, и я сказал: «У Вали дома, как на даче».
Судья стала нервно перекладывать с места на место многочисленные бумаги и папки. Ничего похожего у моей опытной судьи наверняка не было.
Как строить обвинение? На каких фактах?
Я полагала, что следующее заседание будет через день.
Охрана молча провожает меня из зала суда вниз, в бокс.
Я очень хочу пить. Дали водички.
Вздыхают:
— Ну и дела!
Закрыли входную дверь на ключ и разрешили не входить в морозильник, а постоять у двери бокса.
Кто-то громко стучит в дверь, пришлось нырнуть в холодильник, чтобы не подвести охрану.
За дверью бранятся, требуют пустить.
— Нельзя! Уйдите отсюда! — приказывает конвоир.
Резкий стук продолжается.
Конвоир открыл дверь и послал куда подальше того, кто стучал. Открыл мой бокс.
— Это Гулая. Наши ребята много раз слышали, что она очень плохо о тебе говорит в коридорах во время перерыва. Гони ты ее из зала.
Я прощаю Инне Гулая почти все.
Во-первых, я люблю ее и жалею, во-вторых, она мне как-то искренне сказала:
— Когда тебе плохо, мне чуть-чуть легче становится.
Ее признание неприятно, но я постаралась понять ее. Инна много страдала, и ей часто казалось, что жизнь беспросветна. На фоне чужой драмы или, того пуще, трагедии свои невзгоды уже не такие страшные.
Я спросила у охраны:
— Вы видели фильм «Когда деревья были большими», ну, где Юрий Никулин приезжает в деревню к девочке?
Ребята из охраны видели этот фильм и «Время, вперед!» тоже видели.
— Она хорошая и очень талантливая, — сказала я.
— Но зачем она так плохо ведет себя?
Не стала я ничего рассказывать, не стала даже думать об этом, но, конечно, было горько…
Я укуталась и прислонилась к сумке.
Никогда бы я не выдержала посиделок наедине с собой в леденящей камере, если бы не читала Германа Гессе. Это Инночка Гулая познакомила меня с «Игрой в бисер» и «Степным волком». Гессе научил меня медитации. Подумаю о солнышке, и мне не будет холодно.
А Грин научил меня летать. Захочу и улечу отсюда туда, где света много.
Инна Гулая…
Мы познакомились с Инной давным-давно, когда я еще училась в школе. Нам было лет по семнадцать. Познакомили нас Саша Збруев и Ваня Бортник. Они уже учились в Щукинском.
У Инночки была любовь с Ваней Бортником.
У меня — с Сашей Збруевым.
Это были еще школьные романы.
Инна и Ваня учились в одной школе. А мы с Сашей — в другой. Все девчонки были влюблены в озорного, обаятельного арбатского мальчишку — Сашу Збруева.
Так вот, Инна ждала нас на Арбате, почему-то в магазине «Диета». Вспомнила! Мы купили в «Диете» какой-то сладкий напиток типа ликера и пошли к моей любимой подруге Златане Шеффер. Злата пригласила нас в гости.
Саша и Ваня все улыбались, а когда нас с Инной знакомили, то в один голос сказали:
— Познакомьтесь! — и покатились со смеху.
Инна серьезно, даже слишком серьезно, заметила:
— Вы что? Совсем того? Сумасшедшие?
И протянула мне руку:
— Инна.
Мне тоже было смешно оттого, что Инна была чересчур серьезной, а мальчики никак не могли уняться и хохотали как безумные.
— Меня зовут Валя. — А сама смеюсь.
Инна вскинула на нас распахнутые глаза и сказала:
— Чокнутые. Вот дураки-то!
И мы пошли на Смоленку в гости.
Надо сказать, что мы были очень красиво одеты. На Инночке было платье в белую и цвета морской волны клетку. Я почему-то очень хорошо запомнила это ее шотландское платьице. У меня тоже изящное платье — цвета бордо из изумительной буклированной шерсти. Саша с Ваней выглядели франтами.
Было очень весело.
Инна вдруг спросила:
— Где можно вымыть руки?
Златана танцевала, и я пошла показать Инне ванную комнату.
Теперь хохотала Инна.
— Чего мы молчим-то?
— Ты очень серьезная, и я не мешаю тебе быть серьезной.
Она еще громче стала смеяться и меня рассмешила.
— Давай с тобой дружить! — предложила она.
— Давай!
И мы подружились.
Инночка знала моих незабвенных бабушку и дедушку. Ей нравился мой папа. Они подолгу беседовали. Инна все удивлялась:
— У твоего отца совсем нет морщин!.
Ей нравилось, как моя мама готовит.
— Анастасия Алексеевна, что там в сковородке? Котлетки? Да?
И мама с удовольствием угощала Инну.
Я тоже была знакома с ее родственниками. Помню папу Инны, который рано ушел из жизни. Любила слушать рассказы ее бабушки о Красной Армии. Людмила Константиновна, мама Инны, — совершенная красавица.
Когда я впервые пришла к ним на Красносельскую, то увидела портрет Вана Клиберна.
В то время все были влюблены в Хемингуэя и Клиберна. Почти во всех квартирах были их портреты. Позже повсюду появился Юрий Гагарин со своей чарующей улыбкой. А еще «Битлз» и Джон Кеннеди. Это наши герои! Это наши кумиры!
Мне не было восемнадцати, когда я стала женой Саши Збруева. Инна и Ваня не поженились.
Я поступила учиться в Школу-студию МХАТ на курс Павла Владимировича Массальского, а Инна стала учиться в театральной студии при Детском театре. Ее учителями были М. О. Кнебель и А. В. Эфрос.
Детский театр и Школа-студия — совсем рядом, и мы во время перерыва бегали друг к другу. Пили кофе в кафе «Артистическое» и были уверены в долгой и — бесспорно — счастливой жизни.
Инночка одной из первых актрис своего времени поехала на кинофестиваль в Канн с фильмом Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими».
Она уже сыграла у Василия Ордынского драматическую роль в фильме «Тучи над Борском». Тема была трудная. Религиозная. Время было безбожное, и, не понимая глубин религиозных людей, их осуждали и чернили. Инна очень эмоционально играла свою роль. После фильма «Когда деревья были большими» она стала известной актрисой. Кинокритики говорили о ее незаурядном таланте и удивительной индивидуальности.
А в театре Инна Гулая и Гена Сайфулин исполняли главные роли в знаменитом спектакле Анатолия Васильевича Эфроса «Друг мой, Колька!».
Я была на премьере. Идет сцена Инны и Гены. Играют они превосходно. Во время сцены вдруг аплодисменты, а Инна сидит на бревнышке. Под аплодисменты ликующего зала она встала с бревнышка и низко поклонилась зрителям. Это было очень непосредственно и трогательно.
Поклонилась и снова вернулась в мизансцену на бревнышко для продолжения диалога.
Я с удовольствием всегда вспоминала об этом и показывала Инне, как она в середине спектакля раскланивалась. Инна сначала заразительно смеялась, а потом почему-то строго говорила:
— Что смешного-то? Не понимаю.
Как-то Инна прибегает на Арбат, я была у мамы, и рассказывает мне про Гену Шпаликова. Его любили все: и Андрей Тарковский, и Андрон Кончаловский, и Ромадины Миша и Витоша, и Маша Вертинская, и все его знакомые. И незнакомые тоже любили.
Гена — Светлый Человек!
Инна до безумия влюбилась в Гену.
Гена так же влюбился в Инну. Он все звал ее: «Родина моя!»
Они сняли комнату на Арбате. Большая зала, перегороженная красивым гобеленом на две комнаты. В одной из них был кабинет Гены. Вместо письменного стола — столик из кафе, ну, такой, из голубенькой пластмассы, с железным кантиком. Вся стена над столом — в фотографиях, прикрепленных кнопками. Много портретов Маши Вертинской, она играла главную роль в фильме Марлена Хуциева по сценарию Шпаликова «Застава Ильича». Портреты Светланы Светличной, кинодраматурга Натальи Рязанцевой, Ирмы Рауш украшали пространство над столом. Инночка мирилась с тем, что Гену увлекали очаровательные женщины.
— Он ведь гений… И я не знаю, как мне вести себя с ним… — задумчиво говорила она. — Гена — гений, — и улыбалась.
Однажды звонит и просит мое платье.
— Очень нужно твое платье с перламутровыми пуговками. И причеши меня, пожалуйста. Мы сегодня идем ужинать в ВТО. Мы помирились.
Они довольно часто ссорились, вначале по пустякам, потом ссоры их усложнились.
Я уже снялась у Андрея Тарковского в «Ивановом детстве», и у нас с Андреем были свои, необыкновенные отношения. Андрей тоже пригласил меня на ужин в ВТО. Я сказала об этом Инне. Она попросила меня не ходить.
— Я буду себя чувствовать зажато в твоем платье при тебе. Не приходи.
— Но Андрей знает это платье, и оно ему нравится.
— А может быть, ты мне подарила его. Понятно?
Другим днем Андрей все-таки заметил:
— Смотрю… знакомое платьице… А тебя нет. И прическа у Инны идеальная. А тебя нет.
У Инночки густые-прегустые волосы. Она с трудом справлялась с ними. А у меня получалось сделать красивую прическу из ее потрясающих волос.
Они были счастливы, Инна и Гена. Красивы. Талантливы.
Инна решила продлить студенческие годы и стала готовиться в Театральное училище имени Щукина.
Очень боялась конкурса.
— А вдруг провалюсь?
И читала мне вслух:
Пробираясь вдоль калитки Полем, вдоль межи, Дженни вымокла до нитки Вечером во ржи…Читала так себе. И я ей советовала читать стихи Шпаликова.
— Ты — того? Совсем? Шпаликов — не Беранже, — сердилась Инна.
— Но он ведь гений!
— Современный.
— Гений — это на все времена, — теперь сердилась я.
— Ладно. Лучше прочти мне «Пробираясь вдоль калитки…».
Я читала.
— Счастливая… У тебя голос низкий. Ты его можешь поднять вверх, а у меня все получается на одной ноте… Может быть, лучше почитать «Мороз и солнце, день чудесный!» А?
И превосходно читала «Зимнее утро». Я не слышала такого лучезарного чтения.
Инна успешно прошла три тура и была принята.
Тут же в газете появилась об Инне статья «Актриса садится за парту».
Но недолго Инна училась в институте.
У них с Геной появилась дочь — Дашенька.
Она получила симпатичную квартиру на улице Телевидения. Инна была заботливой матерью и женой.
Гена говорил мне с восхищением:
— У нее все красиво получается!
Впервые я пришла к ним летом и полюбила их дом. Мне нравилось, как Инна устроила новую квартиру. На окнах накрахмаленные занавески в ярких крупных цветах. Кровать карельской березы, покрытая покрывалом в цвет занавесок. Вдоль стены шла широкая полка из хорошего дерева, на которой было множество книг. Она служила письменным столом. Всегда в доме был букет цветов. За окном тоже цветы на сочной, зеленой траве — они жили на первом этаже.
Дашенькина комната была полна игрушек.
Как-то приезжаю в гости к ним, подхожу к дому и встречаю Инну. Она торопится в магазин.
— Дверь открыта. Я — в магазин, а то закроется на обед. Водку купить. Осторожнее, — о чем-то предупредила меня Инна и побежала своей дорогой.
Я вошла в большую комнату и вижу — на полу лежит Виктор Некрасов. Отдыхает.
Он приоткрыл глаза и вежливо, стараясь выговаривать слова, спросил:
— Это вы? Вы пришли? Гена там…
Гена отдыхал в кухне. Лицо — на столе, повернуто к входящему.
— Привет, — не поднимаясь, поздоровался он. — Посмотри, пожалуйста, за супом. Суп грибной и должен быть вкусным.
Вскоре вернулась Инна с водкой.
Пошли в комнату, где отдыхал Некрасов. Он оживился.
День был жарким. Водка теплой. Я еще не умела пить, но смущать присутствующих отвращением к отвратительно теплому напитку не стала. Стаканы были из толстого стекла, большие и тоже почему-то очень теплые. И малиновые огромные помидоры — теплые. Все вокруг как бы плавилось.
Сели на пол. У Инночки брови сдвинуты. Некрасов тоже был серьезен. Долго задерживал взгляд на каждом из нас, как будто только что увидел. Гена пытался улыбаться и поминутно просил меня посмотреть, не готов ли суп.
Впервые в этот жаркий день я увидела и услышала ссору между Инной и Геной. Она началась вдруг, ни с того ни с сего. Я знала, что они любили друг друга, но жаркий день и теплый крепкий напиток взвинтил их. Они были несправедливы друг к другу.
Виктор Некрасов грустно сказал:
— Пора уползать!..
Я тоже хотела уйти, но Инна закричала:
— Еще чего! Какая-то…
Виктор ушел..
Инна повелительно сказала мне:
— Пошли!
Куда надо было идти, я не знала.
Я ненавижу, когда со мной говорят таким тоном, но видела, что Инна крайне возбуждена, хотя причины ну абсолютно никакой не было.
Гена опять спросил:
— А суп готов?
И через паузу:
— Как вы думаете?
Прозвучало это так, будто речь шла не о супе, а о чем-то невероятно важном.
Инна выключила газ, и мы двинулись к выходу.
Гена беспомощно крикнул Инне:
— Родина! Когда ты вернешься? Принеси, пожалуйста…
Он имел в виду, конечно, бутылку.
В то время я не предполагала, что когда-нибудь меня тоже посетит отвратительный недуг — желание выпить. Нет ничего страшнее, чем это наказание..
Инна пригласила меня в ресторан. Он был тут же, рядом, на улице Телевидения.
— Вон там Володя Высоцкий живет, — показала Инна в сторону дома, где жид Володя. — Мы можем зайти к нему. Чего-нибудь купим и зайдем.
— Посмотрим.
Инна раскраснелась и не была такой красивой, как всегда.
Ресторан был не очень, но кормили прилично. Я заказала себе холодного белого вина и салат из крабов.
Инна потребовала:
— Мне водку, селедку, картошку, холодного пива.
И звонко засмеялась.
— Малявина! — Инна часто называла меня по фамилии, как, впрочем, и других. — Куда ты поедешь отдыхать?
— К морю!
— Счастли-и-и-вая! — протянула она.
— Но и вы с Геной собираетесь в Коктебель.
Инна почему-то вздохнула. Я часто не понимала ее. Скажем, звонит утром по телефону. Она каждый день звонила в полдесятого. Не здоровалась, не спрашивала, как я себя чувствую, а задавала один и тот же вопрос:
— Кофе выпила?
Если я отвечала «нет», то тут же трубка падала и — «бип-бип-бип…». Через полчаса снова звонок:
— Ну, что?
Она знала, что до утреннего кофе я не общаюсь.
— Кофе выпила.
— Крепкий?
— Как всегда.
— Счастли-и-и-вая! Что будешь делать?
— Душ хочу принять.
И опять:
— Счастли-и-и-вая!
Я в свою очередь спрашиваю:
— А ты кофе выпила?
— Да. Два раза. Ужас, как быстро кончается.
— А душ приняла?
— Да.
Я, подражая ей, протяжно говорю:
— Счастли-и-и-вая!
Хохочем!
— Я сегодня семь километров пробежала! — победоносно сообщала Инна.
— А мне этого не дано.
Инна не говорила «жаль» или что-нибудь в этом роде. Она никак не реагировала.
Я никогда не слышала от нее советов ни по какому поводу. Мне это нравилось.
Я тоже не даю советов. И думаю, что безапелляционность некоторых советов делает жизнь несносной.
Нам всем грозит Неизбежное. Смерть. Страшно, но это единственная реальность, которая нас всех объединяет. И ее надо принять как должное.
Каждый, если он не с Богом, уходит Отсюда в одиночку. И никакая власть ему не поможет. И никто не сможет остановить его уход.
В те времена, о которых я вспоминаю, мы мечтали и надеялись на лучшее.
Но почему же мы так занедужили? Почему многие из нас пристрастились к алкоголю?
Многие знакомые и приятели ушли, разрушенные алкоголем. Сердце не выдерживало.
Гена Шпаликов тоже ушел. По своей воле.
Незадолго до ухода он пришёл в дом, где мы жили с Павликом Арсеновым.
Звонок в дверь. Пьяненький Гена как-то странно придерживает полы пальто. Распахивает их, а там — великолепная икона. Очень старая. Он ставит ее в спальне на столик. Я спрашиваю Гену:
— А где Инна?
— Не знаю.
Стало понятно, что Гена с Инной в трудных отношениях.
Гена грустно сказал:
— По-моему, это — коней.
В этот вечер мы припозднились за интересным разговором. Павлик сказал тихонько:
— Ему некуда идти. Пусть останется у нас.
Мы легли на ковер, похожий на полянку, поросшую травой, и продолжали беседовать.
Говорили о русских полководцах. О Столыпине. О Савинкове. Много говорили о Наполеоне.
У меня были коньячные рюмки с латинской буквой N, обрамленной золотым лавровым веночком, вроде бы наполеоновские. Они за беседой наполнялись, а когда коньяк кончился, Гена поинтересовался:
— А который теперь, час?
— Два.
— Он не спит.
— Кто?
— Габрилович. Я схожу к нему, возьму чего-нибудь. Он мало пьет. У него всегда есть.
Дом, где жили писатели и драматурги, рядом, и Гена мигом обернулся. Как ни странно, принес полную бутылку «Наполеона». Продолжали говорить о Наполеоне под коньяк «Наполеон» из «наполеоновских» бокалов. Хрустящее печеньице дополняло славность нашей бессонницы.
А утром взяли корзину и пошли на Ленинградский рынок.
Было веселое солнышко.
— Так слава же тебе, Солнце! Слава утру, да здравствует все живое, слава жизни, — почти кричал Гена, глядя в небо.
В середине дня Гена уехал. Он в это время жил в Переделкине в Доме творчества.
До этого визита Гена бывал у нас. Всегда один.
Подходил к пишущей машинке и заглядывал в текст. Спрашивал:
— Кто это пишет?
— Я, — отвечала и очень смущалась.
Гена мне предлагал:
— Ты начинаешь, я продолжаю. Или наоборот. Будем придумывать диалоги, только диалоги.
— Давай, — соглашалась я.
У нас был широкий подоконник, мы ставили на него машинку, садились с Геной рядышком и начинали игру. Занятная игра. Иногда получался интересный результат.
Гена говорил мне:
— Ты пишешь, как дети рисуют. Мне нравится. Хорошо, если бы это осталось на всю жизнь. А писать ты будешь.
— Нужно ли?
— Пиши. И дневники веди.
— Веду, но не каждый день.
— А зачем каждый? Но наш сегодняшний разговор запомни и запиши, — улыбнулся Гена.
Вот и Плотников Николай Сергеевич, наш гениальный вахтанговец, говорил мне: «Деточка, пиши». Сложит трубочкой рот и, чуть покачивая головой, говорит: «Запоминай все и пиши». А ничего не читал моего. Но настаивал, чтобы я непременно писала.
— Ты будешь писать. Несомненно.
Гену беспокоила реакция на фильм «Долгая счастливая жизнь».
Он спрашивал:
— Понятно ли?
— Инна там гениальная! — восхищался он.
— Твой фильм — поэзия. Очень грустная. И мне нравится, что почти все время в фильме идет дождь. Я помню каждый кадр. Мне все понятно. И девочка на барже, что играет на баяне, — тоже понятно…
— Спасибо, — благодарил Гена.
Я спрашивала Гену:
— Как это у тебя получается: «А я иду, шагаю по Москве…»?
— Просто. Очень просто. Я иду, шагаю по Москве, по Садовому кольцу. И ничего не придумываю. Кто-то моим голосом говорит мне весь стих. И картинки показывает — фиалку под снегом…
Спрашивает:
— А ты любишь Москву?
— Очень! Мой адрес: СССР, Москва, Арбат.
Гена продолжает:
— Ты была во многих странах. Могла бы жить в другой стране? Не спеши с ответом.
Я не стала долго думать. Я ответила:
— Не смогла бы.
— Почему?
— Почему? Потому что я не выбирала страну, как и своих родителей. Страна выбрала меня. Она — моя.
Гена как бы сам себе тихо сказал:
— Бунин уехал… Кстати, художник Малявин тоже уехал… Виктор Некрасов?.. Кто бы мог подумать?
И неожиданно сообщил:
— Я пишу роман. У меня 353 страницы.
— Хорошо! А сколько страниц всего будет?
— Не знаю. Буду писать, пока пишется.
Гена Шпаликов ушел.
Я — на скамье подсудимых.
Инна Гулая сидит в зале заседания суда.
Почему она так одета? То в синем бархате, то в вишневом? Браслеты на запястьях. Яркий грим. Словно на прием собралась и оделась, чтобы чувствовать себя высокой гостьей. И села совсем рядышком подле моего барьера. Победоносное выражение на ее красивом лице. И зачем она так победоносничает? Почему… Зачем?.. Почему?!
Все встали. Суд идет.
7
— Всем встать, суд идет!
Идет суд. Я больше не верю, что вот сейчас что-то наконец произойдет и меня отпустят домой. Прямо отсюда. У меня наступил момент осознания и одновременно какого-то иного отстранения от происходящего.
Я иначе — не с ожиданием, а со странным любопытством слушаю свидетелей. Смирилась, что вызывают не тех, кто и впрямь может рассказать о трагедии — врача «скорой», например. А каких-то и вовсе ненужных для поиска истины людей…
…Вызывается Евгений Рубенович Симонов, наш главный режиссер.
Евгений Рубенович как всегда элегантен и, как обычно, красноречив.
Начал издалека. Стал размышлять о трагических положениях у Шекспира, у которого героев преследует рок и жизнь их обрывается от убийства или самоубийства. Только потом переходит к нашим отношениям со Стасом, охарактеризовав их как напряженные и драматические из-за слишком неординарных натур.
Сказал, что очень ценил как актеров и Стаса, и меня. Что за три дня до случившегося, на репетиции, из рукава кожаного пиджака Стаса выпал огромный нож.
— Этот же нож я видел окровавленным в тот трагический день, — свидетельствует Евгений Рубенович.
…Я почти прикрываю глаза и уже не слышу голоса Симонова. Вместо него — почти шепот, последние слова Стаса: «Пойдем со мной… Пойдем со мной!» Вижу белое как мел лицо Вити Проскурина, словно возникшее ниоткуда, не понимаю, что спектакль, видимо, кончился и Виктор пришел за Стасом, чтобы вместе ехать на вокзал. Потом — в Минск. Он пришел за Стасом, которого больше нет. Витя еще не знает, не понял, для чего здесь «скорая», люди в белых халатах в нашей комнате. Он испуган, кричит: «Что случилось?!»
Я тоже кричу: «Он убил себя…» Потом крикнула, что это я его убила. Потом стала кричать Проскурину: «Это ты, ты его убил!..»
…Я и по сей день не снимаю вины ни с себя, ни с Вити. Потому что это мы, именно мы упустили в тот день Стаса, не посчитались с его состоянием — а оно было ужасным. У Виктора было праздничное настроение удачливого премьера, я — занята собой и своими успехами. И мы его упустили.
Я знаю, совершенно уверена в том, что Стас не собирался умереть. Стас хотел себя ранить, чтобы я, вернувшись в комнату, увидела несчастье, поняла, что он находится на грани самоубийства. Чтобы я сострадала ему, чтобы ВСЕ сострадали ему. И помогали в театре, кино — везде.
Он хотел, наконец, достучаться до нас… Бедный мой Стас! Нет, не выпитое мной на твоих глазах вино стало причиной трагедии. Вино — только повод. Причина — наше самоупоение, слепота, в конечном счете то самое проклятое ЭГО, за которое и карает меня Господь сегодня, здесь и сейчас…
…Судья все еще расспрашивает Евгения Рубеновича о ноже, а я вновь вспоминаю.
Этот нож Стас и Марьин купили в Новоарбатском магазине и развлекались, пугая им арбатских прохожих. Он был чуть ли не единственным в нашем нехитром хозяйстве и поэтому очень быстро затупился. Когда мы со Стасом решили перейти на овощную диету, им невозможно было очистить даже картошку. Я все просила Стаса наточить его.
И надо же было мне 9 апреля, за три дня до трагедии, проходя мимо «Диеты», расположенной на углу Плотникова переулка и Арбата, встретить точильщика!.. Так редко они теперь попадаются, а тут… Стоит со своим станочком, на котором крутятся колесики, и летят от них искры во все стороны, покрикивает, что точит ножи, виртуозно поворачивая их то в одну сторону, то в другую: «Точу ножи-ножницы».
Надо же было мне, придя в театр, позвонить домой и сказать Стасу, чтобы он взял с собой нож и наточил его.
Не повстречайся мне лихой, со звонким голосом точильщик из прошлых времен, не случилось бы трагедии, вот ведь что…
Я была еще в фойе служебного входа, когда пришел Стас. Он широко улыбался. Посмотрел на себя в большое старинное зеркало, поднял несколько волосиков на макушке, выхватил нож из рукава своего пиджака и секанул им по волоскам. Громко рассмеялся, бросил нож опять в рукав и подул на отсеченные волосики.
— Стас, перестань дурачиться. Порежешься…
— Да нет, Валена, рукоятка внизу, а лезвие вверху. Понимать надо.
С этим и ушел на репетицию к Симонову.
Потом мне рассказывал:
— Я как выхвачу нож и говорю: «Шеф, не дашь роль — убью!» Он испугался.
— Зачем ты так, Стас?
— Интересно… неожиданно было для него, поэтому интересно.
Евгений Рубенович сказал в суде, что нож из рукава выпал. Нет, не выпал, а был артистическим жестом выхвачен из рукава.
Симонов не упустил случая заметить, что люди из прокуратуры, вызванные на место, были в непристойно пьяном виде.
И что никаких следов крови ни на мне, ни в нашей комнате он не видел. Что встал на колени и перекрестил Стаса.
— Я не могу представить себе умышленного убийства, но и Стас не мог покончить самоубийством, — говорил Евгений Рубенович. — Считаю, что произошло что-то преступно легкомысленное. Я и прежде видел в глазах Стаса обреченность.
— А у Вали бывают неестественно горящие глаза, — заключил Симонов.
Я сижу за барьером, который меня отделяет от суетной нашей жизни, и вижу за этой границей многое. Понимаю намек Симонова о моих «неестественно горящих» глазах. Кто-то распустил слухи, что я принимаю наркотики.
Это еще одна неправда обо мне. Я не спала после смерти моей доченьки около месяца, а достать снотворное было невозможно. Я просила, кого могла, помочь мне с лекарствами. Помогали, но распространился слух, что я глотаю «колеса».
Бред все это. Никогда не склонна была ни к наркотикам, ни к никотину. Бог миловал. Другое дело — алкоголь. С Бахусом у нас возникла сначала дружба, а потом он стал поработать меня.
Смотрю я на Евгения Рубеновича и размышляю: талантливый он человек, но… Слово «осторожный» не подходит, «трусливый» — больно грубо, скорее — боязливый. Интересно, куда он приведет свой монолог?
И вот слышу:
— Стас делал карьеру. Может быть, Валя задерживала его карьеру?
Я уже рассказывала, что в обвинительном заключении мотив преступления строился на том, что у Стаса была слава, а я завидовала его успехам…
Симонов завуалированно проводит ту же тему.
И дальше вдруг говорит:
— От Стаса все женщины сходили с ума.
Посмотрел на меня и чего-то испугался. Сделал на мгновение паузу и совершенно без всякого перехода почти крикнул:
— У Жданько был шарм порочности.
И вспомнила я, как Евгений Рубенович на репетициях просил:
— Зажги в себе люстру и играй надзвездно.
Или:
— Поведай Неведомое, безумная дщерь моя.
А что? Эмоционально. Красиво.
«Шарм порочности» — ну надо же!
А потом и тоже вдруг:
— Стас без бравады, как еж без иголок.
Я напомнила Симонову, что он снял Стаса с роли Альбера в «Маленьких трагедиях». Сказала, что это было для него сильным огорчением.
— Да, я снял его с этой роли, потому что он выглядел вульгарно.
Вульгарности у Стаса не было. Да, бравада была, но не вульгарность.
Моей задачей было снять мотив нашего якобы разлада со Стасом: будто бы я была творчески неудовлетворена. Поэтому я задавала Симонову соответствующие вопросы, которыми ставила его в затруднительное положение.
На мои вопросы он ответил судьям:
— Да, мы давали Малявиной ведущие роли.
— Да, мы давно хотели ей присвоить звание заслуженной артистки РСФСР.
— Да, она получила несколько премий за исполнение главных ролей в театре. Последнюю — в театральном сезоне 1978 года за исполнение роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане» режиссера Ковальчика.
— Да, она была приглашена за исполнение этой роли польским театральным обществом на длительный срок в Польшу.
— Да, я предполагал, что Малявина будет репетировать в новом спектакле центральную роль по пьесе Алешина, которую хотел ставить.
— Да, она снималась в кино в главной роли. Да, этот фильм вышел в том же 1978 году, когда случилась трагедия.
Ну, и где же почва для моей «творческой неудовлетворенности»?
Смотрю внимательно на судью. По-моему, у нее повысилось давление. На лице удивление и откровенное непонимание: что же делать дальше. Лицо пылало. Вижу: не хочет моя судья вести этот процесс. Почва «неприязненных отношений» между Стасом и мной уплыла после многих показаний. Мотив моей «творческой несостоятельности» испарился в ходе ответов Евгения Рубеновича Симонова, хотя он и старался быть в русле обвинительного заключения. Значит, читал. И зачем грех такой на себя брать?
Очень давно, в конце зимы, в воскресенье, я пошла навестить могилку Василия Макаровича Шукшина на Новодевичьем кладбище. Положила цветы и долго стояла, глядя на портрет Василия Макаровича. Навестила Исая Исааковича Спектора, талантливого и необыкновенно умного человека, директора-распорядителя Театра имени Вахтангова, мужа театральной звезды нашего времени Юлии Константиновны Борисовой.
А потом пошла к Рубену Николаевичу Симонову. Гляжу на его памятник и вдруг вижу: из левого глаза катится живая слеза по каменному лицу. Аж страшно стало. Я замерла — не могу двинуться. Понимаю, что это талый снежок струится каплями, но все равно выходит, что Рубен Николаевич о чем-то скорбит, о чем-то плачет. И надо же было так устроиться снежку, чтобы пролиться слезой..
Памятен мне этот день.
Теперь в зале суда стало понятно, о чем плакал Рубен Николаевич. Обо мне он плакал и о Жене Симонове, сыне своем, который только что держал свой боязливый монолог обо мне и Стасе перед неправыми судьями.
Вахтанговцы позвали меня к себе в театр, когда я училась на четвертом курсе театрального института и уже работала в «Ленкоме» у Анатолия Васильевича Эфроса.
Я приняла это приглашение с радостью, несмотря на мое увлечение театром Эфроса. Театр Вахтангова с детства оставался моей мечтой, и вдруг это предложение! Позвонили из театра и пригласили на беседу с Рубеном Николаевичем Симоновым.
Дверь кабинета Рубена Николаевича была открыта. И никого. Стала разглядывать кабинет. Ультрамариновые стены, мебель красного дерева с бронзой, фарфоровая настольная лампа, темно-синяя с золотом, большие старинные часы уютно тикают — очень красиво! Через открытую дверь видна прихожая, обставленная великолепной мебелью с гобеленом изысканного рисунка. Дверь прихожей тоже открыта. Дальше ложа и — чудо: за ней — сцена! Там шел спектакль «Живой труп» с Николаем Гриценко — Протасовым и Людмилой Максаковой — Машей. Кто-то нежно обнял меня. Поворачиваюсь, вижу Рубена Николаевича Симонова во всем его великолепии.
Это он придумал мой первый приход в театр, открыл двери кабинета и ложи, чтобы я увидела диво-дивное.
Сказал тихо, глядя на Максакову и Гриценко:
— Замечательно играют артисты!
Потом повел меня в кабинет, предложил сразу несколько главных ролей и подвел итог:
— Художественный совет хочет, чтобы вы стали актрисой Театра Вахтангова.
И я ею стала.
Когда Рубена Николаевича не стало, а потом вскоре ушел и Спектор Исай Исаакович, Саша Кайдановский мне сказал:
— Все. Театр Вахтангова окончательно умер.
— Но Евгений Рубенович тоже поставил потрясающие спектакли. И «Город на заре», и «Филумену». А «Иркутская история?» — возражала я.
— Вот и ставил бы спектакли. Как режиссер. А главный режиссер — это другая профессия. Это мировоззрение.
Резкий, жесткий тон Саши раздражает, но он почти всегда бывает прав.
…А в Театре Вахтангова мне было очень хорошо. Специально для меня спектаклей не ставили, но если в пьесе была роль для молодой актрисы, то почти всегда играла ее я.
Я уже успешно сыграла два большие роли в спектаклях Александры Исааковны Ремезовой, как вдруг позвонил мне Рубен Николаевич с предложением роли в премьерном спектакле «Конармия» по Бабелю, который ставил он.
Я очень разнервничалась после звонка. Ведь роль Маши, которую мне предлагал Симонов, репетировала Юлия Константиновна Борисова. На репетицию я, конечно, пошла. Репетиция проходила в кабинете Рубена Николаевича. Он — за столом необыкновенной красоты, рядом Слава Шалевич, один из авторов инсценировки «Конармии», тут же — Михаил Александрович Ульянов, он же Гулевой.
Рубен Николаевич предложил для репетиции замечательную сцену, когда Маша трогательно и смешно признается Гулевому в любви. Маша — агитатор политотдела, а Гулевой — начдив.
Рубен Николаевич говорит:
— Ты расскажи ему о своей любви тихо и нежно, не форсируя, не торопясь, как бы на одном дыхании… У тебя длинная-предлинная коса, но она спрятана под буденновку, а когда Михаил Александрович тебя возьмет на руки, то буденновка случайно упадет и во всей своей красе обнаружится коса.
Я краснею, ужасно нервничаю и тихо, на одном дыхании, начинаю монолог: «Милый ты мой. Дорогой. Серебряный. Как бы я жила без тебя?..»
Чувствую, что получается! Ведь я влюблена в Михаила Александровича, и мне хоть и нервно, но легко говорить ему такие слова. А когда Михаил Александрович взял меня на руки, у меня закружилась голова. Синьковый кабинет Рубена Николаевича и вовсе поплыл перед глазами. Я еле устояла, оказавшись снова на полу.
Рубен Николаевич значительно и серьезно сказал:
— Замечательно.
Слава Шалевич улыбался. И Михаил Александрович был доволен репетицией. Так мне показалось.
Но неожиданно я заболела. Несколько раз звонил Рубен Николаевич, но врач не разрешал выходить из дому. Так я и не сыграла в одном из лучших спектаклей того времени.
Я чувствовала, что Рубен Николаевич обижен.
Позже, на гастролях в Киеве, он предложил мне роль в своем спектакле «Стряпуха замужем». Там нужно было много танцевать, петь. Ввод был срочный. Я то и дело летала в Москву сдавать госэкзамены. И от роли отказалась.
Рубен Николаевич посмотрел на меня сквозь очки, глаза его округлились, а выражение лица стало по-детски обиженным. Довольно строго он сказал:
— Как же так? Вы замечательная артистка, я в вас верю, а вы отказываетесь от моих спектаклей.
Стал считать по пальцам:
— От «Турандот» отказались, от «Конармии» тоже отказались. Теперь от роли в веселом спектакле отказываетесь. Как же так?
Я не стала оправдываться, хотя причина моих отказов была ясна. Слишком мало было репетиционного времени, чтобы сыграть их вольно, всласть. А абы как я не хотела, не могла себе позволить. Рубен Николаевич всерьез обиделся на меня, и тем не менее наши отношения оставались замечательными.
Как-то он зашел ко мне в гримерную.
Я была в театральном костюме: длинное креп-сатиновое платье цвета маренго с темно-фиолетовым поясом мягкой замши, шелковые фиолетовые перчатки до локтя и атласные серебряные туфли.
— Я хотел бы пойти с вами на прием, и чтобы на вас было это платье… Пойдемте!
Я конфузилась. Краснела и глупо, как дурочка, улыбалась. И ничего не отвечала. Чтобы снять неловкость паузы, Рубен Николаевич чуть кашлянул и величественно удалился из гримерной.
Я часто смотрела репетиции «Диона». Рубена Николаевича это радовало. На одной из репетиций он сказал, повернувшись ко мне:
— Идите сюда.
Я пересела, но так, что между нами оставалось свободное кресло. Он повернулся, удивленно взглянул на меня и неожиданно спросил:
— Какие духи у вас?
— «Ма грифф».
— Покажите.
Я открыла сумочку, флакончик духов был внизу, так что мне пришлось вынуть пудру, помаду, тон и т. д.
Рубен Николаевич с интересом стал рассматривать мою косметику и вслух читать:
— «Макс Фактор»… «Кристиан Диор»… «Элизабет Арден»…
А тем временем на сцене актеры потеряли «серьез», потому что Эрик Зорин смешно вопил:
— Слава Цезарю!
Цезаря играл потрясающий Николай Сергеевич Плотников. Он-то первый и терял «серьез», а за ним и все остальные.
Дионом был Михаил Александрович Ульянов, ему тоже было смешно.
Рубен Николаевич подошел к авансцене, а Зорин все продолжал вопить:
— Сла-а-а-ва-а-а Цe-e-еза-а-а-рю!
Николай Сергеевич, артист очень дисциплинированный, сомкнул губы, голова величественно поднята вверх, увенчана золотым лавровым венком, а тело сотрясается от смеха, и звук прорывается:
— У-у-у!
Артисты не выдерживают и громко, во весь голос, начинают хохотать, а Эрику Зорину хоть бы хны, орет и орет свое «Слава Цезарю!».
Рубен Николаевич тоже улыбается, не сердится на артистов, просит повторить.
Все собрались, но как только Эрик опять завопил, Плотников — Цезарь заухал, как филин, на весь зал:
— У-у-у!
Никак артисты не могут удержать «серьез» — все дрожат от смеха.
Рубен Николаевич громко и строго делает замечание:
— Что это такое?.. Безобразие…
Тогда Эрик Зорин предлагает:
— Рубен Николаевич, может быть, не надо мне уши такие клеить? Не будет так смешно.
Он играл «стукача» при Цезаре и мастерски клеил себе огромные уши из пластилина.
— Нет, уши хорошие. Артистам надо взять себя в руки. Начали.
— Слава Цe-e-e-e-за-а-а-рю!
Артисты держатся из последних сил, теперь и Рубен Николаевич не может удержаться от смеха.
— Мммм… — почти стонет он.
И все-все стали хохотать во весь голос, до изнеможения.
Вдохновение заполняло все вокруг, когда Рубен Николаевич появлялся в театре.
Увидев его в ложе после спектаклей, мы всегда были взволнованы. Он — в белом пиджаке и темной бабочке на кипенно-белой рубашке, а вокруг шепот:
— Рубен! Рубен!
Последний раз я видела Рубена Николаевича, когда он в лимузине отъезжал от театра.
Мы с Машей Вертинской шли к Арбату. Рубен Николаевич повернулся и приветственно помахал рукой. И долго улыбался нам, пока машина не скрылась из виду.
А последняя встреча с Рубеном Симоновым, мистическая, на Новодевичьем кладбище — живые слезы на каменном лине.
И вновь Бутырка. Наконец-то…
Сейчас камера — единственное место отдохновения.
Сегодня на «спецах», где я живу, дежурит казачка Валя. Она хоть и строгая, но хорошая.
Едва волочу матрас и сумку, она улыбается;
— Устала?
— Угу.
Ворчу:
— И чего его таскать каждый день туда-сюда?.. Неужели Глафира из 152-й столько лет мотается с матрасом и вещами?
— То-то и оно…
А около Вали кот кругами ходит. Засмотрелась я на него. Матрас положила на пол, глажу кота, он мурлычет, ласкается, а потом взял и прыгнул на мой матрас, разлегся, щурится. Уютный такой…
Прошу у Вали разрешения взять кота в камеру.
— Я его к себе, наверх положу.
Валя строго покачала головой, но разрешила:
— Ладно, до отбоя бери.
Открыла камеру.
Засуетились мои девочки. Видно, что ждали меня: пряники, конфеты на столе.
Коту очень обрадовались.
Помогли положить матрас, застелили постель, кота устроили у меня наверху. Он тут же свернулся калачиком, заснул. И мы приглушенно стали говорить — не хотели кота беспокоить.
А когда Рая-мальчик закурила, колючеглазая Валя шепотом сделала ей замечание:
— Чего пыхтишь-то?..
И рукой на кота показывает — мол, нехорошо при гостях курить.
Смешно всем стало.
— А чего это мы шепчемся? Ха-ха-ха! — не унималась Рая.
А кот поднял голову, внимательно посмотрел на нас и растянулся во всю длину.
— Ишь, понимает, что о нем речь, — смеялась колючеглазая.
— А чем же мы его кормить будем? — беспокоилась Катрин Денёв.
— Пряниками, — хохотала Нина. — Кис-кис!
Кот опять поднял голову и обратил свой мудрый взор на нас.
— Ты будешь есть пряники? А то у нас больше ничего нет.
Кот проигнорировал вопрос и замурлыкал.
Катрин осторожно спросила меня:
— Ну, как твои дела?
— Кругом маразм и трусость. Ничего поделать нельзя. Как ни странно, только два человека последовательно ведут себя. Мерзко, но последовательно — прокурорша и общественный истец.
— Общественный пиз…ц, — ругнулась Рая и спросила: — А прокурорша старая?
— Да нет… Не знаю, сколько ей лет… Плоская такая… ехидно ухмыляется, тоненько… противно.
— Дать бы ей по е…у, — сердилась Рая.
— Она явно недо…я, — решила Нина.
— На мужской «общак» бы ее бросить, суку… — ругалась колючеглазая.
Катрин подхватила тему:
— Правда! Хуже недо…х баб нет никого на свете. Все зло от них. Я и воровать-то стала, чтобы еще больше злить их. Бриллианты навешаю на себя… иду к машине, ключиком помахиваю, а они изо всех окон вываливаются, смотрят на меня… у, засранки… Ненавижу!
— А кто это общественный, ну, как его?.. — спросила колючеглазая..
— Общественный истей называется.
— Чудно как-то… Третий раз под судом, а о таком, как его, опять забыла… никогда не слышала. А где же ее место? Где она сидит-то? — продолжала расспросы Валя.
— Рядом с прокурором. Они без конца переговариваются друг с другом.
— А ты сделай им замечание или вообще откажись от суда, — предложила Катрин.
— Я делала замечания много раз, но все равно каждое заседание они сидят вместе и шепчутся.
— Значит, получается, у тебя два прокурора? — сделала вывод Нина.
— А что адвокат твой? Хорошо заступается? Или как? — интересовалась Рая.
— Адвокат плохо знает дело.
— Почему?
— Потому что не успел подготовиться. Времени у него совсем не было. Я ведь позвонила ему, когда меня увозили из дома в КПЗ.
Нина, сдвинув брови, анализировала:
— Абсолютно ничего не понимаю… Стас погиб в 78-м году? Так? Тебя арестовали в 83-м. Неужели за пять лет твой адвокат не мог ознакомиться с делом?
— Он не был моим адвокатом. Это просто знакомый. Я его едва знала, но у меня был его телефон. Когда за мной пришли, то спросили: «Адвокат-то знакомился с делом?» — «Нет, — говорю. — У меня его вообще нет». Разрешили позвонить. Адвокат выслушал и согласился взять мое дело.
— Но ведь это легкомысленно, не зная дела, соглашаться, — удивлялась Нина.
— Здесь что-то не то… — прищурилась Валя. — Ты прикинь, — продолжала она. — Через пять лет после случившегося тебя арестовывают… Значит, кто-то копал под тебя.
— Думаю, что это стечение многих обстоятельств.
— Нет, я так не думаю. — Нина еще больше сдвинула темные брови. — Против тебя не обстоятельства, против тебя люди, которые решили уничтожить тебя. Я сначала думала, что ты виновата и что умный адвокат тогда… давно… вытащил тебя, а выясняется, что у тебя вообще адвоката не было. И свидетелей, очевидцев твоей виновности, нет. И экспертизы не подтверждают, что виновата ты. Так какого х… они тебя мучают, гады?
Рая, как всегда, смачно ругнулась и подытожила:
— Кому-то нужно, чтобы ты сидела. Да… дела…
Потом спросила:
— Валюшк, можно я кота возьму?
— Не мешай ему дремать, — заступилась за кота колючеглазая.
— Ага, скоро его заберут… Я только поглажу его. Кисонька, хорошая… — гладила кота Рая-мальчик.
Красивая Катрин улыбнулась.
— Все у тебя наоборот, Раиса. Это кот, а не кошка, стало быть, не кисонька хорошая; а котик хорошенький. Себя ты тоже путаешь. Ты — женщина, а говоришь: «Я попил, я поел, я умылся». А как надо говорить? «Я умылась, я поела…»
— Отстань ты от нее, — колючеглазая строила рожицы Катрин, мол, не надо обижать Мальчика. А Мальчик и не обижался.
— Я в детдоме привык, что я — он. И в девочку был влюблен. Она в меня.
— И что? — Катрин красиво поправила свои чудесные светлые волосы.
— Приедешь на зону, узнаешь, — скалилась Валя.
— Тебе не избежать их.
— Кого — их? — любопытничала Катрин.
— Нас, — серьезно пояснила Мальчик.
— Ну ладно, девки, будет. На зоне обо всем договоритесь, — стреляла колючими глазками Валя.
— Хорошо бы попасть на зону? А? — мальчик Рая не отводила взгляда от Катрин.
— Да ну тебя… — кокетливо отмахнулась та.
А колючеглазая размечталась:
— Скорей бы на зону… Там в столовой пристроюсь… Хорошо!
— Страшно, — процедила Нина. — Говорят, что страшно на зоне.
Валя пожала плечами.
— Ну почему страшно-то? Нет, не страшно. Работы, конечно, много… законы свои… He-а, не страшно. Тебе-то что бояться? Поставят бригадиром или еще кем-нибудь назначат…
— А почему ты думаешь, что бригадиром меня поставят? — осторожно спросила Нина.
Колючеглазая было открыла рот для ответа, но осеклась, не стала объяснять.
А объяснение простое: «курухи» в тюрьме, они и на зоне стучат, да и на воле приспосабливаются и промышляют доносами и сплетнями.
Я-то остаюсь убежденной, что все пороки сопряжены с завистью. Так? Ведь так?
…Завтра опять ни свет ни заря вставать…
…Завтра опять выезжать в суд.
И когда все это кончится? Неужели вправду хотят меня посадить?
8
«Союз нерушимый республик свободных…»
Радио по утрам громко, очень громко поет. Тише сделать невозможно. Принудительная трансляция — так это называется.
Девочки зашевелились. Скоро проверка. Я ожидаю вызова.
— Малявина! С вещами!
В суд ехала с цыганками. Дорогой много говорили.
— Отчего вы кочуете до сих пор? — спрашиваю.
— Родину ищем.
— Индию?
— Да.
— Но ведь вы теперь знаете, где она.
— Знаем.
— И что же?
— У нас две родины. Россия — тоже родина. В России к цыганам хорошо относятся.
— Да-да, — улыбаюсь. — И к вам, и ко мне очень хорошо отнеслись.
— То власть. А не люди.
Парень в «обезьяннике», то бишь в другом отсеке, сидит на полу, подпрыгивает, как будто машина не по Москве движется, а по проселку. Сидит босиком. Жарко очень. Кроссовки стоят рядом. На ступнях у парня наколки — погоны милицейские. Ноги вытянул, сам серьезный такой.
Цыганка мне глазами показывает на босые ноги парня.
Он заметил, что нас заинтересовали его «погоны», но по-прежнему оставался очень серьезным.
Прав Гоголь: в основе смеха лежит несоответствие. Серьезность парня, который и бровью не повел в нашу сторону, и его ступни с милицейскими погонами рассмешили и меня, и цыганок. Конвоир тоже расхохотался.
А из «стаканчика» «особо опасный» преступник, наглухо запечатанный, спрашивает:
— Чего ржете-то? А?
Мы пуще прежнего смеемся.
— Ну расскажите! А то сдохнуть в этом «стакане» можно.
А как рассказать? Да и неловко вроде бы.
Парень с «погонами» неожиданно веселым голосом спрашивает:
— Как тебя звать-то?
— Кого? Меня? — донесся голос, как из бочки.
— Да. Тебя.
— Мишей.
— И я Миша. Понимаешь, тезка, последний раз меня загребли из-за того, что я ментовские погоны нарисовал на ступнях своих ног. Следовательно, я топчу ногами их погоны. Понял?
— Ну? — делово интересничал Миша из «стакана».
— Ну и вот… лежу я на пляже в Серебряном бору, загораю… Забыл я про погоны-то, не видел, что менты по пляжу разгуливают. В нирване был… Ну, они мне хорошенечко напомнили про них.
— Ага. Ты пьяный был? Да?
— А как же? Во хмелю!
— Дрался с ними?
— В натуре.
Конвоир сделал строгое лицо.
— Прекратите разговоры. — И тут же спросил: — Тебя по «хулиганке» взяли или за погоны?
Миша из «стакана» возражал:
— Нет такой статьи, чтоб за погоны взяли.
Дед смешной наружности разворчался:
— Ты еще флаг советский наколи… Или из ЦК кого-нибудь нарисуй и топчи… Это надругательство, вот что это.
— Плохо то, что он с ментами подрался, — размышлял Миша из «стакана». — А сам-то как думаешь?
— А чего теперь думать? — спокойно сказал Миша с «погонами». — Теперь все равно. Лета жалко. К морю хотел. А так… что… привык уже. Да, дед?
— Да, — вздохнул дед. — Кабы не жара, то и ничего… Привыкли уже.
В зале судебного заседания в первых рядах все те же зрители, в основном дамы. Конечно, и Инна Гулая здесь. Таня и Сережа чуть поодаль. Танюшка показывает мне, что, мол, я хорошо сегодня выгляжу. Ну и слава Богу!
Выступает Наташа Варлей.
Я ее знаю давно. Наташа училась в нашем институте. Она была очень популярна после фильма «Кавказская пленница», но всегда оставалась скромной.
И сегодня она тихая, сосредоточенная. Я уверена, Наташа будет правдивой в своих показаниях. Чувствуется, что она верующая.
Они подружились со Стасом на съемках фильма Бориса Фрумина «Ошибки юности».
Стас очень хорошо относился к Наташе и все удивлялся:
— Валена, как же так? Она — звезда, а у нее столько забот. Я понимаю, что она очень любит своего сына, но нельзя же все хлопоты брать на себя. Поди, в Америках она была бы ого-го-го!
Как-то он сказал мне:
— Мы с Витей Проскуриным к Наташе Варлей пойдем, и ты приходи после спектакля.
Наташа жила рядом с Арбатской площадью.
Прихожу. Стас прямой, как струна, встречает меня, улыбается, важничает, не скрывает того, что ему несказанно приятно в нашем с Наташей обществе.
Витя уже уходил домой, а мы остались. И как-то так получилось, что мы с Наташей говорили вдвоем. Беседовать с ней очень интересно. И так вышло, что Стасу мы почти не уделили внимания.
Я не заметила, что он сник, а когда вышли на улицу, он и вовсе не разговаривал со мной. К дому пошли пешком, и тут я заметила его неважное настроение, но не стала ни о чем спрашивать, потому что настроение Стаса быстро менялось. От веселости к задумчивости, а порой и к сердитости был один шаг.
Вдруг он остановился и очень обиженно сказал:
— Как же так, Валена, ты ни разу не поглядела на меня? Я столько рассказывал Наташе о нас с тобой, а ты на меня ни-ка-ко-го внимания… А?
— Неужели?
— Ты меня вообще не замечала.
— Так получилось, Стас.
— Я хвастался, что ты любишь меня, а выходит…
— А выходит — зря хвастался?
— Да, — признался он.
И тут же понял, что обида его довольно смешная, и первый засмеялся, а смеялся он заразительно, до слез. Я ему не уступала. Не могли идти дальше от смеха. И Гоголь Николай Васильевич в своем сквере будто радовался нам.
А теперь Наташа Варлей стоит перед моими судьями и рассказывает про нас. Наташа говорит тихо, а публика хочет ее слышать. Кто-то, как в плохом театре, не выдерживает:
— Можно погромче?
Наташа не обратила никакого внимания на эту реплику и продолжала говорить.
Я вижу, что судьям ее речь становится неинтересной, потому что в ней нет ничего, что могло бы сработать на искомый «мотив неприязненных отношений» между мной и Стасом. Наташа была так правдива, что судьи почти не задавали ей вопросов..
Как хорошо, когда не разочаровываешься в человеке! Дай Бог Наташе самого лучшего!
…Нет, это невыносимо!
Это просто бессовестно!
Прокурор и общественный истец вовсю шепчутся. Нельзя же так!
Заседание прерывается, и я пишу заявление: «В который раз прошу сделать замечание прокурору и общественному истцу по поводу неэтичного поведения во время судебных заседаний. Прошу пресечь их недостойное поведение и впредь не разрешать им неприличное перешептывание во время процесса».
В перерыве подходит ко мне адвокат[4], облокачивается на барьер, за которым я сижу, и говорит:
— Вон, видите, девочка на вас похожа. Видите?
— Нет, не вижу.
— Очень похожа.
— Вас интересует что-то? Или вы по поводу девочки подошли?
Адвокат официальным тоном стал перечислять:
— Елена Санаева несколько раз просила дать ей слово. Отказывают. Анатолий Заболоцкий тоже написал заявление с просьбой выступить в суде, но оно пока не удовлетворено. — И поинтересовался: — А что, Заболоцкий хорошо знал Стаса?
— Довольно хорошо. Он хотел снимать его в фильме «Пастух и пастушка» по Виктору Астафьеву. Стас очень надеялся на их совместную работу. Стас почитал талант Заболоцкого.
— Да… Заболоцкий — превосходный оператор… «Печки-лавочки», «Калина красная», «Альпийская баллада»… Он что, хотел снимать новый фильм как режиссер?
— Да.
— Заболоцкий здесь, он в коридоре. И Кайдановский. И многие другие.
Саша Кайдановский! Его вызвали? Или сам пришел? Очень интересно, как он будет держаться, что будет говорить. Наши отношения начались в 69-м. Четырнадцать лет мы знаем друг друга.
Заседание продолжается. Вызывают Уланову Светлану Николаевну. Кто такая? Понятия не имею. Свидетельница просит провести допрос в закрытом судебном заседании. Какую же тайну хочет поведать она?
Публика недовольна, но подчиняется и освобождает зал. Оказывается, Уланова Светлана Николаевна — заведующая складом Театра имени Вахтангова! Лицо ее я все-таки вспомнила, но как ее зовут и кем работает в театре, не знала до сего момента. Уверена, что и Стас не знал.
Уланова начала свой монолог сразу с вранья:
— Малявина встречала Александру Александровну Жданько со своими друзьями. Они подъехали на двух машинах и хотели увезти мать Жданько, но работники театра посадили ее в свою машину. Тогда Малявина и ее друзья приехали в театр и блокировали два выхода…
Ну и ну!..
На вокзале я была вместе с Витей Проскуриным, Марьиным и Попковым. Это, оказывается, мы втроем блокировали два театральных выхода. Да…
Вдруг свидетельница поворачивается ко мне и говорит:
— Валь, помнишь, как ты сидишь на траве, а бархатное пальто вокруг тебя… ну, оно ведь длинное… А Стас и так, и эдак, и никак… Помнишь?
Дурдом, дурдом без всяких аллегорий! О чем она толкует?
Опять вляпались мои судьи со свидетелем. Смотрят на нее и не знают, что с ней делать.
Уланова уловила мое недоумение и поясняет:
— За грибами мы ездили…
У меня вырвалось:
— А-а-а… да-да-да…
— Вспомнила, да, Валь? — обрадовалась она.
Адвокат спросил:
— А зачем было Вале в длинном бархатном пальто в лес ходить?
Действительно, зачем?
И я вспомнила, как мы ездили за грибами.
Собралось довольно много театрального народу. Сели в автобус рано утром и поехали в Михнево. Я была в куртке, в брючках и красных резиновых сапожках, которые Стас привез мне из Ленинграда в надежде, что они мне пригодятся в Сибири, когда мы поедем к нему домой. Как только мы подъехали к лесу, Стас меня поцеловал, извинился и умчался куда глаза глядят. Очень соскучился по природе, Я долго гуляла по лесу и вдруг слышу:
— Валена, пойди-ка сюда, смотри… — позвал меня Стас, откуда-то явившийся.
Я увидела нашего актера Мишу Воронцова на полянке. Сидит он на пенечке. Перед ним другой пенек — служит столом. На «столе» бутылка водки и закусон. Миша в совершенном одиночестве, на лине сосредоточенность. Он достает из сумки яичко, осторожно надбивает его, выпивает. Затем в пустую скорлупу, как в стопку, наливает водку, поднимает руку, словно хочет произнести тост, задумывается и пьет свою первую. Выпил. Осторожно кладет освободившуюся из-под водки тару на пенек, закусывает… Деловой такой… Снова берет скорлупку, наливает в нее водку, опять жест рукой вверх — и ловко опрокидывает в рот содержимое.
— Интересно-то как!.. А, Валена? Человек сам по себе… Что он будет дальше делать? — шепчет Стас.
— Выпивать и думать, думать и выпивать.
И правда, Миша вновь поднял руку с импровизированной стопкой, выпил и крепко задумался.
— Ну, ладно, я побежал, — сказал Стас и скрылся в лесу.
А я тем временем вышла на большую полянку, где на травке расположились те, кто не умел или не хотел искать грибы.
Вскоре и Стас вынырнул из леса… И стал дурачиться, смешно лаять на нас, рычать, скакать вокруг меня, как бы норовя куснуть. Вот этот эпизод и вспомнила заведующая складом Театра имени Вахтангова: «А Стас и так, и эдак, и никак…» Только бархатное пальто совсем не из этой оперы.
Чокнуться можно от свидетелей, которых приглашает суд. На памяти еще один трагикомический эпизод, когда по просьбе свидетеля зрители тоже были вынуждены покинуть зал заседаний. Едва зал опустел, судья празднично пригласила:
— Пожалуйста!
И торжественной походкой в светлом костюме, при бабочке, раздувая ноздри, входит один мой знакомый художник и заявляет, что из-за меня он попал в клинику неврозов.
Я хорошо относилась к нему, и меня обеспокоило это его заявление.
— Боря! Ты из-за меня лежал в клинике?
— Да, — задрав голову вверх и не глядя на меня, ответил Боря.
— Почему? — недоумевала я.
— Расскажите, почему, — сложив губы в узенькую ленточку, предложила прокурор.
— Я был влюблен в Малявину.
Борины ноздри раздувались, как кузнечные меха.
— А я даже не догадывалась об этом.
Моя интонация была грустной, и конвоиры едва сдерживали смех.
Воистину, крыша едет у всех. От жары, что ли?
До сих пор я так и не поняла, откуда взялся и для чего понадобился этот свидетель, который вообще никогда не видел и не знал Стаса…
Когда же закончится этот маразматический процесс?
Конца и края ему нет…
По приезде в Бутырку долго не открывали дверь машины. Когда наконец открыли, конвоир сказал мне:
— Сейчас Стриженов подойдет к машине.
— Олег?
— Да. Оставайся, пожалуйста, на месте. — И позвал: — Олег Александрович!
Братва в «обезьяннике» тоже забеспокоилась:
— Олег Стриженов? Артист, да? Ух, ты!..
И прильнули к решетке, чтобы поглазеть на знаменитость.
Олег Стриженов! Господи! Если бы он только знал, сколько эмоций у меня связано с его именем!
Папа, мама, Танюшка и я отдыхали в Евпатории, когда на экраны вышел фильм «Овод» с Олегом Стриженовым в главной роли. Никогда не забуду этот вечер в летнем кинотеатре. Я влюбилась в Олега Стриженова!
Казалось, что море, солнечный песчаный пляж и дивные парки знают о моем настроении. И вдруг у моря я встретила мальчика, похожего на Овода.
— Смотри, Овод, — сказала я своей подруге.
— Надо же! Правда!
«Овод» тоже обратил на меня внимание.
Днем я укрылась от жары в парке и вдруг слышу:
— Тебя как зовут?
Обернулась — за мной идет «Овод».
Этим же вечером мы пошли в кино смотреть Лолиту Торрес. А следующий день провели на дереве, глядели на море и объедались шелковицей. Нам казалось, что мы никогда не расстанемся, но «Овод» жил в Ужгороде, а мне надо было возвращаться в Москву…
В кинотеатре «Юный зритель» на Арбате шел фильм «Сорок первый». В классе я нарочно садилась у самой двери и, как только учительница поворачивалась к доске, мигом выскакивала из класса и бежала смотреть Олега Стриженова в этом потрясающем фильме. А дома, когда никого не было, я кричала, подражая Марютке — Изольде Извицкой: «Синеглазенький ты мой!..» Все стены моей комнатки были увешаны портретами Олега Стриженова.
В праздничные дни в витринах магазинов по всему Арбату выставлялись фотостенды новых работ «Мосфильма». Под Новый год я гуляла по Арбату и с интересом разглядывала снимки актеров за стеклами витрин, украшенных морозным рисунком. Не могла оторваться от витрин с портретом Олега Стриженова в роли Гринева в «Капитанской дочке». Было такое ощущение, что он мне родной…
А теперь Олег Стриженов подходит к «воронку», из которого мне нельзя выходить до приказа конвоира.
Худенький «наркошка»[5] из «обезьянника» досадовал:
— Эх, не видно!
Я присела на корточки и подала руку Олегу. Он вглядывался в меня и был очень серьезен, а я улыбалась. Братва в своем отсеке, схватившись за решетки, замерла.
— Я здесь снимаюсь в фильме у Бориса Григорьева. Целый день жду тебя. В суд прийти не смогу, а моя Лина завтра обязательно придет.
— Передай ей низкий поклон от меня.
И замолчали. Тишина была необыкновенная. Потом Олег резко отвернулся и быстро пошел по дороге государства Бутырского в сторону проходной.
Так и стоят у меня перед глазами напряженные кисти рук заключенных. Рук было много, очень много. Лица оставались в темноте, а кисти рук, вцепившихся в решетку, белели. Какая жуткая фреска под названием «Тюрьма».
Все замерло на какое-то время… Потом кто-то тяжело выдохнул многозначительное «да».
Конвоир, опустив глаза, проводил меня до двери главного корпуса Бутырской тюрьмы.
И снова тесная-претесная камера, где совершенно нет воздуха из-за нагревшихся за день решеток и прочих железяк. Дымно и влажно в камере, ветхое тюремное белье, кое-как прикрывающее шконки, мокрое и вот-вот расползется вовсе.
Девочки притихшие.
Рая-мальчик вдруг спрашивает:
— Валюша, ты знаешь, сколько мы государству стоим в сутки?
— Нет.
— Тридцать семь копеек. Во как!
И отрывисто засмеялась. Хотела рассмешить всех. Не получилось. Все оставались молчаливыми. Отрешенно-задумчивыми. На усталых лицах — печаль.
А на следующий день в суд, как и обещал Олег, пришла Лина. Лионелла Пырьева — последняя из трех женщин, любимых легендарным Иваном Александровичем Пырьевым. Первыми были Марина Алексеевна Ладынина и Люся Марченко.
В 1959 году меня пригласили на кинопробы, остановив прямо на улице. Я пришла на «Мосфильм» и… заблудилась. Не где-нибудь, а в павильоне, в котором Иван Александрович Пырьев снимал «Белые ночи» по Достоевскому с прелестной Люсей Марченко и Олегом Стриженовым: в то время Олег уже был суперзвездой.
В огромном павильоне — Петербург Достоевского с каналами, мостиками, фонарями, дворами-колодцами и даже туманом… Самый настоящий город с притихшими вечерними домами.
И вдруг вижу — диво-дивное: Мечтатель и Настенька стоят на набережной канала. Олег Стриженов и Люся Марченко, взволнованные, произносят реплики своих героев. Иван Александрович удовлетворен актерами.
Я уже читала Достоевского, была влюблена в Олега Стриженова и восхищалась Люсей Марченко в фильме «Отчий дом». И конечно же много раз смотрела фильмы с ослепительной Мариной Ладыниной.
— Приготовиться к съемке! — командует тем временем второй режиссер.
И вдруг, к своему ужасу, замечает, как я выглядываю из-за угла декорации дома. Мигом оказывается возле меня и шипит:
— Немедленно покинь павильон! Безобразие! Кто тебя сюда впустил?!
— Никто.
А Иван Александрович кричит:
— Все ушли из кадра! Мотор!
Второй режиссер — это была жен шина — профессионально зажимает мне ладонью рот и мы замираем…
Как во сне… Я слышу текст Достоевского… Совсем рядом Олег Стриженов… Марченко… Пырьев…
— Снято! — радуется Иван Александрович.
— Перерыв на обед! — звонко закричала второй режиссер у самого моего уха и добавила, адресуясь уже ко мне: — Выход там. Иван Александрович не любит посторонних в павильоне.
Но мне не казалось, что я посторонняя.
Режиссер ушла на обед, а я осталась и стала осматривать этот уж точно «умышленный» город. Вода, да-да, самая настоящая вода темнеет в канале, фонари погашены, а туман, устроенный пиротехниками, еще не рассеялся.
Из павильона все вышли.
Я прошлась по набережной и остановилась на мостике, где снималась сцена. Вдруг слышу:
— Ты что здесь делаешь?
— Гуляю.
Иван Александрович стоял в арке «петербургского двора» и с интересом разглядывал меня.
Голос его был нестрогим.
— Гуляешь?
— Да.
— Иди сюда.
И скрылся в арке.
Я вошла в арку и обнаружила уютное пространство, где отдыхал Пырьев. В уголке стояли два шезлонга и легкий складной стол. Иван Александрович предложил мне присесть.
— Ты читала «Белые ночи»?
— Да. Я люблю Достоевского.
— За что?
— За то, что он любит бедных людей.
— Неплохо сказано.
Помолчали. Иван Александрович спросил:
— А как наша декорация?
— Это настоящий город. Я таким его себе и представляла. Он получился особенным.
— А что ты делаешь на «Мосфильме»?
— Меня пригласили на пробы. Я заблудилась. А теперь уже опоздала.
— Ты актрисой будешь?
— Буду. Но я пока еще не поступала в театральный.
Кто-то позвал Ивана Александровича.
— Я здесь, — отозвался он. — Это мой шофер, он привез мне обед. Оставайся и мы вместе пообедаем.
Я согласилась.
Шофер мне понравился. Поздоровался он так, как будто мы с ним были знакомы сто лет. Ловко накрыл на стол. Салат, бульон, вареная курица были на обед. Иван Александрович протянул мне салфетку и весело сказал:
— Ну?! Приступим?
И мы приступили. Ели молча, сосредоточенно.
Я засмеялась.
— Мне режиссер сказала, чтобы я ушла, потому что вы не любите посторонних в павильоне, но у меня ощущение, что я не посторонняя. Потому что я-то вас всех знаю давно!
Иван Александрович улыбнулся.
— Если тебе интересно, оставайся!
Я, конечно, осталась до конца съемочного дня.
Во время репетиции Люся Марченко внимательно посмотрела на меня и что-то спросила у гримера. Гример обернулась ко мне и пожала плечами.
Олег Стриженов скользнул по мне взглядом и продолжал репетировать.
Второй режиссер теперь улыбалась, она заботливо поставила мне складной стульчик, чуть в стороне от съемочной площадки, откуда я хорошо всех видела.
Когда герои произносили текст, Иван Александрович повторял за ними, усиленно артикулируя и широко улыбаясь, несмотря на драматическую ситуацию сцены.
Люся Марченко — замечательная Настенька, но мне так хотелось быть на ее месте! Мне казалось, что я смогла бы сыграть эту встречу на набережной.
Иван Александрович время от времени поворачивался ко мне и с удовольствием отмечал, что я взволнована и что мне все очень нравится.
После съемки он сказал:
— Завтра тоже приходи.
Второй режиссер обняла меня и проводила к выходу.
— Я выпишу тебе на завтра пропуск, оставь телефон и обязательно приходи, — сказала она.
Я и на следующий день пришла, и на последующий.
Иван Александрович просил меня оставаться с ним обедать.
Я усаживалась в шезлонг, но есть мне совершенно не хотелось, потому что я очень волновалась.
— Прошу тебя, до нашей встречи оставайся голодной, — улыбался Иван Александрович. — Мне так нравится, как мы обедаем.
Я кивала головой, мол, в следующий раз непременно останусь голодной до обеденного часа.
Конечно, дома я тотчас же перечитала «Белые ночи» и, когда гуляла по декорации, останавливалась на мостике, воображала, что я Настенька, и слезы появлялись у меня на глазах.
Это увидел Иван Александрович.
Он тихонько вышел из своего уютного пространства, где отдыхал, и смотрел на меня.
Я заметила его и очень смутилась. Он продолжал молчать, думая о чем-то своем.
— Я домой пойду, — сказала я.
И ушла.
Однажды Олег Стриженов перед съемкой поклонился мне, и для меня это было огромным событием.
Потом долгое время по разным обстоятельствам я не могла ходить на «Мосфильм». И вдруг звонок.
— В чем дело? Почему ты не приходишь к нам?
Голос второго режиссера беспокойный, даже сердитый.
— Завтра обязательно приходи. Пропуск тебе выписывается каждый день. Иван Александрович очень просил, чтобы ты пришла.
Снималась самая трудная сцена: глава «Четвертая ночь» из «Белых ночей» — воспоминания Мечтателя.
— Ох, Настенька, Настенька, что вы со мной сделали? — говорил в крайнем волнении Олег Стриженов.
Люся Марченко, вся в слезах, мучительным голосом произносила:
— Вы не отвергли бы меня, как он, потому что вы любите, а он не любил меня.
Но Иван Александрович, несмотря на их замечательную игру, репетировал и репетировал. Наконец выкрикнул:
— Поправить грим актерам!
Люся вышла из кадра, подошла к краю декорации, наклонилась к кому-то зачем-то и тотчас же вернулась на площадку. Я видела, что она стала еще взволнованнее и тихо простонала:
— Ну, пожалуйста! Снимайте!
Потрясающе они сыграли все дубли! Но Иван Александрович ничего не сказал актерам. Он подошел ко мне, погладил по волосам и ушел из павильона. Люся облокотилась на перила «набережной», сняла белый шарф необыкновенной длины и закрыла им лицо. Олег тихо успокаивал ее.
Какая-то драма, помимо ситуации «Белых ночей», окружала Пырьева, Марченко и Стриженова, этих трех прекрасных и талантливых людей.
Позже я познакомилась с Пырьевым ближе.
Я проводила отпуск в Таллине, где Саша Збруев, в то время мой муж, снимался в фильме Александра Григорьевича Зархи «Мой младший брат». Иван Александрович приехал на съемки, чтобы быть рядом с Люсей Марченко — она тоже снималась в картине, — и был в восторге от всей актерской компании. Саша Збруев, Люся Марченко, Олег Даль, Андрей Миронов! Да, действительно, звездная компания в фильме по «Звездному билету» Василия Аксенова.
Мы часто общались. Иван Александрович радовался, что я учусь в Школе-студии МХАТ, что утверждена Андреем Тарковским на роль в фильме «Иваново детство».
Как и прежде, он говорил:
— Ну! Пойдем обедать!
И мы отправлялись в симпатичное кафе «Кяна Кук».
Василий Аксенов тоже украшал Таллин своим присутствием. Красивый мужчина этот Аксенов! Талантливый, заводной, и почти всегда навеселе.
Глядя на меня, он улыбался и не уставал повторять:
— Как ты похожа на девушек начала 30-х годов!
— Почему?
— Не знаю.
И пожимал плечами.
При встрече опять восклицал:
— Как ты похожа на девушек начала 30-х годов!
Я спрашивала:
— Не середины, не конца, а именно начала?
— Именно начала, — утверждал Вася Аксенов.
— Но откуда вы можете их знать?
— Не знаю.
И снова пожимал плечами.
— Они вам интересны?
— О! Да!
— Тогда ладно.
И мы принимались хохотать.
Почему? А просто так! Оттого, что хорошо было.
Иногда целыми днями в Таллине не унимался дождь, а нам все равно весело было. Олег Даль брал гитару, и мы слушали, как он пел.
Но порою Саша был очень раздражен без видимого повода. И как-то я его спросила:
— Ты влюблен в Люсю Марченко?
— Нет. На площадке — да.
— Может быть, ты сердишься, что на съемки приехал Иван Александрович?
— О чем ты? — вскричал Саша.
Опять какое-то напряжение чувствовалось, как тогда, в «Белых ночах». Тогда оно возникло между Пырьевым, Марченко и Стриженовым, теперь — между Пырьевым, Марченко и Збруевым.
Много позже, уже в Москве, Иван Александрович позвонил мне домой.
— Сегодня у тебя есть свободное время?
Голос его был грустным.
— Да.
— Я заеду за тобой, хорошо? Куда бы ты хотела поехать?
— На Николину гору в березовую рощу, где я снималась у Андрея Тарковского.
— Хорошо. Я сейчас приеду за тобой. Выходи.
Было начало лета, вечер теплый-теплый, мне так захотелось увидеть березы, около которых я была так счастлива.
Мы вошли в зеленую рощу, и у меня голова закружилась. Иван Александрович опирался на красивую трость и с интересом поглядывал на меня.
Я снималась в «Ивановом детстве» осенью, тогда березовая роща была печальной, казалось, что она устала. Теперь она выглядела молодой, одетая в нежные зеленые цвета первой листвы. Стволы высоких берез глянцевые, белые-пребелые с черными густыми мазками. Трава сочная с маленькими сиреневыми и ярко-желтыми цветочками. Птицы поют.
— Я была счастлива здесь.
Иван Александрович остановился, поглядел наверх на кроны берез и в золотое вечернее небо, спросил:
— А что такое счастье?
— Это когда чувствуешь его.
— Поясни.
— Как же объяснить… Не знаю… Но знаю, что счастье — это настоящее. И если чувствовать настоящее по-настоящему, то и счастья окажется много.
Иван Александрович звонко крикнул:
— «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» — да?
— Да.
— Очень хорошо! — и с интересом спросил: — А ты бываешь совсем-совсем счастлива?
— Бываю.
— Бываешь? Интересно! Когда?
— Не скажу.
Пырьев обиделся на меня, и выражение его лица стало, как у дерзкого мальчишки.
— Не хочешь и не говори.
Даже пошел чуть впереди меня, играя тростью.
А как расскажешь? Связь с Богом — это и есть самое необыкновенное счастье!
Когда мы вернулись к машине, Пырьев сказал шоферу:
— Петя, на «Аэропорт», пожалуйста.
— Вы улетаете?
Он засмеялся.
— Нет, пока не улетаю. Мы поедем к метро «Аэропорт». Хорошо? Я тебе должен рассказать… Мне почему-то захотелось именно тебе рассказать…
Метро «Аэропорт» — это где-то далеко-далеко, так мне показалось. Тогда и в голову не могло прийти, что я много лет проживу в этом месте.
Мы поднялись, кажется, на второй этаж и вошли в необустроенную квартиру. На полу валялись фотографии из фильмов с участием Люси Марченко. Низкая тахта была неприкрыта, около нее валялись бигуди. Отчего-то мне запомнилось одинокое бигуди на полу.
Иван Александрович сказал:
— Это Люсина квартира… Мы с ней поссорились. Теперь уже навсегда. Я не хотел тревожить тебя своим рассказом в березовой роще… Я вернулся из Мексики. Приезжаю и вижу… дверь сломана и не заперта… а на полу… в квартире спит команда спортсменов… Все пьяны…
Я не знала, как успокоить Ивана Александровича, потому что он очень разнервничался, стала нести чепуховину.
— Дверь была не заперта? — спрашиваю.
— Нет.
— Спортсменов было много?
— Целая команда!
— Ну, и зачем же так переживать? Зачем ссориться? Команда отдыхает при открытых дверях!.. По-моему, ничего в этом страшного нет.
Конечно, смешны были мои доводы, но мне очень хотелось облегчить настроение Ивана Александровича.
Я вдруг вспомнила воскресный зимний день, когда Люся Марченко, Аллочка Будницкая, Саша Орлов, Саша Збруев и я были приглашены Иваном Александровичем в Союз кинематографистов на просмотр симпатичного чешского фильма с участием Карела Готта. Аллочка была, как всегда, прелестна. Саша Орлов, ее муж, красив и остроумен, а Люся Марченко в коричневой дубленке и белом кружевном пуховом платке в тот зимний день казалась совершенством, как будто этот день Бог посвятил ей и снег красиво опускался на землю специально для нее. Она светло улыбалась всем, и такое умиротворение исходило от нее, что все мы чувствовали себя очень уютно.
В этот-то день у меня и сместились все понятия о возрасте, о возрастном барьере между влюбленными — то, о чем обычно обожают посудачить обыватели.
Я видела, что Иван Александрович и Люся были счастливы.
А теперь они расстаются и, похоже, навсегда. Отчего так? А?
Иван Александрович вышел зачем-то в кухню и вернулся…
Вдруг пристально посмотрел на меня и сказал:
— Вы с Сашей Збруевым тоже расстанетесь.
— Как расстанемся? Почему?
Иван Александрович ничего не ответил.
Сесть было некуда, и так получилось, что он присел на пол и неожиданно обхватил мои колени.
Я чуть не лишилась чувств. Это было настолько неожиданно, что я онемела, а Иван Александрович, стоя на коленях, говорил и говорил, что нам надо быть вместе. Я тоже опустилась на пол, прижала свою щеку к его щеке и лепетала:
— Ничего, ничего… все пройдет… Вы так говорите оттого, что я чем-то похожа на Люсю… Вы хотите ей отомстить, и только… ничего, ничего, все пройдет…
Так мы и стояли друг перед другом на коленях…
А потом Иван Александрович улыбнулся и заметил:
— Посмотри, какая мизансцена получилась. Мы стоим друг перед другом на коленях. А еще говорят, что у Достоевского все придумано, что ничего подобного не бывает в жизни. Ан нет! Бывает!
Он даже повеселел. Я тоже улыбалась и тихо сказала:
— Я обязательно запомню нас в сегодняшнем дне.
Иван Александрович тяжело вздохнул и подошел к окну.
— Все пройдет, — повторила я.
— Ты думаешь?
— Уверена.
Он не однажды приезжал в Школу-студию МХАТ, разыскивая меня. Но я каждый раз уклонялась от встречи с ним.
«Братьев Карамазовых» Пырьев начал снимать, когда я уже работала в Театре имени Евг. Вахтангова. Меня вызвали в группу и предложили пробы на Катерину Ивановну. Я знала, что Грушеньку будет играть Лионелла Пырьева.
Катерина Ивановна казалась мне совсем не моей ролью, и я была удивлена этому предложению, но у Пырьева возникла мысль сделать героинь похожими, он находил, что мы с Линой одного плана.
У Достоевского в «Идиоте» князь Мышкин говорит Аглае: «Вы точь-в-точь, как Настасья Филипповна». Этим же путем хотел идти Иван Александрович в «Братьях Карамазовых»: идея сходства соперниц его увлекла. Но я отказалась от проб, мне было трудно играть Катерину Ивановну: я ее не чувствую..
Иван Александрович какое-то время был увлечен этой идеей.
— Лионелла и ты — темненькие. Надо сделать так: Лина останется сама собой, а ты будешь блондинкой.
— И зачем же я тогда нужна вам? Схожесть пропадет, и мысль тоже.
Второй оператор «Карамазовых», Сережа Вронский, тоже уговаривал принять приглашение на пробы и тоже видел меня блондинкой.
С болью, но я все же отказалась.
А теперь здесь, где идет суд надо мной, побывали все три талантливые женщины, горячо любимые Иваном Пырьевым: Марина Ладынина, Люся Марченко, Лионелла… Странно все…
9
Здание суда так и осело в моей памяти ледяными развалинами, «сталкеровской зоной». Ледяным холодом бокса, в котором нам положено дожидаться очередного заседания.
Конвой уже не настаивает на том, чтобы я непременно находилась в боксе. Оставляют, меня в более теплой «прихожей». Это нарушение режима, ребятам здорово попадет, если нас застукают…
Кто-то стучит во входную дверь, и я мгновенно оказываюсь в холодной камере.
Оказывается, пришел мой адвокат. Меня опять выпускают в тепло.
Адвокат в хорошем настроении, весь вид его не имеет ничего общего с обстановкой и обстоятельствами этого казенного дома. Яркая рубашка моего адвоката и сабо На босую ногу делают наш разговор неофициальным.
Адвокат вполне удовлетворен тем, что болтовня по поводу меня и Стаса продолжается.
Мне же не терпится, чтобы суд скорее приступил к экспертизам.
И потом… гражданский истец и прокурор продолжают все время шептаться? О чем? Неприлично это!
Зато теперь понятно, почему изъяты все записи Стаса и его дневники. В них много минора. Обвинение же старается создать его жизнерадостный образ.
Наконец я спрашиваю у адвоката, кому я обязана своим «вторым прокурором» — гражданским истцом.
— Ее пригласил Николай Попков, доверенное лицо обвинителя.
— Попков?!
— Да. Вы знаете его?
— Не очень.
— Кто он?
— Артист. Кстати, где он? — поинтересовалась я.
— Он в отпуске…
— Он что, не собирается больше появляться в суде?!
— Нет, он уехал.
— Как — уехал? Он не должен был уезжать! Как же так?
Я хотела задать ему свои вопросы. Нет-нет, я думаю, он появится, обязательно появится, хотя бы еще на одном заседании. Он ведь был в суде только один раз…
— Появится, — уверенно говорю я.
— Может быть, — улыбается адвокат. — Не нервничайте. Лучше расскажите о нем.
— Но я же его совсем не знаю! Меня интересует вот что: кто сочинил это безумное обвинительное заключение?
— Компания из прокуратуры Ленинского района. Я знаю, что его несколько раз переписывали. Были претензии суда по поводу непрофессиональности данного документа.
— Но в нынешнем виде этот, с позволения сказать, документ просто смешон и несостоятелен. И еще: как вы думаете, с ним ознакомились гражданский истей, то бишь адвокат Александры Александровны, и доверенное лицо, актер Попков?
— Конечно.
— Неужели это так? Впрочем, ничего удивительного. Попков и истей, она же адвокат Александры Александровны, на первых двух заседаниях вели себя вызывающе. Говорят, что истей за «кулисами» готовит свидетелей. А вы у нее булочку во время перерыва надломили и скушали… эх, вы…
— Вам и это известно?
— Да. И не только это. Я знаю, что ведется магнитная стенограмма заседаний, несмотря на запрещение судьи. Не понимаю, почему на открытом суде нельзя записывать заседания на пленку? Тем не менее Тайно запись ведется. Есть дубликат всего следствия… И еще. Я чувствую, что судья сожалеет, что взялась за это дело.
Подъехала машина. Пришли солдатики.
— Поехали, — говорят.
— Куда? — спрашиваю.
— Домой, в Бутырку, — и улыбаются.
Как всегда мы долго ехали к Бутырке, забирая по пути других подсудимых. И в Бутырке продолжительное время сидели в боксе, ожидая ужина. Значит, уже больше шести часов вечера и в камерах теперь отдыхают от дневного безделья. Господи! Не ведают, что творят советские юристы.
И вспомнилось мне, как мы устроились со Стасиком на его узенькой кроватке и рассматривали фотокарточки.
Меня заинтересовало небольшое фото, на котором был изображен молодой человек с библейским лицом.
— Кто это? — поинтересовалась я.
— Попков Коля. Мы маленько учились с ним вместе в Школе-студии МХАТ. Потом нас выгнали.
— За что?
— Дурацкая история. Неохота вспоминать. Противно.
— Чем он занимается теперь?
— У него талантливая жена, Наташа Егорова.
— Наташу я знаю. А он?
— Тоже актер. А еще… каждому Моцарту по Сальери, Валена.
— Надеюсь, ты — Моцарт. Он, стало быть, Сальери?
— Выходит так. В общем, нас выгнали из-за фашистских флагов.
— Ничего не понимаю. Каких фашистских флагов?
— Со свастикой, — Стас разнервничался. — Нет, Валена, не хочу рассказывать. Очень противно об этом вспоминать.
Весь вечер Стас был в угнетенном состоянии.
А когда мы засыпали, сказал:
— Когда нас с Колей Попковым выгнали из Школы-студии, я поехал домой, в деревню. Несладко мне там пришлось. Матушка стеснялась перед всеми, что я бездельничаю, и резко поставила вопрос о работе. Вернулся в Москву. Почему-то был в валенках, наперед зная, что в них нельзя ходить по Москве. Сыро. Солью асфальт посыпают.
Ну… приехал я в Москву… В кафе «Синяя птица» читал рассказы Шукшина. Кормили.
Потом стал жить в Химках у Юрия Михайловича. Этот человек готовил ребят в театральные институты. Ну, учил… кое-чему… Научил, например, каждое утро есть геркулесовую кашу с поджаренным луком. Я даже привык к ней, к каше. Силу она дает. Англичане не дураки в этом вопросе.
Весной стал поступать в Щукинское и поступил…
Попков никогда не бывал у нас в гостях. Никогда Стас его не вспоминал.
Как-то Стас, Наташа Егорова, я и Попков зашли на Арбат, на улицу Вахтангова, где моя мама жила. Я, кажется, вернулась из киноэкспедиции… Но я плохо помню этот день, а Попкова и вовсе не помню.
Так что еще о Попкове?..
Мы встретились случайно вечером на Пушкинской плошали. Я хорошо запомнила весь этот день — 10 апреля 1978 года. Был понедельник. А по понедельникам Театр Вахтангова работал на двух площадках: у себя и на сцене Театра имени Моссовета.
Этим вечером Стас должен был играть в Театре Моссовета. Настроение у него было скверное, и ему не хотелось ехать на спектакль.
Мы ужинали у моей мамы. Я старалась его развеселить и предложила проводить в театр.
— Я тебя провожу, а сама пойду в учебный театр и посмотрю наших студентов в спектакле по Шукшину «А поутру они проснулись». Потом встречу тебя, и мы пойдем в ресторан ВТО, а там в симпатичной компании помечтаем о будущем театра.
Стас повеселел, и мы поехали на Маяковку.
Я проводила его до самой гримерной.
У дежурной написала записку и попросила передать ее Стасу.
Содержание записки было мажорным:
«…Ты живешь в Москве! В самом центре ее! В знаменитом доме, где жили великие люди! Работаешь в лучшем театре нашей страны! Играешь хорошие роли! Тебе симпатизируют замечательные актеры нашего времени!
И тебя любит, очень любит Валя М.!
Ты не должен грустить.
У тебя все хорошо!..»
После спектакля в Учебном театре я поспешила встретить Стаса. Шла по улице Горького и вдруг слышу:
— Валена! — Стас кричал громко и радостно.
Он был еще в дверях троллейбуса.
— Ну надо же! Я хотел выйти на следующей остановке, около Учебного театра и вдруг увидел тебя! Ну надо же!
Иной раз в одном подъезде живешь и не встречаешься, а тут… Здорово получилось! Спасибо тебе за послание. Передали перед выходом на сцену.
На углу улицы Горького и Пушкинской плошали старушка продавала цветы. Стас купил мне чудесный букет.
— Пойдем домой. Пешком. Не хочу в ВТО.
Тут-то мы и встретили Наташу Егорову и Попкова.
Стас эмоционально начал рассказывать о встрече в гостинице «Москва» с писателями-«деревенщиками»: Беловым и Распутиным, с оператором Заболоцким Толей, с художником из Минска Игнатьевым Женей.
Стас был увлечен деревенской литературой и почитал наших знаменитых писателей. При удобном случае он с удовольствием рассказывал об этой встрече и очень гордился ею. И теперь с восторгом вспоминал новых знакомых.
На что Попков насмешливо сказал:
— И конечно, ты был среди них главным?
Явная издевка, ирония, даже злость слышались в его голосе.
Мне показалось, что Наташе Егоровой не по себе.
И правда, Попков — настоящий Сальери.
Я взяла Стаса под руку, попрощалась и увела его.
— Почему он так разговаривает с тобой?.
— Он всегда так.
Эта встреча была 10 апреля.
11 апреля Стас мне предложил поехать в гости к Попкову.
— Но он не приглашал нас.
— Что-то мне не по себе… Ведь я виноват перед ним. Я сразу не сознался, что причастен к истории с фашистскими флагами[6], и остался в школе-студии, а его выгнали. Потом и меня разоблачили. Вот ведь какие дела… С тех пор я молча терплю унижения.
И рассказал мне один случай. Наташа Егорова, Попков и Стас как-то поехали в лес. Поставили палатку. Наступила ночь. Хлынул дождь. Попков и Наташа спрятались в палатке.
Стас остался на улице под дождем. Не впустил Попков в палатку Стаса.
— Я как собачонка возле них, потому что вину свою перед ним постоянно чувствую.
Не поехала я тогда к Попкову.
А Стас поехал. Кажется, с Марьиным. Вернулся домой поздно.
— Что-то у них не то… и как-то все не так, — сказал Стас.
Потом… когда Стаса на этом свете не стало, Попков несколько раз приходил ко мне на Арбат.
Я доверяла ему. Мне казалось, что он хочет помочь мне, успокоить меня своим присутствием.
Я показывала ему записи Стаса, интимные дневники, письма.
Забыла, что Попков — Сальери.
Потом Попков почему-то попросил наш плед, под которым нам было очень уютно со Стасом. Я отдала. Носил тулуп Стаса, который я тоже отдала ему.
А еще вот что произошло. Приходит ко мне один из следователей прокуратуры Ленинского района и спрашивает:
— Это то кресло, в котором сидел Стас в последний вечер?
— Да.
Следователь молча, не оформляя никаких документов, берет старинное, очень красивое кресло и уносит его из моего дома. Я не успеваю ничего сказать, думаю, что кресло необходимо для следствия, для экспертизы, и была уверена, что оно вернется ко мне.
Стас принес это кресло домой из мебельного комиссионного, что находился на набережной, где потом был «Ганг», принес и торжественно сказал:
— Вот тебе от меня подарок, Валена! Прими, пожалуйста.
Не вернулось ко мне старинное кресло. Кто теперь сидит в нем? И как тот, другой, чувствует себя в моем кресле?
Мне был очень дорог этот подарок Стаса. Странные люди…
Я убеждена, что у каждой вещи есть энергия и что похищенная вещь никогда не принесет радости новому владельцу, скорее наоборот.
Больше я ничего не знаю о Попкове.
На сцене я его не видела.
Не знаю, снимался ли он в кино?
…Вхожу в камеру. Накурено — ужас, но чисто. Обрадовались мне.
Рая-мальчик громко запела: «Я на шконочке лежу и ушами шевелю. Все лежу и лежу, на кормушечку гляжу…»
Очень смешно получилось.
И спрашивает:
— А Сергей Козлов был в суде?
— Был, — говорю..
— Ух, ты! Скажи Сереже, что я его песенку про Львенка и Черепаху на свой лад пою. Спроси — можно ли?
— Ладно, — пообещала я.
Денёв удивляется:
— Не понимаю, они что — совсем дураки? В твоем суде. Сколько раз можно к ним выезжать? Завтра опять?
— Нет. Завтра отдых..
— Ура!
Лаже Нина обрадовалась.
Я убеждена в том, что люди, почти все, изначально хорошие.
А зависть, с которой сопряжены и предательство, и воровство, и подхалимство, и все другие пороки, — это не что иное, как болезнь.
А болезнь — огромное несчастье.
Поэтому есть люди очень хорошие, просто хорошие и несчастные. Плохих людей нет.
Несчастных надо жалеть.
Правда ведь?
Денёв права — сколько можно выезжать в суд?
Сокрушительная усталость после поездок туда.
Предполагается, что 14 июля будет наконец-то давать показания врач «скорой помощи» — Поташников.
Только бы пришел!
Он — единственный объективный свидетель.
Будут допрашивать и меня.
…14 июля 1983 года меня привезли в суд неожиданно быстро.
— Ну ладно, Валентина, посиди здесь пока. Совсем холодно в камере, — беспокоился солдатик из конвоя.
После паузы спросил:
— Устала?
— Да.
Смотрю на телефон, который стоит совсем рядом со мной.
— Можно я позвоню? Быстро?
— Нет, Валентина, нельзя. Если засекут, я пропал.
— Очень быстро. Домой.
— Ладно, звони, — согласился он.
Набираю телефон Тани и Сережи — мама сейчас у них живет. Очень нервничаю. Руки не слушаются. Цифры путаются. Занято. Ну надо же!..
— Занято, — я чуть не плакала.
— Ох, Валентина!.. Давай по-быстрому еще раз.
— Опять занято.
И сама не знаю зачем, набрала телефон Инны Гулая.
— Инна, здравствуй!
Онемела Инна. Она хорошо знает мой голос по телефону. С испугом спросила:
— Ты откуда?
— Это неважно. Слушай меня, не перебивая. Я очень прошу тебя — не приходи в суд. Позвони, пожалуйста, Сереже с Таней, у них моя мама, и передай им привет. Я только что звонила — телефон занят. Еще раз прошу тебя — не приходи больше в суд. Ты мне мешаешь.
Инна закричала:
— Кто тебе разрешил звонить?
— Инна, не приходи в суд! Очень мешаешь.
— Не угрожай мне!
Я положила трубку, рыло очень тяжело. Я понимала, что на суд Инна все равно придет. В очередном бархатном платье. Сядет, как обычно, близко ко мне и будет смотреть с ненавистью… Почему? За что? Я и сегодня этого не понимаю.
— Все, Валентина, больше звонить нельзя, — это солдатик. Он набирает нужный ему номер и докладывает, что мы прибыли.
— Ты Гулая звонила?
— Да. Она плохо со мной говорила.
— Она просто растерялась. Не ожидала, что ты сможешь позвонить. Не расстраивайся. У тебя сегодня трудный день. Нельзя нервничать, — успокаивает солдатик.
— Спасибо тебе. Ты хороший. Сколько еще ждать?
— Если не перенесут на более позднее время, то часа два.
В дверь постучали, и мне пришлось пойти в бокс.
…Вызывается свидетель Кайдановский.
Наши отношения с Сашей Кайдановским тянут на толстый роман. Но вначале о его выступлении на суде.
Перед его показаниями был объявлен перерыв, и когда конвой уводил меня в камеру, я встретила Сашу в коридоре. Свидетели и просто зрители разгуливали или стайками шептались по углам, а Саша одиноко сидел на скамейке у стены.
Мы посмотрели друг на друга. Он не приподнялся, не поздоровался. Странно… Я впервые не разгадала его настроений… и никакой эмоции не почувствовала… удивительно… Почему так?
Не нахожу ответа.
Итак, Саше задают дежурные вопросы, он отвечает на них. Наконец судья спросила:
— Где вы работаете?
— Нигде, — ответил он.
— Как нигде? — озадачилась судья.
Саша повторил:
— Так… нигде.
Судья сделала паузу и еще раз требовательно спросила:
— Кайдановский, где вы работаете?
Вижу, что Саше понравился этот дурацкий диалог, и он опять беззаботно отвечает:
— Нигде.
Судья начала основательно сердиться:
— Кайдановский, к вашему сведению, есть такая статья под номером 209, и есть еще несколько статей, по которым вы можете оказаться перед судом в другом положении, нежели теперь. Я еще раз спрашиваю вас: где вы работаете или работали в последний раз?
Саша вздохнул, повернулся ко мне и спрашивает:
— Валя, в каком году меня уволили из Театра Вахтангова?
Я принялась было вспоминать, а судья раскричалась:
— Прекратите сейчас же ваши издевательства! Ведите себя прилично!
Тут секретарь подсказала:
— Он учится.
— Как учится? Где? — орала судья.
Саша молчал, а секретарь, как ученица-отличница, четко произнесла:
— Он учится на Высших режиссерских курсах.
— Почему вы сразу не ответили, Кайдановский? — возмущалась судья.
— Вы спрашивали меня о работе, а в настоящее время я нигде не работаю, — безмятежно пояснил Саша.
Судья повела диалог дальше:
— От кого вы узнали о случившемся в 1978 году со Жданько Станиславом?
— От Симоновой.
— Вашей жены?
— Нет. Я узнал о случившемся от Евгении Симоновой, с которой Стас Жданько учился на одном курсе.
— Я и говорю, что вы узнали о случившемся от вашей жены, Евгении Симоновой.
— Фамилия моей жены — Кайдановская, — безмятежничал Саша.
Ему явно нравилась эта процедура вопросов и ответов.
— Ну, это понятно, что она Кайдановская, но у нее есть своя фамилия — Симонова.
— Моя жена не Симонова, а Кайдановская.
Казалось, что это будет продолжаться до бесконечности, зрители уже начали сетовать на Сашу, не понимая, что он всего лишь говорит правду. Саша расстался с Женей Симоновой, и теперь его новая жена — Кайдановская, вот в чем дело. И уж совсем Саша стал непонятен, теперь уже всем, когда принялся обвинять в нашей трагедии со Стасом Федора Михайловича Достоевского.
— Во всем виноват Достоевский, — заявил он.
Было ощущение, что Федор Михайлович сидит на скамье подсудимых рядом со мной. После недоуменной паузы общественный истей проникновенно спросила:
— Почему же?
И Саша заявил, что Достоевский отрицательно влияет на эмоции людей.
— Стас играл Раскольникова в дипломном спектакле. Замечательно играл. А чтобы хорошо сыграть этот персонаж, надо его понять, а чтобы понять, надо многое пережить… Потом он стал репетировать Рогожина, надеясь сыграть с Валей в спектакле «Идиот». Валя очень хорошо играла Аглаю в этом спектакле. Тоже надо кое-что пережить, чтобы так сыграть.
Посмотрел на скамью подсудимых, но не на меня, а рядом, словно тут и сидел Достоевский Федор Михайлович, и продолжал:
— Последняя наша встреча со Стасом была после того, как я прочитал его инсценировку «Великого инквизитора» — по главе из «Братьев Карамазовых». Вы представляете себе, что это такое — сесть и инсценировать самую трудную историю у Достоевского?
Общественный истей по-прежнему проникновенно спросила:
— А что, грустный сценарий получился?
— На веселую тему сценарий по Достоевскому написать нельзя, — сказал Саша и как-то совсем безнадежно посмотрел на общественного истца. Помолчал и спросил: — Как вы считаете?
— Суд снимает вопрос о Достоевском, — округлив глаза и с обидой в голосе прекратила разговор судья.
На памяти у меня другие Сашины впечатления о Достоевском. Он так же, как и Стас, готовился выступить, будучи в Театре Вахтангова, в спектакле «Идиот». Только Саша — в роли Мышкина, а Стас — Рогожин. Им так и не удалось сыграть в этом знаменитом спектакле Александры Исааковны Ремизовой.
Когда Саша учился у нас в институте, Пырьев хотел пробовать его на Алешу Карамазова. По каким причинам расстроилась эта творческая встреча, не знаю — мне было неловко спрашивать об этом у Саши. Он как-то начал рассказывать, что мечтал сыграть Алешу у Пырьева, но разнервничался и прекратил свой рассказ, а я больше не тревожила его расспросами на эту тему, хотя мне было очень интересно.
А еще он хотел сделать моноспектакль по Достоевскому «Сон смешного человека». До сих пор помню, что действие должно было происходить на старом, холодном кожаном диване.
Так что отношения у Саши с Федором Михайловичем совсем не простые. Наверное, от этого и получается у него, что главный виновник нашей трагедии со Стасом — автор «Идиота» и «Преступления…».
Впрочем, у меня есть черновик моего собственного письма к Стасу, где Достоевскому тоже принадлежит особая роль.
После нескольких чаепитий у Стаса дома, в самом начале наших отношений, он попросил меня:
— Валена, напиши мне, пожалуйста, письмо.
— О чем?
— О нас. О театре. Я хочу получить от тебя письмо.
— Что за блажь, Стас?
— Это не блажь. Я хочу побыстрее понять тебя. Напиши на адрес театра.
И я написала ему письмо. Вот фрагменты из него:
«…хочется рассказать тебе о многом. Но как? Возможно ли написать про то, что происходит со мною теперь? Какая-то боль поселилась во мне, нет, не тяжелая, не огромная глыба, а похожая на болезненный, непреходящий звук, и никуда не деться от него. Что это? Наверное, это — Предчувствие.
Я увидела тебя в Раскольникове, и вспомнился мне один вечер в Питере. Становилось совсем темно. Вокруг никого. Страшно немножечко. Улица, мощенная булыжником. Что это за улица? Оказалось, Казначейская. Силуэт в конце улицы. На меня движется. Испугалась. Нырнула во двор. Двор небольшой, дрова в углу у стены сложены, словно все из другого времени: и двор, и силуэт, и дрова…
Достоевский и Раскольников совсем рядом.
…Мне кажется, что у твоего Раскольникова идея, которая посетила его, как бы вне его, сама по себе. И он боится ее. И чем больше он ее боится, тем сильнее она действует на него.
Мне интересен процесс мышления твоего Раскольникова, только я не знаю, где ты, где он.
Ведь дело не в топоре, а в освобождении от смертельных тисков Идеи. Освобождение от нее — это Принятие ее. Редко кто задает себе лишние вопросы. Легче их не задавать. Можно не найти ответа.
Ты поставил эти трудные вопросы в длинный ряд и пытаешься на каждый из них найти ответ. Это непосильный труд, но мне кажется, что ты догадываешься о Главном. И все-таки я чего-то очень-преочень боюсь… От этого во мне и живет постоянный, болезненный звук нехорошего Предчувствия…»
Это письмо было изъято вместе с другими письмами, дневниками, фотографиями, бумагами и прочим во время обыска. И теперь оно находится не в чистых руках. Слава Богу, у меня сохранилось многое, в том числе и черновик письма. При обыске на Арбате выгребли все из моего письменного стола, а на полку в стене не обратили внимания. Полка большая, высотою в три метра, там-то и находилось многое из того, что было очень ценно для меня.
И теперь надо сделать так, чтобы протоколы моего дела никуда не исчезли, а то мало ли?
Опять устроят обыск, да еще в мое отсутствие.
А стенограмма судебных заседаний, несмотря на непонятные запреты, все же ведется.
На одном из заседаний вдруг что-то зафонило. Судья спрашивает:
— Кто тут ведет запись?
Молчание.
— Я еще раз спрашиваю: кто ведет магнитофонную запись?
Она так резко спросила, что микрофон, наверное, от испуга совсем засвистел и обнаружил молодую, привлекательную женщину с кейсом, в котором она и прятала магнитофон. Женщина рванулась к дверям, но конвой ее задержал. Судья объявила паузу и вместе с женщиной, сопровождаемой конвоем, вышла в коридор.
Я смотрю на Танюшку и Сережу, спрашиваю их глазами — наша, мол? Они отрицательно качают головой, и я успокоилась. Наверное, журналистка, скорее всего на заграницу работает.
Но протокол судебных заседаний все равно ведется.
…Вернусь к письму. Там есть разговор и о Саше Кайдановском, и о театре. «…Саша — это мое мучение. Это был мой смысл. Это была сама я… Потом очень устали мы. Каждый искал свой выход. Для него, скоро нашелся выход: он женился на Симоновой Женечке. Для меня тоже был выход: я решила быть совершенно одна и заняться делом. Для меня дело — это наш театр, который почти разрушен, тем более нельзя «больное» покидать. У меня были и остаются заманчивые предложения со стороны, но я люблю Театр Вахтангова со всеми его бедами. А как помочь ему? Играть хорошо свои роли, пока так, а там, Бог даст, и другая надобность объявится.
Всем ясно, что Симонов и Ульянов во внутреннем конфликте. Ты знаешь, что я люблю Михаила Александровича, но я консерватор и ненавижу революции. Пока в театре нет революционной ситуации, но она, по всей вероятности, неизбежна, значит, и революция неизбежна. А чем кончаются революции?.. Вот то-то и оно… Не хотелось бы, чтобы наш театр прошел гибельный путь МХАТа.
Ведь вот в чем дело — все те, на кого сегодня опирается Женя Симонов, отвернутся от него в пользу нового руководителя, но и новому руководителю они вскоре неинтересны будут. Это закон любого мятежа. Удел предателей очевиден: жалкий он, этот удел. Есть еще одно волевое, целеустремленное действующее лицо — Слава Шалевич. Он никогда не проиграет. Он хорошо понимает ситуацию в театре. Мне кажется, что у него обдуман и путь, и программа своей жизни в театре. Он делал попытки объединить молодежь, но невозможно объединить разноодаренных людей, поэтому Слава и остается сам по себе. А молодежь, мужская половина, объединилась группкой и усиленно ненавидит Женю Карельских. За что? А за то, что он талантливее многих из них. Карельских же самозащищается. А каким способом? Не лучшим. Взял и вступил в партию. Наверное, я полагаю его более талантливым, чем он есть на самом деле, иначе он не суетился бы так…»
Предчувствия и вещие сны в моей жизни занимают чуть ли не главное место. Они меня ни разу не обманывали.
Разве что не ведаю я о результате этого непристойного суда. А каков может быть результат такого суда? Тоже непристойный и лишенный всякой логики. Хотя надежда меня не покидает. Я стараюсь отстраниться от судейского маразма. Только однажды я не выдержала, когда мой адвокат начал читать выдержки из дневника Стаса. Я чуть было не закричала в голос, когда он прочитал: «Я мечтал о славе, о ролях. Какая чушь! Передо мной ее огромные черные глаза. Смотреть в них, любить ее, и больше ничего не надо. Мы любим друг друга, но я чувствую, что все равно все кончится катастрофой. Она покинет меня. Без нее хоть в полет…» Судья увидела, что мне стало плохо, сделала перерыв, и меня увели вниз, в камеру. Вскоре приехала «скорая помощь», мне всадили какой-то укол и заставили полежать. Меня бил нервный озноб, к тому же и в камере было очень холодно. Девушка-конвоир вытащила из сумки мой длинный шерстяной халат и прикрыла меня, но спина примерзла к холоднющей скамейке…
— Валентина, ты что? Так хорошо держалась, и на тебе… Не надо. А то им, тем, что в зале, совсем любопытно станет… Не надо.
— Понимаешь, и Стас, и я чувствовали катастрофу… И она нас настигла. Но почему Судьба выбрала именно нас?
Меня вернули в зал. Права была девушка: лица присутствующих в зале просто сияли любопытством. С нескрываемым интересом они разглядывали меня, а адвокат продолжал читать записанное Стасом в дневнике еще задолго до наших отношений: «Истинная жизнь открывается только после смерти. Когда же я решусь? Может быть, теперь? Нет, наверное, решусь только спьяну…
…В самом дальнем уголке души живет неудовлетворенность, какая-то боль, неизвестно от чего и как появившаяся. И эта самая боль начинает вдруг таранить сердце, мозг. И день превращается в ночь и как бы становится с ног на голову..
Может быть, и это необходимо человеку? Может быть, в этом и назначение его? Провидение? Чтобы не успокаиваться, а все время метаться, как зверь, пойманный в сети, и находить в этом сладостный миг существования?
Возможно, и так.
Но иногда хочется взять всю эту философскую канитель и расшибить о что-нибудь более существенное, простое, например, о ту же самую лодку, гниющую на мели, которая мерещится мне, просит меня, зовет обратно в чистоту и непорочность былых дней.
Не хватает, да, наверное, уже не хватит сил бросить всю эту дребедень человеческую, весь этот актерский бедлам и возвратиться на истоки свои: растопить печку, заварить крепкий чай, бросить туда пучок мяты и успокоиться. Отравиться естеством земным и умереть, чтобы родиться.
Нет, не бывать этому никогда.
Слишком втянулся я в эту суматоху дней. Мы говорим о Боге и Дьяволе, читаем Достоевского и Гофмана, понимаем все… все, что было, что есть и что будет, и, однако же, продолжаем срать… срать… на все, что под солнцем есть самое дорогое. Продолжаем, потому что уже потерянные. Скоты мы! Скоты! И в скотстве своем нет нам предела.
А самое главное, что из всех этих мерзких ситуаций выгораживаем только себя, будто я-то ни при чем, и творим непотребное, творим зло, выдавая его за что угодно, только не за самое себя.
Дети, конечно, не повинны ни в чем, невинны и звери, и сама земля…
Но я все равно хочу, чтобы эта история закончилась раз и навсегда. Я хочу, чтобы все перестало быть.
И если есть Бог, пусть Он поймет меня правильно и родит новые существа, и даст им новую, иную жизнь. Уничтожение — вот что нужно теперь.
А может быть, только я, я сам — инфузория, может быть, только мне одному требуется уничтожение?»
Вот что я думаю по этому поводу: мысль, изреченная или записанная, непременно материализуется.
Я замечала это не раз. Особенно это касается дурных мыслей.
Почему же мы так часто хандрим? А?
Нас спрашивают: «Как жизнь?»
Мы отвечаем: «Ну, какая может быть у меня жизнь?»
Нас спрашивают: «Как ты себя чувствуешь?»
Мы вздыхаем и говорим: «Так себе…»
Хотя и болит голова, но не до такого же глубокого вздоха и выдоха с ненужными для жизни словами «так себе».
И получается, что изо дня в день мы окружаем себя тусклым минором, а когда жизнь по-настоящему ударяет нас, мы не готовы противостоять удару.
Мы сами себе устраиваем несносную жизнь, устаем в ней и, утомленные, умираем.
А между тем каждый Божий день — целая Жизнь, и таких дней Бог для нас уготовил предостаточно. Утром мы просыпаемся — зачем? "
Чтобы увидеть Новый день, радостно удивиться ему и улыбнуться друг другу. Ведь так?
Надо уметь держать себя в руках. А то я чуть было не лишилась чувств перед судом и любопытной публикой. Моим друзьям доставила переживания, чуть не хлопнувшись в обморок. Плохо это.
Да и мало ли что еще ждет меня впереди…
10
В ноябре — наконец-то! — свидание с родными. Танечка, Сережа, мама… Мамулька — молодец, держится, только бледненькая очень. Она мне сказала, что Саша Кайдановский вновь официально женился… В третий раз уже, зачем ему это? Сашу всегда окружали сплошные иллюзии…
Эту книгу я посвящаю Стасу. Но не могу не говорить и об остальном моем мужском окружении: дело в том, что и Сашу Збруева, и Павлика Арсенова, и Андрея Тарковского, и всех остальных Стас почитал. Сашей Кайдановским — искренне восхищался.
В Гнесинском давали «Гамлета», в очень своеобразной постановке. Главная роль — у Кайдановского, посмотреть спектакль мы пришли целой компанией: Павлик Арсенов, Маша Вертинская, я, Илюша Былинкин.
На сцене — симфонический оркестр. Появляется Гамлет. Черный свитер с белым воротом делают его лицо совсем бледным. Он смотрит в зал.
Он играл очень хорошо! Он чувствовал гениальный текст Шекспира по-своему. Было ощущение, что я впервые узнаю о принце датском.
Павлик тихо спросил:
— Сколько ему лет?
Шура Ширвиндт сидел рядом с нами. Я поинтересовалась о Сашином возрасте, Шура сказал:
— Двадцать один или двадцать два.
— Молодец! — похвалил Павлик Сашу Кайдановского.
Маше, Илюше тоже понравился спектакль и, конечно, Гамлет — Кайдановский.
На следующий день на репетиции Александра Исааковна Ремизова спросила меня о спектакле и о Кайдановском. Я с восторгом рассказала о своем впечатлении.
Александра Исааковна улыбалась:
— Вот и будет у вас новый князь Мышкин. Николай Олимпиевич сам понимает, что должен явиться новый князь.
Николай Олимпиевич Гриценко однажды перед спектаклем «Идиот» сказал мне:
— Грустно прощаться с ролью… Очень! Но… пора. Как ты думаешь?
Я не знала, что и ответить, начала лепетать о Саре Бернар, которой было много лет, но когда она играла, кажется, Жанну Д'Арк и на сцене ее спросили о возрасте, она выкрикнула: «Осьмнадцать!»
Николай Олимпиевич хохотал:
— Уж очень ты смешно крикнула «Осьмнадцать!», будучи сама, как восемнадцатилетняя.
Как-то Павлик Арсенов приходит домой и говорит:
— Сейчас на Арбате встретил Сашу Кайдановского, представился, поблагодарил его за Гамлета и пригласил к нам.
— А он?
— Сказал: «Спасибо. Не знаю. Может быть, и приду».
В это время подорожал коньяк. До подорожания Павлик мне говорит:
— Давай купим ящик коньяка. Позже — дорого будет.
Деньги были. Купили коньяк и большую банку очень вкусной ветчины. Приглашали симпатичных нам людей и угощали коньяком.
У нас в маленькой комнате на полу лежал очень красивый шерстяной ковер, будто осенняя трава. Еще было старинное кресло, похожее на трон. Иконы. И прислоненный к стене огромный серебряный поднос с каменьями. Когда приходили гости, мы клали поднос посредине комнаты и трапезничали, сидя на ковре. Уютно, необыкновенно красиво. К нам любили ходить гости.
Наступил день показа студентов 4-го курса, где учился Саша Кайдановский, Леня Филатов, Нина Русланова… — сильный курс у них был. Сашу и Нину, конечно, пригласили к нам в театр. Саше обещали роль князя Мышкина, но… он не сыграл этой роли.
Как и Стас Жданько не сыграл. Рогожи на, которого ему обещали. Отчего так происходит? Не знаю. Знаю только одно: это был удар как для Саши, так и для Стаса. У них постепенно развивалось неприятие театра. Была потеряна вера, а с потерей веры образовывалась пустота, от которой было невыносимо. Я была свидетелем той и другой трагедии.
Скажем, мы со Славой Шалевичем играем роли в спектакле и по сюжету отдыхаем в ресторане, а Саша — официант с подносом. Он приносит наш заказ. И все. Уходит. И это после Гамлета…
Он жил в общежитии театра Вахтангова и Однажды пригласил меня к себе домой, познакомил с женой — Ириной и подругой его любимой — Верой Шур. Она училась в университете на психолога.
В небольшой кухоньке над столом было несколько моих снимков из журнала «Советский экран» в фильме «Иена быстрых секунд», где я была спортсменкой по конькобежному спорту.
Мне Саша был очень интересен.
Мы часами слушали Вагнера. Саша замечательно читал стихи. Разговоры наши не касались ни театра, ни домашних дел. Мы говорили о Данте, о Байроне, о Пушкине. О гениях добра и гениях зла. Никогда не говорили о политике. Саша слушал меня внимательно, когда я говорила о религиозном чувстве, но я видела, что он серьезно не воспринимает эту тему. Меня это очень огорчало. Я все говорила: «Сашенька, наступит день, когда Бог тебе будет необходим. Обязательно наступит».
Он отчужденно смеялся. Он не понимал меня.
Я продолжала:
— Мне думается, что каждый атеист считает себя Богом.
— Не умничай, пожалуйста, — улыбался он.
Ирина, Сашина жена, родила девочку. Назвали ее Дашенькой.
Я старалась реже видеться с Сашей. Чувствовала, что он мучается этим.
Василий Сергеевич Ордынский утвердил Славу Любшина, Славу Шалевича и меня в фильме «Красная площадь». Я была несказанно рада. Эта работа отвлечет меня от желания видеть Сашу.
Съемки были в Ярославле.
Павел Оганезович Арсенов утвердил меня в своем фильме «Король-Олень», который снимался в Ялте. И в театре много работы было. Трудно, конечно, но интересно, очень интересно.
И вот однажды январским вечером я отправилась в Ярославль. Прихожу в купе, проводник приносит мне постель, ныряю в нее, от усталости закрываю глаза — вдруг дверь купе открывается и входит Саша Кайдановский.
— Вы в Ярославль, мадам?
— Да, месье. А вы куда путь держите?
— Тоже в Ярославль.
— По какой причине, извольте узнать?
— По той же, что и вы. На съемки в фильме «Красная площадь». Мне доверили небольшой эпизод, но не в этом дело. Подле вас хочу быть.
И сел близко-близко. Руку положил мне за спину. Обнял. Молчали. Так и не отходил от меня до самого Ярославля. Только иногда сетовал, что курить нечего. И все приговаривал:
— Какая ты умница, что не куришь!
Вышли из теплого вагона, и обрушилась на нас пурга.
К счастью, машина, пришедшая за нами, была недалеко, и поехали мы в гостиницу, но оказалось, что я проживаю в отеле «Медведь», а Саша в другом месте. Лица наши опрокинулись, но мы не сказали ни одного слова о своем испорченном настроении..
Мне нравилось сниматься в этом фильме. Я полюбила Василия Сергеевича Ордынского, режиссера «Красной плошали», я была влюблена в моих партнеров — Славу Любшина и Славу Шалевича.
Эпизод, который снимался следующим днем, не был трудным, и мы балагурили, много смеялись, бросались снежками. День был тихий.
Вечером, когда мы ужинали в ресторане, пришел Саша Кайдановский. Выпил водки и предложил мне пойти погулять. Я с удовольствием согласилась. Тишина. Звездочки, словно живые, подмигивают, подтрунивают, мол, нам все известно. Известно, что вы влюбились друг в друга.
А мы то иронизируем, то надолго умолкаем, то серьезничаем.
— Мадам, я хотел бы показать и рассказать вам о русском зодчестве. Я имею в виду ярославские храмы.
— Благодарю вас, но уверена, что со стороны меня будут некоторые дополнения к вашим рассказам.
— Очень хорошо.
Мы обошли множество церквей.
Было темно. Но это не омрачало нашей прогулки.
Саша снялся в своем эпизоде и уехал в Москву. Я же еще несколько дней работала в Ярославле, а потом тоже уехала, потому что в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» у меня не было замены.
Ада Владимировна Брискидова, педагог по французскому языку в нашем институте, встретив меня, спрашивает:
— Вы с Пушкиным Александром Сергеевичем дружите?
— Конечно. Правда, не знаю всех поворотов его судьбы, хотя Вересаева «Пушкин в жизни» подробно читала.
— Вот и хорошо, — улыбнулась Ада Владимировна.
Она была элегантной, с хорошей фигурой и роскошными волосами. Адочка постоянно курила. У нее был мундштук из слоновой кости с серебром, а пепел Адочка сбрасывала в маленький башмачок, тоже серебряный.
— Вы к нам? — она имела в виду Щукинское училище.
— Нет.
— Жаль!.
— У меня есть время, я пойду с вами.
По приходе она сказала:
— Саша Кайдановский сделал инсценировку, которая будет называться «Когда постиг меня судьбины гнев». Александр Сергеевич Пушкин. Ссылка. Михайловское. Он хочет предложить Василию Лановому и вам участвовать в этом спектакле. Основная ваша забота — это Анна Керн. Не откажите Саше. Пожалуйста.
— Он мне ничего не говорил.
— Смущается, нервничает — а вдруг откажетесь. Репетировать будем у меня. Я живу у метро «Динамо». От вас — два шага.
Адочка имела в виду метро «Аэропорт», где был наш с Павликом Арсеновым дом.
— Хорошо. Буду ждать официального предложения от Саши и Васи.
С Василием Лановым Адочка очень дружила. И Саша ей был дорог. Ко мне относилась с интересом. Я благодарна ей, что она помогла мне успешно сдать государственный экзамен по французскому языку. Ведь я почти не училась в институте. Играла в «Ленкоме», потом в Театре Вахтангова.
Адочка предложила мне выучить к госэкзамену монолог Марии Тюдор, естественно на французском. Подолгу занималась со мной. Говорят, что я хорошо читала этот монолог. Я и по сей день его помню. Вскоре Саша предложил мне участвовать в его инсценировке.
— Конечно, — согласилась я.
Он очень обрадовался:
— Сделаем этот спектакль, а потом много других. В них будет идти разговор о личностном — я. В России много, даже слишком много, личностей со странными, скорее страшными судьбами. Ты согласна?
— Да. Но… не только в России такое.
Я вгляделась в Сашу и сказала:
— Тебе бы Ван Гога сыграть.
— А я написал пьесу о Ван Гоге. Как ты угадала?
— Я очень увлечена им. Покажешь пьесу?
— Покажу.
— Если понравится, попрошу Евгения Рубеновича прочитать пьесу и… поставить ее.
Саша расплылся в улыбке. Я тоже. Потом он усмехнулся и грустно сказал:
— Не будет этого никогда.
Боже мой! Как же они так, наши руководители Театра им. Е. Б. Вахтангова? Почему они так? Имея Кайдановского в театре, предлагать ему текст «Кушать подано».
Прочитала пьесу о Ван Гоге. Показалось, что Саша не очень в материале, но это можно доработать. Ведь он абсолютный Ван Гог. Я говорю о визуальной схожести и подвижной нервной системе.
Отдаю пьесу и, чтобы он не ждал рассказа о моем впечатлении, сразу же говорю:
— Ты пишешь, что Ван Гог впервые приехал в Париж тогда-то, тогда-то и тогда-то. Но! Он и раньше был в Париже и встречался со своим братом Тео в Лувре, кажется, в квадратном зале.
— Нет!
Саша побелел.
— Нет! — закричал он. Я все правильно написал.
— Да нет же… Я говорю правильно.
Он резко повернулся и пошел.
Я тоже пошла в другую сторону.
Вдруг кричит:
— Валентина! Подожди!
Я остановилась. Он подскакивает ко мне и шипит:
— Давай спорить. Серьезно. Что бы ты хотела, если будешь права?
— Да ну тебя, Саша.
— Я прошу.
— То, что я хочу… на это не спорят.
— Говори.
— Видела у тебя «Библию» — «Ветхий завет»… «Новый завет» у меня есть, «Ветхого» — нет.
И продолжаю:
— Сегодня же и разрешим нашу проблему. Вечером. Либо ты ко мне домой приедешь, либо я — к тебе.
— Лучше ты. Посмотришь, как Дашенька подросла. Мы будем рады тебе.
— Хорошо. Так и сделаем.
Я поехала домой. Павлик приготовил обалденный луковый суп по личному рецепту, мы пообедали, потом я взяла толстенную книгу «Импрессионизм», нашла нужное мне место о Ван Гоге, пригласила Павлика поехать к Саше, рассказала, что мы поспорили. Павлик не смог поехать: к нему с визитом должен был кто-то прийти. Я взяла такси — и поехала на Арбат. Сейчас невозможно себе представить, что от метро «Аэропорт» до Арбата такси стоило всего 98 копеек.
Ира, жена Саши, встретила меня приветливо. Дашенька — прелесть. В яркой косыночке и улыбается. Я открыла книгу на нужной странице и отдала Саше. Он стал внимательно читать. После прочтения пошел к книжному шкафу и принес мне «Ветхий завет».
Начались репетиции по Александру Сергеевичу Пушкину у Алочки. Прямо-таки «Остановись, мгновенье, — ты прекрасно». Каждый раз на репетиции хотелось говорить эти драгоценные слова. В один из дней подошли к воспоминаниям Анны Керн. Довольно большой отрывок. Очень чувственный. Легко произносимый. Но волновалась я перед друзьями своими ужасно. Чувства овладевали мною. У меня подкруживалась голова, в глазах чуть стояли слезы, я бледнела и тут же краснела. Видела, что Саше все мои треволнения очень нравятся. И лицо Васеньки было вдохновенным. И Адочка смотрела в глубь меня. Закончила монолог Анны и, не сговариваясь, Вася и Саша зааплодировали. Приятно было.
А потом Вася читал «Я помню чудное мгновенье…». Я люблю его чтение, как будто рядом родник. Он романтик, наш Васенька. Но Саша чувствовал это стихотворение иначе. На что Вася сказал: «Читайте, читайте, Александр Леонидович!»
Саша прикрыл глаза и мучительно произнес: «Я помню чудное мгновенье…». Что такое со мной?
Именно с этого момента Саша стал для меня необходимым мужчиной. Я понимала, что это — горе, но как остановить то, что вовсе и не зависит от нас. Почему горе? У Саши были Ира и Дашенька. Я не хотела причинять боли ни им, ни моему Павлику. После смерти нашей доченьки я воспринимала Павлика как близкого, как самого родного мне человека, но женщиной, женой я больше не могла быть.
«Я помню чудное мгновенье…», а я буду всегда помнить этот день, когда Саша читал гениальный стих.
Мы имели большой успех с нашим спектаклем и в Москве, и на гастролях. Несколько раз были в Питере. Очень хорошо! Народу…
А потом мы стали лауреатами Пушкинского конкурса.
11
…Саша и Адочка готовят новую композицию об Александре Сергеевиче Пушкине, куда входит «Гаврилиада». Очень интересное время — вдохновенное…
И вот гастроли Театра Вахтангова в Новосибирске. Я почти каждый день играла: плотно была занята в репертуаре.
Как-то Саша провожал меня в гостиницу, и встретили мы друга Саши из Ростова-на-Дону. Он был несказанно рад Саше и пригласил нас на свой день рождения. Его тоже звали Сашей, и жил он тут, в Новосибирске. Вечер был свободным, и мы приняли это предложение. На другой день у меня был спектакль «Мещанин во дворянстве».
Дача почти в лесу. Много сосен вокруг. И уходят сосны в небо. Красота! Жена Саши дала мне атласный фиолетовый халатик, чтобы комары меня не кусали. Мы ужинали в деревянной беседке. Она была словно кружевная.
Мы смеялись, пили коньяк и ели шашлык, который очень вкусно приготовили наши Саши. Потом Кайдановский берет меня за руку и уводит на улицу.
Этой ночью луна была необыкновенной: огромный оранжево-красный шар, притягивающий к себе, тревожащий.
Мы упали в траву и целовались. Саша побежал по полю навстречу луне. И я побежала за ним. В руках у меня был поясок от халата. Я почти догнала Сашу и хлестнула его пояском..
— Валентина! Ты красивая ночная птица! — кричал Саша, убегая вперед. Вдруг остановился и крикнул мне:
— Нет, ты ведьма! Ты настоящая ведьма!
Мы опять целовались, протягивали руки к луне и как бы держали ее в своих ладонях.
— Саша! А я немного боюсь луны. А ты?
— Нет! Красавица печали!
— А говорят, в полнолуние на нее нельзя смотреть: плохая примета.
Саша задумчиво сказал:
— Луна говорит со мной.
— О чем? — тихо спросила я.
— Луна меня спрашивает: «Ты мою тайну знаешь?». — «Не могу ответить: слов не знаю для ответа. Музыка во мне и тревога. Когда я гляжу на тебя, мысль бежит к тебе, а смысл от тебя».
— Я боюсь, Сашенька!
И снова побежала.
— Валюшка, а где мы!
В какой стороне находилась дача? Неизвестно.
— По-моему, нам туда, — и Саша, взяв меня за руку, повел через поляну. Поляна кончилась. Начался лесок.
Мы прошли еще немного и увидели глубокий-глубокий овраг.
— Да ну тебя, Саша! Туда надо.
Пошли в ту сторону, куда показывала я. В той стороне был незнакомый густой лес.
— Ну тебя, Валюшка. Давай покричим.
— Са-аша, ребята-а!
Никто не отозвался.
— Саша, я устала и пить хочу.
— Не капризничай. Читай стихи.
— Но я пить хочу. Это все луна… Она виновата. Заблудила нас.
Саша стал читать:
Златые дни! Златые дни! Взываю к вам — и где ж они? Теперь не то: с утра до ночи Мир политических сует Мне утомляет ум и очи…— Ты понимаешь, Валентина, поэта Языкова, как и меня, утомляла политическая суета…
Вдруг путь нам преградил забор, высокий, крепкий, досочки одна к одной. Пошли вдоль забора — длинного, бесконечного.
— Саша, все. Я больше не могу. Выбей досочку.
Саша выломал досочку, и перед нами открылось пространство довольно большое. Луна освещала несколько красивых домиков.
— Полезли! Осторожно. Т-а-к. Пошли…
Мы подошли к первому домику. Он был из красного кирпича с балконом под крышей. Окна — открыты. Я постучала в стекло рамы и позвала:
— Простите! Можно вас на минуту?
Никто не отозвался.
— Помогите нам, пожалуйста; мы заблудились.
Молчание.
— Сашенька, я не могу, ну правда не могу! Я пить хочу!
Саша осторожно влез в окно и исчез в темноте дома.
Появился с кружкой воды.
— Никого.
— А наверху? — спросила я.
Саша исчез и снова появился.
— И наверху никого. Валюшка, лезь! До утра переждем.
Я выпрыгнула из кимоно, подпрыгнула и очутилась на подоконнике.
В просторной комнате было светло. Луна как будто с удовольствием наблюдала за нами. Прыгнула на пол.
— Как красиво!
Луна таинственно освещала картины на стенах. Я подошла к одной из них.
— Море! Смотри, Саша, оно как живое и фосфорится!
Погладила круглый большой стол, вокруг которого теснились стулья с высокими спинками.
— Карельская береза! Это чья-то дача! Роскошная! — восхищался Саша.
Мы пошли в кухню.
— А что в холодильнике? — поинтересовалась я.
— Валентина, это уже слишком!
— Мы попали в беду. Так? На нервной почве я захотела есть. Нахожу возможным обратиться за помощью к добрым людям, убеждена, что они добрые. Утром им оставим записку с благодарностью.
Я открыла холодильник.
— Мы имеем молодую картошку со сметаной, зелень, огурцы, помидоры. И… Ура! Две бутылки отличного вина!
Мы ели вкусный ужин, пили белое вино и хохотали.
— Теперь я все уберу, и мы пойдем с тобой отдыхать.
На втором этаже посреди комнаты стояла огромная постель. Мы легли поперек кровати на пушистое покрывало.
— Мы ведь не спим в их постели? Мы только прилегли, да, Сашенька?
— Валюшка. Я… хочу тебя… — еле слышно проговорил Саша.
Мы проснулись оттого, что кто-то хлопнул дверью и громко прошагал по коридору, потом вошел в кухню.
— Валентина, все. Катастрофа!
Мы от ужаса лежали, как прикованные к постели. Этот «кто-то» чем-то провел по батарее.
«Дрр-р-р-ринь», — отозвались батареи.
Потом громко фыркнул унитаз.
Чуть позже прошелестел душ.
Хлопнула входная дверь, в ней повернулся ключ, и «кто-то» пошел прочь от дома.
— Пронесло!
— Надо уходить, Сашенька! Только я быстро приму душ.
— Ты с ума сошла!
— Нисколько! Пока ты сделаешь осмотр местности из окошек, я быстро умоюсь. Он не придет! Он все проверил, этот очаровательный сантехник.
Саша посмотрел в балконную дверь. Невдалеке несколько женщин пололи огород. Саша спустился вниз, посмотрел в кухонное окно и — о, ужас! Он увидел забор, будку и солдат! Солдат с автоматами!
— Валентина! — Саша резко открыл дверь ванны. — Мы окружены. Там солдаты! Я серьезно. Кругом забор, а там какая-то проходная и солдаты.
Он помог мне одеться.
— Быстро пиши записку, — командовала я, — нет, лучше я сама. Где ручка? Где в этом доме ручка?
На холодильнике лежало несколько журналов и ручка. Я взяла журнал «Экран» и прямо на портрете артиста, благо артист был блондином, написала: «Мы попали в беду. Спасибо за гостеприимство. Миллион извинений, целуем… — зачеркнула «целуем». — С уважением…»
— Чуть не подписалась. Я совсем спятила. Это все луна. Это она довела меня до безумия.
— Теперь самое главное — выйти отсюда.
Саша посмотрел в окно на забор и проходную.
— Забор… а за забором? Кто?
— Вожди! — вместе сказали мы и засмеялись.
— Теперь не до смеха. Теперь на дорожку — что? Присядем, да? Чуть-чуть выпьем вина для храбрости, и заканчивать надо эту операцию под названием «Луна». Выходить будем через окно, ибо дверь закрыта на ключ. И потом… мы дети! — осенило Сашу.
— Кого? — спросила я.
— Их.
— А вдруг они молодые?
— Кто? — не понял Саша.
— Вожди.
— Дурочка, вожди не бывают молодыми. Так, надевай халат! Надо, чтобы «крепостные дамы», полющие огород, были абсолютно уверены, что мы дети, племянники — не важно, в конце концов, кто, — проживающих здесь вождей. Считаю до трех. Раз, два, два с половиной, три! — Саша был на улице.
Одна из «крепостных дам», полющая огород, разогнулась и с удивлением посмотрела на Сашу, вслед за ней — другая, третья… их было пять.
— Валентина! — весело крикнул Саша. — Прыгай!
Я вспрыгнула на подоконник. Все пять «дам» наблюдали за нами, у всех пяти было одно и то же выражение на загорелых лицах: интерес и недоумение.
Я постояла немного на подоконнике, потом быстрым движением завязала поясок, села на подоконник и предложила Саше игру для «отвода глаз».
— Аты-баты, шли солдаты…
Саша шипел:
— Не надо солдат, солдат не надо!
— Ехал Грека через реку…
А «дамы» все так же глядели на нас. Потом одной наскучило, она стала заниматься работой. И другая наклонилась, и третья, и остальные стали заниматься огородом.
— Лови!
Я прыгнула. Мы взялись за руки и пошли через огород в сторону забора, противоположную «страшной» проходной с солдатами.
— Только не оглядывайся, — попросил Саша.
А так хотелось оглянуться, и… я оглянулась!
На меня смотрела одна из «дам».
— Здравствуйте! — сказала я.
— Здравствуйте! — весело поприветствовала женщина.
— Какая же ты все-таки дурочка, Валюшка! — сетовал Саша.
Мы благополучно добрались до забора. Нашли оторванную досочку, проскользнули за забор, прикрыли его снова доской и побежали куда глаза глядят.
Все, спасены!
— По всей вероятности, это маленький военный городок, — решила я.
— Как наваждение! Солдаты, автоматы, — досадовал Саша.
Наконец мы вышли к шоссе. Я сняла кимоно и тут же у шоссе легла на халат, пока Саша ловил машину.
Машины проезжали; одна из них резко затормозила.
Приоткрылись дверцы, и наши дачные друзья высунулись из машины.
— Ну, где же вы? Куда вы подевались?
Я продолжала лежать у обочины.
Саша Кайдановский и Саша — хозяин дачи подхватили меня и посадили в машину.
И помчались мы в Новосибирск. Ведь вечером у меня был спектакль.
Гастроли проходили успешно. На всех спектаклях — аншлаги. Я любила спектакли: «Идиот», «Миллионерша», «Дамы и гусары», «Мещанин во дворянстве» и др., в которых с удовольствием играла.
У Саши хороших ролей по-прежнему не было.
Все время мы проводили вместе.
Любили гулять в большом и очень красивом парке, читать о Пушкине и его времени или сидеть на старинном ковре в номере Саши, дожидаясь Максима Дунаевского, — они вместе проживали.
Не было времени работать над новой инсценировкой по Пушкину, потому что Васенька Лановой играл почти каждый день.
В мой день рождения друзья устроили мне настоящий праздник. Маша Вертинская так красиво накрыла стол! Цветов — преогромное количество! Хорошо мне было. Этот день в Новосибирске очень памятен мне. А потом Саша пригласил меня в театральное общежитие, где жили его друзья. Было очень весело. Читали стихи. Саша пел свои знаменитые песни. Стихи были Языкова, Пушкина, Пастернака, Ахматовой, музыка Сашина. Мне очень нравилось, как он поет и играет на гитаре. Он пел несколько жестко, как, впрочем, и читал стихи, но именно через эту жесткость проступал весь его мужской характер и глубокий ум. Мы остались до утра в общежитии. Да, памятен мне этот день…
По приезде в Москву я рассказала Павлику о Саше. Павлик сказал мне:
— После потери доченьки ты заполнила вакуум Сашей. Все пройдет.
Больше мы не говорили на эту тему. Павлик уехал в Ялту снимать кино. Мы с Сашей жили в мастерской у Никиты Лавинского, потом снимали комнату на Воронцовской, что у метро «Таганская», потом жили в малюсенькой комнате на Арбате, рядом с Филипповской церковью, где меня крестили.
Саше пришлось уйти из нашего театра, он ушел во МХАТ к Олегу Ефремову, но вскоре ушел и оттуда.
Его стали приглашать сниматься в кино. Потом призвали в армию. Никита Михалков помог ему попасть в кавполк, что в Алабино, и пригласил сниматься в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Съемки проходили в Грозном.
Я повстречалась с Толей Солоницыным, который тоже снимался у Никиты. Толя сказал: «Пожалуйста, приезжай в Грозный. Это необходимо. Саша очень нервничает. Ты ему нужна».
— Хорошо, — ответила я. — Когда ты летишь?
— Завтра.
— Я полечу с тобой.
Прилетаем в Грозный. Едем в гостиницу. Толя открывает дверь Сашиного номера. За столом спиной к двери сидит Саша и слушает Брамса. Он всегда брал напрокат проигрыватель, покупал пластинки и в свободное время слушал их.
Толя позвал его.
Саша, не поворачиваясь, поздоровался с Толей.
— Ты хоть повернись ко мне, — шутливо сказал Толя.
Саша повернулся и увидел меня. Он был очень эмоциональный, Саша Кайдановский. Многие считали его холодновато-рассудочным, но это не так. В глазах у Саши стояли слезы.
— Спасибо, Толя. Спасибо, — говорил он.
Толя нас оставил. А мы, не шевелясь, всматривались в друг друга.
Жара в Грозном необыкновенная. И как они снимаются в такую жару?
Во дворе баскетбольная площадка. Поутру и вечером Никита с командой играли в баскетбол. А мы с Сашей гуляли у озера и смотрели на огромный факел у горизонта. Факел упирался в седьмое небо. Даже страшновато было от такого огненного столба. Днем я ходила на рынок, покупала овощи, фрукты, зелень, очень вкусный сыр, замечательное вино.
У Саши, как всегда, много хороших книг, но он просил меня не читать, а слушать музыку. Хорошо было! Очень хорошо! Но надо уезжать. В театре много работы, в кино снималась, и на телевидении делали 4-серийный спектакль по Писемскому «Тысяча душ», где мы с Васей Лановым играли главные роли.
Трудно было расставаться с Сашей.
На аэродроме он просил меня:
— Еще раз скажи все Павлику и поживи пока у Веры Шур. Она будет рада тебе.
Я так и сделала. Но когда поехала к Вере, Павлик сказал, что проводит меня. Как всегда у Верочки, мы провели великолепный вечер. Какой чудесный муж у Веры — Витюша! Красивый! Умный! Талантливый! Вера и Витюша симпатизировали Павлику, и Павел чувствовал себя у них превосходно.
Я думала остаться у ребят, но Павел сказал:
— Ну что? Поехали домой?
Я не могла поставить Павлика в дурацкое положение и уехала с ним.
Павлик спросил меня:
— А как служит Саша?
Я сказала, что сначала ему было очень трудно, потому что все обмундирование было пропитано какими-то химикатами. Потом Никита помог ему перейти в кавполк в Алабино. Я ездила к нему. Он в солдатском обмундировании вместе со своей лошадкой Катей встретил меня. У Кати умные-преумные глаза. Саша сказал:
— Вы с ней похожи… — засмеялся и продолжил: — выражением глаз, понимаешь, взглядом, — и опять засмеялся.
Я заметила ему:
— Мне нравится наша схожесть. — И поцеловала Катю.
Нам разрешили встречу до отбоя, даже ужин принесли в какую-то небольшую теплую комнатку.
Вышли погулять. Морозно, но не холодно, и звезды — яркие-преяркие — гуляли с нами.
Павлик снова поинтересовался:
— А как вы в Ростове оказались?
— Саша поехал повидаться с родными. Поехал с сиамским котом Мифунэ. Он видел нашего кота Акиру Курасава и себе кота купил, назвал Мифунэ в честь знаменитого актера, которого почти во всех фильмах снимал Курасава.
Приезжаем в аэропорт. Самолет задерживается. Пошли в ресторан и встретили Олега Ефремова, который летел в Ростов на съемки фильма, кажется, «Здравствуй и прощай». Олег нам обрадовался. Мифунэ ему понравился очень. Мы заказали ужин с коньяком, накормили кота и стали ждать самолета. Говорили о Театре Вахтангова и МХАТ. Саша мечтал вслух о театре, где не больше трех актеров и драматургия будет построена на документальных фактах.
— Это интересно. Это очень интересно, — говорил Олег.
У меня авиабилета в Ростов не было, но когда я пошла провожать Сашу и Олега к самолету, меня почему-то пропустили на летное поле, а дальше я вошла в самолет, села в кресло. Мне никто не препятствовал, наверное, оттого, что на руках у меня был Мифунэ и беседовала с Олегом Ефремовым, которого все, конечно, узнавали. Так я без билета улетела в Ростов.
12
Медленно плывут дни. Здесь, в камере, они одинаковые. Записала в дневник воспоминания о местах, где служил папа и мы вместе с ним были. Воспоминания о Горьком, Белоруссии, Кубинке, Бологом и любимом мною Приморском крае близ озера Ханка. Мысленно вновь возвращаюсь в те далекие дни, связанные с Сашей.
В Ялте занемог Павлик. Мне позвонил Казачков Саша — директор почти всех фильмов Павлика — и попросил меня прилететь к ним. Я отпросилась в театре и вылетела в Симферополь. Приезжаю в Ялту, нахожу Павлика в плохом состоянии. Съемок нет, группа простаивает. Потихоньку, помаленьку Павлик пришел в себя. Съемки начались, и я улетела в Москву.
Вдруг звонок по телефону:
— Я в Москве. Приезжай скорее! Скорее приезжай! — кричал Саша Кайдановский в телефон.
— Хорошо, Сашенька, приеду.
Снова звонок, от Инны Гулая:
— Малявина! Если ты не приедешь, я умру. Мне плохо.
— Инна, сейчас Саша звонил. Он прилетел из Грозного, я обещала приехать к нему.
— Куда?
— В мастерскую к Лавинскому.
— Там есть телефон?.
— Да.
— Позвони мне, когда приедешь туда.
— Хорошо. Я позвоню. Обязательно позвоню.
Приехала на Арбат. Вошла в мастерскую. Саша был не один. Скульптурная мастерская Андрея Древина соседствует с мастерской Лавинских. Андрей был в гостях. Саша угощал его кофе с коньяком.
Все были рады друг другу. Но я обещала позвонить Инне. Набираю ее номер.
— Инна, я приехала к Саше.
— Прошу тебя, срочно приезжай ко мне.
— Инна, может быть, ты приедешь? Мы на Арбате.
— Малявина, ты с ума сошла — в такую даль ехать.
— Садись в такси.
— Нет, Малявина, не могу.
— Подожди секунду.
Обращаюсь к Саше:
— Инна Гулая просит навестить ее. Плохо себя чувствует. Саша рассердился:
— Она всегда плохо себя чувствует.
— Не надо так, Саша. Поедем! Через час вернемся сюда. Через час мы на Арбат не вернулись. Только недели через две я снова стала репетировать в театре и мы приехали на Арбат.
Это печальная история…
Почему?
Когда мы с Сашей отправились к Инне, он меня спросил:
— Ты с Павлом говорила по поводу нас?
— Да.
— Ну и что?
— Он обо всем знает.
— Меня интересует другая проблема. Когда вы разведетесь и когда мы станем официальными мужем и женой? И когда в конце концов ты родишь мне ребенка?
— Мне не нравится твой тон.
— А мне не нравится поведение твое и Павлика. Как будто сговорились.
— Саша, перестань!
— Вы перестаньте! Я звонил Павлу, и никто не отвечал. Я звонил всю ночь. Где вы были? И на Арбат звонил. Анастасия Алексеевна мне сказала, что тебя на Арбате нет. Где же ты была, интересно знать?
— У тебя отвратительный тон.
— Не хочешь — не говори.
Мы приехали к Инне. Она была босиком, хотя на улице стоял холод, в квартире тоже. Прикрывала Инну какая-то дырявая шаль. Посреди комнаты — таз с водой. Она присела на стул и опустила ноги в таз. Мы с собой взяли шампанское. Она залпом выпила стакан и вдруг сказала:
— Саша! Это ничего, что Валя ездит к Павлику в Ялту… Вот только что приехала… Она все-таки тебя любит…
— Что? — завопил Саша. — Ты была в Ялте? Зачем?
Выбил у меня бокал с шампанским и сильно ударил.
Инна, ни слова не говоря, наблюдала за нами.
Я хотела уйти в другую комнату, но Саша меня не пустил…
Не хочется больше рассказывать об этом печальном вечере.
После мы поехали не на Арбат, а в Чертаново к Верочке и Витюше.
Увидев меня, Вера ахнула.
Саша достал лед из холодильника, положил меня в большой комнате на тахту, встал на колени и стал делать мне ледяные компрессы, все время твердил: «Прости! Прости меня! Я люблю тебя!»
У меня поднялась температура.
Вера и Витюша не спали всю ночь, были рядом со мной и Сашей. На следующий день вызвали врача, сказав, что я упала. Врач выписал мне бюллетень, и я две недели отлеживалась у Верочки и Витюши. У Саши было свободное время от съемок, и он не отходил от меня.
У нас было еще несколько труднейших конфликтов, но не хочется сейчас вспоминать о них.
Зак и Кузнецов написали сценарий «Пропавшая экспедиция». Веня Дорман — режиссер. Мы с Венечкой соседствовали на «Аэропорте». Он пришел ко мне и говорит:
— Валентина, есть для тебя роль в сценарии Зака и Кузнецова. Они тебя любят по фильму «Утренние поезда». Их ведь сценарий?
— Да.
— Я режиссер фильма «Пропавшая экспедиция». Дальше будет еще серия — «Золотая речка». Хочу снимать тебя и Олега Стриженова.
— Венечка! Скорее принесите сценарий. Хочу работать с Олегом Стриженовым!
Читаю и понимаю, что в главной роли должна сниматься актриса девятнадцати-двадцати лет. Не старше.
Звоню Заку, звоню Кузнецову, звоню Дорману. Объясняю, что роль чудесная, но я «выросла из этой роли».
Они уговаривали меня, но я наотрез отказалась.
— Кто? Кто сможет сыграть эту роль? Какая такая девочка? — гневались они.
И вдруг я говорю:
— Я знаю! Знаю! Женя Симонова! Женя мне очень нравится! И я знаю всю их семью еще с тех пор, когда Женечка была маленькой девочкой…
Женю утвердили в фильме. Но кто будет вместо Олега Стриженова?
Говорю:
— Я знаю! Знаю! Саша Кайдановский!
И Сашу утвердили. Они успешно снялись в первом фильме «Пропавшая экспедиция», и я была горда ими.
Сашу по-прежнему огорчало, что мы с Павликом официально не разошлись.
Однажды он сказал мне:
— Я не понимаю Павла. В доме живет прекрасная актриса, а он не работает по пять лет. Странно это, очень странно. В каждой пьесе Чехова для тебя есть роль и у Горького тоже. Почему не заняться твоей карьерой? И у самого пошли бы дела. Я не понимаю его. Чем он занимался эти пять лет? И про нас он знает… Не понимаю… И тебя отказываюсь понять: что ты никак не можешь расстаться с ним?
На втором фильме «Золотая речка» между нами поселилось отчуждение.
Наконец Саша сказал:
— Все! Я делаю предложение Жене Симоновой. Надоел твой «Аэропорт», надоели твои отношения с Павликом, все надоело. Я женюсь на Симоновой.
Они поженились.
Помнится еще день, когда Саша крикнул мне в телефонную трубку:
— Все! Я женюсь.
— На ком?
— Хотел бы на тебе. Не получается. Надоело все. Я женюсь. Она прекрасна!
— Где ты?
— У Иосика.
Сердце мое, сделав «кульбит», выпрыгивало, стуча в виски.
Я позвонила Верочке:
— Веруня! Саша женится. Не знаю на ком, но голос его серьезен.
После паузы Верочка спросила:
— Где он?
— У Иосика.
— Поехали к ним, — предложила Вера. — Встречаемся у Арбатского метро.
Встретились.
Иосиф жил на Арбатской площади в особняке. У него было комнат пять.
Там же проживал замечательный артист с великолепной внешностью — Юра Беляев.
А еще Иосик приютил милую-премилую Любочку, помощника режиссера в нашем театре.
Вошли в особняк.
Саша, Иосик и Любочка пили вино.
Наступила неловкая пауза. Иосиф почему-то улыбался во весь рот, пригласил нас с Верой к столу. Мы выпили вина, и Вера спросила:
— Саша, ты женишься?
— Да! — закричал он.
Любочка встала и пошла в другую комнату.
— Кто она? — спросила Вера.
Саша кивнул в ту сторону, куда ушла Люба.
— Ты женишься на Любочке? — спросила я.
— Да! — опять закричал Саша.
— Ты ведь и прежде знал ее. Откуда взялась любовь? — спросила я.
— Взялась! — заорал Саша.
Иосик хихикнул. Он ироничный, Иосиф. Он любил Сашу, к Любочке относился с участием, но хихикнул — и все тут. Думаю, что просто не относился к происходящему всерьез.
Вера строго сказала:
— Саша, едем! Едем ко мне.
Саша растерянно посмотрел на Иосифа. Иосик, улыбаясь, развел руками.
Саша также растерянно посмотрел на меня.
Верочка сказала:
— И Валя поедет.
Я встала и пошла в ту комнату, куда ушла Люба.
Саша тихо сказал мне вслед:
— Не обижай ее.
Я улыбнулась.
Люба стояла у окна. Я подошла к ней.
— Любочка…
Я никогда не видела ее без очков. Она плакала. Я обняла ее.
— Не надо, Валя. Я все понимаю.
Вошел Саша. Он был в пальто. Я отошла от Любы.
Саша сказал ей:
— Прости. Пожалуйста, прости.
— Уйдите, Саша, — сказала Люба, почему-то обращаясь к Саше на «вы».
Этот момент мне памятен еще тем, что он напоминал мне сцену из прошлого века: во-первых — сам сюжет, а потом — особняк: красивое большое окно, диалоги между нами, как сон из прошлого века…
…Теперь Саша женился по-настоящему. Есть предчувствие, что они недолго будут жить вместе. Так и случилось, хотя у них родилась дочь Зоя.
Мы с Сашей расстались. Я стала вдруг рисовать. Пастелькой сделала Сашин портрет. Получилось! Стала рисовать Пушкина, Достоевского, маму, сестру мою Танюшку и другие милые мне лица. Участвовала в трех престижных выставках. Одну из моих работ, а именно Пушкина, купил у меня за три тысячи долларов американец из Лос-Анджелеса и заказал мне портрет Николая II: лицо, одно лицо и через взгляд — история души.
И вот звонок по телефону:
— Валентина! Вас приглашает на пробы в фильме «Мой дом — театр» режиссер Борис Ермолаев. Вам предлагается роль актрисы Никулиной-Косицкой. Ее любил драматург Островский. Все женские образы Островский написал для нее. Катерину из «Грозы» тоже.
— Спасибо! Приду. Борису передайте, пожалуйста, привет.
Легендарный Борис Ермолаев! Отчего легендарный? Он взглядом передвигает предметы, спички у него плавают в воздухе и не падают на стол. Он лечит. Предсказывает. Боря талантливый. Он хорошо пишет, сюжеты его интересны. Фильмы, которые он снимал, имеют необыкновенную, странную форму. Мне нравится его фильм «Фуэтэ» с Катей Максимовой и Володей Васильевым. По созвездию Боря — близнец. Он родился 15 июня, я — 18, совсем рядом.
Прихожу на пробы. Боря нервен, но мне легко с ним. Я понимаю его. Оказывается, на Никулину-Косицкую пробуется вся страна, да, именно страна.
Спрашиваю Бориса:.
— А кто Островский?
Он называет ряд фамилий и среди них Александра Кайдановского.
Встретились мы с Сашей только на съемочной площадке. Отношения были не лучшими: мы почти не разговаривали.
И вот однажды перед съемкой отдыхаем мы с Сашей в комнате, у нас была одна на двоих; Саша на одном диване, я — на другом. Перед Сашей — диктофон, он читает стихи и записывает их на пленку, я — рисую. Не общаемся. На мне необыкновенной красоты бархатное вишневое платье, расшитое бисером. Саша тоже в гриме и костюме. Я встала и стала ходить по комнате туда-сюда, тихонько так, чтобы не мешать ему записывать себя на пленку. Вдруг он подлетает ко мне, укладывает на палас и задирает платье, а там «сто тысяч нижних юбок». Юбки тоже летят вверх.
— Саша! Сашенька! Что с тобой?
— Разве ты не видишь? Разве ты не чувствуешь? — негодует Саша.
Я как-то сумела изловчиться и поползла к двери, оставаясь на полу. Саша пополз за мной. Я приоткрыла дверь, а по коридору прохаживается артист, игравший Ленина. Я по-прежнему, лежа на полу, потому что Саша придерживал меня, зову:
— Товарищ Ленин! Товарищ Ленин! Помогите мне, пожалуйста.
Ленин смотрит вниз и спрашивает:
— Что с вами?
Саша быстро встал, и я вскочила, Ленин подошел к нашей комнате и настежь открыл дверь.
Я почему-то раза три низко поклонилась, улыбаюсь и говорю:
— Репетируем, товарищ Ленин. Извините, что я обращаюсь к Вам так, но каково сходство!
— Благодарю вас, — чуть картавя, сказал Ленин и ушел…
Еще один эпизод всплывает в памяти, кажется, было это позже… Да, уже во время съемок в Москве. В «Детском театре». Он сказал:
— Хочу быть с тобой. Жить с тобой. Давай убежим ото всех!
Павлик ожидал меня в фойе театра. Я Саше сказала об этом. Он выскочил в фойе. Свет был выключен, а на улице вечерело, поэтому виден был только силуэт Павлика. Саша, разбежавшись, резко остановился и громко поздоровался:
— Здравствуй, Павел!
— Здравствуй, Саша!
Я была у входа. Павлик спросил:
— Когда будет ваша сцена? Хочу посмотреть.
Я попросила его не смотреть.
Съемки были до ночи, и я предложила Павлику поехать домой. Он поехал. А Борис Ермолаев тихо говорит мне:
— После съемок поехали ко мне. Саша и ты. Завтра у нас выходной и, если у тебя нет ничего в театре, проведем этот день вместе. Саше очень понравилось мое предложение.
— Нет, Боря, я поеду домой.
Саша стоял чуть поодаль и слышал наш разговор.
— Пусть едет. Что ты уговариваешь ее? Она все равно сделает по-своему. Ей наплевать на нас, — громко говорил Саша, и массовка, занятая в этот день, с интересом наблюдала за нами.
Я попросила разрешения у Бори побыть в фойе. Борис разрешил. Я вышла. Села в удобное кресло у окна. Саша подошел ко мне.
— Валентина! Мы губим себя. Ты веришь в Бога. А Бог есть Любовь. Он подарил нам любовь, а мы ведем себя кое-как. Если сегодня же, сейчас же мы не будем навсегда вместе, то кончится все скверно. У нас не будет личной жизни, ни у меня, ни у тебя. Это очевидно.
Ты помнишь ту ночь перед открытием сезона в театре, когда ты собиралась уехать на «Аэропорт»? Еще Эрик Зорин с нами был. Я тебя не отпускал, злился и орал, что ты меня не любишь.
Ты твердила:
— Люблю.
Я:
— Тогда докажи.
— Как?
— Как хочешь… Не уходи.
Ты открыла ящик кухонного стола, достала бритву. Я засмеялся:
— Никогда не сможешь.
И ты черкнула бритвой по руке. Я обомлел. Ты сказала:
— Пошли в поликлинику, в ту, что рядом с театром.
Там тебе наложили швы и отвезли в Боткинскую больницу. Утром ты попросила, чтобы я пошел на открытие сезона, а потом пришел бы снова к тебе в больницу. Я так и сделал. Ты помнишь? Помнишь об этом? Ведь это запредельный поступок. Так поступают, когда действительно любят. Но почему ты не стала рожать? Я так хотел ребенка. Ну, что ты молчишь? Скажи что-нибудь.
Я повернулась к нему. Он подошел ко мне совсем близко и поцеловал.
— А еще… помнишь? Мы были у Веры, и ты захотела ехать на «Аэропорт». Я закрыл дверь на ключ и спрятал его.
— А я вышла на балкон, увидела, что вы ушли на кухню, заглянула на другой балкон и перелезла туда. Зима. Морозно. Стена, разделяющая балконы, была глухой и гладкой, руки скользили. Седьмой этаж. Ужас! Тем не менее я стояла на соседнем балконе, подошла к приоткрытой двери.
— Здравствуйте!
Двое молодых людей, которые были в квартире, опешили.
— Вы откуда? — спросил один из них.
— Произошло потрясающее, выяснилось, что я умею летать! — тихо сказала я.
А за стеной началась суматоха, я слышала:
— Нет, она не могла выйти. Куда же она делась? Нигде ее нет.
— Валя! Валюшка! Господи! Она ведь сумасшедшая…
Потом все выскочили на улицу, звали меня, искали, снова вернулись.
Саша перебил меня:
— Потом я вышел на балкон и увидел соседнюю квартиру, где ты улыбалась двоим молодым людям. Я тоже перелез. Было очень страшно. Я вошел в комнату.
— И влепил мне пощечину.
— Ты заставила меня страдать. Я чуть с ума не сошел. Ведь ты любила меня? Ты любишь меня? Скажи.
— Да.
— Поедем к Боре, я прошу тебя. Не будем глупыми.
— Нет, Саша.
— Почему?
И только в Севастополе, где мы должны были сниматься в одном фильме, я рассказала ему:
— У Павлика большие долги. Я не могу его оставить.
— Но ты зарабатываешь много денег, — удивился Саша.
— Я часто уезжаю из дома. Приезжаю, а у нас — спальный гарнитур. Дорогой. Павлик хочет сделать мне приятное, занимает деньги, покупает и т. д. Он так самоутверждается, это его право.
Я не стала сниматься в этом фильме, потому что роль была очень похожей на Машу из «Иванова детства», только мне уже не 19 лет, а гораздо больше.
Саша снимался.
Очень хорошо было в Севастополе. Это наша последняя совместная поездка. Сашу срочно вызвали в Москву на озвучивание очередного фильма, а я чуть задержалась в Севастополе. Уезжая, Саша подарил мне очень красивые часы и роскошный букет алых роз.
Я не разошлась с Павликом, Саша не расстался с Женей.
13
Надоели мне судебные заседания. Надоели до отвращения.
Надеюсь на показания Анатолия Заболоцкого, Леночки Санаевой и доктора «скорой помощи». Если, конечно, им дадут слово. А то получается, что и судьи, и свидетели, и я — комедийные персонажи непристойного спектакля. Между тем решается судьба не только моя, но и моих родных. Впрочем, я не против смешного, даже в зале суда, и об одном эпизоде хочу рассказать.
Мой адвокат делал несколько раз заявления о необходимости вызвать в суд как свидетельницу Нину Русланову, но Нина не пришла. Вместо Нины в суд явился ее муж Рудаков Геннадий. Рудаков говорил-говорил и вдруг брякнул:
— У Вали Малявиной были столкновения с Ниной Руслановой. Валя била Нину. Попадало и мне…
В зале суда кто-то громко рассмеялся и другие подхватили.
Ну надо же такое придумать?! «Валя била Нину» — так и записано в деле.
Нелепейшее заявление! Бред, да и только! Нина узнает, какую чепуховину нес ее муж, — несдобровать Рудакову.
Странная вещь получается. В тюрьме, конечно, мерзко, там отвратительно, но люди более живые, чем на судебных заседаниях. Там есть надежда, а главное — есть цель. Здесь суетно, от этого смыты ориентиры. Со стороны судей на меня лавиной идет вранье. На лицах присутствующих в зале суда угадывается болезненное наслаждение. Свидетели зачастую — испуганные болтуны, а моим не дают слова.
Анатолий Дмитриевич Заболоцкий несколько раз обращался к судье с просьбой дать ему слово, но судья каждый раз отказывала. Последняя его просьба выглядела так:
«Я, Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, кинооператор студии «Мосфильм», за неделю до трагической гибели Жданько виделся с Малявиной и со Жданько. За сутки до этой трагедии имел телефонный разговор с погибшим.
Прошу Вашего разрешения дать мне слово в суде не позже 25 июля сего года в связи с тем, что я в скором времени улетаю в Сибирь в творческую командировку.
С уважением заслуженный деятель искусств, лауреат премии Ленинского комсомола А. Д. Заболоцкий».
Наконец-то судья снизошла.
Анатолий Дмитриевич вошел в зал как свидетель.
А мне вспомнилось, как часто я встречала Василия Макаровича Шукшина и Толю Заболоцкого на «Мосфильме», когда они начинали «Калину красную». Для меня эти два великолепных таланта — родные люди, хотя знала я их не очень близко. Мне нравились их одухотворенные лица, их манера держаться. Для меня в них все было замечательно.
Тихим голосом, обращаясь только к суду, Толя стал говорить. И опять, как и во время показаний Наташи Варлей, зал зашипел и кто-то выкрикнул:
— Громче!
Толя, как и Наташа, не стал говорить громче. Тихо, ровным голосом он продолжал:
— Я познакомился со Жданько на киностудии «Беларусь-фильм». Он снимался в фильме Пташука «Время выбрало нас». Я собирался снимать фильм «Пастух и пастушка» по Виктору Астафьеву, показал сценарий Жданько, ему он понравился, и мы договорились о совместной работе. К несчастью, фильм снимать категорически запретили.
Жданько очень огорчился.
Он был талантлив, а ролей интересных ни в театре, ни в кино не было, разве что роль в фильме Бориса Фрумина «Ошибки юности», но весною 78-го года, перед гибелью Жданько, этот фильм положили на полку.
За две-три недели до страшного исхода я пригласил Жданько в гостиницу «Москва» на встречу с писателями Валентином Распутиным и Беловым Василием Ивановичем, с Игнатьевым Женей и другими. После этого вечера Стас шутливо говорил: «Теперь можно и умирать… Я успел встретиться с могучими людьми…»
Я уже упоминала об этой встрече, которая на Стаса произвела огромное впечатление. Он гордился ею и при удобном случае с удовольствием говорил о ней. Он рассказал об этой встрече и Попкову. Но Попков насмешничал над ним: «И ты, конечно, среди этих людей был главным?».
Да, кстати, Попков больше так и не появился в суде. Неужели он не придет? Нагло с его стороны так поступать. Не только по отношению ко мне. Прежде всего к памяти Стаса.
Был апрель 1978 года. Мы со Стасом гостили у Сережи и Танюшки.
Ранним утром Стас вернулся со съемок из Белоруссии и за кофе сказал мне:
— Я чего-то ожидаю, Валена…
Раздался телефонный звонок. Звонил Толя Заболоцкий. Он пригласил нас в музей Андрея Рублева посмотреть икону Спаса, которую в течение десяти лет открывал реставратор Михаил Баруздин. Икона IX века.
— Валена! Как получается, а? Только что я сказал тебе, что ожидаю чего-то, и на тебе! — радовался Стас.
Я, к сожалению, не могла пойти в музей. У меня в театре были неотложные дела. А Стас помчался к Толе в Дегтярный переулок.
Ближе к вечеру звонит мне и говорит:
— Валена! Мы в гостинице «Москва». Приходи!
Очень важно он проговорил это.
Спрашиваю:
— Кто «мы»?
И совсем важно Стас ответил:
— Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, Василий Иванович Белов, Валентин Распутин, Игнатьев Евгений и другие, коих ты не знаешь. Вот так-то! Пожалуйста, приходи!
Я приехала.
Дверь в номер была приоткрыта. Я вошла в переднюю и увидела за стеклянной дверью большую комнату. В комнате за круглым столом хохотала компания. Стас обернулся и выскочил из-за стола мне навстречу. Моему появлению он очень обрадовался. Толя Заболоцкий тоже радостно говорил:
— Какая ты румяная! Шаль тебе очень идет!
Я была в дубленке и огромной яркой шали с длинными кистями.
Валентин Распутин подвинул к столу мягкое кресло и пригласил меня присесть.
Василий Иванович Белов продолжал свой веселый рассказ.
Валя Распутин налил мне вина в тонкий бокал и тихо сказал:
— Ты хорошая актриса и человек хороший. Мне даже кажется, что у тебя нет пороков.
Я удивилась и переспросила:
— У меня нет пороков?
— Да, их нет у тебя.
— Ах, если бы это было так! На самом деле есть. И очень много. Один из них — преотвратительный, — и я щелкнула по тонкому бокалу..
Он зазвенел.
— Не верится, — сказал Распутин.
Я вздохнула.
А Стас вдруг запел:
— «По залугам зелененьким, по залугам…»
Когда он закончил песню, Василий Иванович поинтересовался:
— Откуда ты так хорошо знаешь украинский?
Стас сделал паузу. И вдруг сказал:
— Николай Олимпиевич научил. Гениальный артист Николай Олимпиевич Гриценко.
Почему он так сказал? Я ведь знала, что это любимая песня Александры Александровны, мамы Стаса. Она его и научила. Почему он сказал, что Гриценко, а не мама? Почему он смертельно побледнел и растерялся?
А Валя Распутин спросил:
— Ты давно в Москве живешь?
— Да, вот… четыре года института и третий год в театре. Да, Валена?
— Да.
Стас пристально вглядывался в Распутина: хотел понять, почему тот спросил, давно ли он живет в Москве.
— Быстро ты адаптировался. Никогда не скажешь, что сибиряк, — заметил Валентин.
Стас совсем разнервничался, а я говорю Валентину:
— Он ведь артист. Он очень хороший артист, поэтому у вас, Валя, сложилось такое впечатление. На самом деле Стас только и думает что о доме, о матушке Шуре, об отце Алексее, о собаке Кучуме, о коте, который любит сидеть у калитки. Сибирь для него — все.
Стас засверкал улыбкой.
Вдруг Василий Иванович Белов во весь голос предложил Распутину:
— Валь, поехали ко мне в Вологду, а?
И с надеждой посмотрел на него.
— А что… поехали! — улыбнулся Распутин.
Василий Иванович обрадовался, но переспросил:
— Правда, поедешь?
— Правда, поеду!.
Василий Иванович по-детски переспросил еще раз:
— Правда-правда? Валь, ты меня не обманываешь?
— Да не обманываю. Поеду.
Валентин сидел от меня слева, Толя Заболоцкий справа, Стас чуть поодаль.
Толя вскинул на меня свой лучистый взгляд и тихо спросил:
— Макарыча-то помнишь?
— Очень.
— Не мог он умереть сам… Что-то здесь не то… Что-то здесь не так…
Толя низко-низко опустил голову. Я заметила, что слеза капнула на пол, потом еще и еще… Он вытащил платок, вытер один глаз, потом второй, утер нос… обстоятельно так… никого не смущаясь. Допил свою водку, запрокинул голову и закрыл глаза, а слеза снова побежала по лицу его.
Стас коротко поглядывал на Толю.
Потом Василий Иванович и Валентин уехали на вокзал, Женя Игнатьев тоже ушел. И мы тихонечко спустились вниз, нашли машину, проводили Толю домой и поехали к себе.
Стас был молчалив.
Дома спросил:
— Есть у нас что-нибудь выпить?
Я принесла из кухни водку, квашеную капусту, сало, хреновину и хлеб.
Александра Александровна часто Стасу посылки присылала, и обязательно в них было сало и хреновина, очень вкусная. Она делается из хрена, помидоров и чеснока. Мы ее в чайнике держали. Из чайника поливали хреновиной и суп, и мясо, и все-все. Вкусно! Прелесть!
Стас встал.
— Давай, Валена, Василия Макарыча помянем. Царствие ему небесное.
Выпили.
— Я заметил твой взгляд, Валена, когда Белов спросил, откуда я так хорошо знаю украинскую песню. И я ответил, что Гриценко научил, а не матушка. Знаешь, Валена, эти могучие люди очень русские, а я наполовину хохол.
— Ну и что?
— Да так… Охота быть либо тем, либо другим.
Не стала я продолжать эту тему, а попросила:
— Спой, пожалуйста, «По за лугам зелененьким». Я подпою.
Стас запел, и я вместе с ним. Тихо пели, грустно, но светло.
Вскоре Стас уехал в Питер. Вернулся с печальной вестью. Фильм Бори Фрумина «Ошибки юности», уже законченный, в Госкино не приняли. Это означало «лечь на полку».
— Что теперь делать, Валена? А? Как теперь быть, как жить? Я через нее, через картину эту, хотел прославиться… Жизнь из-под ног выбивают, суки, дерьмоеды пакостные. Сколько сил и здоровья ушло, а они одним махом часть жизни моей уничтожили. Если Заболоцкий не будет меня снимать, то я… я не знаю что… Хоть плачь, Валена.
И поехали мы в гости к Заболоцкому Толе. Стас купил водку «Посольскую». Толя бережно взял в руки бутылку, но беспокойно, впрочем, ненавязчиво сказал Стасу:
— Она, подлая, лучших людей губит. Не увлекайся ею.
В передней у Заболоцких я увидела необыкновенную вещь — черную накидку, точнее, пелерину хорошего английского сукна, выкроенную клешем. Застегивалась эта пелерина на великолепные пуговицы. Необыкновенная одежда! Говорю Толе:
— Толенька, чья это пелерина расположилась у вас в передней?
— Лялина. Она хочет ее продать.
Ляля, жена Толи, очень красивая и носит не вещи, а одежды.
Стас делово встал из-за стола и пошел смотреть пелерину. Вернулся и сказал:
— Покупаю.
Я очень обрадовалась, накинула пелерину на себя, застегнула на все пуговицы.
— Ой, как тебе идет! А? Толя! Смотри, как она идет Валене! — весело кричал Стас.
— Да уж, да уж, — улыбался Толя, — а Ляле не очень, не ее стиль.
Не было тогда в Москве подобной одежды, и прохожие внимательно рассматривали меня, а Стаса это радовало.
Однажды после спектакля Стас заботливо набрасывает на меня пелерину, а Парфаньяк Алла Петровна с удовольствием смотрит на нас и спрашивает:
— Откуда она у тебя?
— Это подарок Стаса.
А Стасик серьезно поясняет:
— Из Ливерпуля, Алла Петровна, из Ливерпуля.
Алла Петровна не удивилась, а просто поинтересовалась:
— Ты был в Ливерпуле?
— Угу.
— Шутит он, Алла Петровна. Не был он пока в Ливерпуле.
— Будет! — звонко смеясь, сказала Алла Петровна.
Когда мы пошли домой, Стас с удовольствием рассуждал:
— А ведь поверила Алла Петровна, что я пелерину из Ливерпуля привез. Вот так-то! Значит, тяну я на Ливерпуль, значит, не все потеряно.
Ну, да ладно… Вернемся к столу.
Выпили. Закусили. Стас рассказал о своем горе:
— «Ошибки юности» закрыли.
Толя тяжело вздохнул:
— Вот и мне запретили снимать «Пастуха и пастушку».
Стас долго не мог вымолвить ни слова.
— А я так надеялся, — и опустил голову на руки.
И вот Анатолий Дмитриевич Заболоцкий свидетельствует в суде.
— …Жданько был талантливым актером, ему необходимы были интересные роли.
По словам самого Стаса, поддерживали его Михаил Ульянов и Юлия Борисова. Он чувствовал их симпатию по отношению к себе.
За день до трагедии он позвонил мне и попросил о встрече, но я должен был уехать из Москвы и предложил ему встретиться сразу после моего возвращения. Он ответил: «Но мы можем больше и не встретиться». И бросил трубку.
Я думаю, что в нашей стране легче прожить посредственному человеку, чем даровитому.
Меня, как и Стаса, посещают упаднические настроения.
И вдруг прокурор, сощурив глаза и совсем убрав узенькую ленточку губ, спрашивает Анатолия Дмитриевича:
— А вы у психиатра на учете не состоите?
Зрители от неожиданности загудели. У судьи глаза совсем округлились и так и застыли. А общественный истей начала хмыкать и почему-то приподнимать плечи вверх. Мне показалось, что наконец-то всем стало неловко за очередной вопрос прокурора.
Анатолий Дмитриевич ответил:
— Нет, на учете у психиатра я не состою, но после общения с вами могут и поставить.
— Все. Вы свободны, — сказала судья.
И Толя ушел.
Вернулась в Бутырку и записала: «Толя Заболоцкий — Душа, Сердце, Солнце. Он замечателен. На таких, как он, и держится мир. Плакать хотелось, глядя на него, плакать чистыми, радостными слезами, узнавая идеал».
И дальше: «Выпусти, Бог, меня из этих не судейских рук.
Я благодарна Тебе за познание, но нельзя здесь дольше быть. Я, конечно, изо всех сил держусь…
Я чувствую в душе огненный шар, и с каждым днем он становится все больше, все огненнее. Он хочет вырваться и разорвать меня».
В камере тихо, девочки понимают, что я очень устала, и слушают радио.
И все-таки колючеглазая Валя спросила:
— Валюшка, когда же они от тебя отстанут? Третью неделю мучают, суки.
Мне не хотелось говорить о суде.
Рая-мальчик меня поняла и весело затараторила:
— Тридцать семь копеек мы стоим государству в сутки. Вот устроились, говны! Рабов себе завели. Программу, как она называется — производственная или продовольственная, — выполняй. Пятилетку их гребаную завершай в четыре года. У, суки!
Рая даже вскочила, села по-турецки и дальше продолжала глаголить:
— Нет, вы только прикиньте: зачем я здесь нужна? Чего я столько времени лежу-то? Ну, скоммуниздила, ну, накажи работами, а я на шконочке лежу, на Катрин я все гляжу, все лежу и сижу, — громко и весело запела Рая, и все подпели ей.
Потом она продолжала:
— Они ни хрена не понимают или нарочно так делают: кому-то это выгодно. Ведь я за это время соблазню Катрин, потом на зоне баб пять одолею, а Катрин, в свою очередь, десяток уложит. Им, бестолковым, не понять, что так и наступит матриархат. А мужики будут нужны только для делания детей.
Рая была в восторге от мысли о матриархате.
Нина одернула ее:
— Хватит, хватит… Валюшка устала, она переживает, а ты хохочешь.
— Нет, она мне не мешает. Наоборот даже.
— Почему так долго длится суд? На чем же строится обвинение? — интересовалась Нина, чем раздражала меня, но я старалась быть спокойной.
— Обвинение строится на домыслах коллег. Порою вызывают совершенно незнакомых ни мне, ни Стасу людей. В-общем, сплошная болтовня, и самое интересное, что в суде присутствуют эксперты, которые подтвердили: самоповреждение. На основании этого заключения дело и было закрыто в свое время.
— Нет, Валюшка, не смогут они отказаться от своих слов. А подписи их стоят в деле? — спрашивала Катрин.
— Да, они подписывались под своим заключением.
— Не унывай, Валюшка! — подбадривала меня Рая. — Победа все равно за нами! Они нас здесь мучают, а на том свете им всем пекло грозит. Не унывай!
Колючеглазая кончиками указательного и большого пальцев вытерла уголки рта, поправила косынку и тоном игуменьи изрекла:
— Уныние считается тяжким грехом. Да. Тяжелее воровства и даже убийства — во как!
— Нет, я не унываю. Просто они мне надоели. Они нечестные и зависимые. От всего этого их спектакль выглядит на редкость бездарным. Даже смешным.
— Смешного тут, конечно, мало. Что тут смешного? Они издеваются над людьми, а ты говоришь — смешно… Терпи, Валюшка, терпи, — колючеглазая часто и тяжело вздыхала.
— Да, Валя, ты права. Великая и спасительная сила — это терпение. «И Дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне сердце оживи». Александр Сергеевич Пушкин, — улыбнулась я.
Катрин возбужденно спросила:
— Нет, самое непонятное — почему тебя арестовали через пять лет после его гибели? Через пять лет!
Рая почувствовала, что мне совсем не хочется говорить об этом, и попросила:
— Почитай нам стихи, а?.
— Радио мешает. После отбоя почитаю, — обещала я.
Колючеглазая опять глубоко вздохнула и мечтательно посмотрела в потолок.
— Скорей бы суд, — проговорила она блаженным голосом, словно речь шла не о суде, а о свидании. — Скорее бы в тюрьму на Пресню. Там весело, там «конь»[7] бегаете записками с мужского этажа на женский и обратно… Там любовь царствует… Я с тремя переписывалась и называла себя разными именами. И было мне девятнадцать лет для одного, для другого — двадцать пять, для третьего — тридцать три года. Жуть как интересно!
И Валя засмеялась, вспоминая что-то.
Катрин потянулась и томно проговорила:
— Да… на пересылке и в зоне куда интереснее.
— Тебе мало, что я в тебя втюрилась? Мужиков ей подавай… От них все несчастья у баб. Ведь так? — сердилась Рая-мальчик.
— Это уж точно. От мужиков все несчастья. Да, Валюшка? — Нина уставила на меня свои неглупые глаза.
Ей очень хотелось, чтобы я поддержала эту тему. Куруха она профессиональная. Поди, стучала и предавала всех на воле. Она и по жизни — куруха.
— Я люблю мужчин и жалею их. Мне думается, что они не такие коварные, как женщины, — ответила я.
Я не знала, куда себя деть. Катрин участливо посоветовала:.
— Отдыхай, Валюшка, и думай о чем-нибудь хорошем. Переутомилась ты.
— Ну, ладно, слушайте стихи Федора Тютчева.
И я стала читать:
О! Как убийственно мы любим, Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей…Перед следующим судебным заседанием пришел ко мне адвокат и шутливо сказал:
— Сегодня на сцене — вы.
Я не придала значения его шутливому тону. Я понимала, что это его зашита от собственной несостоятельности. Он действительно не знал нашего дела, не знал наших отношений со Стасом, не знал наших положений в театре — ничегошеньки не знал. Ему никак нельзя было соглашаться вести мое дело. Легкомыслие посетило и его, и меня. Лучше мне было и вовсе быть без адвоката. Я только поинтересовалась:
— Когда же появится врач «скорой помощи»? И будет ли свидетельствовать Леночка Санаева?
— Врач должен обязательно быть. А Санаева просит дать ей слово с самого начала суда. Даже письмо написала в суд. Вот оно.
Он протянул мне письмо.
— Я могу его взять?
— Нет, пока нет.
Я сказала конвоиру, что мне нужно взять из сумки тетради и ручку. Он открыл дверь камеры, и оттуда дохнуло холодом, даже пар столбом пошел. Адвокат сочувственно посмотрел на меня и сказал:
— Я задержусь здесь до начала заседания. Там нельзя находиться, — он кивнул в сторону камеры. — Заболеть можно.
Я села за стол и стала конспектировать письмо Леночки Санаевой, обращенное к суду.
В нем было написано:
«Я знала Стаса с 1976 года. Мы работали на «Ленфильме». Нас познакомила Валя Малявина в буфете «Ленфильма». Позже мы часто встречались, и иногда наша беседа длилась по многу часов. Стас мне рассказывал о себе, о своем детстве, юности, излагал свои жизненные позиции. Он все больше рассказывал о страшном. Однажды он проснулся у тетки или у бабушки — не помню точно, у кого, — и стало ему жутко. Спал он на раскладушке посредине крохотной комнатушки, открыл глаза и увидел у самого своего изголовья тетку со свечой, она шептала молитву, словно нал покойником. Стас говорил, что это воспоминание его преследует. Смерть в душе он носил еще задолго до того, как ушел из жизни. Упаднические настроения часто сопровождали Жданько, это могут подтвердить люди, работающие на «Ленфильме»…»
Я остановилась. Не стала дальше конспектировать. Лена писала правду, но чем искреннее была она, тем образ Стаса становился все мрачнее. Я сказала об этом адвокату.
— А вы хотите, чтобы он выглядел, как в обвинительном заключении, — весельчаком? Руководство Театра Вахтангова, некоторые ваши коллеги и прокуратура свидетельствуют, что Стас купался в славе, что вот-вот должен был получить премию имени Ленинского комсомола, что он обожал Театр Вахтангова, был абсолютным трезвенником… Между тем перед носом судей лежат его дневники, в которых он не скрывает своих душевных мучений и откровенно пишет о любви к вам… И у них получается, что вы завидовали его творческим успехам. Вы только подумайте, Валентина, что мотив преступления — неприязненные отношения на почве вашей зависти к его славе. Вы очень точно задавали вопросы Евгению Симонову. Ему ничего не оставалось делать, как отвечать правду. Даже судья сняла вопрос о вашей творческой неудовлетворенности, значит, мотива преступления нет.
— Да. Весь март и апрель мне было очень хорошо. Ему — плохо. Я упустила его.
Конвоир открыла дверь «морозильника» и попросила войти в камеру.
Адвокат ушел.
— Я не буду раздевать тебя и делать досмотр. Приведи себя в порядок. Сейчас пойдем в зал, — сказала статная конвоир.
Я как-то беспомощно пролепетала:
— Зеркала нет.
— Ничего. Ты на ощупь. Все хорошо. Выглядишь прилично. Не кисни.
— Я не кисну. Надоело.
В грязных коридорах все еще свалка: битые стекла, рамы, кирпичи, куски штукатурки и прочий хлам.
В зале суда духота. Боже! Сколько зрителей! Ну надо же, какая честь!
Увидела Дину Пырьеву. Она слегка улыбнулась, выпрямилась, как струна, и показала всем своим видом — мол, будь умницей. Красивая она! Молодая совсем! И желтая кожаная куртка ей идет..
А Инна Гулая почему-то красная… Наверное, каких-нибудь таблеток наглоталась. Зачем она приходит? Я же просила ее не приходить.
Судья мне предложила рассказать о дне 13 апреля 1978 года.
— Вы, конечно, помните 13 апреля 1978 года? — спросила она и круглыми глазами как можно ласковее посмотрела на меня.
Я ничего не ответила и стала рассказывать о том, что произошло пять лет назад в тот роковой день.
— Утром этого дня по телевидению шел фильм Сергея Аполлинариевича Герасимова «Тихий Дон». Было известно, что сейчас Герасимов готовится к съемкам фильма «Юность Петра», и Стас попросил меня позвонить ему с тем, чтобы Сергей Аполлинариевич вызвал его попробоваться на роль Меншикова. Я позвонила. Герасимов обещал встретиться со Стасом, но сказал, что Меншиков у него есть — Николай Еременко. Стас очень огорчился, но потом подошел к зеркалу, взлохматил волосы, закрутил усы вверх и метнул суровый взгляд на меня, изображая Петра…
— Можно покороче? — перебила меня своим ласковым голосом судья.
— Мне приятно об этом вспоминать… Ну, хорошо, стало быть, короче… Я не буду рассказывать о его недомоганиях и плохих настроениях в связи с закрытием фильма «Ошибки юности», не буду рассказывать о других причинах, из-за которых у него был упадок духа, — вам все эти обстоятельства хорошо известны.
Кто-то крикнул из зала:
— А нам неизвестны!
— Вы, по всей вероятности, были не на всех заседаниях, — ответила я.
— Прекратите разговоры, — судья постучала карандашом по столу.
Боже! Как не хочется им рассказывать! Это трагедия, а на лицах присутствующих — любопытство, ненормальное возбуждение, даже некоторое вдохновение.
Я довольно долго молчала.
— Ну, мы вас слушаем, — по-прежнему ласково обратилась ко мне судья.
Тогда я собралась с силами:
— Везде и всегда я говорила, что произошла трагическая случайность. «Неприязненных отношений», как сказано в обвинительном заключении, у нас со Стасом не было. Напротив…
…Боже, зачем я это все ИМ говорю?
Потому что так положено. Но разве возможно передать словами то, что произошло на самом деле?.. Наверное, возможно. Но не здесь и не сейчас. Кроме настоящего времени есть еще прошедшее и будущее…
Свой голос слышу, словно со стороны:
— Думаю, что поводом послужило выпитое мною вино.
Судья спросила меня:
— Жданько сказал вам что-нибудь после того, как вы выпили вино?
— Ни слова он не сказал мне. Это было поразительно. Наступила тягчайшая пауза. Я взяла бутылку с оставшимся вином и вышла, чтобы вылить его в раковину. Я еще раз повторяю: Стас не хотел умереть.
Судья собиралась что-то сказать, но у нее не получилось. Она набирала воздух, а вздохнуть не могла. По всей вероятности, у нее сосуды шалили.
Инициативу перехватила препротивная прокурор:
— Отчего вы никого не позвали на помощь?
— Я сразу же позвонила в «Скорую помощь» и вызвала ее на ножевое ранение.
— А соседей почему не позвали? Симонова почему не позвали? Почему не закричали: «На помощь!»? — усердствовала общественный истей.
— Я реагировала так, как реагировала я, а не так, как вы или кто-то другой. Кроме того, я не кликушествовала, потому что была уверена в нормальном исходе, а не в трагическом.
Вдруг судья спросила:
— Вы верующая?
Статная конвоир тихо мне подсказывает:
— Скажи — нет.
Я ответила:
— Да.
Судья чуть помедлила и спросила:
— Когда вы стали верить в Бога?
— С тех пор, как осознала себя.
— А Стас?
— Стас верил в Бога.
Общественный истец возразила:
— Но его мать, Александра Александровна Жданько, отрицала, что он верующий.
— Александра Александровна, наверное, подумала, что так сказать будет лучше, полезнее… Стас был верующий, другое дело, что все мы очень грешны…
О чем-то еще спрашивали, но все это были вопросы глупые, досужие…
Потом мною занялись эксперты, освободив зал от присутствующих.
Я хотела напомнить экспертам, что видела их подписи в нескольких протоколах, где они не исключали саморанение, но мне не дали говорить.
Они рассматривали мою правую руку, что-то замеряли, что-то записывали… от кого-то из них сильно пахло спиртным.
Такая жара! Ужас!
Хорошо еще, что за время мотания моего в суд меня узнал весь конвой и теперь не засовывает в раскаленный от жары железный «стакан». Братва сочувствует мне, мол, долго копаются судьи. И в камере я вижу, что все участливо беспокоятся, почему так долго идет суд.
После окончательного решения суда меня должны перевести в другую камеру, где находятся не обвиняемые, а осужденные, или… отпустить домой… Нет, оказывается, я еще чуть-чуть надеюсь на то, что все решится правильно. Я вижу, что судья нервничает, потому что у нее нет абсолютных доказательств моей виновности.
…В камере влажно, все время хочется пить. За чаем я вдруг вспомнила о странных случаях, происходивших со мной, и стала рассказывать. Девочки замерли. Они любили, когда я рассказывала.
— Дело было на съемках в Риге. Саша Михайлов, Наташа Фатеева и я снимались в телевизионном сериале «Обретешь в бою» у Марка Орлова.
В павильоне стояла дивная декорация — подлинная библиотека в шкафах красного дерева за стеклянными дверцами. Дверцы, конечно, были закрыты на ключики. Хозяин библиотеки, мужчина преклонных лет с красивым и благородным лицом, всегда присутствовал в павильоне. Как-то в перерыве я подошла к книгам и стала рассматривать корешки. Хозяин любезно предложил мне взять интересные для меня книги с собою в отель. Я поблагодарила и взяла несколько томиков. Он открыл другой шкафчик и вынул из него довольно толстый фолиант.
— Это тоже интересная и нужная книга. Можете и ее взять, — сказал он.
Я открыла книгу. Это была «Хиромантия».
Я обещала никому не показывать книги. И вечером того же дня в номере стала изучать свою руку. Что же получилось? А получилось, что в «долине Юпитера» под указательным пальцем левой руки у меня притаился знак тюрьмы. Я удивилась. Улыбнулась.
На следующий день я говорю хозяину библиотеки:
— Это, конечно, все интересно, но у меня в «долине Юпитера» знак тюрьмы. Не правда ли, это странно?
Он попросил меня показать ему левую руку. Я протянула:
— Вот, смотрите…
Он направил лупу старинной работы прямо на знак, потом внимательно посмотрел на меня, закрыл мою ладонь и молча удалился из павильона.
— Ну надо же! — ахнули девочки.
— Давно это было, Валюшк?
— Давно.
— Ну надо же!..
Я продолжила свой рассказ:
— Стас знал, что я умею смотреть руку. И как-то попросил меня: «Валена, пожалуйста, посмотри мою руку». Я взяла его левую ладонь и обомлела: поперек линии жизни — ровненький шрам, открыла правую руку — там то же самое: поперек линии жизни — ровнехонький шрамик. Я с испугом закрыла обе руки.
— Ты что, Валена? Плохо у меня, да? — спросил Стас.
— Да, — говорю. — У тебя на линии жизни неестественное препятствие.
— Не смертельное же? — улыбнулся он.
Я ничего не ответила, а спросила:
— Как эти шрамики легли таким образом на линии жизни рук твоих?
Стас посмотрел на свои красивые руки и сказал:
— Они в Новый год получились. После того, как я сжал в руке бокал с вином. Я сжимал его, пока он не треснул. Я почувствовал, что поранился, но ничего никому не сказал, опустил голову на руки, а кровь полилась на скатерть. Леня Ярмольник заметил и вскрикнул… Потом врачи зашили ранки.
Мне стало не по себе от его рассказа.
— Ты гневался на кого-то? — спросила я.
— Нет. Просто было смертельно скучно. Никчемно было. Ждали-ждали Новый год… Ну и что? Он пришел… Ожидание было более значительно, чем сам праздник…
Он заметил мое удрученное состояние и сказал:
— Не переживай особо, Валена! Не переживай.
— Не надо больше никогда так выпендриваться. — Я почти сердилась на него. — Нехороший это знак. Смерть случайная получается.
— Ну и ладно… — успокаивал меня Стас. — А у тебя что нарисовано?
— А у меня вот здесь, видишь, знак тюрьмы.
Он поцеловал мою ладошку и улыбнулся.
— От сумы и от тюрьмы, сама знаешь…
И стал шалить, чтобы рассмешить меня.
— Да… дела, — вздыхали девочки после моего рассказа.
— Там, — колючеглазая показала рукой вверх, — там про нас все заранее знают… Вот так-то…
Нина спросила меня:
— Ты веришь в судьбу?
— Да..
— А что ты думаешь по поводу твоего суда? Сколько дадут?
— Домой пойду.
Мне вдруг стало так беззаботно, так все равно, так легко, что я, смеясь, сказала:
— Чему быть, того не миновать.
А про себя подумала, что это, наверное, организм защищается, поэтому и стало беззаботно.
14
И снова суд.
Смилостивились, дали слово Лене Санаевой.
Какое у нее славное, открытое лицо! Я не успевала записывать за нею, потому что мне нравилось слушать ее — у нее очень хорошая речь. Мне было приятно слушать ее слова обо мне, Лена подробно говорила о том, что в течение пяти лет после гибели Стаса я не обращалась к адвокатам, уверенная в их ненадобности, а между тем дело, которое на глазах распухло от россказней знакомых и незнакомых лиц, должно было бы быть предварительно изучено адвокатом. Тогда, возможно, не понадобилось бы столько судебных заседаний, одно другого глупее и нелепее, и скорее всего — не случился бы суд.
И я — в который раз — вспомнила Риту из музея Театра Вахтангова с ее загадочной фразой «Тебе бы адвоката взять хорошего» и мой ответ «Зачем?». И вокруг тихо… снег бесшумно падал в арбатских вечерних синьковых переулках. Я не предполагала, что такое безобразие может случиться. Я всегда верила в справедливость. Я и сейчас в нее верю.
У итальянцев есть хорошая поговорка: «Время — честный человек».
Справедливости ежесекундной не бывает. Справедливость наступает потом. И навсегда.
Я была спокойна, слушая Санаеву Лену. Леночка говорила, что после общения со Стасом — меня-то она знала давно — у нее сложилось впечатление, что мы по-разному относимся и к жизни, и к искусству. Лене казалось, что Стас хотел немедленной славы, а обо мне она сказала иное:
— Валентина вообще не думает на эту тему. Она состоялась как актриса, будучи студенткой третьего курса театрального института. Валентина играла несколько главных ролей в Театре имени Ленинского комсомола, которым руководил Анатолий Эфрос, а на четвертом курсе была приглашена в труппу Театра имени Вахтангова самим Рубеном Симоновым и сразу же стала много и интересно работать. В кино начала сниматься на первом курсе театрального института. И у кого? У Андрея Тарковского!
…Вот мы и дошли до самых светлых страниц моей жизни. До лета 1961 года.
— Девочка! Поднимись, пожалуйста, в группу «Иваново детство», — приветливо позвала меня из окна красивая темноволосая женщина.
— Зачем?
— Ты нам нужна.
Я возвращалась домой через мосфильмовский дворик после нервной и утомительной фотопробы к фильму «Война и мир». Я очень устала, и мне не хотелось дольше оставаться на «Мосфильме», но меня очень звали, и я поднялась.
— Я второй режиссер фильма «Иваново детство». Зовут меня Валентина Владимировна Кузнецова. Знаю, что тебя смотрит Бондарчук на Наташу Ростову…
— Но я не пойду к ним больше.
— Почему?
— Слишком волнуюсь.
Дверь распахнулась, и в комнату прямо-таки влетел молодой человек, экстравагантно одетый.
Он внезапно остановился посреди комнаты и стал задумчиво смотреть в окно.
С нами не поздоровался.
Вдруг спросил меня:
— Какие тебе сны снятся?
— Разные, — отвечаю я. — Я часто летаю во сне.
— И я! — он улыбнулся яркой улыбкой.
Валентина Владимировна стала знакомить нас.
— Это Валя Малявина. А это наш режиссер Андрей Тарковский.
Мне показалось, что Андрей не слышал Валентину Владимировну, потому что очень серьезно стал спрашивать меня дальше:
— А как ты летаешь? Ты землю видишь?.. Или как?
— И землю, и много-много неба. И все вокруг красиво. И очень душе хорошо!
— А он не видит снов! Вообще не видит, — сказал Тарковский.
Я даже не успела спросить, кто не видит снов, и почему так важно, чтобы он их видел.
— А мне в фильме нужны сны Ивана, — продолжал Андрей, — мне они необходимы, а он не понимает, спрашивает — для какой цели?
Он замолчал и стал опять смотреть в окно, чуть покусывая ногти.
Мы с Валентиной Владимировной молчали.
Потом, глядя на меня, как будто я виновата, он крикнул:
— Сны и явь! Неужели это непонятно? — Резко повернувшись, он ушел. Не попрощался.
Через некоторое время Валентина Владимировна позвонила и пригласила меня на репетицию:
— Андрей Арсеньевич и Валя Зубков ждут тебя, — строго сказала она.
Репетиция началась.
Зубков — по сценарию Холин — спрашивает меня, медсестричку Машу:
— Как звать тебя?
Я смотрю на Холина, с интересом разглядываю его: мне не верится, что я вижу моего любимого актера Валентина Зубкова, и еле слышно говорю:
— Маша.
Андрей радостно закричал:
— Сможешь повторить то же самое?
Зубков-Холин снова ласково спрашивает:
— Ну… а как звать тебя?
У меня дыхание перехватило, и я едва смогла сказать:
— Маша.
Потом — неожиданно для самой себя — закрыла глаза и поцеловала Зубкова-Холина. Открыв глаза, тихо заплакала. Андрей очень по-детски спросил:
— Отчего ты плачешь?
— От счастья.
И ушла.
После этой репетиции Андрей утвердил меня на роль Маши. Познакомил с будущими героями фильма: Колей Бурляевым и Женей Жариковым.
Познакомил меня Андрей и с Андроном Кончаловским. В то время они очень дружили.
Из дневника 1961 года
«Сегодня случился туман. Наверное, от него в группе так тихо. Андрей взял меня за руку и повел к Лебединому пруду[8]. Лебеди отдыхали у своего домика. Андрей оставил меня на берегу. Отошел. Сложил из ладоней кадрик и медленно стал приближаться ко мне, глядя сквозь перламутровый туман на дремлющих лебедей, на пруд, на меня. Подошел совсем близко…
— Как во сне… в красивом сне…
И поцеловал меня…»
Почти каждый вечер мы гуляли по Москве. Погода стояла чудесная.
Я родилась и выросла на Арбате.
И Андрей любил, когда я показывала ему свой Арбат. Он часто пел песенку Гены Шпаликова, от которого был в восхищении:
Ты сидела на диване, походила на портрет, молча я сжимал в кармане леденящий пистолет…Андрей был очень красивый и знал об этом, но был недоволен своими густыми, совершенно прямыми и непослушными волосами. На макушке они торчали смешным ежиком. Я слегка дотрагивалась до них и смеялась.
Андрея огорчали и этот ежик, и я. В своем детском огорчении он был очень забавен.
Я просила его: «Скажи быстро: «На мели мы налима лениво ловили, для меня вы ловили линя, о любви не меня ли вы мило молили и в туманы лимана манили меня…»
Он послушно повторял, а когда говорил о туманах, чуть прикрывал глаза.
Я была в восторге от его очаровательной буквы «л», которую он произносил как «в».
— Ты вспоминаешь тот туман? Наш? У лебедей? Да? — спрашивал Андрей.
— Да.
— Но почему ты смеешься?
Я чуть-чуть передразнивала его букву «л», а он обижался и долго не говорил со мною.
Андрей любил Достоевского. Я — тоже.
Ему нравилось слово «фантасмагория», часто произносимое Федором Михайловичем. Когда с нами случались разные смешные истории, я восклицала: «Фантасмагория, господа, да и только!» Андрей хохотал. Мы много дурачились, но иногда он как-то особенно замолкал, тихонько покусывая ногти. Я чуть хлопала его по рукам, он, как ребенок, прятал их за спину и снова веселил меня.
Он был уверен в своей исключительной судьбе и мне пророчил необычный путь.
— Ты похожа… на кого-то… и она мне знакома давным-давно… Нет! Не так! Как будто я знаю тебя всю жизнь, даже разные жизни… словно это уже когда-то было… У тебя бывает такое?.
— Да. И мне в такие минуты — тревожно.
— И мне тревожно.
Из дневника 1961 года
«Андрей предложил мне ехать с группой в Канев. Я не смогу. Саша звонит каждый день и просит приехать к нему на съемки в Таллин. Олег Даль восторженно кричит по телефону: «Твой муж будет мировой звездой! Збруев за «Младшего брата» получит «Оскара»!»
…Наступил сентябрь, и начались занятия в Школе-студии МХАТ.
Я молчала, что утверждена на роль Маши.
Наш ректор Вениамин Захарович Радомысленский, которого мы все обожали, категорически запрещал студентам работать в кино. Но Андрей обещал снимать мои эпизоды в свободное от учебы время.
По приезде из Канева он часто ожидал окончания моих занятий в «Артистическом» — в кафе, что напротив школы-студии.
Я приходила, мы пили крепкий кофе и говорили… Андрей рассказывал:
— Когда была война, я много страдал… и я знаю, как снимать «Иваново детство». А после войны был белый-белый день… и отец шел по тропинке… мама поодаль… сестра Марина рядом… хотел бежать к отцу — не смог. Я тебя обязательно познакомлю с отцом, и ты в него влюбишься. Да-да, все женщины в него влюбляются.
Вдруг спрашивал:
— Ты любишь цыган?
— Да.
— А тебе Филипп Малявин нравится? Каковы «Бабы»? А?
— О да!
— Нет, ты больше похожа на суриковских женщин. Ты знаешь, что Кончаловские из Суриковых? Вы с Никитой Михалковым — как брат и сестра.
Он знал, над чем будет работать дальше, даже последовательность фильмов у него была определена. И все мечтал снять фильм о Федоре Михайловиче Достоевском. О процессе творчества его, о самом процессе. Сам у себя спрашивал и сам же отвечал:
— Как у него это получается?.. Тайна…
Однажды он сказал:
— Очень хочу снимать «Березовую рощу». Это будет фильм в фильме. Снимать будем пасмурным днем.
Наша роща находилась на Николиной горе. Андрей, Валя Зубков и я приехали в рощу позже. Группа не спеша уже готовилась к съемкам. Рыли траншею.
— Для чего? — спрашиваю Андрея.
Не ответил. А спросил:
— Красиво здесь? Да?
— Печально, — отвечаю.
Было пасмурно и прохладно.
Андрей заставил меня надеть косынку и сам заботливо завязал ее сзади на узелок, долго занимался этим узелком, чтобы он красиво выглядел. Завяжет. Отойдет. Снова подойдет. Развяжет. Перезавяжет. И опять отойдет посмотреть — красиво ли?
Мне было смешно.
— Не смейся. Сосредоточься. Послушай тишину. Смотри в небо и слушай тишину. А я пойду посмотрю, что с березкой.
— С какой березкой?
— По которой ты будешь идти к Холину.
Когда я увидела поваленную, скользкую березку — испугалась, что на съемке упаду.
— А ты до съемок походи по ней… представь, что ты циркачка, — улыбался Андрей и напевал: «Она по проволоке ходила…»
В этой песенке тоже было много «Л», поэтому получалось мило и смешно, к тому же он думал о другом, складывая из ладоней кадрик, смотрел в него на сломанную березку, думал, а сам машинально напевал.
Я хихикала.
— Что смешного? У тебя такие грустные глаза, и я не ожидал, что ты такая хохотушка. Лезь наверх!
Я попробовала пойти вверх по березке, но у меня не получилось.
Тогда Андрей взошел легко наверх, изящно повернулся и красиво сбежал вниз. Он был явно доволен собой.
— Тебе будет труднее, потому что ты должна медленно спускаться и смотреть не себе под ноги, а на Холина. Как ты будешь это делать? Покажи.
Я была в шинели и сапогах: все очень тяжелое, и у меня плохо выходил проход по березке.
Андрей взял меня за руку и вместе со мною поднялся на березку, встал сзади, слегка подтолкнул меня, и мы стали спускаться вниз медленно-медленно…
— Вот так тихо ты должна идти и смотреть на Холина.
— Что я должна делать в этом эпизоде?
— Любить Холина и бояться… себя бояться…
И добавил:
— Как в наших отношениях.
В один из дней снимали эпизод с Андроном Кончаловским. Андрей и Андрон были в светлом настроении, и мне было легко и хорошо. Нашу березовую рощу посетили Никита Михалков и его приятель Коля Томашевский. Их мотоцикл фырчал, неистовствовал, они тоже орали, хохотали и носились по роще. Но нашего настроения невозможно было нарушить. И Никита с Колей стали тихо смотреть, как мы работаем.
А вечером решили поехать на дачу к Михалковым. Ужинали за огромным круглым столом карельской березы вместе с Натальей Петровной Кончаловской и Сергеем Владимировичем Михалковым. Сергей Владимирович рассказывал смешные истории, и всем было весело, всем было просто замечательно!
Вдруг кто-то легонько наступил мне на ногу и задержал свою ногу возле моей. Мне хотелось посмотреть под стол, но я не смела. Гляжу на липа и не могу определить — кто же это проявляет такое внимание ко мне? Через какое-то время чувствую, что чья-то другая нога тоже чуть дотрагивается до меня… потом эти две посторонние друг другу ноги встретились, повели под столом свой «разговор» и вернулись на свои места..
Я вдруг как рассмеюсь!
— Простите, пожалуйста, — говорю, а сама смеюсь и смеюсь. — Простите, смешинка попала.
Всех рассмешила.
Наталья Петровна и Сергей Владимирович уехали в Москву, а мы остались на даче. Сидели у камина и долго смотрели на огонь…
Во дворе лежала гора хвойных веток, мы упали на нее, взялись за руки… молчали… А звезды яркие целовали нас…
Мне выделили славненькую комнату, в окошке — сосна-красавица.
Андрей постучался ко мне:
— Я хочу почитать тебе стихи.
И читал из Анны Ахматовой и Арсения Тарковского. Потом… потом было тихо… Я почему-то села в уголок и прижалась к стене.
— А где Андрон? — спросила.
Андрей резко встал, ничего не ответил и ушел.
Так получилось, что мои эпизоды снимались на протяжении всего съемочного периода. Когда у меня не было съемок, Андрей звонил и просил приехать в павильон. В первом павильоне снимали «Сон Ивана»: Коля Бурляев, девочка, машина с яблоками.
— Я выбрал девочку, похожую на тебя. Хочу работать с тобой всегда. Только больше ни у кого не снимайся… нет, у Райзмана можно. Он снимает актрису один раз и делает ее знаменитой. Я уверен — ему понравится «Березовая роща», и он позовет тебя в свой фильм. Я разрешу. Но только у него и больше ни у кого. Согласна?
Настроение мое было не из лучших, и я тихонько ушла из павильона. Был поздний вечер. Тихо. И крупный снег, как белые кружевные лоскуточки. Дверь хлопнула. Выбежал Андрей, крикнул мне:
— Почему ты ушла?
— Грустно стало.
— А почему должно быть все время весело? И почему нужно уходить, когда грустно?
— Ты простудишься, — говорю.
Андрей выбежал в одном свитере. Он поправил свой кашемировый шарф.
— Ты странная и своевольная. Не буду я с тобой работать.
«— Я знаю.
Поцеловала его и побежала по аллее.
— Я отказываюсь понимать тебя! — кричал он мне вслед.
Его почему-то огорчала моя самостоятельность.
Как-то позвонил Андрон и пригласил меня в Зал Чайковского на «Милого лжеца» Б. Шоу в постановке Ремезовой и Акимова. Я с удовольствием приняла приглашение.
На следующий день звонит Андрей:
— Ты была вчера в Зале Чайковского?
— Да.
— С Андроном?
— И Наталья Петровна, и Никита тоже были на спектакле.
— Почему вы не позвали меня?
Тон был таков, что мне пришлось положить трубку.
— Я всегда тебя прощаю… Пойдем в твои гости, — предложил он через несколько дней.
Я была дружна с Верой Ипполитовной Патерсон, замечательной художницей и мамой знаменитых Джима и Тома Патерсонов. Когда Джим был маленьким, его снимали в фильме «Цирк», и все полюбили этого симпатичного черненького мальчугана. Сейчас Джим — интересный поэт, а Том, его брат, — известный оператор на ТВ.
Андрея обрадовало это знакомство. Ему понравились работы Веры Ипполитовны.
— Я думаю, вы согласитесь, Вера Ипполитовна, работать художницей по костюмам в нашем следующем фильме. Он будет называться «Страсти по Андрею». Вы, конечно, догадываетесь, что не обо мне идет речь, — и засмеялся, — а об Андрее Рублеве. И Валя будет сниматься. Она будет играть Марусю. Маруся любит смешного художника и сама пишет иконы. Она ходит с художниками по России… а потом ее любимого убивают стрелой, и он умирает в чистом-чистом ручье…
Но не скоро Андрей начнет снимать фильм о Рублеве, в котором я так и не сыграю Марусю.
Во время озвучания «Иванова детства» меня пригласили на пробы фильма «Утренние поезда». Сценарий мне понравился. Конкурс на главную роль, которую мне предлагали, был большим, и мне хотелось участвовать в нем. Андрею я не сказала об этом. Не уверена была в положительном результате, но Фрунзик Довлатян и Лева Мирский утвердили меня.
Мне очень хотелось сниматься в этом фильме, но я не знала, как отнесется к этому Андрей и как ему сказать, что хочу и буду работать в новой роли.
И вот мы пошли поужинать в «Националь».
У Андрея там была назначена встреча с Эрнстом Неизвестным.
Андрей был весел: «Иваново детство» пригласили на Венецианский фестиваль. Эрнст поздравлял нас. Он мне был симпатичен. Я вдруг спросила Эрнста:
— Вы тоже гений?
— Почему — тоже? — переспросил Неизвестный.
— Потому что Андрей — гений.
— Я — гений. Андрей — гений. Без «тоже».
Мне нравилось говорить с Эрнстом, и я спросила:
— А можно так сказать: «Вы — гений, Андрей — тоже»?
— Так можно, — хохотал Неизвестный.
Я выбрала момент и стала рассказывать историю Аси из «Утренних поездов»:
— «…она бежит в подвенечном платье по мокрой платформе, догоняя электричку, она убегает от любимого…»
— Вот и Настасья Филипповна у Федора Михайловича убегает из-под венца… Сама придумала историю Аси? — спросил Андрей..
— Нет. Зак и Кузнецов. Снимать этот сценарий будут Довлатян и Мирский. Меня утвердили на роль Аси.
Андрей молчал, как бы не проявляя никакого интереса. Я спросила его:
— Как ты к этому относишься?
— Что бы я ни сказал, ты все равно поступишь по-своему.
Я стала сниматься в роли Аси в фильме «Утренние поезда».
В августе 62-го Андрей Тарковский, Сергей Аполлинариевич Герасимов, Тамара Федоровна Макарова, Жанна Болотова и другие отправились на Венецианский кинофестиваль.
Меня отпустили с трудом — из-за съемок в «Утренних поездах». И я позже других вылетела в Италию. Остановилась в Париже, а 27 августа прибыла в Венецию.
Из дневника 1962 года
«…Вышла из самолета, и жаркий, плотный воздух крепко обнял меня.
— Валя! Здравствуй! — приветствовали меня двое молодых людей из «Совэкспортфильма». — Ну, пойдем? Андрей должен встретить тебя!
Мы пошли к причалу.
Боже! Сколько воды! Она появилась как-то вдруг, совсем неожиданно!.
Андрей ходил из угла в угол пляжного домика и кусал ногти.
Весь день он сердился и не разговаривал со мной.
Вечером я надела красивое платье, сильно накрасила глаза, губы, пришла ужинать. Я знала, что Андрею не нравится мое сильно накрашенное лицо, но я сделала это сознательно, как бы бросая вызов. Меня огорчало, что Андрей со мной не разговаривает, и я хотела получить от него хотя бы замечание.
Тамара Федоровна заметила, что мне лучше без грима. Андрей резко сказал:
— Она нарочно.
Андрон выручил меня:
— Красиво. Как в Древнем Египте..
Я была благодарна Андрону.
После ужина Андрей все-таки спросил:
— Ну и как?
Я поняла, что он спрашивает о нашей ночной прогулке.
— Чудесно, — говорю.
— Что делали?
— Пили ледяное вино и слушали музыку. А утром встречали восход. Жанна нашла на берегу славного игрушечного лягушонка и подарила мне. Я его сохраню на всю жизнь».
Когда шел фильм «Мама Рома» с участием Анны Маньяни, Андрей мне сказал:
— Скоро наша премьера! Волнуешься?
— Очень!
— А мы сделаем так: средний палец положим на указательный, получится крестик, и победим.
Он сложил крестик.
— Покажи!
Я тоже сложила крестик.
— Очень хорошо! Мы победим!
— Отчего у тебя такая уверенность?
— Я не знаю. Предчувствие. Все будет хорошо!
Перед премьерой «Мамы Ромы» весь зал приветствовал Анну Маньяни стоя.
Из дневника
«Милан. Мы с Андреем поднялись на крышу Миланского собора..
Господи! Благодарю тебя!
Нас фотографировали. Я не очень люблю это занятие.
Андрей говорил:
— Напрасно. На всю жизнь! Как хорошо!
Я слушалась, поворачивалась к репортерам. А Андрей в кадре как-то сразу менял настроение. Если даже до съемок был весел, становился задумчиво-отрешенным и почти отворачивался от камеры. Меня иногда сердило это перевоплощение, но я понимала: на всю жизнь!
А потом внизу, в соборе, Андрей подарил мне серебряный кулончик с изображением Мадонны на лицевой стороне и Миланского собора — на обороте.
Были в гостях в замечательном доме, а потом пошли к отелю пешком. Андрей почему-то сказал:
— Милан похож на Москву.
Наверное, не Милан похож на Москву, а скверик, по которому мы шли, был похож на наш — на Бульварном кольце.
Утром выступали по телевидению. Когда поднимались в студию — застряли в лифте. Андрей почему-то прижал мою голову к своему плечу и сказал:
— Терпеть не могу замкнутого пространства.
— А я в ужасе от него. Я степь люблю.
Я почти плакала. В лифте было жарко и многолюдно.
Андрей успокаивал меня:
— Закрой глаза и представь: ты в степи.
Я так и сделала — стало легче.
— Ну, вот… умница.
Андрей был нежен со мной».
Из дневника (о премьере)
«Сегодня первое сентября. Утром показ фильма для журналистов и сразу же после фильма — пресс-конференция.
Андрей руководил мною.
— На пресс-конференцию приди в фиолетовых в клеточку брючках, белой с шитьем кофточке и серебряных сандалиях.
Андрей придает большое значение внешнему виду. Беспокойно это. Суетно.
Пресс-конференция прошла тихо. Мы чувствовали себя неуютно.
А вечером, перед премьерой, меня всю трясло. Андрей хоть и успокаивал меня, но тоже заметно волновался. Отвечал невпопад, как всегда, от волнения грыз ногти, все время приглаживал на макушке свой ежик и слишком громко смеялся.
Я была в черном атласном платье. Тамара Федоровна Макарова нашла, что с ним будут лучше смотреться ее кружевные туфли и шитая серебром и бисером сумочка. Я несказанно благодарна Тамаре Федоровне за такое роскошное дополнение к моему туалету. А у Андрея — великолепный смокинг. Он то опускал руки в карманы, то вынимал их, и так — беспрерывно. Мы очень нервничали.
— Андрюша, а вдруг я упаду, спускаясь по мраморным ступенькам?
— Держись за меня.
— А вдруг вместе?
— Дурочка. Тьфу-тьфу…
Мы благополучно сошли вниз по красной ковровой дорожке, которая украшала не только мраморную лестницу, а весь путь от отеля до Дворца, где проходил кинофестиваль.
…Вспышки блицев и любопытные веселые липа зрителей… Как их много!
Нас провели в ложу. Из ложи мы поприветствовали зрителей. Зал был полон. Дамы в дорогих мехах, несмотря на жару, впрочем, в зале было прохладно. Исключительной красоты камни на дамах делали зал лучезарным. Мужчины либо в черных, либо — в белых смокингах.
Фильм начался.
— Сделала крестик? — нервно спросил Андрей.
— Сделала.
Он удостоверился — правильно ли? Поцеловал мои пальцы, сложенные крестиком, и мы замерли.
Ни один человек не вышел из зала. На других премьерах ходили туда-сюда.
После окончания фильма — пауза. И вдруг — шквал аплодисментов! Дамы и господа этого необыкновенного зала повернулись к нам, громко кричали «браво!» и хлопали в ладоши!
Успех! Боже — успех!
А когда мы вышли на улицу, люди плотным кольцом стали окружать нас, их оттесняли, но они сжимали нас и хотели дотронуться до Андрея и меня. Мы еле прошли к машине.
Оказывается, на улице, в летнем кинозале, тоже шел наш фильм. Три тысячи зрителей смотрели «Иваново детство».
1 сентября 1962 гола. «В машине Андрей кричал:
— Победа! По-моему, победа!
Он был счастлив! Я плакала.
Вдруг Андрей стал хохотать, смотрел на меня и хохотал, потом взял мою руку — я все держала крестик. Нежно освободил мне руку и целовал, разглядывая мои линии на ладошке. Я тоже смеялась».
Из дневника
«Сегодня утром с Андреем и Моникой Витти поехали на встречу со зрителями. Моника целовала меня и гладила мои волосы. Ей очень понравился наш фильм. Андрей радовался. Был горд. Я Монику не знала. Андрей видел ее в фильмах Антониони и знал, что она жена знаменитого режиссера.
Днем смотрели фильм «В прошлом году в Мариенбаде». Этот фильм в 61-м году получил «Золотого льва Св. Марка». Просмотр был в маленьком частном кинозале. Белые стены этого зала были украшены позолоченными светильниками. Мягкие бархатные кресла темно-зеленого цвета — удобны. Фильм изыскан.
После сеанса вышли погулять к каналу Гранде.
Андрею фильм понравился. Льву Кассилю — категорически нет. Между ними произошел спор.
Андрей стоял спиной к воде, а позади него был скользкий спуск. Вдруг он сделал шаг назад и стал катиться, как с ледяной горки, к воде. Я подала ему руку, пытаясь помочь, и тоже полетела к воде.
Всем было смешно. Ну, и что же тут смешного, когда Андрей в светлом костюме, а я — в светло-желтом в белый выпуклый горошек платье от мадам Леже скользим с невероятной быстротой к мутной воле, где неизвестно какая глубина?! Помог нам выбраться наверх прекрасный гондольер.
Мы были сердиты, что еще больше забавляло остальных. Лев Кассиль, несмотря на наше настроение, продолжал ругать фильм «В прошлом году в Мариенбаде». Андрюша нервничал: желваки его двигались с бешеной скоростью…
Вдруг я очень громко, почти крича, спросила у Кассиля:
— Стихотворение снять можно? Я вас спрашиваю — стихотворение снять можно?
Кассиль ничего не ответил, пожал плечами.
— Оказывается, можно, судя по «Мариенбаду», — говорю я. Мне показалось, что Андрею понравилось мое замечание».
Из дневника
«…Равенна! Праздник газеты «Унита», где будет демонстрироваться фильм «Иваново детство».
Мы поехали в Равенну ранним утром. Остановились в небольшом городке выпить по чашечке кофе. Здесь Антониони снимал «Красную пустыню». Андрею показали место съемок. Андрей долго глядел на траву перед домом, потом отходил на большее расстояние и все смотрел, смотрел…
Мне очень интересно наблюдать за Андреем, и у меня есть ощущение, что он чувствует, как за ним наблюдают, и чуть-чуть актерствует».
…В Равенне нас поселили в маленьком отельчике.
Андрей торопил меня:
— Пойдем скорее! Навестим Данте!
Мы пришли к могиле Данте.
Андрей отломил лавровую веточку от огромного куста, что рос возле могилы.
— Я награждаю тебя лавром!
— За что?
— Ты сейчас кроткая, как Беатриче… и тоже в алом платье, как она.
— А Беатриче была кроткой?
— Конечно.
— Эта веточка будет моим талисманом.
— Дай-то Бог. Мы счастливы! Ты знаешь об этом? — тихо сказал Андрей.
— Да, я знаю.
Вечером, на празднике газеты «Унита», после просмотра нашего фильма я испытала нечто невозможное и неповторимое!
Нас представили зрителям, мы сказали слова благодарности и сошли со сцены вниз. Все это происходило в роскошном саду. Меня плотно окружили люди. Было много женщин с детьми. Одна из них поднесла ко мне маленькую девочку, чтобы я ее поцеловала. Я поцеловала девочку, тогда мне начали протягивать других детишек, целовали мне руки и мужчины, и женщины. Их было очень много. Выстроилась очередь. Многие отчего-то плакали.
Я находилась в непонятном настроении. Нет объяснения этому новому для меня состоянию.
Я продолжала всех целовать и желала всем Прекрасного — на русском языке. Было ощущение, что меня понимают.
Длилось это около двух часов.
Андрей был рядом, чуть поодаль. В руках у него была книга, которую подарили мне. «Пиноккио» — Андрюша просил каждого, кто подходил ко мне, расписаться в ней в память об этом необыкновенном вечере. Все странички «Пиноккио» исписаны чудесными итальянцами. А Дмитрий Писаревский, в то время главный редактор журнала «Советский экран», написал мне: «Замечательной Валюшке в день ее подлинного народного триумфа в Равенне. Его скромный свидетель — Дмитрий Писаревский».
Нет, это был не триумф. Это было другое: я любила все и всех! И меня любили!
Я очень устала, но была счастлива, потому что была нужна.
15
Духота в зале достигает своего апогея. Леночкин голос словно отдаляется от меня, проваливаясь в ватную какую-то пустоту.
Стараюсь не смотреть на Инну Гулая, у меня это получается.
Думаю: «Отчего до сих пор не вызывают врача «скорой»? Вызовут ли вообще?..»
Вспоминаю, как на первом заседании увидела в зале вместо людей скелеты и только сейчас понимаю: это — от ощущения всеобщего какого-то предательства, узнаваемого для меня, связанного в моем представлении со смертью.
Услышь меня, чистый сердцем
Я очень хорошо помню, как столкнулась с ним впервые: предательством завершилась самая светлая и наивная пора моей жизни — юность. Имя этой поре — Саша Збруев… Это его облик возникает передо мной, когда кто-нибудь произносит, в общем-то, банальные и знакомые каждому слова — «первая любовь». Так же, как и первое пережитое мной в жизни предательство, я разделила ее с ним — веселым, хулиганистым арбатским мальчишкой.
Мое арбатское детство было прервано вскоре после возвращения папы с войны. Его заменила хлопотная, дорожная жизнь семьи военного. Переезды от очередного отцовского места службы к следующему, вплоть до старших классов школы, когда мы вернулись наконец-то в Москву. А я — на свою арбатскую родину.
Очень хорошо помню, как неприветливо встретила меня школа № 71: мы ухитрились вернуться прямо к экзаменам, совершенно не обрадовав этим руководителей школы, в частности завуча. «Как вы не понимаете, — возмущалась она, — это же столица! Разве сможет ваша дочь сдать экзамены у нас после какого-то дальневосточного села?! Да у нее, небось, и формы школьной нет!..»
И форма, к тому же очень нарядная, у меня была, и экзамены, к которым меня с таким трудом допустили, я сдала, получив одновременно первый урок горечи.
Училась я всегда на «отлично», на «отлично» сдавала и предмет за предметом. Новые учителя чуть ли не восхищались моими ответами и… ставили вместо пятерок четверки. Мое недоумение и обида не знали предела, папины уговоры отнестись к происходящему «философски» помогали мало.
Я не знала, что перед учителями поставили «сверхзадачу» — как можно меньше детей допустить к учебе в 8-м классе, как можно больше — отправить в ПТУ. И хотя в восьмой класс прорвалась, московскую школу невзлюбила сразу. К тому же на Дальнем Востоке остался мальчик, заставивший впервые в жизни мое сердце биться быстрее.
Как-то, после очередного экзамена, выйдя из ненавистной 71-й школы, присела я в соседнем скверике, дабы предаться в одиночестве своей печали по всем этим поводам. Но приступить к грустным размышлениям не успела. Мое одиночество нарушила незнакомая, очень хорошенькая девочка:
— Привет! Тебя Валентиной зовут?
— Да.
— Меня Ларисой… Слушай, у меня к тебе просьба. Сейчас из школы выйдет один мальчик, Саша Збруев. Можно, я подожду его возле тебя? А то неудобно ждать одной… Знаешь, я его люблю…
— Любишь?
— Очень!
— Вообще-то я тоже влюблена, — ответила я откровенностью на откровенность. — Но он сейчас далеко отсюда.
— А вы с ним целовались? — оживилась Лариса.
— Да.
— По-настоящему?
— Да…
— Молодцы! Мы с Сашей Збруевым тоже целовались… Ой, вот он идет!
Так я и увидела его впервые — легкого, изящного мальчишку в элегантном коротком плаще и ярком шарфе, стремительной походкой пересекавшего скверик.
Мне показалось, что он не заметил Ларису специально, чуть ли не демонстративно: уж очень нарочито смотрел куда-то в другую сторону… Она не решилась его окликнуть. Чуть позже, подружившись с ней, к своему изумлению узнала, что их отношения с Сашей — «взрослые» и одними поцелуями не ограничиваются… Стоит ли говорить, что сам по себе этот факт основательно поразил мое, еще детское, воображение?
Дальше — больше. Уже зимой, когда сама я успела раза два влюбиться и «перевлюбиться» в мальчиков из своей новой школы, начисто позабыв про дальневосточного героя своих грез, одна из моих одноклассниц тоже поделилась подробностями романа все с тем же Сашей Збруевым… Подробности оказались столь же интимными, как у Ларисы, девочка буквально заливалась слезами, рассказывая о них… Ну и ну! Что же это за герой-любовник такой — Саша Збруев?!
Заинтересовал он меня тогда по-настоящему. А вот в школе, так неприветливо встретившей, по-прежнему было неуютно. Я приняла решение: пойти работать, а 10-й класс кончать в школе рабочей молодежи. И таким образом сделала решительный шаг к самостоятельной жизни, Стоит ли говорить, что, едва получив первую зарплату, помчалась в магазин и совершила чисто женский поступок — купила замечательную французскую куртку: замшевую, ярко-красную, броскую… Вот это-то и решило в итоге мою дальнейшую судьбу.
Дело в том, что Саша, так же, как, между прочим, и Андрей Тарковский, обожал красивую одежду, людей, одетых со вкусом. Это было чуть ли не первоочередное его требование к женщине — всегда «выглядеть»… Как он сам признался мне позднее, увидев меня в тот вечер на Арбате, он просто не смог не остановиться, не подойти: «Ты просто чудесно выглядела!..»
Он тогда так и сказал мне, ласково-ласково, словно не набиваясь в знакомые, а продолжая прерванную когда-то беседу:
— Здравствуйте! Какая вы красивая!
— Здравствуйте, — невольно улыбнулась я. — Вы — Саша Збруев, я о вас много слышала…
— Что-нибудь нелицеприятное? — озаботился он.
— Нет. Просто, по-моему, в вас влюблены все арбатские девочки…
— А я вот стою здесь и влюбляюсь в вас…
В то время он уже учился в Щукинском — именно там, куда и я мечтала поступить: я давно уже решила стать актрисой, непременно театральной. И даже начала заниматься у прекрасного педагога по художественному слову. И все это вместе взятое — моя мечта, знакомство с Сашей, родной мой, всегда чуть-чуть безалаберный Арбат — как будто складывалось в одну мозаику.
Вот и совместная вечеринка со студентами «Щуки», куда привела меня подружка, тоже вписалась в этот рисунок жизни. На ней я познакомилась с Ваней Бортником и Женей Супоневым, похожим на Есенина. А потом пришел Саша Збруев и по-хозяйски увлек меня в другую комнату, где мы с ним целовались до умопомрачения…
…Помню, как попало мне тогда от мамы зато, что пришла домой позже 10 вечера, а я совершенно не огорчилась. И не спала всю ночь, думая о Саше, пугаясь и радуясь одновременно. Так начались наши встречи.
А потом наступил особенный день. Стояла зима. Саше не нужно было почему-то идти в училище, а его мама Татьяна Александровна спозаранку уехала на работу. Он позвонил мне рано-рано:
— Приезжай…
На улице было пасмурно, шел мокрый снег. Я поднялась по ступеням его подъезда, остановилась перед дверью. Сердце колотится, почти выпрыгивая из груди, голова кружится… Я звоню. На пороге — он, вопреки обыкновению, очень серьезный.
Комната у него — маленькая, очень уютная: кожаный диван и два кресла, старинное бюро и лампа. На бюро — моя фотография: это неожиданность.
— Она и при твоей маме стоит?..
— Мама ее и поставила, она считает, что вы с ней похожи.
В тот день мы стали по-настоящему близки. Помню, как тихо было у меня в душе, как вслушивалась я в эту тишину, как много мы с ним молчали. Я совсем не испугалась, поняв спустя несколько недель, что мне предстоит стать матерью. Просто сообщила об этом Саше, ничуть не сомневаясь в нем.
Я не ошиблась. Он действительно решил все за нас обоих. Не сказав родителям ни слова, мы отправились в ЗАГС.
Когда выяснилось, что невесте еще нет восемнадцати лет, вновь все решил Саша: именно он умудрился, прорвавшись сквозь огромную очередь, в тот же день взять в Киевском райисполкоме разрешение на регистрацию брака. Мы стали мужем и женой под «всепонимающие» улыбки официальных лиц…
…Родители… Нашим мамам мы с Сашей доверяли полностью. Мы оба искренне верили, что не только наш брак, но и известие о будущем малыше станет для них радостным сюрпризом. Несмотря на это, отправляясь в ЗАГС, я сказала маме, что иду в театр — на спектакль. Вернувшись, мы встали рядышком посреди комнаты, свидетельство о браке — у меня. Предусмотрительно прячу его за спиной, размышляя, как бы это помягче сообщить новость.
Мама отдыхает на тахте, читая газету, бабушка сидит за столом. Мама уже успела спросить, как нам понравился спектакль, а мы — торжественно промолчать в ответ. И тут невольно помогла бабушка:
— Настя! (это — маме — В.М.) У них что-то за спиной… с гербом!
— Ну? Что у вас там? — улыбается мама.
И я протягиваю ей наше свидетельство о браке.
Коротко вскрикнув, словно от удара, мама вскакивает и выбегает из комнаты. Приходится все объяснять бабушке, которая только охает да крестится. Рассказываю обо всем, включая мою беременность… Мама уже вернулась, тяжело молчит, стоя на пороге. И вдруг — какое счастье! — дедушкин голос из соседней комнаты:
— Ну, молодые, поздравляю вас! Счастья вам! Все остальное — уладится.
И совсем другим тоном — моей маме: «Чего рыдаешь? Радоваться надо, а не плакать!..»
Все, теперь можно ехать к Сашиной маме, еще ничего не знающей.
Но и по сей день я не могу сказать, что именно ощутила Татьяна Александровна, услышав нашу «новость». Все-таки вот что значит родословная и выработанная несколькими поколениями привычка к сдержанности в проявлении эмоций. Она просто угостила нас чаем и сказала:
— Оставайся здесь, у нас.
Я была так тронута, что в тот же вечер рассказала ей о будущем ребенке.
Моя свекровь по-прежнему была доброжелательна и ласкова. Но кто знает, возможно, именно в тот, наш первый с Сашей супружеский вечер и зародился в ее очень красивой головке этот роковой план, план настоящего предательства, круто повернувший нашу с мужем жизнь?..
Предательство в девяти случаях из десяти предполагает сговор. И этот сговор матерей тоже был — конечно же из самых лучших побуждений, из тех самых намерений, которыми и выстлан путь в ад…
Вот и здесь, на суде, я постоянно ощущаю эту смертельную, ледяную атмосферу сговора. Только теперь, после того первого в моей жизни предательства, я ее уже узнаю…
Мы с Сашей были счастливы. Шли дни — он учился, я — потихоньку толстела… Однажды Татьяна Александровна напомнила мне:
— Валентина, нужно пойти к врачу. Опытному. Я договорилась со своей знакомой, в поликлинику сходишь позже…
«Опытная» доктор жила на Смоленке: толстая крашеная блондинка с унизанными кольцами жирными пальцами. В одной из комнат — все, что требуется для приема: от стола до медицинских тазиков.
Помню свой ужас, когда блондинка предложила меня «осмотреть» и мерзкую, непереносимую боль во время «осмотра». Что она со мной делает?! Почти не помню обратный путь, хотя был он кратким: свекровь почему-то отвела меня к моей маме.
Я упала на свою кровать, едва не теряя сознание, с трудом расслышав мамин вопрос:
— Тебе очень плохо?
— Очень…
Багрянец жара окутывает меня, сквозь его пелену слышу, как мать звонит Татьяне Александровне, уже уехавшей, оказывается, домой.
Мелькает мысль о Саше: вспоминаю, что сегодня у него урок мастерства, значит, домой придет поздно. У меня все болит, я вся — словно сплошная рана, а мама почему-то заставляет меня подняться, ведет снова вниз, сажает в машину — отправляет к Татьяне Александровне.
Застряла в памяти фраза таксиста: «скорую» бы надо вызвать…
…Но «скорую» вызвали только вечером, после визита толстой врачихи, предупредившей: «Врачам скажешь, что вешала занавески и упала!..»
Вместо меня это сказала Татьяна Александровна. У доктора, приехавшего по вызову, — худое и строгое лицо.
— Срочно! Носилки! — резко говорит он кому-то.
У меня жар, температура 39. Я умираю?
Каким-то образом я оказываюсь уже в больнице, кто-то поит меня морсом, боль вновь накидывается на меня и достигает своего апогея. И вдруг… Что-то живое толкает меня, шевелится где-то в ногах, заставляя забыть о боли, о горячке, о себе. Откидываю одеяло — а там живой кукленок… девочка! Совсем настоящая, ведь моей беременности шел уже седьмой месяц!
Хочу взять ее на руки, но грубый окрик няньки, углядевшей это, обрывает мое недолгое материнство.
Мою девочку отнимают у меня, уносят куда-то… Куда?!
Больше я не увижу ее никогда. Моя доченька умерла, как мне пояснили, от недоношенности. Столько лет прошло, а до сих пор мои руки хранят память о единственном прикосновении к ее крохотному родному тельцу…
Почему я пишу об этом страшном дне?
Потому что и по сию пору уверена: именно он определил мою дальнейшую, всю насквозь неприкаянную, судьбу.
Всю мою «беспричальную» какую-то жизнь, больше всего и впрямь напоминающую лодку, летящую по воле волн, лишенную возможности причалить к берегу…
Наверно, совсем не трудно понять Татьяну Александровну и мою маму, отыскавших ужасную врачиху, «позаботившуюся» о преждевременных родах. Они обе — наши мамы — хотели нам с Сашей счастья, полагая, что ребенок станет для нас обузой… Но мы-то так не считали, мы хотели нашего ребенка, очень хотели. И были уверены и в себе, и в наших родных.
Тогда я никого не осудила, позже — тоже. Я их понимала. Понимала, что предали нас неосознанно. Но легче от этого не было и с годами тоже не стало.
Оставшиеся годы нашего брака пролетели быстро: Саша заканчивал Щукинское, я стала студенткой Школы-студии МХАТ. Он начал сниматься в фильме «Мой младший брат», я у Андрея Тарковского в «Ивановом детстве».
То, что мы расстались и я очень скоро сделалась женой Павлика Арсенова, а Саша женился на Люсе Савельевой, каким-то удивительным образом не перечеркнуло ни теплоты, ни доброты наших с ним отношений. Мы и по сей день родные люди…
…Мои воспоминания прерваны в очередной раз: еще одно судебное заседание, закончившееся ничем, исчерпано.
Кажется, именно после этого заседания я осознала, что дорога в Бутырку уравнялась в моем сознании с дорогой домой. И эта странная, в общем-то мелкая деталь словно окончательно убедила меня в необратимости случившегося.
Мне не хотелось думать ни о будущем, ни о настоящем, даже волнения из-за того, что все еще не вызван единственный настоящий свидетель нашей со Стасом трагедии, врач «скорой», притупилось. Душа рвалась в прошлое на волне памяти, потому что только счастливые воспоминания способны были защитить ее от ужаса происходящего. Андрей, конечно же Андрей…
По приезде в Москву мне надо было решить вопрос о переводе из Школы-студии МХАТ в другой институт. Меня пригласили на свой курс во ВГИК Тамара Федоровна Макарова и Сергей Аполлинариевич Герасимов, но я хотела получить театральное образование и непременно работать в театре.
Славный Вениамин Захарович Радомысленский позвонил Борису Евгеньевичу Захаве — ректору Театрального училища имени Щукина:
— Боря, у меня есть девочка, она хорошо учится, но снимается в кино уже во второй раз, что недопустимо. Только что вернулась из Италии, собирается в Америку. Боря, возьми ее к себе. Она может стать хорошей театральной актрисой.
Борис Евгеньевич Захава взял меня к себе в Щукинское училище. Он помнил, что я прошла конкурс и у них. Отпускал меня за границу, в начале третьего курса отпустил работать в театр к Анатолию Васильевичу Эфросу, только просил, чтобы экзамены я сдавала на «пять». Я так и делала.
Андрея я долго не видела. Мне рассказывали, что он приходил в Школу-студию МХАТ, искал меня, но ему сказали, что я учусь в Щукинском училище. Туда он не приходил.
Андрона я видела. Наталья Петровна Кончаловская сделала большую замечательную программу об Эдит Пиаф, и Андрон пригласил меня в гости на улицу Воровского послушать записи этого чудесного спектакля. Ах, как хорошо!
Андрея увидела случайно в коридоре «Мосфильма». Он шел мне навстречу, замедлил шаг, я остановилась. Я была в подвенечном платье для «Утренних поездов». Платье было красивое, а фата — с необыкновенными цветами, удивительной ручной работы.
Не помню, как я оказалась в объятиях Андрея. Он целовал меня. Мимо нас проходили режиссеры, актеры, работники студии. Как-то тихо проходили, почти на цыпочках, а мы все целовались в узком мосфильмовском коридоре.
Он меня часто ждал около гримерной, и если съемки заканчивались рано, мы куда-нибудь отправлялись. Почему-то два сеанса подряд смотрели фильм «Казаки» с участием Зины Кириенко. Смотрели в кинотеатре «Центральный», что был на Пушкинской площади.
И всё целовались.
Потом ходили на югославскую эстраду… и опять целовались… и странно? — никто не удивлялся, никто не шикал, никто не осуждал.
Разве что на «Земляничной поляне» мы сидели, не замечая друг друга, а после «Земляничной поляны» Андрей сказал:
— Очень хочу познакомиться с Бергманом… и с Акирой Куросавой — хочу.
У меня такое ощущение, что в тот период мы почти все время молчали. Как-то без слов все было понятно.
Но мне не всегда было уютно: я приняла в свое сердце гения — не мужчину. Я любила его своей особенной любовью.
Он выбрал меня: я буду этим счастлива навсегда!
Андрон и Андрей написали гениальный сценарий «Андрей Рублев». Помню, Андрей сказал:
— Рублева может сыграть Слава Любшин или Ален Делон…
— Ален Делон? Почему?
— Взгляд, у него есть взгляд. Но я хочу совершенно новое лицо. Единственное лицо. Вот, послушай, — Таню Самойлову нельзя никем заменить в «Летят журавли», Инну Гулая — в «Когда деревья были большими», тебя — в «Ивановом детстве»… Ты понимаешь меня? Мне нужен такой актер и такое лицо, которое невозможно было бы заменить. Мне Личность нужна.
И Андрей Рублев появился! Толя Солоницын!
Кажется, в 64-м году Андрон и Андрей закончили сценарий об Андрее Рублеве, он был напечатан в журнале «Искусство кино»[9], а снимать фильм Андрей начал только в 66-м.
А я до 66-го года снялась в «Утренних поездах», потом с удовольствием работала у Бориса Волчека в «Сотруднике ЧК», у Паши Арсенова в «Подсолнухе». Работала у Анатолия Васильевича Эфроса в трех спектаклях и начала репетировать Арманду в «Мольере». И вдруг — приглашение в Театр Вахтангова! Рубеном Николаевичем Симоновым! С удовольствием приняла это приглашение! И сразу же много ролей! Снялась в советско-румынском фильме «Туннель». И продолжала учиться в институте — на «пятерки», как обещала Борису Евгеньевичу Захаве.
А может быть, ничего этого не надо было? А надо было ждать Андрея?
…В камере сегодня настоящая парилка. Девочки все — вялые и молчаливые. Меня никто ни о чем не спрашивает. — наверное, и у меня вид далеко не лучший. Все ясно без слов…
Молча забираюсь на свою шконку, достаю свои записки. Разговаривать сейчас могу только с собой. Подобные периоды были у меня всегда, оттого и привыкла с юности вести дневник: настоящее спасение. Дневником спасалась и в те годы, когда между мной и Андреем, словно нипочему, возникала какая-то странная, ледяная пропасть… Так случилось, например, когда я рассталась с Сашей Збруевым и вышла замуж за Павла Арсенова. Отчего-то Андрея это не только огорчило, но и выбило из колеи. Мне он сказал:
— Не хочу в это верить. Я привык, что твой муж — Саша Збруев.
И почти перестал со мной разговаривать, словно я больше не существовала для него. Между тем мы как раз собирались в совместную поездку за граничу: Индия и Цейлон, и я так радовалась этому! Больше за него, чем за себя, потому что Андрея долго никуда не выпускали, и вдруг выпустили…
Мне тогда сразу не захотелось никуда ехать…
Из дневника, декабрь 1963 года
(Дели — Бомбей — Коломбо — Бомбей — Дели)
«Опять в самолете. Это уже третий. Все нереально оттого, что много находимся в воздухе.
Андрюша почему-то в зимней шапке, завязанной под подбородком, и я в очень элегантном костюме. А в самолете жарко. Странный какой — почему в ушанке, да еще завязанной под подбородком?
Утром — Гималаи. Ослепительные, и небо яркое, голубое! Боже! Красота какая!
Дели. Аэропорт. Долго проверяют чемоданы и в глаза смотрят долго.
Андрей нервничает. Зимней шапки не снимает, чем вызывает большое любопытство.
— Андрюша, жарко ведь, — попыталась я заговорить с Андреем.
— Казахи, наверное, не дураки, — лаконично ответил он.
Почему именно — казахи? Мне стало очень смешно.
Он строго посмотрел на меня и совершенно неожиданно сказал:
— Дмитрий Дмитриевич Шостакович вообще не снимает зимней шапки. Понятно?
— Понятно-то оно понятно, — говорю, еле сдерживая смех.
Он это видит и очень сердится на меня.
Едем в отель. Много рекламы, много людей, много грязи. Непривычное правостороннее движение. Коровы бродят по улицам и площадям. Мне казалось, что Индия должна быть яркой по цвету, а оказалась — как бы выгоревшая. Сари малиновые, синие, зеленые, но все блеклые от сумасшедше-белого солнца.
В отеле мой номер — высоко. Вышла на балкон. Внизу на плошали перед отелем очень много людей. Какой-то человек продает кальсоны, почему-то советские, и громко кричит на эту тему. Чистильщики тоже орут. Другие медленно передвигаются, молчат или сидят, ничего не делая, глядя в одну точку. У каждого есть своя точка.
Андрей даже не зашел ко мне. Общается с Лилей Алешниковой. Несносно все это».
«Выехали в Бомбей. Люди на тротуарах, их еще больше, чем в Дели. Вблизи города — затопленные хижины. Они как бы шевелятся — так много живет в них людей.
И ночью душно. Вышла погулять и засмотрелась на сумасшедшего старика в шлеме времен Александра Македонского. Он был очень доволен собой.
Сзади меня легонько тронули. Это были Лиля и Андрей. Лиля любезно предложила пройтись с ними. Я не пошла, вернулась в отель. Утром воздух был розовым, силуэты людей — лиловые. Они тихо передвигались по набережной. Несмотря на раннее утро — это было целое шествие. Тишина-то какая…
С Андреем не разговариваем. Лиля не понимает наших отношений, но видит: что-то неладно.
Скорей бы Цейлон! Это моя мечта».
«Коломбо! Наконец-то! Много журналистов и фоторепортеров… На нас надели красивые белые огромные венки из чудесных цветов. Все нам улыбаются. Мы тоже.
Нас попросили сделать общую фотографию. Андрей был с одной стороны, я с другой. Вдруг он подлетает ко мне, берет под руку и продолжает сниматься уже рядом со мною. Слава Богу, что многие фотографии сохранились.
Минута отдыха — и пресс-конференция. Нетрудная.
Наконец — отдых! Плаваем в теплом океане зимою, в декабре. Андрей все время рядом.
— Скоро Новый год! Ты бы хотела встретить его здесь?
Я не знала что ответить.
Вечером Андрей пришел в наш с Лилей номер, принес водки, повесил на пуговичку своей пижамы табличку с надписью на английском: «Прошу меня не беспокоить». Выпил водки, хотел сесть на пуфик, получилось — мимо. Андрей хохотал, взял меня за руку и посадил рядом с собой на роскошный ковер.
Лиля смеется:
— Какой у нас замечательный столик получился!
Всю ночь просидели вокруг пуфика-столика. Андрей нежно ко мне относился. Отчего так? Цейлон!!! Это все он!
Лиля взяла с собой кинокамеру и будет снимать фильм о нашем путешествии». (До сих пор Лиля хранит ту пленку. Жаль, что ее никто, кроме нас с Андреем и Яши Сегеля, не видел.)
«…Премьера «Иванова детства». Мы с Андреем встречаем гостей. Они подъезжают в красивых машинах… Чем-то смущенные… Много репортеров, вспышки слепят…
Подошла Бандаранаике[10], маленькая и очень скромная, подала узкую, прохладную руку, слабо пожала мою, словно у нее не было сил, потом сняла один из своих браслетов и надела на мою руку. Я даже не успела поблагодарить ее: она легким шагом удалилась во дворец, где должна была проходить наша премьера.
Андрей попросил меня выступить перед началом фильма. Ласково попросил, вселил в меня вдохновение, и «слово» мое — получилось. Андрей хвалил меня.
— А ты всегда со мною так говори, и все у меня будет получаться, — сказала я.
— Мне бы очень хотелось говорить с тобой так, но не всегда удается, — ответил Андрей и добавил: — Сложные мы, ух, какие сложные…
Фильм «Иваново детство» шел на английском языке — так интересно!
Утром — газеты с хорошими отзывами о фильме и о нас.
Днем ни минуты свободного времени. От усталости и жары хочется плакать. Зато вечером — потрясающе!
Как легко сейчас с Андреем, как хорошо!
Пошли с ним в бар. Он находился под первым этажом нашего отеля: огромная, прохладная зала. Уже тогда здесь была цветомузыка, и в этом огромном пространстве танцевало множество тоненьких людей; если в Индии почти все толстые, то здесь, на Цейлоне, — хрупкие, легкие.
Мы с Андреем тоже танцевали.
— Ты меня любишь? — вдруг спросил Андрей.
— Люблю.
— Но не так, как мне бы хотелось.
— А ты меня любишь?
— Да. И так, как хотелось бы тебе.
Я очень смутилась. И непонятно почему спросила, нельзя было так спрашивать, но спросила:
— А Ирму ты любишь? А своего сына Сенечку?
— И Ирму люблю, и Сенечку! Ты ведь Пашу Арсенова любишь? И Андрона? Ты ведь влюблена в него? В Андрона?
Я была в фиолетовом платье, волосы ниже плеч.
Андрей остановил наш танец:
— Знаешь, когда мы будем ехать в машине, пожалуйста, положи ко мне на плечо свою голову или на грудь, а лучше на колени. Мне будет очень приятно.
— Но лежа на коленках, я не увижу Цейлона.
— Да, действительно. Тогда обнимай меня, а я тебя.
— Хорошо, — тихо ответила я.
Он улыбнулся. Лучи — красные, синие, оранжевые — меняли наши лица.
Андрей отвел меня в свободный уголок.
— Помнишь, что я тебе сказал в Равенне у Данте?
— Да.
— Скажи.
— Мы счастливы! Ты знаешь об этом?
Долго мы смотрели друг на друга.
— Я люблю с тобой целоваться, — сказал он.
— И я.
Не знаю, сколько времени мы целовались… Это было забвение.
Мы вернулись в ресторан, где наши уже заканчивали ужин. Никто нас не спросил: «Ну, где же вы?» Все были тактичны.
Павел Филиппович Новиков сказал:
— Завтра поедем в Канди. Дорога длинная. Надо отдохнуть.
Но отдыхать совсем не хотелось. Андрюша спросил:
— А можно я возьму ужин, свой и Валин, в номер и отужинаю у девочек? И Валя есть хочет.
Зархи, обычно молчаливый, сказал:
— Ну, это понятно».
Из дневника
«Утро. Едем в Канди. Вот забота появилась — что бы надеть такое, чтоб нравилось Андрею. Надеваю юбку в складку цвета перванш, в белый крупный горох, кофточку из белого шитья, сандалии белые, в огромный серебряный горох, и красную, тонкого шелка косыночку (косыночка совсем маленькая, так что не закрывает моих длинных волос). Господи, какое это для меня мученье! В душе я — хиппи, и все эти переодевания доставляют мне лишние хлопоты. Мученье, да и только.
Лиля, как всегда, элегантна. Уже успела постоять на голове. Уже успела заснять из окна заклинателя змей: он на желтом песке у кромки океана с дудочкой напевает что-то своей змеюшке, а она, красавица, подымается во весь свой рост под ритм музыки.
Вбегает к нам Андрей, очень доволен нашим видом. И сам неотразим в бледно-голубых джинсах и яркой майке. Видит камеру в руках у Лили, хватает камеру и кричит:
— Ложись!
Лилька — в свое ложе, я в — свое. Хохочем!
Андрей «расстреливает» нас.
— Трр-трах-дрр…
А сам в это время снимает нас причудливой панорамой.
— Какие же мы счастливые, кто бы знал, — вдруг сказал он без тени иронии.
Усаживаемся в огромный, открытый лимузин. Лиля, Андрей и я — сзади. Александр Григорьевич Зархи — впереди, снимает свои парадные туфли, надевает домашние тапочки, — он и в самолетах делал так же.
Андрей смотрит на меня.
— Помню, — говорю я.
— Я хочу, чтобы ты не только помнила, а очень хотела приблизиться ко мне, — сказал он тихо и улыбнулся ослепительной улыбкой.
Я почему-то медленным движением, словно слышу русский напев, отчего-то краснея, кладу свою голову на плечо и так же медленно обнимаю его двумя руками. Лилька открыла и без того огромные, в пол-лица глаза, теперь они заняли все лицо, — но смолчала.
Обернулись и Зархи, и шофер. На их лицах недоумение.
Молоденький шофер подмигнул нам, и покатили мы в древнейший Канди, через джунгли — в сердце Цейлона.
Гена, наш гид из «Совэкспортфильма», и П. Ф. Новиков сидели в средних креслах большущего лимузина. Гена стал рассказывать нам о Цейлоне.
— Рай, — говорю я, а сама все обнимаю Андрея.
И тогда медленно поворачиваются к нам Гена и Павел Филиппович.
Я так сказала, что самой стало смешно: то ли Цейлон — рай, то ли мое положение на плече Андрея. Тут же засмеялась, и все подхватили мой счастливый смех.
Вдруг посреди дороги большая кокосовая гора: хочешь объезжай, хочешь — покупай кокос и пей. Гена остановил машину. Андрей разбил орех и дал мне попить кокосового молока.
— Только загадай желание, — сказал он.
— А я загадала.
— Скажи какое?
— Тогда оно не исполнится.
— Да… но все равно, ты не то желание загадала.
— Мне кажется — то.
— Тогда чудесно, тогда хорошо.
А Лиля снимала нас».
16
Ожидание показаний доктора к концу процесса стало для меня почти навязчивой идеей, хотя разумом понимала: хода суда это не изменит…
Странные вещи проделывает с человеческим сознанием усталость. Отчего мне вспомнились и звучат теперь в мозгу снова и снова те слова Андрея о неправильно загаданном желании?
Возможно, все, что случилось после, — от этого? От неправильно загаданного тогда?..
Не исполнилось ничего. Совсем ничего.
…Вот мы снова садимся в машину, и хотя не совсем прилично было оглядываться на нас с Андреем — все разом оглянулись. Андрей снова обнял меня.
Молоденький шофер опять подмигнул, и мы покатили сквозь джунгли. Я не ощущала ни времени, ни жары: мне было так томительно-хорошо с Андреем.
Через какое-то время Гена снова остановил машину.
— Девочки налево, мальчики направо, или наоборот, — хохотал он.
Александр Григорьевич Зархи воскликнул:
— Куда?! В джунгли?! Нет уж, голубчик, я Канди подожду.
Все оставались на своих местах, а мы с Андреем, взявшись за руки, пошли в одну сторону.
Гена, наш цейлонский начальник, строго крикнул нам:
— Не удаляться! Всякое может быть — джунгли!
Мы отошли от дороги и ступили на уз кую тропу джунглей. Вокруг высокие травы и диковинные цветы во весь рост.
— Я пойду чуть дальше по тропе, а ты оставайся здесь, — предложил Андрей.
— Нет! Пожалуйста, не ходи никуда дальше. Я за дерево спрячусь — вот и все.
Осторожно раздвигаю травы и цветы, направляюсь к дереву — и вдруг ветка, как живая, как чей-то прекрасный хвост, взметнулась вверх. Смотрю, а на дёреве полно маленьких обезьян, смотрят круглыми глазками, скалятся, о чем-то переговариваются.
— Андрей, иди скорей сюда! Здесь столько обезьянок!
— Ух, ты! Как их много! Сейчас явится их мама, она задаст нам жару. Иди на мое место, а я тут пока…
— А мне здесь интересно.
— Нас ждут. Иди скорее на мое место и пошли к машине, а то, и правда, здесь такое великолепие, что можно заблудиться, а мы здесь, надеюсь, еще нужны советскому искусству.
Я вышла на тропу…
— Пойдем, Андрей!
Но ему явно не хотелось уходить из джунглей. Он прислушивался к звукам, склонив голову набок. А я любовалась ярко-красным цветком, цветок был больше моего лица. Было ощущение, что он вот-вот заговорит со мною.
Нас звали, и мы, притихшие, вернулись к машине.
Я достала из сумочки свои любимые духи «Ма грифф», капнула на руки себе и Андрею.
— Не жалко?
— Не очень.
Путь был сказочный».
«…Ну вот, наконец — Канди. Но для того, чтобы попасть в центр города на площадь, где проходил праздник, нам надо было пройти по висячему, очень длинному и очень узкому мостику на головокружительной высоте. Дощечки этого мостика проваливаются под ногами, а потом снова встают на место. Веревки, за которые надо держаться, провисают. А там, внизу, река быстрая, несется куда-то, по берегам реки — джунгли.
Александр Григорьевич явно трусит. Павел Филиппович держится, но весь красный. Лилька счастлива, как будто она построила этот мостик и провожает нас на праздник. Мне интересно и чуть страшно, хотя я не боюсь высоты, но уж очень головокружительная! Андрей, как мальчишка, стал раскачивать этот легкий мостик. Зархи как закричит на Андрея, даже небывалой красоты птицы тут же отозвались на этот крик и вылетели из джунглей. Совсем фантастично — они подлетели к нам. Андрей — очень серьезно:
— Сейчас нас съедят.
Зархи обращается к Гене:
— Наведите порядок!
А как его навести? Мостик почему-то раскачивается все сильнее и сильнее, а мы прошли всего полпути. И птицы все прибывают и прибывают посмотреть, как мы трусим. Я дотронулась до крыла прекрасной птицы, она по-царски повернула ко мне голову.
Андрей шел сзади. Наверное, ему понравились мои отношения с птицей, он легко прошел ко мне по гнущимся дощечкам.
— Как ты?
— Любуюсь птицами, они нас провожают, чтобы нам не было страшно.
— А я тебя страшно люблю, — вдруг сказал Андрей.
Ну, наконец-то! Свершился наш переход!
По дороге зашли в оранжерею, в царство спокойствия, царство мечты. В этой оранжерее разные-преразные орхидеи. Я отошла в сторону, наклонилась и нежно поцеловала три цветка, я всегда целую цветы и разговариваю с ними.
Когда я поднялась с колен, увидела, что Андрей смотрит на меня, но смотрит почему-то грустно. Нам подарили по огромному букету самых изысканных на свете цветов.
В это время подъехал наш симпатичный шофер: он ехал сюда в объезд.
Александр Григорьевич ворчал, почему мы не поехали на машине. Но говорить не хотелось — Так красиво было вокруг. Шофер позаботился о наших цветах и отнес их в машину.
А Гена предложил нам покататься на слонах! Мы спустились в карьер, и я побежала к слону, который мне понравился. Однако возчик показал на другого, наверное, тот был спокойнее, но я уже вплотную подошла к своему. И вдруг — мой слон тихо и ласково обнимает меня хоботом за талию и переносит к себе на спину. Никаких сидений на спине моего слона не было, только маленький коврик — вот и все убранство. Держаться не за что, я наклонилась, будто на лошади, взялась двумя руками за его огромную спину, она светло-коричневая и вся в морщинах, и мы поехали: подо мной — живое, теплое, шевелится, мне почему-то показалось, что это — земля. Я никого не видела. Я испытывала совсем новое ощущение. Мы с моим слоном сделали три круга, и он вернулся на свое место. Возчик был под кайфом, жевал какую-то травку и хохотал во весь свой рот, красный от этой травки. Я не понимала, как я буду слезать. Мой умный слон забросил хобот на спину. Ну? И что дальше?
Андрей улыбается:
— Нежно ложись на хобот… Не бойся! Ближе к середине.
Так я и сделала. Слон крепко обнял меня и осторожно стал опускать, опустил почти до земли и стал качать, как бы баюкать… очень приятно!
— Ну, все-все, — сказал Андрей.
Гена что-то шепнул возчику, возчик — слону, и тот поставил меня на землю. Голова слегка кружилась, Андрей обнял меня, и мы пошли к машине.
В Коломбо все газеты напечатали снимок, как слон сажает меня к себе на спину: юбка — в небо и глаза в небо — от испуга».
«…Праздник на большой плошали с изваянием огромного Будды. Вошли в храм. В храме тихо, может быть, оттого, что все босиком… Разглаженные лица, словно ни у кого нет морщин. Умиления на лицах не было — Вселенский Покой…
Вышли из храма, подходит ко мне человек:
— Я коммунист, но верю в Будду.
— Я не коммунист и верую во Христа, — ответила я.
Мы пошли к плошали, и коммунист с нами.
На плошали — стройные, длинные, разноцветные, в золоте, ряды притоптывающих, покрикивающих людей.
Меня чем-то отвлек коммунист-буддист, тем временем мои коллеги перешли на другую сторону плошали, а я осталась с коммунистом на прежнем месте.
Вижу, Зархи разводит руками — не нравится ему эта история. А мне так хотелось побыть одной среди этих праздничных людей!
Я уловила ритм их прохода, встала рядом с изящной девочкой и… пошла-пошла, оставляя моего коммуниста позади. Девочка улыбалась мне, потому что у меня получался их танец.
Андрей следил за мной, тоже пристроился к шествию с другой стороны и шел параллельно мне.
Шествие казалось бесконечным, но вот оно кончилось, и мне здорово попало от всех сразу, кроме моей хорошей Лили.
Андрей приблизился ко мне:
— Тебе обязательно надо было остаться с коммунистом? Соскучилась?.. А прекрасный у тебя с ними получился ход! Молодец!
И поехали мы в Коломбо.
Солнце село. Всходила луна, но было еще светло.
— Я понимаю — ты возбуждена, и мое плечо тебя не интересует. Тогда позволь мне отдохнуть. — Андрей улегся головой на мои колени. Но отдыхал он недолго. Дело в том, что по дороге в Коломбо, в километре друг от друга, стояли очень красивые девушки. Они торговали фруктами. Некоторые из них почему-то читали книжки при заходящем солнце и восходящей луне. Когда машина приближалась, они ласково заглядывали в глаза нашим мужчинам, предлагая фрукты и себя. Утром, когда мы ехали в Канди, их не было.
— О-о-о!!! — восхищались наши мужчины.
Андрюша так засмотрелся, что чуть не вывалился из машины.
— Их еще много будет — до самого Коломбо, — сообщил Гена.
— Правда? — обрадовался Андрей. Выпрямился во весь рост и картинно скрестил руки на груди. Ждал, а их все не было и не было.
— Я надеюсь, ты понимаешь меня? Ты — умница. Мне интересно, — обратился Андрюша ко мне.
— Понимаю-понимаю. Только мне в Непал захотелось.
— А мы и должны поехать в Непал, — сказал Андрей, а потом догадался, почему я так сказала. — Валя в Непал захотела! — закричал он на всю округу.
Умненькая Лилька сказала, что ей тоже хочется в Непал. Андрюша весело кричал:
— Наши девочки хотят в Непал потому, что их там могут любить сразу пятеро, не знаю, сколько мужчин, но много! И между собой эти мужчины дружны. Там женщины могут иметь сразу пять мужей, ну, не знаю сколько… и мужья живут в согласии — вот куда хотят наши девочки!
И вдруг — целая улочка красавиц! Они стояли поодаль друг от друга. Действительно, очень красивые!
— Старик, останови машину! — почти приказал Андрей нашему шоферу.
Гена возразил:
— У нас впереди ужин с высокими гостями.
— Тогда поехали медленнее, — упрашивал Андрей.
Сначала шофер рванул машину во всю прыть, потом резко затормозил возле последней девушки, так же резко дал задний ход, остановился у первой девушки, и мы поехали медленно, как просил Андрей. Девочки подумали, что их выбирают, и особым взглядом смотрели на наших мужчин. Андрей был в восторге!
— Хороши Маши, да не наши! — орал он.
…Коломбо. Принимаем ванну, переодеваемся, делаем макияж и спускаемся в ресторан. Высокие гости предложили ужин из крабов, лангустов, большущих креветок и разной морской всячины, холодное белое вино и хорошую музыку.
Александру Григорьевичу Зархи высокие гости предлагают совместную постановку, и они обсуждают этот вопрос. Лиля танцует.
— Пойдем на улицу, — попросил меня Андрей.
Вышли, и жара охватила нас. В помещениях прохладно, а на улице жарко, макияж ползет, а Андрей фотографирует.
— Не надо, Андрей!
— Очень надо. Ты сейчас такая домашняя — в первый раз вижу».
«…Киностудия в Коломбо — маленькая, слава Богу, прохладная, с улыбающимися, но почему-то грустными актерами. У всех людей, которые здесь живут, очень грустное выражение лица.
Бог определил рай здесь, на Цейлоне, но Адам и Ева совершили свой грех. А дальше Авель и Каин… и так далее, и так далее… И вот на липах живущих теперь печаль — с тех времен, наверное…
Осмотрели студию и поехали на остров вместе со «звездами».
И совершенно неожиданно, ни с того ни с сего водопад с неба!
Такого ливня я больше никогда не увижу. Этот водопад с неба в дар тебе теплый, совершенно прямой, золотой, потому что солнце проглядывало сквозь толщу воды… и ни тучи, ни облака.
Мы сняли сандалии, взялись за руки и кружились под теплыми, тяжелыми струями воды. Я была совершенной дурочкой от счастья, Андрей задирал голову вверх, казалось, что он хочет взлететь. Лиля хохотала и хохотала.
Нам объяснили, что начался период дождей.
Какая-то очень красивая актриса, вся насквозь промокшая, ее шелковое светлое платьице облегало хрупкую фигурку, взяла Андрея за руку и стала изящно с ним раскачиваться в одну сторону, потом в другую. Андрей был горд и все поглядывал на нас. Но тут и Лилю пригласили к танцу под водопадом. И меня обнял смуглыми руками их «кинозвезда» — с утонченными чертами липа, совершенно белоснежными зубами и глубокими коричневыми глазами. Он говорил, что фильм «Иваново детство» — потрясающий, а режиссер — гений, спрашивал, заключил ли со мной контракт Андрей и на сколько лет? Я ничего не стала объяснять о нашей системе, только сказала: «На всю жизнь».
Актер схватил меня в объятия и стал поздравлять.
— Не понял, о чем это вы? — кричал Андрей.
— О том, что ты — гений! — отвечала я.
— А-а-а, — понимающе протянул Андрей.
Я взяла за руку «звезду» и Лилю, мы подошли к Андрею с его красавицей, не сговариваясь, прижались друг к другу, стояли долго молча, чтобы запомнить этот день.
Вечером вернулись в красный отель на берегу горячего океана..
А совсем поздно поехали смотреть танцевальную программу, от которой у меня закружилась голова. Нет! Это не танец, а протест! Танцоры вращаются, топают ногами, звенят блестящими одеждами, вздрагивают, надолго замирают и снова вращаются, притопывая, покрикивая. И нет конца этому танцу-протесту. Против чего протест? Я думаю, против бремени плоти. Желание духа в этих нервных танцах.
Я потихоньку встала и пошла по пальмовой аллее вперед. Танцоры выступали в саду.
Там, в конце аллеи, светила ярко-оранжевая луна, такая огромная, что на ней можно было поселить миллионы буддистов. У меня отношения с луной особые, и возвращаться к звенящему, вздрагивающему и замирающему танцу не хотелось. Я пошла к луне. Мне показалось, что и она этого хочет.
Слышу: песок шуршит, оглядываюсь — Андрей!
— Я тоже не выдержал: как-то не по себе становится. Но и здесь, надо сказать, не очень: луна сошла с ума, всё про всех знает, а это не очень приятно… А?
— У меня — другое. Однажды я на нее долго смотрела, и какая-то необъяснимая связь с ней обнаружилась…
— Не будем мудрствовать, пойдем тихонько к отелю. Я предупредил наших.
— Давай помолчим, — предложила я.
— Давай.
Молчали. Боже! Как будто все-все понятно. Вообще — все! Мне кажется, Андрей думал о том же.
Пришли к отелю, съели мороженое высотой в полметра, выпили вина, спрятались от луны в саду отеля и… целовались!.
Пришли наши, и снова нужно было идти на ужин к высоким гостям. Это был последний ужин.
Какая-то грусть поселилась во мне. Андрей тоже был печален.
— Что с тобой? — спросил меня Андрей за ужином.
— Я чего-то не поняла.
А не поняла я этот загорелый народ с огромными и почему-то виноватыми глазами. Хотелось догадаться, почему у них такая печаль в глазах? От Адама и Евы? Да? Наверное.
Андрей предложил мне потанцевать, и мы спустились в наш бар, где стало веселее»..
«Как хорошо, что у нас нет официальной программы, которая порой изнуряет. Мы с удовольствием гуляли по городу, с удовольствием оставались в своих прохладных комнатах, где все время хохотали, что-то изображали, играли нафантазированные пьесы. Просыпались с песнями. Как-то мне приснилось заснеженное поле, я проснулась и во весь голос радостно читаю: «Мороз и солнце — день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный?» Лиля и Андрей еще спали. А Новиков? Даже не знаю — его почти не бывает с нами.
Тихо, очень тихо Андрей вошел в нашу комнату, смотрит на меня, молчит, потом как прыгнет между Лилей и мной — у нас была огромная-преогромная кровать, обнял нас, повернулся ко мне и очень просто, без тени лиризма, в который раз сказал:
— Я люблю тебя.
— Я счастливая! Ты знаешь об этом?
Андрей запел: «Мы счастливы!..» И Лиля и я пели вместе с Андреем: «Мы счастливы, мы знаем об этом».
Вечером он попросил меня прийти в его комнату. Я пришла.
— Я знаю, что и ты любишь меня, — сказал Андрей.
— Да.
— Но почему ты так странно себя ведешь?
— Почему странно? Совсем нет. Нельзя создавать себе кумира, тем более служить ему. Я хочу быть свободной, сама по себе. Ты понимаешь меня?
— Нет! Не понимаю. Уходи.
Я ушла. Опять напряжение. Господи! Я его очень люблю, но принадлежать не могу никому».
«…Всё. Андрей опять не разговаривает со мной. Моя преумненькая Лилька с трудом понимает наши взаимоотношения».
«Возвращались мы домой 30 декабря.
Неожиданно Андрей сел в самолете рядом со мной. Нам дали плед. Андрей улыбнулся.
— Помнишь, как в Венеции мулат укрывал тебя пледом?
— Помню. Почему ты тогда не подошел ко мне? Не попрощался?
— Я не хочу с тобой прощаться. — Он укрыл нас пледом, придвинулся ко мне.
Я тихо поцеловала его.
Он спросил у меня:
— Ты Новый год будешь встречать с Пашей?
— Конечно.
— Поздравь его, передавай привет. Он самый счастливый человек на Земле… и красивый… и бесспорно талантливый».
И полетели мы в Москву, в 1964 год.
По приезде в Москву мы долго не виделись.
Андрей всегда раньше звонил на Мосфильмовскую, где мы жили с Сашей Збруевым. К нам же с Павликом Арсеновым не позвонил ни разу. И на студии я его не видела.
У него рос Сенечка, и он — вот уже который год — готовился к съемкам «Андрея Рублева».
Я же много играла в Театре Вахтангова, много снималась и заканчивала институт.
Андрей ни разу не пришел в театр. Не приходил он и в Щукинское училище, как раньше ходил в Школу-студию МХАТ.
Я забеременела. Андрей начал снимать «Андрея Рублева» — без Маруси, которая ходит по Руси вместе с художниками и сама пишет иконы. Мне позвонили из группы и пригласили сниматься, но я все объяснила, и больше мне не звонили.
Андрея я не видела до самой премьеры.
Я родила очень красивую девочку. Она умерла от сепсиса. Я потеряла рассудок.
Я была у мамы на Арбате, когда позвонил Андрей, пригласил меня на премьеру «Андрея Рублева». Я пришла. Он познакомил меня со своей мамой Марией Ивановной Вишняковой, она показалась мне строгой и всепонимающей. Познакомил и с Сергеем Параджановым, который прилетел из Армении специально на премьеру.
Я тогда была очень нервная, и мне было трудно смотреть фильм. Очень понравилась новелла «Колокол», где потрясающе играет Коля Бурляев. Я многое знала об этом фильме, о том, как писался сценарий, а смотреть было трудно. После премьеры Сережа Параджанов обнял меня, он хотел, чтобы я с ним продолжила вечер. Я извинилась, сказала, что плохо себя чувствую, и уехала домой.
Мы с Павликом жили у метро «Аэропорт», нашим соседом был Арсений Александрович Тарковский. Он был необыкновенно красивый человек с пристальным взглядом и легкой походкой. Он меня всегда останавливал во дворе нашего дома. Иногда мы с ним подолгу беседовали.
Однажды был чудесный летний вечер, я выпила немного вина и вышла погулять. Вижу — идет Арсений Александрович, остановился. Потом и Константин Симонов вышел погулять. Он жил на первом этаже нашего лома, мы с Павликом — на втором.
Арсений Тарковский, Константин Симонов и я — мы втроем провели дивный вечер, гуляя в нашем дворе. Они рассказывали мне шутливые истории, они, мудрые, видели, что психика моя после трагедии с девочкой повреждена, и старались ободрить меня.
Мне предложили несколько фильмов. Я стала сниматься. Большое удовольствие получила на съемках фильма «Ночной звонок» от общения с Верой Петровной Марецкой и Борисом Федоровичем Андреевым. Интересно было работать у Ордынского в «Красной плошали» вместе со Славой Любшиным и Славой Шалевичем. Очаровательно со мною работал Паша Арсенов в «Короле-олене», много репетировала и играла в театре и на телевидении. Работы было много, но состояние мое было болезненным. Я никак не могла справиться с ним. Не могла забыть мою красавицу доченьку.
Прошло много времени. Был уже 72-й год.
Меня утвердили на роль в фильме «иена быстрых секунд». Роль большая, требовала много усилий. Это фильм о конькобежном спорте, и надо было много тренироваться. Моими тренерами были Сонечка Кондакова и олимпийский чемпион Анте Антсон. Мне было интересно, что движет спортсменами, почему им непременно хочется быть победителями — интересовала их психология. Режиссер Владимир Александрович Чеботарев показался мне симпатичным и профессиональным человеком. К тому же на другую роль была утверждена моя любимая Лиля Алешникова. И я с удовольствием приняла это приглашение.
А в это время Андрей Тарковский запускался с фильмом «Солярис».
После долгой разлуки я встретила Андрея в мосфильмовском холле.
Я была в спортивном костюме, через всю грудь — буквы «СССР», коньки в руках, коротко стриженная.
Андрей остановился, сухо поздоровался и сказал:
— А тебе все это идет. Жаль, что ты не спортсменка. Первенство было бы за тобой.
Я чуть не расплакалась. Я так хотела видеть его! Не получалось. А сейчас вот он — рядом со мной — и иронизирует.
— Зачем ты меня обижаешь? Ты же не предлагаешь мне сыграть Хари в «Солярисе».
— А как я могу тебе предложить? Ты еще весло возьми и получится за-ме-ча-тельная «девушка с веслом»! При чем тут Хари?
Позже Вадим Юсов сказал мне, что я очень понравилась Андрею в «Короле-олене», особенно в последней сцене.
— Абсолютная Хари, — сказал Андрей, — а бегает по «Мосфильму» с коньками и веслами. Странная…
Думал он и о Рите Тереховой — Хари, а стал снимать Наташу Бондарчук.
Однажды в ресторане ВТО мы ужинали с Сашей Кайдановским. Совсем рядом, за другим столиком, со своей компанией сидел Андрей. Я его не видела. Саша мне говорит:
— Тарковский пьет смешно.
И смотрит на столик Андрея. Я обернулась. Андрей увидел меня и тут же встал. Расцеловались. Но вдруг он почему-то стал ходить вокруг нашего с Сашей столика. Один круг, другой, третий… Саша тоже встал и тоже стал давать круги вокруг стола. Они ходили как-то отдельно друг от друга, каждый сам по себе. Я сидела и смотрела то на одного, то на другого, а они все кружили…
Потом Андрей остановился, извинился перед Сашей и попросил меня выйти в другой зал. Мы вышли. Андрей неожиданно сказал:
— Я очень рад за тебя. Наконец-то ты в своей компании, — имея в виду Сашу Кайдановского. — Я бы хотел снимать его и тебя — вместе. Это было бы гениально. Оставайся с ним, и только с ним — навсегда.
Когда мы вернулись, Саша пожелал уйти из ВТО.
— Что такое? — гневался он на Тарковского и меня.
Я ему рассказала, о чем мы говорили.
— Бред какой-то… Кружит вокруг стола… — сердился Саша.
— Но почему и ты стал кружить? — смеялась я.
В конце концов Сашу тоже все это развеселило. Мы шли по бульварам и долго хохотали.
— А снимать он тебя будет, и это может оказаться значительным и самым счастливым в твоей судьбе.
— Нет, — вздохнул Саша и прочитал, перефразируя Пушкина: — «На свете счастья нет, но есть покой и Валя».
Мне было очень хорошо, и я смеялась весь путь до Арбата. Саша, работая в Театре Вахтангова, ничего не репетировал, а пригласили его в театр на роль князя Мышкина. Когда ему предложили уйти из театра, мне все стало скучно. Интереснее было оставаться с Сашей, мы вместе слушали Вагнера и Баха, он замечательно читал Языкова, Ахматову, Северянина; говорить, молчать с ним — все было прекрасно!
А однажды в ресторане Дома кино вижу Андрея. Он пьет красное вино и разговариваете Гошей Рербергом. Неподалеку от них сидит Рита Терехова, одна, точно с такой же бутылкой вина, как у Андрея и Гоши.
Саша спросил:
— А почему Рита покачивается на стуле?
— Нервничает. Хочет понравиться Андрею и Гоше.
— Но она довольно странно покачивается, — заметил Саша и засмеялся.
Андрей готовился к съемкам «Зеркала». Рита была уверена, что только она сможет сыграть мать Андрея — Марию Вишнякову. Действительно, только она и могла быть героиней у Андрея.
Слышу голос Андрея.
— Где? Где Малявина?
Я вышла из-за своего столика. Мы обнялись, очень обрадовались друг другу.
— Ты с кем здесь?
— С Кайдановским.
— Очень хорошо! Где он?
— Вон за тем столиком.
— Потрясающее лицо у него. Можно я тебе позвоню?
— Конечно.
— Куда?
— К маме.
— Хорошо.
Вскоре Андрей позвонил и как-то извинительно сказал:
— В «Зеркале» нет для тебя роли.
Он говорил, что хочет снимать фильм о Достоевском. Не фильм по роману «Идиот», нет. Он хотел снимать фильм о процессе творчества Федора Михайловича, о процессе!
И обещал, что в этом фильме обязательно буду играть и я, и Саша Кайдановский.
Когда ему предлагали экранизировать «Идиота», он мне говорил:
— Нет у меня князя Мышкина, нет идеальной Настасьи Филипповны, нет Рогожина. Ганечку мог бы сыграть Кайдановский, если бы согласился, а ты — свою Аглаю. — Внимательно посмотрел на меня: — Сможешь… Но я не могу снимать. Нет главного героя.
Я читаю в печати странные истории о том, что он отказался снимать «Идиота», потому что захотел уехать в Италию. Не мог он снимать «Идиота»! Не было у него героя. Идеального. Абсолютного. И занимал его в то время творческий процесс Достоевского и его дневники, но ему не разрешили снимать фильм о Федоре Михайловиче, не разрешили снимать фильм и о Гофмане по собственному сценарию.
Мы были с театром на гастролях в Сибири.
Мне позвонили от Андрея и спросили, когда я буду в Москве. Андрей запускался со сценарием «Сталкер». Мне передали, что он хочет видеть меня, чтобы предложить роль, и что в фильме будет играть Кайдановский. У нас с Сашей были уже трудные отношения. Мы с ним вместе работали в фильме Бориса Ермолаева «Мой дом — театр», но было трудно. Саша вдруг женился на Женечке Симоновой. Мне не хотелось беспокойства.
Я не читала Стругацких. Марианна Вертинская читала и повесть «Пикник на обочине», и сценарий тоже знала. Я стала подробно расспрашивать у нее о повести и о сценарии.
— Ты должна сама прочитать, особенно сценарий. Если тебе предлагают играть жену героя, то она наркоманка, у нее бывают страшные ломки, а самое ужасное, что у нее больная дочь, она парализована, приходится носить ее на плечах. Роль совсем небольшая.
Мне не хотелось несчастий даже на экране.
Звонили еще и еще раз от Андрея, но я отвечала, что приступаю к большой работе с польским режиссером, который у нас в театре будет ставить пьесу о Шопене.
Алиса Фрейндлих потрясающе сыграла в «Сталкере». И слава Богу! Но теперь мне очень жаль, что не я.
Все счастливо для меня в воспоминаниях об Андрее. Андрей показал мне весь мир! Он увидел меня и открыл. Господи, как я ему благодарна! Как я любила его! Но я не выполнила его завещаний: первое — не сниматься ни у кого, кроме него, второе — я не смогла удержать Сашу, хотя многое в наших отношениях зависело от меня. Я предпочла свой путь, впрочем, он был предопределен и неизбежен. Духовная независимость, как и любая другая, должна быть оплачена. От этого и тернист мой путь.
…Он умер безмерно далеко от меня — в Париже, и похоронен там же. А вот мама его покоится недалеко от моих дедушки и бабушки, на 22-м участке Востряковского кладбища.
17
Именно на том заседании, где выступала Леночка Санаева, я, осознав это чуть позже, по дороге в Бутырку, потеряла окончательно веру в справедливость суда.
А иначе отчего же с какого-то момента больше вслушивалась в ее милый, родной голос, чем в смысл произносимого?
К реальности меня ненадолго возвращало лишь имя Стаса.
— Вы же знаете, как складывались у Стаса дела! — повторяла она. — Неудача на первом курсе Школы-студии МХАТа, когда его выгнали из института, на него очень подействовала. У него появился комплекс неполноценности. Он засуетился. Потом, когда стал артистом, он маялся от бедности и вынужден был работать дворником…
И вот уже я вновь — в прошлом, а не в зале суда, где вершится — уже свершилась, была предрешена кем-то заранее — моя судьба.
Мне вспомнилось, как рано утром я вышла из дому на нашу улицу Вахтангова, чтобы поймать такси: я улетала на съемки. Машин на улице не оказалось, а до Арбата было не так просто добежать — в руках у меня была тяжелая сумка. Вижу, у театрального утилита парень в тулупе деревянной лопатищей снег убирает. Кричу ему:
— Молодой человек, можно вас на минуточку!
Молчание.
Я еще громче крикнула. Опять никакого ответа. Потом он куда-то трусцой побежал… Так и запомнила его красивую фигуру и огромную лопату в руках.
Потом Стас мне признался:
— Сбежал я тогда, Валена, потому что не хотел, чтобы ты узнала, что я в дворниках служу.
Между тем Лена говорила:
— У Валентины замечательные родственники, — она оглянулась на Танюшку и Сережу, сидящих в зале. — Стас любил бывать у Анастасии Алексеевны, Валиной мамы, рассказывал о ней как о человеке большой душевной чистоты, и с Александром Николаевичем, отцом Вали, подружился. О своих родителях Стас мне тоже много рассказывал. Его очень расстраивало, что у его матери было столько мужей, и ни с одним она не уживалась. Отец ушел от них, когда Стасу было годика три, кажется…
Слушая Лену, я, конечно, не могла не вспомнить наше житье-бытье у метро «Аэропорт», на улице Черняховского в доме № 2. Мы жили по соседству — Нора Тадэ, Лена Санаева и мы с мужем, Павлом Арсеновым. Нора с мужем Иваном Уфимцевым, известным мультипликатором, и их очаровательная дочурка Катюша жили совсем рядом, дверь в дверь. А Лена — выше. Многое хочется вспомнить о нашей безмятежной тогда жизни, и я вспомню. Впрочем, свои трудности тоже были, но мы были веселы и любили друг друга.
В перерыве наконец-то подошел адвокат и предупредил:
— Сейчас будет свидетельствовать врач «скорой помощи» Поташников.
— Как хорошо! — обрадовалась я.
— Вы в нем уверены?
— Да, он пока единственный объективный свидетель. И потом я хорошо помню его лицо. Оно показалось мне симпатичным.
Судья и заседатели ушли из зала, а прокурор и общественный истей остались. Истец достала из сумки бутерброд с колбасой и стала жевать… а мне есть хочется. Неужели не понимает? А может быть, нарочно лопаете таким аппетитом?
Прокурор и общественный истец шушукаются между собой и поглядывают на меня.
— Почему прокурор все время глазки щурит? Плохо видит? Или воображает? — спросила я у адвоката.
— Воображает, — серьезно ответил адвокат, чем рассмешил меня.
Истец и прокурор удивленно застыли, глядя на меня.
Адвокат тихо мне сообщил:
— Прокурор собирается сегодня речь держать.
— Пусть держит.
— Пожалуйста, не волнуйтесь, — успокаивал меня адвокат.
— Я не волнуюсь. Правда-правда. Меня не волнует этот дурной спектакль. Прокурор в этом спектакле исполняет роль злодейки. Ей бы надо играть эту роль мягче, потому что и внешне, и внутренне она — само зло. Уверена, что она репетировала свою речь вслух и громко.
Мне стало очень смешно, когда я представила себе, как прокурор дома во весь голос репетирует обвинительную речь.
Я опять засмеялась. На этот раз совсем громко. Нет, я не нарочно смеялась, я не злила их, просто так получалось.
Прокурор и общественный истей снова внимательно посмотрели на меня.
Стараясь пронзить меня взглядом, прокурор совсем сощурила глазки и собрала ротик в ниточку.
— Прокурор замужем? — спросила я у адвоката.
— Непохоже.
Вернулась судья и привела за собой свиту — заседателей.
Наконец вызвали свидетельствовать Поташникова — врача «скорой». Он не спеша вошел в зал, посмотрел на меня и поклонился. У него ясный взгляд. Доктор внимательно выслушал вопрос и стал рассказывать, как все было, хотя оговорился, что с тех пор уже прошло пять лет и, возможно, что-то и ушло из памяти.
— Впрочем, главное не забылось, — добавил он.
И начал свой рассказ.
— Вызов был на ножевое ранение, но у нас была пересменка, а фельдшер одна не имела права выехать на такой вызов. Когда пересменка закончилась, раздался повторный вызов, и мы поехали.
Адрес я хорошо знал, потому что часто бывал на выездах у жильцов этого дома — актеров Театра Вахтангова. Но подъехать к дому мы долго не могли из-за ремонта улицы. Она была загорожена с обеих сторон. Когда все-таки подъехали и стали подниматься по лестнице, нас встретила Малявина, она спросила, почему мы так долго не приезжали. Я ей сказал о пересменке и о том, что долго искали подъезд к дому.
Я вошел и увидел Жданько. Он лежал по диагонали комнаты и был мертв. Я сказал об этом Малявиной, но она как будто не услышала меня, она сказала: «Помогите же ему!» Осматривая Жданько, я трижды повторил, что он скончался. Услышав крик фельдшера, я обернулся и увидел нож в руке Малявиной. Она намеревалась перерезать себе вены… Я резко выхватил нож и поранил ей руку. Началось обильное кровотечение. До этого ни на ее лице, ни на руках, ни на вещах в комнате крови я не видел. У Жданько было внутреннее кровотечение, поэтому на его одежде было незначительное количество крови.
Приехали милиция и работники прокуратуры. Я предложил Малявиной ехать в Склифосовского, потому что ей была необходима помощь, ей надо было срочно наложить швы на раны на пальцах правой руки. Порезы были глубокие, потому что нож был остро заточен.
Приехал Проскурин. Он и Малявина плакали, громко кричали. Я чувствовал, что они очень переживают.
Судья задал вопрос доктору:
— В машине по пути в Склифосовского вы спрашивали у Малявиной, что произошло?
— Нет, не спрашивал. Она была в состоянии аффекта, не плакала.
Прокурор спросила:
— Она была спокойна?
— Она казалась спокойной, но это и есть аффект, — пояснил доктор.
Прокурор продолжила свой допрос.
— Вы задержались. Точный ли адрес дала вам Малявина?
— Да, точный. Его нам сообщила диспетчерская. И дом по этому адресу я хорошо знал, — повторил доктор.
Адвокат попросил:
—. Еще раз, пожалуйста, ответьте: когда вы увидели кровь на руке у Малявиной?
— Тогда, когда я выхватил у нее нож, которым она хотела себя ударить.
Мне подумалось: «По лицу можно определить человека. К счастью, я не ошиблась в докторе Поташникове».
Я видела, что прокурор зла, очень зла. Не будет она сегодня держать слово.
Так и получилось.
…На следующих заседаниях выступали незнакомые люди. Их монологи, лишенные правды и логики, превращались в плохо исполненные концертные номера.
Я несколько раз делала заявление о замене состава суда. Но мои судьи делали вид, что никаких заявлений от меня не было. И продолжали свое безобразие. Все попытки изменить ход процесса уже не имели значения.
И вот судья предоставляет слово прокурору.
Та торжественно поднялась и высокомерно смерила меня взглядом. Я опять представила, как она репетировала свою речь дома. «Не получится у нее слово», — подумалось мне.
Прокурор начала очень громко. Связки были не разогреты для такого сильного звука, и она закашлялась. Не извиняясь, снова попыталась говорить, но съехала чуть ли не на фальцет и опять закашлялась.
Я неотрывно смотрела на нее, а она никак не могла начать.
Было такое впечатление, будто прокурор находится под моим гипнозом. Мне стало неприятно, даже противно стало, что мое сознание и мои нервы так подключены к этому злобному существу.
Я вздохнула и отвернулась.
Прокурор начала обвинять меня.
С каждым упреком в мой адрес она распалялась и все больше вдохновлялась. В результате я получилась исчадием ада.
Тогда, перейдя на самый звонкий голосовой регистр, прокурор четко, как командующий военным парадом, почти прокричала:
— Прошу признать Малявину виновной по статье 103 УК РСФСР (умышленное убийство. — В. М.) и назначить наказание сроком… — прокурор выдержала паузу, — сроком на десять лет лишения свободы.
Десять лет — высшая мера наказания по этой статье.
Объявили перерыв на сорок минут, но из зала никто не уходил, пока меня не увели.
Конвой притих. Предложили водички. Камеру не открывали.
— Сейчас адвокат придет. Посиди здесь.
Молча сидим, ждем адвоката. Он, естественно, заступался за меня. В конце неуверенно сказал:
— Я хочу верить в гуманность нашего суда и надеюсь, что суд оправдает Валентину Малявину. Я прошу суд об этом, — искренне и тихо добавил он.
Снова объявили перерыв на десять минут.
Адвокат, не скрывая своего плохого настроения, подошел ко мне и сказал:
— Сейчас вам будет предоставлено последнее слово.
— Но я не готова к нему. Вам надо было заранее предупредить меня.
— Я ничего не знал о сценарии сегодняшнего судебного заседания. Думаю, что с их стороны все это продумано. Помните только об одном: у них нет ни одного доказательства вашей виновности.
Я сказала:
— Они совершают преступление на глазах у всех. Как же они будут теперь жить?
Адвокат как-то странно посмотрел на меня. По всей вероятности, он удивлялся моему спокойствию. Но это самозащита организма, а не спокойствие. И я благодарю Бога, что Он в нестерпимо трудные моменты посылает мне такое самочувствие.
Адвокат пошел на свое место и сел спиной ко мне.
Прокурор же была визави. Теперь она, не отрываясь, смотрела на меня. Я тоже стала смотреть на нее. Она не отводит взгляд, и я не отвожу, словно мы играем в игру «кто кого переглядит». Она несчастнее, чем я. Она несчастнее меня даже сейчас. И это уже до конца дней ее.
Кончился перерыв.
Хорошо, я буду говорить свое последнее слово перед бездарными и зависимыми судьями моими.
Начала с того, что я совершенно убеждена в том, что весь состав суда, в том числе и прокурор, не сомневаются в моей невиновности.
Прокурор нагло хмыкнула и заставила всех обратить на себя внимание. После паузы я сказала, что суд на протяжении всех заседаний вел непродуктивные допросы так называемых свидетелей.
— В нашей трагедии никаких свидетелей не было. Единственный объективный свидетель — врач «скорой помощи», который подробно и правдиво рассказал, что было со мною и вокруг меня после его приезда.
Суд же опирался на обвинительное заключение, где причиной трагедии объявлена моя якобы творческая неудовлетворенность и зависть к успехам Стаса. В обвинении сказано еще сильнее: что я завидовала славе Стаса. Сочинители обвинения сделали Стаса лауреатом премии имени Ленинского комсомола, чего не было на самом деле. Мотивировки обвиняющей стороны в процессе суда не подтвердились. Обвинение рассыпалось.
Теперь об экспертизах. Экспертиза, сделанная в первый год следствия, говорит о самоповреждении. Эта экспертиза подписана специалистами, которые находятся в суде. Далее. Спустя несколько лет, в настоящий момент, эксперты также не исключают самоповреждения. Только теперь они заявляют, что я поранила пальцы после нанесения удара Стасу. Но доктор «скорой помощи» ясно и подробно рассказал, что поранил мне руку он, когда выхватил нож, и что до этого момента ни на моих руках, ни на моей одежде крови вообще не было. Следовательно, последнее заключение экспертов несостоятельно. Я несколько раз, устно и письменно, просила о повторе экспертизы, но суд почему-то отказал мне.
Я обвинила суд в том, что он пользовался не фактами, а слухами и пересудами о моей жизни.
— Но мне надо сохранить себя, — заявила я. — Сохранить, несмотря на катастрофическую перемену в моей жизни. Я уверена в своем будущем. И Стас всегда со мной.
Все. Заседание было окончено.
Машина уже пришла, и меня ждали, чтобы поехать в Бутырку. Конвоир разрешил мне сесть рядом с собой, тем более что боксик был кем-то занят. Ребята из «обезьянника» вежливо мне сказали:
— Добрый вечер.
Я поздоровалась с ними и ответила:
— Пусть он будет добрым, несмотря на все.
— Эх-хе-хе! — раздалось в глубине машины.
Братва поглядывала на меня, ни о чем не спрашивая. Они, конечно, знали, что прокурор запросила для меня десять лет.
Конвоир прикрыл глаза и тоже молчал. Так и ехали. Молча. Только рыженький «наркошка» спросил:
— Валентина, а когда приговор?
— Не знаю.
Приехали в Бутырку. Что делать — говорить девочкам по камере, что прокурор запросила десятку и что я уже произнесла последнее слово, или не говорить? Нет, не буду говорить. Для них это событие. Всю ночь будут обсуждать, а я не знаю, ехать мне завтра на приговор или судьи сделают паузу.
Дежурила Валя, которая Казачка.
По ее лицу я увидела, что она все знает. Спрашивает меня:
— Кота хочешь в камеру?
— Я буду плакать, когда вы его заберете обратно. Нервы мои нынче расстроены.
— Понимаю, — кивнула головой дежурная.
— Вы знаете, сколько лет мне запросила прокурор? — поинтересовалась я.
— Многие знают.
— Я не хочу, чтобы в камере знали.
— Ну и правильно, — Казачка открыла мне дверь камеры.
— Ну? — спросили девочки.
Я пожала плечами и спросила:
— А какой сегодня день?
Никто не знал.
А не все ли равно? Пусть мне отныне все будет все равно. Да не тут-то было. Нервы совсем разыгрались. Заснуть не могла.
Денёв поднялась ко мне и просит:
— Расскажи что-нибудь.
— Я устала, очень устала.
…Утром меня не вызвали, значит, можно валяться на шконке, читать, болтать, гулять во дворике и пить чай.
— Сегодня суббота! — весело объявляю девочкам.
И вдруг запела:
— «А нам все равно…»
Девочки оживились. Рая-мальчик стала смешно подпевать.
«Бойся бояться», — любил говорить Стас. Действительно, чего бояться? Кого? Их? Но они словно марионетки.
А еще Стас меня учил:
— Валена, вот ты упала в прорубь…
— Не хочу.
— Я к примеру говорю.
— Нет, не хочу.
— И все-таки послушай… Тебя река несет по течению, вниз… Вот-вот тебя не будет… Но ты знай, Валена, что между водой и льдом есть узенькая прослойка воздуха. Она-то тебя и спасет. Только не паникуй. Спасение-то есть!
К чему он мне рассказывал об этом солнечным весенним днем апреля 1978 года?
Значит, оставил он мне два завещания: не бояться и помнить о той прослойке воздуха подо льдом, которая может спасти.
Спасибо, Стас!
На следующий день тоже не вызвали.
27 июля 1983 года в шесть утра окликнули из «кормушки»:
— Малявина! С вещами!
Девочки не спали. Нина заботливо помогала мне.
Я ей тихо говорю:
— Нина, я не сказала, но прокурор запросила мне десять лет.
— Я знала.
Я подумала, что Нине об этом сказала, наверное, начальница.
— Нина, я уже не вернусь в камеру. Ты скажи девочкам, что я желаю им всего наилучшего.
— Хорошо, но все-таки попрощайся сама.
— Девочки! Сегодня мне будут читать приговор. Я прощаюсь с вами.
А у самой чуть ли не слезы.
Денёв поцеловала меня и уткнулась в подушку.
Рая-мальчик все повторяла:
— Как же так, Валюшка, ты больше не придешь к нам? Как же так?
Колючеглазая Валя старалась быть спокойной.
— Ну, с Богом! Не переживай особо. Ну их…
И я ушла.
Не понимаю, почему слезы наворачиваются. Странно как! И там, наверху, в камере «тяжеловесов», тоже наворачивались, когда прощалась со всеми. Странно…
Сегодня в зал заседания суда позвали быстро.
Лина Пырьева смотрит на меня и, как всегда, подбадривает выражением лица и осанкой.
А где же Танюшка и Сережа?
А… вон они! Вижу!
Инна Гулая сбоку сидит, совсем рядом.
И много-много народу… Подумалось, что когда-то, в старые времена, так сходились на казнь толпы людей. Зачем? Почему?..
Провозгласили: «Суд идет!»
Все встали.
Я встретилась взглядом с Инной Гулая и улыбнулась ей.
…И опять меня ведут длинными-предлинными коридорами Бутырской тюрьмы, и опять я еле волочу матрас и вещи.
Прохожу мимо камеры 152-й, той, большой, моей первой. Прошу дежурную, которую я знаю, она меня переводила на «спецы»:
— Можно я посмотрю в «глазок»?
Разрешает. Сочувствует, знает, что моей неволи — девять лет.
Вижу там и Ромашку, и Галочку, мою соседку по шконке, и Золотую, и директора адлеровского ресторана. И Глафиру…
— Господи, сколько же ей мучаться здесь?
— Кому? — поинтересовалась дежурная.
— Глафире. Всё косу плетет… несчастная.
— Здесь лучше, чем в зоне.
Мне не хотелось рассуждать, где лучше. Ну, надо же так сказать — лучше?! Сказала бы: «На зоне еще хуже, чем здесь», чем — лучше… Здесь — свой ужас, там — свой.
Подвела к камере 119 для осужденных и предупредила:
— Учти, там и «многократки» сидят.
— Учту.
«Многократки» — это те, которые не в первый раз сидят. Открыла дверь камеры, а там в фанты играют и хохочут вовсю.
— Валюшка, привет! — весело здороваются со мной.
Со многими из них я была знакома по выездам на суд.
— Знаем-знаем, что девять лет… Особо не переживай… через три года «на химии» в Горьком встретимся. Там хорошо! — успокаивала меня Угрюмая, та, что казалась мне угрюмой, когда я первый раз выезжала на суд. Теперь она была вовсе не угрюмая, а очень даже веселая. Срок у нее, как она сказала, небольшой — всего пять лет.
Увидела я и Глухую, она сидела в 152-й камере за поджог. Кричу ей:
— Здравствуй!
— Валюшка, ты чего кричишь-то? Я ведь не глухая, — а сама смеется.
Я понимающе протягиваю:
— А-а-а…
В той камере ну ничегошеньки не слышала, а теперь вдруг стала всё слышать, вот как бывает!
Здесь и Наташа оказалась. Я часто с ней просиживала в боксе перед выездом на суд или после него.
У Наташи очень хорошая стрижка — каре, волосы черные, блестящие, словно лакированные, а глаза янтарные. Эффектно очень!
Выезжая на суд, она всегда была элегантной. И теперь ей шел яркий спортивный костюм. Но что-то изменилось в ней. Не пойму, что именно. Печали на лине не видно, но какая-то другая стала, совсем другая.
Наташа крикнула:
— Иди сюда, Валюшка!
Я взобралась к ней наверх.
— Попей чайку, потом я тебе сделаю массаж, обязательно надо снять напряжение.
Тут же подошла ярко выраженная «многократка»: передних зубов нет, голос прокуренный, под глазами мешки, тихо спросила:
— Чифирок сделать?
— А можно?
— Нельзя, конечно, но я по-быстрому. Мы отличную горелку сделали из сала и бинта. Я мигом, — подмигнула и пошла к туалету, который был перекрыт простыней, повернулась к нам, еще раз подмигнула и стала делать чай, скрывшись от всех.
Я прислонилась к стене и смотрела, как проигравшая в фанты кукарекала.
Ей кричали:
— Громче!
Она громко:
— Ку-ка-ре-ку!
— Еще громче!
Она изо всех сил, так что голос сорвался:
— Ку-ка-ре-ку!
Камера содрогалась от хохота.
Другая проигравшая читала стихи Константина Симонова:
«Жди меня, и я вернусь…»
Слезно читала. Все притихли.
Вот и чаек поспел.
— А можно я с вами? — спросила хорошо стриженная «многократка».
— Можно.
Она вспрыгнула к нам наверх и поинтересовалась:
— Раньше не баловались чифирком?
— Нет, — ответили мы.
— В зоне без чифира не прожить. Витамины в нем и бодрость. Слушайте! Делаешь два глотка и передаешь кружку по часовой стрелке. Эта кружка человек на пять рассчитана. Достается глотков по восемь. Этого вполне достаточно. В одинаре пить чифир неинтересно. Ну! Поехали!
— Горько-то как! — поморщилась я.
— А как же?! Зато — смак!
— Я заметила, что и Наташа, и ты, и многие другие хорошо подстрижены.
— А это Катя! Отличный парикмахер! Говорит, что в Париже премию за свою работу получила. Она и тебя может подстричь.
— Нет, я не буду стричься до тех пор, пока не выйду отсюда.
В этой камере совсем другая атмосфера, чем в двух прежних, потому что суд уже был, правый он или неправый, это теперь неважно. Важна определенность, тем более что многие с надеждой смотрят в будущее, мол, напишут кассационную жалобу и их обязательно поймут высшие судебные инстанции и отпустят на волю. Я тоже думала так.
«Отпустят на волю…» Я никогда не любила ходить в зоопарк, я не люблю птиц в клетке, не люблю и аквариумов, потому что очень люблю животных, и птиц, и рыб, и людей люблю, и все должны быть свободными, и дружить все должны.
В детстве я любила рисовать земной шар, а на нем разных людей: белых, черных, желтых, красных, все они держатся за руки и образуют большой круг, а среди них зверята всякие, а над ними птицы летают. Взбодрил меня чифирок!
Спустилась вниз, умылась, легко стало.
Все! Уныние отменяется! Совсем отменяется! Надо поселить в себе священную беззаботность!
Наташа, не торопясь, старательно и умело сделала мне массаж.
А по радио Алла Пугачева пела. Все были ей рады, как родной.
— Я хочу танцевать! — крикнула миленькая девочка. — Кто будет моим кавалером?
— Я! — тут же отозвалась высокая, симпатичная, стриженная «под ежик» «многократка».
— Так! — обрадовалась Толстуха. — Я вам сейчас костюмчики сварганю.
Она ловко сделала высокому Ежику из простыни моднючие шаровары, подпоясав их яркой косынкой, и делово спросила:
— Ты торс от одежды освободить можешь?
— Да. У меня сисек нет почти, — улыбалась Ежик.
— Замечательно! — радовалась Толстуха.
Миленькой девочке из двух простыней устроила вечернее платье, а головной убор смастерила из красной шелковой кофты, завязав много узелков. Потрясающе получилось!
Кто-то громко умолял, глядя на радио:
— Алла Борисовна, ну, пожалуйста, пой еще.
И Алла Борисовна пела.
— Вот умница, услышала мои просьбы: поет!
Все повернулись к танцующей паре.
Глазок в «кормушке» приоткрылся. Наблюдают…
А девочки танцевали! Легко. Хорошо!
Наташа говорит мне:
— Жалко, что через день нам отсюда переезжать. Давай напишем заявление на «рабочку».
— К сожалению, по моей статье на «рабочке» не оставляют.
— А ты напиши прямо начальнику тюрьмы Подрезу, мол, после суда нервный срыв у меня, ну и т. д. Валюшка, мне очень нужно остаться на «рабочке», хотя бы на неделю. Я хочу в зону, шить я умею и ничего, и никого я не боюсь, но мне пока нужно остаться здесь. Я должна повидать одного человека. Потом тебе всё расскажу.
Да, Наташа за это время очень изменилась. Я с ней познакомилась вечером, когда привезли меня с первого судебного заседания, и потом мы часто виделись. Она осуждена за спекуляцию японской аппаратурой.
Не судебные переживания заботили Наташу, а что-то другое, даже интересно, что именно?
На следующий день мы сочинили заявления на имя начальника тюрьмы и вместе со всеми пошли гулять во дворик.
«Многократки» сели на корточки и оживленно болтали. Ежик рассказывала:
— Нет, вы прикиньте, только вышла на волю, как снова здесь. Приехала к себе, а Васька, дружбан мой, говорит: «На станции цистерны с вином всю ночь будут стоять, говорят, что с портвейном!» Ну, мы и отправились в ночное… взяли канистру, я и говорю Ваське: «Давай приложимся по чуть-чуть на дорожку». Васька обрадовался. Ну и приложились… Слезть с цистерны не смогли… менты помогли. Хохочут, канистру отобрали, а нас загребли. Васька права качал и заставлял их вино вернуть государству, ну, обратно в канистру вылить. Менты смеются только. Они и меня, и Ваську хорошо знали. Васька тоже сидел по хулиганке. Теперь вот выше, до государственных преступников дослужились мы с Васькой.
Ежик позвала миленькую девочку, с которой танцевала:
— Иди сюда!
Девочка подошла.
— Ах ты, маленькая, ах ты, гулюшка, ну, ничего-ничего… все хорошо будет, — и запела:
На подрезовскую[11] дачу Прилетели гулюшки. Прилететь-то прилетели, Улететь, вот, х…шки.Наташа в одиночестве ходила по кругу. Руки держала за спиной, спина почему-то сутулая, шаг большой, взгляд отрешенный, словно кто-то другой, а не она, стильная, яркая, женственная. Как ни странно, мне разрешили остаться на «рабочке». И Наташе тоже. Она очень обрадовалась и без конца повторяла:
— Я тебе все расскажу…
18
К вечеру нас перевели на «рабочку».
Ну надо же — телевизор! И большая, светлая столовая! Чистая камера с белоснежными простынями! И комната с тазиками, где можно стирать!
Сводили нас в баню!
И стали мы ждать, когда с работы придут остальные. Телевизор включать не разрешили.
Я не могла оторваться от окна, оно хоть и зарешеченное, но в большую клетку, и если захотеть, то можно дотронуться до листиков очень ветвистого и высокого дерева, его листочки шевелятся от ласкового ветерка. Господи! красота! какая! Усталые женщины стали возвращаться с работы. Вдруг кто-то подошел ко мне сзади и закрыл глаза ладошками.
Не могу догадаться, кто?
Оборачиваюсь и вижу Свету Л. — актрису, надо сказать, хорошую. Она играла и в театре, и в кино.
Говорит:
— Я так рада тебе!
Потом:.
— Чему я радуюсь? Ужас!
— Ты давно здесь?
— Да.
— И долго еще?
— Ага.
Я не знала, по какой статье осудили Свету, и не стала ее спрашивать об этом.
Мы с Наташей очень хотели есть, и наконец наступил ужин. Столики в столовой на четыре человека, как в кафе. Хороший ужин привезли, однако и много его. Подходишь к бачку и берешь картошки, сколько хочешь, и рыбу с подливкой привезли, и хлеб не сырой!
Света Л. нам рассказывает-рассказывает, а мы с Наташей лопаем-лопаем.
Света нам советует ни с кем не общаться и никому ничего не рассказывать.
— Оглянитесь вокруг!
Мы оглянулись.
— Ну, девочки, ну, что вы? Не надо так откровенно оглядываться, — сетовала на нас Света. — Потихоньку надо, чтобы никто не заметил, что вы их рассматриваете.
И правда, несимпатичные лица у женщин, нет, не по чертам лица, а по их выражению. Глаза недобрые, и сами зажатые. Какие-то запуганно-затюканные.
Разве что у пожилой женщины за соседним столом и у красивой Тани, что в штабе секретаршей работает, — другие глаза.
Света мне сказала, что это Таня передала мне число в камеру, когда на суд выезжать.
— Мы отвлекли Мотину, вон ту, что через стол от нас сидит, и Татьяна успела тебе сказать о суде, тем не менее начальница знает, кто-то все равно стукнул. Она Таньке сделала замечание. На зону пока не отправляют, нет пока секретарши из наших, чтобы бесплатно вкалывать на них, на вольных. Здесь почти все стучат, но самая главная Мотина. Она как бы бригадир, — продолжала Света.
Наташа громко рассмеялась.
Все повернули к нам свои несимпатичные лица и уставили на нас свои злющие глаза, только Мотина тоже чему-то смеялась.
— Девочки, ну нельзя так! Ну зачем так громко хохотать?
— Хочется, — сказала Наташа, — вон Мотина, бригадир курух, ха-ха-ха, — смеялась Наташа, — тоже смеется, да громко как! Куда мы с тобой попали, Валюшка, а? — Наташа вздохнула и ушла.
А я стала смотреть в окно. И увидела я окошко в доме напротив с красным, теплым светом, на которое все смотрела сквозь решку 152-й камеры. Теперь оно мне очень хорошо было видно, и я так обрадовалась, что подскочила к окну и уставилась на него.
Света подошла ко мне сзади и тихо сказала:
— Здесь нельзя быть такой эмоциональной, опять все обратили на тебя внимание.
— Света, я прошу: больше ни о чем меня не предупреждай и ничего не советуй мне больше. Ладно?
На вечерней проверке я увидела начальницу — Ш. Эта дама явно заигралась в существо, якобы наделенное властью. Ей и впрямь казалось, что у нее много власти. Она не предполагала, что выглядит глупо с ее надменной манерой и отвратительно высоким, громким голосом. Но все женщины стоят по струнке, у всех ответственные лица, все подобострастно заглядывают ей в глаза. Только седая женщина с добрым лицом, которая мне понравилась в столовой, была спокойной.
Начальница Ш. сделала ей замечание:
— Как вы стоите?
И вдруг как заорет:
— Прямо стоять надо! Прямо!
Но ведь добрая женщина имеет преклонные годы, и спина у нее при всем желании не может уже выпрямиться.
А начальница Ш. орет:
— Выйти из строя! Встать прямо!
До чего же голос у нее визгливый!
Добрая женщина вышла из строя и спокойно сказала:
— Не могу я прямо.
— На место, — визжит Ш.
Наташа хотела мне что-то сказать, но Ш. провизжала:
— Разговорчики!
Ну маразм! Ну маразм!
Легли спать, шепчемся с Наташей.
Кто-то делает замечание:
— Хватит шептаться-то, хватит!
— Но мы тихо, — говорит Наташа.
— Нельзя! — зло запрещает другой голос.
Хорошо, что здесь свет можно выключать и не видеть эти рожи, которые исчезли в темноте, слава Богу.
— По-моему, это ад, — довольно громко сказала я, на что Света закашляла.
Утром проверка и опять этот несносный голос начальницы, которая распределяет работу.
Свету, меня и Наташу определили убирать кабинеты начальников Бутырки.
Света обрадовалась:
— Это нетрудная работа.
Наташа говорит:
— Я хочу карцер убирать.
— Зачем? — спрашиваю.
— Там, в карцере, один человек сидит.
Помолчали.
— Ее-то мне и надо повидать.
— За что ее наказали?
— Подралась в камере с курухой.
Опять помолчала и вдруг совсем тихо сказала:
— Я ее очень люблю, Валя.
Повернулась и пошла к выходу.
А Света щебечет:
— Валя, ты просила меня не советовать, но как я могу не предупредить тебя о том, что там много соблазнов.
— Где?
— В камерах. Тьфу ты, черт, — в кабинетах, которые мы идем убирать. Ум съехал с этими проклятыми камерами.
— Не только у тебя… Какие же там соблазны?
— Сама увидишь.
И тоже направилась к выходу.
В кабинетах начальников действительно оказались соблазны: чай, конфеты, печенье, в иных — бутерброды оставались, но самый главный соблазн — телефон.
Так хочется позвонить домой!
Нельзя.
Кабинеты маленькие, но их много, и мы с Наташей с непривычки устали быстро: засиделись, залежались в камерах-то. Света говорит:
— Не торопитесь, девочки. Не надо торопиться, а то еще работу дадут.
Света открыла дверь очередного кабинета:
— Вот мой любимый кабинет. Кабинет начальника В. Этот В. просто душка.
Наташа нахмурилась:
— Пошел твой душка к едрене-фене.
И увела меня в другой кабинет.
— Пусть она кайф словит в кабинете своего душки. Вот что хотела тебе рассказать, Валентина. Как ты думаешь, в кабинетах есть микрофоны? Нас могут подслушать?
— Могут.
Она взяла меня за руку и увела в коридор.
— Да, Валя, я влюблена в женщину. Получилось так, что ее привели в нашу камеру. Оказалась она «многократкой». Не доглядели те, кто распределял. Рядом со мной место было свободное, знаешь, там, внизу, у самого окна, далеко от всех. Она мне доверилась, рассказала, что в третий раз сидит. Я у нее все про зону спрашивала. Она говорит, что там не страшно и не так противно, как в тюрьме. Потом… Потом стала учить меня массажу. Ну, и вот… Как-то так само собой получилось, что она стала трогать меня… ну, знаешь… понимаешь?
— Да.
— И со мной случилось то, что никогда не получалось с мужчинами. Понимаешь?
— Да.
— Потом… Потом попросила поцеловать ее. Я поцеловала, и мне было очень хорошо. Потом… Потом она стала часто просить ласкать ее. Знаешь, Валя, мне нравилось доставлять ей удовольствие. Она такая женственная. Я более мужественная и по характеру, и по внешности.
— Нет, Наташа, ты была очень женственной.
— Теперь мне больше нравятся мужские повадки, — улыбнулась Наташа. — Я не могу без нее. Я люблю ее. Я тебя очень прошу, пойдем со мной убирать карцер. Мне одной будет трудно. Я не смогу с ней расстаться. Не отвечаю я за себя, могу натворить глупостей. Я больше не увижу ее, ведь мы с ней окажемся в разных зонах, потому что «многократки» отбывают срок не вместе с нами, кто в первый раз осужден, а в других местах. Я прошу тебя, Валя, пойдем со мной… Пойдешь со мной работать в карцер?
— Да.
— Спасибо тебе.
И Наташа поцеловала мне руку.
— Что ты, Наташа? Что ты?
Она еще раз сказала:
— Спасибо.
Вечером нас повели в кино.
Света шепчет:
— Сейчас будем проходить через мужскую «рабочку»: кинозал на их территории. Не вздумайте на мужчин обращать внимание. Там есть симпатичные ребята, но ни в коем случае нельзя смотреть в их сторону. Сразу же заложат и отправят на зону.
Наташа нахмурилась:
— Света, ну что ты все зоной пугаешь?
— Ты с ума сошла, Наташа. Ты сейчас в Москве находишься, понимаешь? А отправят к черту на куличики.
— А где она, Москва? А? — громко спросила Наташа и засмеялась.
— Тихо… Мотина к нам прислушивается, — предупредила Света.
Действительно, Мотина стояла совсем рядом, повернулась к нам и спросила:
— Валя, тебя тоже в карцер на работы записывать?
— Да.
Мотина задержала на мне удивленный взгляд и записала мою фамилию в свой блокнот.
— Хорошо, я сегодня доложу начальнице.
У Светы брови взлетали вверх и опускались, взлетали вверх и опускались.
— Зачем? Зачем вам идти в карцер? Там ужас!
— Не суетись, Света.
Наташа тяжело опустила руку на плечо Светы. Та взглянула на руку, пожала плечами и отошла от нас.
Мотина построила нас в шеренгу и повела в кино. Все были взволнованы, как перед праздником. Идем через мужскую «рабочку». Вижу парня, который мне обменял отвратительный дырявый матрас на новый, лихо, одним движением, выхватив его из высокой горки матрасов. Я обрадовалась ему и поздоровалась, он чуть наклонил голову, но тут же отвел глаза, вроде бы он меня не знает.
И Денис здесь, тот, который наших актрис хотел обокрасть, но так ничего и не взял толком, потому что книги и награды у артистов, а больше ничего. Денис улыбался во весь рот. По всей вероятности, его не очень интересовало, останется он на «рабочке» или в зону поедет. Какой-то симпатичный парень погладил Наташу по попке, видать лихой и бесстрашный. Никакого внимания не обратила на него Наташа.
А Света все шепчет и шепчет:
— Зря ты, Валентина, поздоровалась… Теперь ни ему, ни тебе несдобровать. Вот Наташа — молодец, не прореагировала на дурацкую выходку. Все заметили это.
— Дура ты, Света… просто мне никак от его прикосновений, а если ему приятно, пусть себе гладит, — отрезала Наташа.
Света заботливо сказала:
— Не знаю, не знаю, девочки, как вы здесь собираетесь выжить?
— А мы живем, да, Валюшка? А то — выжить… — улыбалась Наташа.
Мне было очень жаль Свету. Там, на воле, она не казалась мне такой боязливой и суетливой. Сели в зале. Господи, неужели сейчас я увижу фильм? Интересно какой?
Ребята разговаривают в кинобудке:
— Где? Где Малявина?
— Да, вон, темненькая в пятом ряду, — слышу голос Дениса.
Фильм, который нам показывали, назывался «Мужики».
В главной роли — Саша Михайлов.
С Сашей Михайловым я работала в двух фильмах. Фильм режиссера Филиппова «Это сильнее меня» был его первым фильмом. Саша жил и работал в Саратове. Он приехал в Москву на кинопробы и сразу мне понравился. Я была уже утверждена, а двух моих партнеров, двух героев фильма, все пробовали и пробовали.
— Ну? — спрашиваю у Филиппова, — как вам Саша?
— Очень хорошо. Только высокий он… Кто же будет играть Макара?
— Гаврилюк Иван, — говорю. — Сегодня идет по телевидению последняя серия «Идущие за горизонт», посмотрите и, пожалуйста, утвердите Михайлова и Гаврилюка.
Филиппов меня спрашивает:
— Ты уверена в них?
— Абсолютно!
— Ну, гляди-гляди, тебе с ними играть, да любить сразу двоих нужно, — и улыбается.
— Полюблю, обязательно полюблю сразу двоих, — и тоже улыбаюсь.
Я с трепетом смотрела, как герой фильма «Идущие за горизонт» ищет самую редкую на земле птицу — розовую чайку. Я так увлеклась Ваней в роли Саши Ивакина, что даже написала ему письмо, правда, смутилась и не отправила. Редкий дар у Вани: он органично играет романтического героя, а я люблю романтиков!
Вечером этого же дня после просмотра фильма с Ваней Гаврилюком звонит мне Филиппов и восторженно кричит:
— Все! Утверждаю! Сегодня же звоним в Киев и вызываем!
— А Саша Михайлов?
— Все! Гаврилюк, Михайлов, ты!
И поехали мы к Черному морю, где так красиво! Целое лето жили у моря! Саша, Ваня и я очень подружились, и нам хорошо было работать в этом милом фильме о любви.
Позже Марк Орлов предложил мне большую роль в пятисерийном телевизионном фильме «Обретешь в бою» и утвердил. Наташа Фатеева тоже была утверждена на симпатичную роль. А героя как всегда не было.
Я говорю Орлову:
— Марк Евсеевич, есть талантливый и красивый актер, зовут его — Александр Михайлов. Он работает в знаменитом Саратовском театре, играет главные роли, готовит князя Мышкина.
— Нам не князь нужен, а социальный герой.
— Михайлов может все. Марк Евсеевич, миленький, пригласите Сашу, я с ним только что работала на «Мосфильме». Позовите его. Не ошибетесь.
Позвал. Не ошибся. И благодарен был. Снимали мы пять серий два года, а то и больше, и все жалели с Сашей, что нет в этом фильме роли для Ванечки Гаврилюка, нашего замечательного друга и прекрасного актера.
А сейчас в Бутырской тюрьме я с волнением буду смотреть Сашу Михайлова в фильме «Мужики». Понравился мне фильм, и Саша, конечно, понравился. Напомнил он мне в этом фильме незабвенного Василия Макаровича Шукшина. Думаю, что Саша, снимаясь в «Мужиках», с любовью держал в сердце своем Василия Макаровича. Надо его спросить об этом. Но когда — когда я смогу у Саши узнать об этом? О, Господи!
Нет-нет, нельзя унывать!
К унынию приводит слабость и осушительное смятение души.
Моя Судьба ведет меня, и надо смириться перед Неизбежным,
«…чтоб снова, как Феникс из пепла, В тумане восстать голубом…»Вечером снова на работу. Меня и двух других женщин отправили убирать боксы и камеры после мужского этапа. Эти камеры внизу. Что за этап? Не знаю. А-а-а… Это, наверное, тогда, когда заключенные здесь проводят время перед этапом в тюрьму на Красную Пресню, перед этапом на пересылку.
Женщины, которые вместе со мной этим вечером работали, все шушукались между собой, потом предложили:
— Ты две камеры уберешь, а мы все боксики.
— Хорошо, — говорю.
Вхожу в камеру, а там — о, ужас! Нужники обделаны… а под шконками окурков тьма-тьмущая… и грязная бумага вперемешку с остатками селедки и мокрыми корками хлеба… И все это воняет… Т-а-а-к… что же делать? А ничего. Убрать надо камеру и по возможности хорошо. Завязала потуже косынку, а носовым платком перекрыла нос и рот. Платочек у меня был надушен, это мои родные надушили его французскими духами и передали мне в посылке. Ну вот, и ничего страшного! Вытерла влажной тряпкой шконки, вымела огромную кучу мусора метлой и приступила к нужникам… Не помог мой носовой платочек с французскими духами, начало меня тошнить, а потом вырвало.
Те женщины, которые в боксах работали, стали заглядывать ко мне. Сначала одна ехидная физиономия заглянула, ни о чем не спросила — тут же исчезла, за ней — вторая, и тоже мгновенно скрылась. А потом смешок тихий и омерзительный — «хи-хи-хи»..
Надо перчатки попросить у дежурной, может, окажутся… Иду мимо боксов, а две противные физиономии следят за мной — куда это я?
Подхожу к дежурной и говорю:
— Там мужики две дырки нужников так обделали, что я без резиновых перчаток не слажу с ними. Помогите мне, пожалуйста.
Говорю без тени капризности, делово говорю.
Дежурная открыла железный шкаф и вытащила черные резиновые перчатки.
— Никому не показывай и не говори, что это я тебе дала.
Можешь взять с собой, они пригодятся, только прячь их, а то отберут.
Я поблагодарила и спрятала их под косынку. На «рабочке» мы по форме ходили: в тюремных платьях одного цвета и покроя, а на голове обязательно платок.
Противные физиономии интересуются:
— Куда ты ходила? А?
— Туда, — говорю и показываю вдоль коридора.
Замолчали.
А я как засмеюсь! Вспомнила один случай. Что-то мне плохо стало дома одним осенним вечером. Мама вызвала «скорую помощь». Давление очень повысилось, а я гипотоник, поэтому дурно и сделалось. Доктора укол мне сделали и долго не уходили от меня, беспокоились. Когда мне полегче стало, уехали. А на следующее утро звонок в дверь. Мы на Арбате жили. И как ни странно, пришел навестить меня молодой доктор, который приезжал вечером на «скорой». Он не один пришёл, а с сынишкой, очень резвым мальчиком, который тут же начал заниматься моей косметикой на туалетном столике.
Доктор стал длинно рассказывать о несчастной любви своего брата. Мне наскучило, и я стала смотреть на портрет Стаса. На мне была старая, совсем задрипанная курточка Стаса, которую я очень любила. Доктор рассказывал, мама внимательно его слушала, я скучала, а мальчишка румянил щеки, глядя в зеркало и напевая.
Потом я стала разглядывать картину Марка Шагала, на которой девушка в белом платье — невеста и козел во фраке — жених.
Доктор все продолжает рассказ о ненужной любви, а я вздыхаю и лениво говорю:
— Да, любовь зла, полюбишь и козла, — и все продолжаю смотреть на картину Шагала.
— Что? — не понял доктор.
Я все так же лениво и медленно:
— Шагал…
Доктор удивленно:
— Куда?
Я неопределенно:
— Туда…
Мне было лень объяснять.
Доктор замер, а потом сообщает мне:
— Жена у меня — врач-психиатр.
— Это хорошо, — говорит моя мама.
— Да, неплохо, — подтверждает доктор, поглядывая на меня.
А я перевела взгляд на нашу роскошную двухстворчатую дверь с бронзовыми ручками и уставилась на нее.
Доктор встал, постоял немного, подошел к своему сынишке, взял его за руку и ярко-нарумяненного повел к выходу. Я пошла проводить их. Мальчишка хохотал, а доктор, не замечая его нарумяненных щек и накрашенных, черных бровей, был чем-то озадачен. Они стали спускаться вниз по нашей широкой, красивой лестнице.
Я говорю им вслед:
— Это хорошо, что у вас в семье психиатр.
— Да, очень, — согласился доктор.
Я закрыла дверь, села на пол прямо в передней и стала хохотать. Мама вышла из комнаты и ласково говорит мне:
— Нет, ты совсем дурочка, — а сама тоже смеется.
И теперь я хохочу в вонючей камере, потому что две несносные физиономии внимательно следили за моей рукой, когда я после их вопроса — куда это ты ходила? — ответила: «Туда-а-а…».
Они опять заглянули в камеру. Липа одинаковые, со знаком вопроса.
Я ласково говорю им:
— Любимые вы мои, ну неужели вам нравится эта вонючая камера? Что вы все заглядываете? Хотите помочь мне?
Их словно сдуло ветром.
Вернулась с работы, сразу стала умываться и ноги мыть.
Вечером на проверке начальница, широко улыбаясь, спрашивает у меня:
— Почему вы, Малявина, ноги мыли не вовремя и не в том месте?
Почему она так широко улыбается и что я должна ей ответить? Не знаю, молчу и гляжу на нее.
Она громче и на ноту выше:
— Малявина, отвечайте!
Я пожала плечами и молчу. И она молчит.
Потом завизжала:
— Я жду.
— Чего?
— Ответа на мой вопрос.
— А разве вы не понимаете, почему?
— Выйти из строя!
Я вышла и уставилась на нее.
Она коротко взглянула на меня и спокойно сказала:
— Чтобы это было в последний раз.
И как заорет:
— Встать на место!
Вот играет, вот играет! И видно по всему, что ей нравится этот спектакль. Интересно, какая она дома? Впрочем, все равно.
Испортила мне настроение начальница Ш., даже телевизор не захотелось смотреть.
На следующий день мы с Наташей проснулись ранним утром, еще до подъема.
Она попросила положить ей красивый, легкий грим. Уединились мы с нею в комнате с тазиками. Я была во вдохновении и с удовольствием стала рисовать и без того эффектное ее лицо.
Вдруг входит к нам Света Л. А звонка на подъем еще не было.
— Вы куда это собираетесь?
— В карцер, — смеемся мы.
— Странно… Для чего это в карцер краситься?
— Хочется, — отвечаем мы.
— Странно… — и ушла.
Через какое-то время Мотина заглядывает:
— Доброе утро, девочки. Та-а-а-к! Мило, очень мило с вашей стороны на работу в карцер — накраситься. Молодцы, девочки!
Когда она ушла, Наташа мне говорит:
— Это Светка сказала ей, что мы прихорашиваемся.
— Нет, не может быть, — возразила я.
Ждем распределения на работу, и вдруг объявляют, что в карцер назначены кроме нас с Наташей еще Мотина и те две противные физиономии, что со мной вчера вечером работали.
— Ну и ну, — вздыхаю я и вижу, что Наташа очень расстроилась. — Я уверена, что ты с ней увидишься, обязательно увидишься.
И пошли мы в карцер.
За какой-то дверью обнаружилась довольно красивая передняя, обшитая полированным деревом.
Мотина и говорит:
— Там… кабинет начальника тюрьмы Подреза, а вот за этой дверью — карцер.
Дверь с красивой ручкой и тоже полированная. Неужели за нею карцер?
— Итак, — командует Мотина. — Я, Наташа и кто-нибудь из вас, — показывает на две противные физиономии, — пойдем убирать кабинет Подреза, а Валя Малявина пойдет в карцер.
Наташа сердито говорит:
— Я просила направить меня в карцер.
Мотина ехидно улыбается:
— Я хочу, как лучше… Ну, Валю еще можно понять: сыграет нам кого-нибудь из этаких… — и совсем ехидно добавила, — …когда-нибудь… да, Валя? А тебе зачем туда?
— Я хочу с Валей.
— Завтра будете работать вместе, — сказала Мотина и пошла в кабинет Подреза, за ней поплелась противная физиономия.
Я двинулась к карцеру, а за мной — еще более противная физиономия. Наташа подходит к ней и говорит:
— Подруга, двигай-ка ты в кабинет Подреза, а я пойду в карцер.
— Но Мотина велела мне идти.
— Я пойду, — резко сказала Наташа, — Валя, стучи в дверь, — торопит Наташа. — А ты, подруга, пока стой здесь. Когда дежурный откроет, а потом захлопнет за нами дверь, живо двигай в кабинет Подреза и скажи Мотиной, что это я так решила.
— Тебя на этап отправят, — и скривила свою и без того наипротивнейшую физиономию.
— Вот и хорошо, — улыбнулась Наташа.
Я постучала. Дверь открыл симпатичный дежурный, совсем молоденький. Впустил нас с Наташей и стал закрывать нас на сто замков.
Крутая лестница вела куда-то вниз. Потом еще одна, тоже крутая и совсем темная. Душно и сыро здесь. Узкий и длинный проход застелен досками, потому что пол каменный или земляной — не разобрала. По обе стороны прохода камеры. Свет тусклый. Маленькая, грязная лампочка едва освещает проход.
— Вот тряпки, ведра, веники, метлы, — показывает дежурный.
— Ты один здесь дежуришь? — спрашивает Наташа.
— Один. А что?
— Да, так… Не страшно здесь тебе?
— У меня ведь пистолет…
— А резиновых перчаток у тебя нет? — спрашиваю я.
— Перчаток у меня нет, красавица.
Мне было приятно, что он очень по-доброму посмотрел на меня.
Заключенные между собой переговаривались, перекрикивая друг друга.
Особенно выделялся низкий женский голос:
— Птичек, ты слышишь меня?
— Слышу.
— Как там твои красивые сисечки поживают?
— Твоих ручек ждут.
— Начальник! — кричит низкий женский голос, — дай пощупать Птичека.
И вдруг Наташа стала оседать. Села на опрокинутое ведро и тихо говорит:
— Это ее голос, Валя, это она, моя.
Что мне делать, как помочь Наташе? Не была я в таких ситуациях.
А молоденький дежурный говорит:
— Это многократка, кобел, новенькую совращает.
Наташа спрашивает:
— Они виделись?
— Виделись… при уборке… их камеры были рядом, потом их разбросали, потому что та, старая, все время Птичку лапала.
— Это кто старая? — негодовал низкий женский голос, а Птичка звонко засмеялась.
— Так, девочки, начинайте уборку и побыстрее.
Дежурный открыл две камеры, и оттуда вывалились два обросших, страшных мужика в каких-то линялых робах.
Невозможно рассказать, что такое карцер, это надо видеть, нет, лучше никогда не видеть этого кошмара.
В камере карцера умещается только сортир, малюсенькая досочка, на которой едва можно присесть, такая же маленькая доска, которая служит столом, еще одна узкая доска, она пристегнута к стене, ее разрешают опустить только на ночь. Все стены как бы в соплях: липкие и мокрые. Зарешеченное, крохотное, грязное окошко упирается в серую стену. На полу лужа какая-то…
Дежурный говорит:
— Вымойте унитазы, стены протрите, подметите…
Заключенных поставил лицом к стене.
Одну перчатку я дала Наташе, она молча отказалась и стала активно подметать камеру. Я тоже постаралась быстро справиться с омерзительно-душной камерой.
Перешли в две другие.
Из одной вышла Птичек.
Господи, да это же Птичка из 152-й камеры, хорошенькая хулиганка, которая кокетничала с дежурными, когда нас выводили на прогулку. Мы даже не успели поздороваться, как Наташа сильно ударила ее в спину, так что Птичка от неожиданности полетела по узкому коридору и приземлилась, по всей вероятности, очень больно. Платье, на груди и без того оборванное, совсем расползлось.
— К стенке, — закричал дежурный на Птичку.
— Не ори на меня, лучше бы заступился, — хмурится Птичка, потом улыбается мне: — Здравствуй, Валюшка!
— Здравствуй, Птичка. Не хулигань, пожалуйста.
— Ты чего? Это твоя напарница шандарахнула меня…
Низкий женский голос из камеры посочувствовал:
— Птичек, мой любименький, это кто же там тебя позволил шандарахнуть?
И вдруг Наташа громко сказала:
— Это я врезала ей, чтобы неповадно было с бабами сообщаться.
Голос замолчал.
Я спросила Птичку:
— За что тебя в карцер посадили?
— Не скажу.
— За любовь, наверное, — криво усмехнулась Наташа.
— Ты чего, совсем плохая? Я мужиков люблю, — и подмигнула молоденькому, симпатичному дежурному.
— Прикройся, прикройся, — делает замечание дежурный, а сам не может отвести глаз от обнаженной до пояса Птички.
— Как? Покажи, как? И чем прикрыться-то? — лукаво улыбается Птичка.
— Все! Молчать! — прикрикнул дежурный, но видно, что ему совсем не хотелось кричать.
Убрали камеры, а когда дежурный повел Птичку к двери, Наташа опять двинула ей кулаком по спине и хлопнула по заднице.
Дежурный хотел казаться строгим и пригрозил нам:
— Вот рапорт напишу и будете сидеть тоже в карцере.
Открыл еще камеры, оттуда опять обросшие мужики вылезли. У одного из них было интеллигентное, приятное лицо.
За окошком его камеры сквозь асфальт проросли желтые цветочки. Я даже засмотрелась на них, и как это они умудрились вырасти здесь, где совсем нет света? Наверное, хороший человек, этот парень с интеллигентным лицом, и своим светом вызволил из небытия дивные желтые цветочки.
Я улыбнулась парню, он мне.
Попросила у Наташи сигареты, она припрятала для своей любимой две пачки.
Наташа дала мне несколько сигарет, и я положила их за туалет. А когда ребят снова засовывали в камеры, я чуть пожала руку приятного парня и тихонько сообщила о сигаретах.
Он стремительно схватил мою руку и прижал к себе в знак благодарности.
Дежурный, конечно, увидел наши рукопожатия, но смолчал, жалел этих обросших чудаков, которые из жутких условий умудрялись попасть в совсем невыносимые. Наташа была похожа на дикую кошку с янтарными глазами, она чувствовала, что сейчас увидит свою любимую, и как-то по-кошачьи ступала.
— Валя! Валя! Помоги мне! Не отходи от меня!
Открыли камеру, вышла рыжая одутловатая женщина.
Открыли вторую, и Наташа замерла.
Я стою за ее спиной и вижу… Нет, этого не может быть! Вижу… маленькую, костлявую, с редкими, сальными волосами, пожилую женщину, которая нелепо пятится назад.
Наташа двинулась к ней, а та прямо прилипла к стене и боязливо улыбнулась своим беззубым ртом.
Нет, так не может быть.
Оказывается — может.
Дежурный велел ей выходить и повернул к стенке.
Наташа едва сдерживает слезы:
— Валя, милая, за что? Почему она изменяет мне?
Я ничего не ответила и пошла убирать грязную камеру рыжей, одутловатой женщины. Какая же неопрятная эта рыжая, мужики и те опрятнее. Как хорошо, что у меня перчатки на руках.
Я убрала камеру, а Наташа все возится у своей любимой.
Дежурный привел рыжую и Наташину любовь, и пока впускал и закрывал одутловатую неряху, Наташа успела сказать своей беззубой, пожилой даме, что записка в целлофановом мешочке в туалет опушена вместе с сигаретами и какими-то таблетками.
— Спасибо, — благодарила Наташина любимая.
— Что же ты так? А? — спросила у нее Наташа. — Убила бы я тебя с большим удовольствием, — и Наташа заплакала.
Закрыл дежурный дверь за этой дрянью, а Наташа присела на ведро и плачет:
— Сейчас, командир, сейчас.
Он отошел от Наташи и позвал меня:
— Что с ней?
— Любовь, — говорю.
— К Птичке?
— Нет, к этой, последней, за которой ты только что закрыл дверь.
— Быть этого не может.
— Значит, может, — вздохнула я и попросила: — Ты, пожалуйста, не говори ни с кем об этом.
Убрали мы остальные камеры, попрощались с дежурным и ушли.
Кабинет Подреза с подобострастным увлечением все еще чистили три неприятные физиономии.
Мотина сердито взглянула на нас и приказала:
— Приступайте к уборке.
В кабинете было чисто, и что они возятся в нем так долго?
— Окна, окна мойте, — командует Мотина.
Меня заинтересовали витринки, где под стеклом, как в музее, хранились поделки заключенных. Здесь — Распятия, Кресты, инкрустированные перламутром, кинжалы и ножи с восточными узорами, здесь и трон был черный, блестящий, весь резной, как будто резьба шла по черному дорогому дереву. Трон тоже инкрустирован цветным перламутром.
— Наташа, ты посмотри, какая красота!
Она подошла и стала рассматривать витринки.
— Из чего же они умудряются творить такую красоту? — поинтересовалась я.
— Целлофановые мешки жгут и из полученной черной массы делают вот такие вещи, — пояснила Наташа.
— А перламутр у них откуда?
— Это пуговицы разбитые.
Очень много было шариковых ручек и марочек. Марочки — это рисунки на платочках с библейскими сюжетами, с картинками о любви и пышной красоты цветами.
Иные рисунки — чудо!
А шариковые ручки тоже узорчатые, и их украшают цветные помпончики или кисточки, на некоторых авторучках надписи с пожеланиями свободы и счастья.
Наташа снова поясняет:
— Мужики носки свои распускают и делают узоры на ручках… ну, как ковры ткут… понятно?
Я была рада тому, что Наташа отвлеклась от событий в карцере, и смешливо говорю:
— Надо предложить Подрезу, чтобы в камерах начали ткать ковры! Я сейчас ему записку оставлю с моим предложением, — и направилась к его письменному столу, якобы и вправду собираюсь написать ему послание.
Две противные физиономии замерли.
А Мотина рассвирепела:
— Ты что? Ты что хочешь, чтобы нас убрали с «рабочки» и отправили на этап?
Я уперла кулачки в стол, как это делают докладчики, и серьезно, чуть сдвинув брови, сказала:
— Я уверена, что мое предложение ткать в камерах живописные ковры, Подрезу очень понравится. Дело только останется за доставкой материала, то есть ниток и прочих необходимостей.
Я хотела сесть за стол, как Мотина завопила:
— Нельзя! Нельзя садиться за его стол!
Наташа хохотала, она, конечно, поняла, что я дурачилась, а я была рада тому, что Наташа смеется.
Мотина повернулась к ней и грубо сказала:
— Твой смех глуп, как и твоя выходка с карцером.
— А ты доложи начальнице, — спокойно сказала Наташа.
— У нее обязанности такие. Она отвечает за нас, — вступила в разговор одна из противных физиономий, та, что со мной должна была в карцере работать.
— Молчи, курица. Тебе что, очень хотелось в карцере работать?
Курица хотела что-то сказать, но потом передумала, сделала обиженную гримаску на препротивном лице и стала усердно тереть и без того безукоризненно чистый подоконник.
Наташа подошла к столу, взяла лист, карандаш и стала что-то писать.
Мотина орала, Курица ее просила:
— Не кричи, а то менты услышат.
Наташа поставила точку и бросила листок прямо в лицо Мотиной:
— На! Подавись, сука!
Это было заявление с просьбой отправить ее на этап.
Просьбу Наташи, конечно, удовлетворили.
Прощаясь со мной, она сказала:
— Ты долго не продержишься на «рабочке»: уж очень подлые рожи здесь. Ты не стерпишь. Я боюсь за тебя.
— Не бойся, Наташа. Я постараюсь стерпеть. Мне необходимо быть на свидании с моими родными. Я хочу успокоить их.
— И все-таки напиши «касатку» и скорее уезжай из этого ада, как ты правильно однажды сказала.
Я очень не хотела, чтобы Наташа заговорила о своей любимой, но она сказала:
— Если ты ее увидишь, то скажи, что я очень люблю ее. Скажешь?
— Скажу.
Наташу и нескольких женщин, провинившихся неизвестно в чем и перед кем, увели на этап.
Мне без Наташи погрустнело.
И потянулись дни, похожие друг на друга.
Я начала писать кассационную жалобу в Мосгорсуд. Пишу:
«27 июля 1983 г. Ленинский районный народный суд г. Москвы признал меня виновной по ст. 103 УК РСФСР и назначил мне наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима. Это случилось через пять лет после нашей трагедии со С. Жданько.
С вынесением приговора я не согласна, поэтому обращаюсь за помощью в Мосгорсуд.
Убеждена, что весь состав суда Ленинского района, в том числе и прокурор, уверены, что в нашей ситуации со Жданько С. А. не было умышленного убийства.
Обвинение остается совершенно бездоказательным. Мотивы, а следовательно, и цель предполагаемого умышленного убийства не выявлены.
Только неопровержимые улики служат доказательством преступления.
Моя судьба вручена вам. Я надеюсь, что вы объективно рассмотрите наше дело и поможете мне…»
Написала я кассационную жалобу довольно быстро, исписав две школьные тетради в линейку.
И стала я с надеждой ждать решения Московского городского суда, потому что на поставленные мною вопросы ответа нет, и, значит, меня могут отпустить домой?..
19
Работа моя была каждый день одинаковой. Утром и вечером я мыла полы длинного коридора Бутырской тюрьмы. Сначала было очень тяжело. Швабра огромная и тряпка большущая, еле двигала я ими по широкому и длинному коридору, но потом приспособилась: разделила коридор как бы на две половины, сначала иду со шваброй в одну сторону, а потом возвращаюсь в другую. Дежурные удивлялись моей сметливости. Все было бы ничего… но у меня стали болеть от холодной воды сначала суставы рук, а потом и ног.
Тряпку часто приходилось мыть, чтобы пол был чистым, вот и застудились мои суставы.
Однажды просыпаюсь от боли и не могу пошевелить пальцами, распухли они, и колени тоже распухли. Я два дня терпела, никому ни о чем не говорила, а потом пожаловалась Свете Л. Она посмотрела на мои коленки и руки, и ахнула:
— Боже, у тебя же суставы вылезли! Надо идти к врачу.
Врач мне сказал:
— Дела не очень хорошие, — дал мне проглотить таблетку реоперина и подарил еще штук десять. — Спрячь и никому не показывай.
Лекарства не положено было хранить с собою, их можно было принимать только при враче, но этот доктор, видя мою тяжелую болезнь, был милостив. Несносно было и то, что после ухода Наташи рядом со мной, на шконку, Мотина расположила новенькую, дебелую бабу, которая по ночам страшно храпела, к тому же она любила спать на левом боку, а я сплю на правом, так что ее морда с открытым ртом находилась перед моей.
Почти все не спали из-за ее храпа. Все сердились, ругались, просили, чтобы я заткнула ей хлебало, а я:
— Ц-ц-ц-ц… — цокаю.
— Ты что цокаешь-то?
— Меня научили… когда храпят, то надо цокать… вот так: ц-ц-ц…
Кто-то не выдерживает и громко смеется.
Я:
— Ц-ц-ц!
А соседка моя:
— Хр! Пс-с! Хр! Пс-с!
Кто-то резко встает и чем-то швыряет в нее.
Она вскакивает:
— А? Что?
— Не храпи, говно!
— Что? Кто?
— Ты не храпи.
— Это не я.
Кто-то рассмеялся, кто-то заматерился…
Утром опять мытье бесконечного тюремного коридора. Вверху под стеклом красуется надпись: «На свободу с чистой совестью!»
Как обрести в тюрьме чистую совесть? Скажите мне, пожалуйста, как? Прокуратура врет безбожно, судьи врут тоже, в камерах стукачи специально ссорят заключенных, чтобы напряженка не проходила, чтобы никакого единения не было…
Ложь. Повсюду ложь. Да и только ли здесь, в тюрьме?..
…Всё. Мое прошлое отпускает меня. Время возвращается в свое русло, четко разделившись на «вчера» и «сегодня». На жизнь — и жизнь.
Мои воспоминания прерывает, да и завершает звонок на проверку: сейчас гражданка начальница будет визжать, угрожая нам, что отправит в колонию.
В тот вечер она визжала ужаснее, чем всегда. А утром…
— Малявина, с вещами!
Я поняла — отправляют на этап, в пересыльную тюрьму на Красную Пресню..
Дежурная повела меня в бокс — вонючий-превонючий. Осужденные женщины сидели на своих баулах и курили, у некоторых узлы огромные. Как они их «организовали» в тюрьме, не знаю.
Этап большой. Принесли мокрый черный хлеб и ржавую селедку, это паек на этап. И опять сидим, сидим… Сколько часов прошло — не ведаю. Наконец, команда строиться и выходить.
И поехали мы в тюрьму на Красную Пресню…
Первое впечатление после того, как вышла из «воронка», — здание тюрьмы шевелится, как живое… Конвоир в ответ на мое недоумение поясняет:
— Это «конь».
— «Конь»?
— Придешь в камеру — узнаешь, еще и влюбишься через «коня»-то, — смеется конвоир.
Ничего не поняла, но спрашивать больше не стала.
302-я камера. Многовато народу, лежат даже под нарами. Вижу Ирочку, с которой была в КПЗ. Ее тогда почти сразу перевели в Бутырку, а я осталась. И вот — снова встретились.
— Иди сюда, Валентина, мы подвинемся.
Я поблагодарила ее. Остальные, вошедшие со мной, полезли под нары.
Наверху — оживление.
— Тихонько, не урони, — говорит девчонка у окна.
Выясняется, что «конь» — это кисет на веревке. Его спускают вниз — на мужской этаж. В кисете — записки, письма и прочее, включая бутерброды…
Через какое-то время — сигнал от мужчин: «Поехал!», и коновод тянет веревочку обратно. Теперь очередь женщин получать письма. И так — всю ночь.
Ирочка получает записку и читает ее, улыбаясь.
— Валентина, можно я напишу о тебе? Будет интереснее, не так скучно жить.
— Ладно, пиши.
Она достает неизвестно откуда взявшийся белый хлеб, а я копченую колбасу, сыр, овощи. Замечательный ужин получился. Ирочка пригласила Тамару Кузьмичеву — добрую, хотя и драчливую… У Тамары симпатичное простое лицо. Она работала в таксомоторном парке, там и схлопотала статью за хулиганство. Кого-то сильно побила. Тамара — шумная, крепкая, смешливая.
Пришел «конь», а в нем — письмо мне от некоего Володи. Пишет, что закончил педагогический институт, романогерманский факультет. «Очень хочется знать круг ваших интересов…» Ира прочла послание и сказала:
— Ответь ему, хорошо пишет!
Что же я ему отвечу? Рассказывать о себе — не хочется. Лучше буду спрашивать его… Так началась наша переписка.
Чуть позже Володя вместе с очередным письмом передал мне французское мыло: большое, круглое, голубое. Я часто вдыхала его запах. В камере накурено, а у меня — Володино мыло с обалденным ароматом, напоминающим мои любимые духи «Ма griff»… Послания эти туда и обратно действительно делали наши вечера сносными.
Переписка начиналась в 10 вечера. К этому времени все женщины приводили себя в порядок: снимали бигуди, подкрашивались, переодевались… Словно на свидание собирались!
А еще начинал работать «телефон». Алюминиевой кружкой постучишь по радиатору — в ответ такой же стук. С помощью кружки, прижатой к радиатору, вызываешь, кого нужно. Потом прикладываешь к ней ухо, и начинается разговор. Я очень удивилась, столкнувшись с «телефоном» впервые: слышимость — потрясающая! Говорила с Володей, он сказал, что знает меня по фильмам и счастлив переписываться со мной. Передал привет от всей камеры и обещал прислать свой портрет: среди них есть хороший художник.
Прислать портрет Володя не успел: вызвали на этап… И тут же получаю письмо от другого Володи:
«Арестовали меня в ресторане «Прага» в день моего рождения. Сейчас мне 35 лет. Закончил философский факультет Ленинградского университета. По профессии — социолог. У нас дома — огромная библиотека, которую собирали четыре поколения семьи. Очень люблю живопись! А ты?
Не могу наглядеться на французских импрессионистов, удивляюсь Босху, очарован Гойя. Понял, что единственные непреходящие ценности — театр и книги. Этот мир — мой…»
Я переписываю это письмо в свой дневник, который продолжаю вести, как делала это почти всю жизнь.
«26 сентября 1983 года. Я заболела. Температура 38,2. Тамара Кузьмичева растирала меня чем-то. Чувствую заботу окружающих, но… как тяжело!»
А послания от Володи приходят уже систематически, и это делает болезнь не такой отвратительной. Он переживает, что я плохо себя чувствую. Успокаивает, называя «ребеночком». Говорит:
«Улыбнись! Ну, вот и славненько! А наступит осень — отправимся мы с тобой на море, в мой дом. Вокруг все яркооранжевое от созревающих мандарин. Крепко заваренный кофе, жареная баранина и добрый грузинский коньяк… А главное — море, где по утрам у самого берега играют дельфины. Я научу тебя доставать рапаны и ловить крабов на собственный палец.
Давай выпадем из этой длинной цепи обыденности и устроим праздник из жизни.
После Черного моря поедем к Балтийскому в Таллин. Вечером в Таллине отправимся в «Паллас» и будем смотреть варьете. По-моему, длинное платье из темно-вишневого бархата и нитка жемчуга тебе к лицу. А я буду в темно-синей тройке и ярко-голубом «феоне» с вязаным английским галстуком. Слава Богу, у меня счастливая внешность. И ты — красавица! Как хорошо!
Заказываем бутылку «Camus», черную икру, филе «миньон» и цветную капусту в сухарях. А еще малину со взбитыми сливками и бутылку «Кяну Кука». После варьете мы потанцуем. А в три часа я повезу тебя в знаменитый бар. Там в четверг вечер органной музыки при свечах. И самый знаменитый в Союзе бармен-чемпион — Сережа Севастьянов.
Вяленая дыня, соленый миндаль, вино… А под утро ревень со взбитыми сливками и чашка крепчайшего кофе.
Ранним утром, когда солнце всходит, весь залив усыпан разноцветными парусами яхт. На яхте мы походим сегодня же вечером, на закате. А теперь в отель. Я налью тебе ванну, и ты будешь в ней плескаться. А потом…»
Это письмо читает мне вслух Тамара и все время ойкает: «Ой, Валюша, до чего же красиво! Ты не теряй его».
На другой день Ирочку забирают на этап. Мне непереносимо грустно.
Вскоре и Тамара Кузьмичева ушла. По радио передавали русские мотивы, и Тамара — как пустится в пляс! А с ней вся камера. Многие плачут, привыкли друг к другу.
Дежурная кричит в «кормушку»:
— С ума посходили! Вы что? Ну-ка, прекратите!
— Огонек! (Такое прозвище у этой дежурной из-за ее рыжих волос) Огонек, помолчи! — кричит Тамара. — Дай как следует проститься.
Потом меня перевели в другую камеру, в 305-ю. Скорее всего из-за переписки с Володей: дежурные перехватили «коня», прочитали и разбросали всех в разные стороны.
Я поговорила с Володей по нашему «телефону». Он был печален. Сказал:
— Я найду тебя…
…В камере 305 много молодых и симпатичных женщин, почти все — путаны. Одна из них громко спрашивает меня:
— Валентина, а правда, что твоим мужем долго был Александр Кайдановский?
Ну надо же, все и все знают!
— Да. Шесть лет. Но официально мы мужем и женой не были.
— Это не важно. Понимаешь, я была в Сочи одновременно с ним. Мне он так нравился… Я специально надевала свои лучшие платья. Ведь я хорошенькая, правда?.. А он — никакого внимания. Я и так, и эдак… А он — никакого… Вообще ни на одну женщину не смотрел. Странно…
— Он действительно странный и напрочь лишен кокетства. Просто, если женщина ему нравится, он с ней сразу спит.
— А потом?
— Зависит от обстоятельств. У нас с Сашей была сложная жизнь, но мы любили друг друга. Очень любили.
— Так почему же расстались?!
— Это трудный для меня разговор.
— Просто скажи, кто из вас больше виноват?
— Я.
— Да… Жаль, Валюшка. Вы подходите друг другу… И не сидела бы ты сейчас в тюрьме… — вздохнула она.
Такие вот разговоры у нас были.
Долго я пробыла в этой камере, два месяца с лишним. Почему — не знаю. Зато на свидании успела повидаться и с мамой, и с Танюшкой, и с Сережей.
Много читала. В одной из книг, «Свидание с Калифорнией», нашла напутствие, помнить которое буду всю жизнь:
«Будь победителем или, по меньшей мере, обычно выгляди как победитель и никогда не выгляди побежденным, во всяком случае. Выгляди компетентным, убежденным и сильным».
И еще раз — напутствие Стаса: «Бойся бояться!»
Со мной на нарах соседствует Маргарита Петровна. Она часто рассказывает об оккупации немцами Брянска. Неожиданно как-то рассказывает:
— Лучшее время. Так аккуратно стало! Беседки и клумбы повсюду, вдоль дороги березы посадили. Детям дарили коробки с конфетами. Мы все ждали, когда придет высокий дядя немей и принесет продукты и что-нибудь вкусное. Открыли казино, баню…
Маргарита Петровна рассказывает, а в глазах стоят слезы. В камере очень душно. Кто-то догадывается открыть «кормушку» — дышать становится легче. Так и осталось в памяти: духота, странный рассказ женщины, слезы в ее глазах…
Между тем у меня вновь завязывается переписка: на этот раз моего адресата зовут Андрей. У нас с ним почему-то все время получаются в письмах споры на самые различные темы. Он образован, умен. Быстро ухватывает основную черту моего характера — независимость. Пишет:
«…Мне с тобой очень тяжело вести дискуссии. Знаний у тебя предостаточно. Здорово это! В свое время я очень любил читать, а здесь, в тюрьме, не могу. Тупею от обстановки и книги неинтересные, изодранные все… Вот в Бутырке библиотека — это да!
Пишу тебе, и получается настоящий роман, и как-то не хочется другой литературы. Если бы была возможность сохранить эти записки, можно было бы написать замечательную книгу. У меня, к сожалению, нет такого дара. А ведь сколько доброты проявляется у людей в этих письмах — диву даешься!
На воле люди разучились говорить друг другу прекрасные слова, письма писать разучились вообще. Там — другие заботы, там сильный съедает слабого.
Здесь начинаешь переосмысливать жизнь и понимаешь, что учиться жить надо заново. Кажется, у Ахматовой есть такая строчка — «надо снова научиться жить»?
Знал ли я раньше, что подобное возможно? Нет, не знал. Точно так же предположить не мог, что именно здесь встречу прекрасную женщину. Но ведь встретил же! Это ничего, что ты старше меня. Я видел твои фильмы. Я влюблен в тебя. Правда! Я мечтаю видеть тебя — всегда! Мы выйдем из неволи и уйдем от суеты, мы забудем горе и муки, унижения и слезы. Около моря будет наш дом…
…Перестал писать: размечтался.
Ответь мне. Побыстрее, пожалуйста.
Я люблю тебя».
Несколько писем я сохранила. Сама удивляюсь, как это мне удалось. Но мне очень хотелось, чтобы люди знали, чем живет человек там, в тюрьме. Любовью. Там царит Любовь!
Внезапно приходит еще одно письмо — от сокамерника Андрея Сережи. Сергей пишет не о себе — о нем.
Его забота о друге, о том, чтобы я поняла, какой Андрей чудесный человек, — трогательна до слез.
«…Я познакомился с Андреем по дороге на «Пресню». Он выделялся среди нас оригинальной, экстравагантной одеждой: джинсы, пестрящие множеством кожаных заплаток, байковая рубашка своеобразного фасона, белые ботинки-сапоги плюс… телогрейка и шапка зековского пошива.
Он был очень общителен, мы сразу сошлись. Нашлись общие интересы. Судьба подарила мне счастливую случайность, сведя с этим человеком. Его мысли — мудры, выражения — меткие, формулировки — точные. Душа — смелая и светлая. Недавно он схлестнулся в неравной схватке с вертухаями. Был «концерт», но волю этого человека не сломить.
Меня поражает его философский настрой. В спорах он не вспылит никогда, наоборот, уравновешен, рассудителен, предельно логичен. У него масса ошеломляющих идей, доказывающих смелость его ума.
И вдруг, с некоторых пор, во всем его поведении стала заметна некоторая рассеянность. Думаю — с тех пор, как он впервые написал тебе… Вначале он на это долго не решался. Когда Андрей пишет тебе или читает твои письма, он краснеет, нервно барабанит пальцами по столу или теребит шевелюру. И отключается от всего мира.
Хотелось бы знать, как сложится его судьба! Пожалуйста, будь к нему внимательна, не оставляй переписку! Ты для него — жизнь. Сергей».
Я переписывалась с Андрюшей, пока его не увели на этап. Боже мой, как же он кричал на всю тюрьму: «Валентина, я люблю тебя! Не забывай меня!..»
Без него мне сделалось грустно и пусто…
19 октября 1983 года состоялся еще один суд — Московский городской. Естественно, без меня. Но поскольку надежды никакой на праведность судей уже не было, то не было и разочарования. В дневнике в этот день записала:
«Ради чего я здесь, на Земле? Ради того, чтобы все мои испытания, лишения, страдания и счастье мое — обрели когда-нибудь форму. Я буду писать. И я еще напишу свою Книгу…»
Незаметно подкрался «как бы праздник» — 7 ноября. Было в тот день очень красивое небо: облака… Белые, бегут стремительно, открывая солнце.
В камере очень душно, а во дворе — хорошо.
Вечером Зина, похожая внешне на мексиканку, читала свои стихи. Хорошие, часто лучше, чем у известных профессиональных поэтов. Стихи о счастье, о любви, о старости, о смерти.
И вдруг — салют! С каждым залпом вся тюрьма кричит «Ура!..». Через решетки небо — то красное, то зеленое, то фиолетовое, и поэтому все страшно радуются. Нет, никто здесь не падает духом — нельзя!
Таня — та самая, что была когда-то на «рабочке» и передала мне дату моего первого судебного заседания, сейчас тоже здесь, рядом. Сидит на нарах и сосредоточенно разрывает свою красивую ярко-зеленую ночную рубашку на полосочки.
— Таня, зачем?!
— На ленты! Сегодня же праздник!.. Мы сейчас заплетем косички, а кто-то просто банты сделает, и будем красивые-красивые, и будем в этих бантах с мальчиками переписываться!
Так и сделали. Даже седой и пожилой Галине заплели косицы — тоненькие-претоненькие… Зато банты огромные.
Мне пишет молодой художник Миша Калинин. Это — еще одно письмо, которое удалось сохранить. И вновь главная здесь тема — любовь:
«Ты веришь в любовь? В ту, которая действительно должна быть? Я за 21 год не видел ее ни в своей жизни, ни в жизни кого бы то ни было.
Я люблю масляную краску, торт «Наполеон», собак и ливень с грозой.
Мое имя — с подвохом: Михаил Иванович Калинин…
Единственный дорогой и любимый мною человек — мама. Она — из детдомовских, трудная у нее была жизнь. Она, моя мама, замечательный человек.
Моего отца в 1947 году приговорили за мародерство к расстрелу. Потом заменили на 25 лет лишения свободы. Потом — «золотая амнистия». Он отсидел 12 лет. Мне трудно называть его отцом. Он на моих глазах издевался над мамой, бил ее. Она почему-то всегда боялась развода. Я вернулся из армии, а она вся седая.
Первого же после этого зверства отца я не выдержал. Ударил его ножом — тем самым, который столько раз выбивал из его рук. Ударил и сказал: «Отмучались мы с тобою, мама!». Пошел в милицию и заявил на себя сам, думая, что убил его.
А через месяц врачи вытащили отца с того света….
На суде вел он себя, как ангел. Прокурор же сказала ему: «По вашей вине сын на скамье подсудимых».
Я и сейчас думаю, что таким, как он, не место на земле.
Недавно у меня было свидание с мамой. Она наконец-то развелась с ним. Просила меня вернуться прежним. Я вернусь.
Я хотел стать художником-реставратором. Долго что-то тянется не позволившая сделать это полоса невезения, но она меня не сломит. Хочу учиться! И я получу образование, во что бы то ни стало. Я не думаю о славе, я просто хочу работать, а картины мои буду отдавать людям. Они их возьмут, я знаю. Пока жив — надеюсь…»
Миша писал мне очень много. Он сделал для меня массу изумительных карандашных рисунков по Грину, которого тоже любил. Во время пересылки на этап отняли все, лишь каким-то чудом остался, уцелел его маленький автопортрет…
Лица и судьбы, судьбы и лица — вот то главное, что осталось в памяти от «Пресни». И конечно же — Любовь…
20
…Любовь к мужчине стала причиной трагедии всей моей жизни. Но она же помогла мне эту трагедию вынести. Не погибнуть, скатившись в бездонную пропасть подлинной беды, а возродиться. Чтобы вновь ощущать радость бытия, не влачить существование, а полноценно чувствовать, ощущая при этом глубокую благодарность к тем, кому довелось быть со мной рядом, поддерживать меня своей любовью и преданностью в самых ужасных ситуациях и обстоятельствах.
Мой рассказ о них — мужчинах моей жизни — это не более, но и не менее, чем дань СПРАВЕДЛИВОСТИ. А то, что произошло между мной и Стасом, — это только наше. У нас нет судьи, кроме Бога, перед которым мы будем отвечать.
Ушел Стас. Вслед за ним ушел мой папа. Его смерть свалилась неожиданно, как обычно и бывает, когда приходит настоящее горе. Сумела ли бы я выстоять тогда, если бы не Женечка, «профессор Фрион», как я его звала? Почти пять лет до суда именно он — добрый, хороший и очень красивый — находился рядом. Мы оба и ведать не ведали, что впереди у нас вместо «светлого будущего» — «казенный дом»…
В то время мы надеялись на лучшее. Женечка имел хорошую профессию. Он занимался холодильными установками и сердцем холодильников — фрионом. Жене все хотелось уехать на Байкал.
— Валюшоночек, ты там театр сотворишь, и вся Россия приедет к тебе смотреть твой театр, и прежде всего — тебя!
— Заманчиво, Женечка! Очень заманчиво! Но у нас нет первоначального капитала. Не потянем, Женечка.
— А я по дороге буду зарабатывать. Я смогу. Поехали!
Никуда мы не поехали. Я играла старые спектакли и начала репетировать главную роль в новом. Женя смотрел и спектакли, и репетиции, когда был свободен от работы. Он работал на овощной базе. Его кабинет был рядом с холодильными установками. Он работал сутки, двое — отдыхал. Женечка очень заботливый. Всегда после работы приносил овощи и фрукты. Я готовила винегреты и вкусные салаты, овощные супы со сметаной, делала шампиньоны с овощами — вкусно все! И только покупали кофе, чай, масло, яйца, хлеб, дичь — мясо я не ем. Уютно было с Женей. Конфликты, конечно, были, и тем не менее воспоминания об этих пяти годах — славные.
Женя через мои воспоминания полюбил Стаса, и мне было это очень дорого. Однажды на репетиции у меня очень заболел правый бок. Приступ был такой сильный, что температура поднялась, и мы с Женей поехали в Покровское-Стрешнево к моей маме. Вызвали врача, и меня увезли в больницу. Врачи поставили диагноз — камешки в желчном пузыре. Полагается операция. Меня стали к ней готовить. Уже сделали укол, типа промидола или морфия, уже каталка приехала за мной — везти в операционную… я как соскочу с постели, молниеносно переоделась и мигом — вниз — на улицу, домой. Кушунин, мой чудесный доктор, говорит мне вслед: «Зря убегаете. Все равно вернетесь».
Так и случилось. Я снова в палате под капельницей. Входит доктор Кушунин и говорит:
— Ну? Как себя чувствуете?
— Сейчас получше. Было совсем плохо.
— На этот раз перед операцией не убежите?
— Постараюсь.
— Ну, вот и хорошо.
Снова стали готовить к операции. Женя приходил каждый день, принес красивый чайник, довольно большой, фарфоровый, и поил чаем с лимоном всю палату. Когда Женя приходит — больные улыбаются.
Женя 55-го года рождения, много моложе меня, но наши отношения не зависели от разницы в возрасте. Я была нужна ему, он — мне.
И вот повезли меня на операцию. В коридоре встретился доктор Кушунин. Он спросил:
— Зачем вы так рано едете в операционную?
— Не знаю. За мной приехали.
Санитарка, которая везла меня, сказала:
— Так распорядились.
Приехали в операционную. Положили на стол. Входит доктор, но не Слава Кушунин, а другой. Подходит ко мне, привязывает руки, ноги и голову мне задирает. Зачем он голову-то задирает? Непонятно. Спрашиваю:
— Что это вы мне голову задираете?
— Операцию буду делать.
— А где доктор Кушунин?
— Вы что, его больная?
— Да. Его.
— Почему же вы на этом столе?
— Не знаю, положили.
Он позвонил. Пришли санитары.
— Немедленно положите ее на другой стол, к Кушунину. Я ей чуть горло не перерезал.
Оказывается, доктор удалял щитовидные железы.
Вот это да!
Пришел Кушунин. Ему рассказали об этом ужасе, он покачал головой, потом улыбнулся и сказал:
— Под Богом ходит.
Привязал меня. Усыпили. Но я все равно слышала, о чем говорит доктор со своим окружением. Сквозь туман и болезненность я поняла, что влюбилась в доктора Кушунина. Когда операция была закончена, я открыла глаза и четко сказала Кушунину:
— Спасибо. И еще… Я люблю вас.
Кушунин как-то странно смотрел на меня, потом сказал:
— Впервые у меня после операции так быстро приходят в сознание, произносят слова, да еще эмоциональные.
Никого, кроме доктора и меня, в операционной не было.
Кушунин улыбается и говорит:
— Это бывает… любовь… она от благодарности. У вас — замечательный друг Женя, у меня — чудесная жена…
— Доктор, я не предлагаю быть рядом с вами. Я просто влюбилась в вас, вот и все. Мне необходимо, чтобы вы знали об этом. Так мне лучше будет. Легче.
Он погладил мои волосы и сказал:
— Я совсем немножко разрезал вас. По прямой. Не стал делать дугу. Маленький шов будет, почти не видно…
Женечка заметил, что меня интересует доктор Кушунин. Однажды сказал:
— Я не пью без тебя. Ни грамма. Можно я тихонечко выпью коньячку, вроде бы чай пью. И тебе немножко налью.
— Хорошо.
Он выпил, захмелел, и слезы навернулись у этого красивого, сильного, высоченного — у Жени рост — 1 м 89,5 см, роскошные, длинные волосы, — молодой мужчина и — слезы на глазах…
— Ты влюбилась в Кушунина?
— Естественно.
Он побледнел и ушел. Потом вернулся. Женя в коридоре встретил доктора Кушунина и сказал доктору:
— У вас такая красивая жена. Почему вы даете повод для влюбленности в вас моей Валюшке?
Доктор только пожал плечами. Он никогда никакого повода мне не давал, напротив, держался на дистанции, впрочем, большое внимание мне оказывал как доктор.
Я обиделась на Женю, но он был так трогателен со своими влажными глазами, что я поцеловала его.
— Валюшоночка моя! Я тебя очень люблю! И очень ревную. Прости.
…Как-то, это было уже в декабре, двадцать первого числа, произошло наконец-то неизбежное, прозвучал и для меня в последний раз в тюремных стенах голос дежурной, возвестивший:
— Малявина! С вещами!
«Что будет, то будет, а будет то, что Бог даст», — вспомнилось мне.
И повели в так называемый «отстойник». Это камера, где находятся осужденные, идущие по этапу в другую тюрьму, на зону и т. д. Какое противное слово — отстойник.
Многолюдно в этой камере. Сыро и дым коромыслом. Принесли хлеб. И селедку вонючую, ржавую. Это обязательный этапный паек.
Женщины оживлены. Громко делятся впечатлениями. Ругаются. Хохочут. Плачут. И курят, курят почти все. Какое счастье, что я не курю. У иных тяжелые баулы. Каким образом такие в тюрьме получаются? Непонятно. И для чего такие солидные баулы? Неизвестно.
До ночи мы сидели в сырости и духоте. Наконец вызвали на этап. Распихали по машинам и поехали мы кто куда. Наш «воронок» остановился у Белорусского вокзала. Ура, значит Можайская зона.
Мне показалось, что мы ехали очень долго. Когда приехали, нас ввели в небольшую комнатку, где дежурные — ДПНК — вместе с двумя осужденными стали принимать наш этап. Шмонать стали. Только не забрали бы они мои записи. Досматривали очень внимательно. Тетрадки с записями, воспоминаниями пропустили, потому что на обложках этих тетрадей «ложный» заголовок — «Ленин», а еще «Альберт Эйнштейн», «Пушкин», кассационная жалоба в московский городской суд, но карандашные рисунки Миши Калинина отобрали. Особенно мне были дороги иллюстрации к произведениям Грина…
На следующий день познакомилась я со своей гражданкой-начальницей — Маргаритой Ивановной, совсем молоденькой.
Она сказала, что сегодня во вторую смену я должна идти на фабрику.
Было темно. Погода злющая, холодно очень и ветрено. Долго стоим на плану. И вдруг — отчаянный крик:
— Дедушка Ленин, услышь меня! Плохо нам.
Так искренне кричала девчонка, что всех развеселила.
Пришли на фабрику. Все пошли на свои места. Меня поставили разматывать ткань. Разматываешь огромный куль, потом делаешь заготовки для простыней и пододеяльников. Но надо из кладовой дотащить этот тяжелый куль и всю смену стоять. Следующим днем — то же самое. Ноги еще больше болят и опухают. Я сняла ботинки и в носках продолжала работать. Много народу любопытствует по поводу меня. Стоят и смотрят — смотрят и стоят. Я не обращаю никакого внимания на них.
Неожиданно я почувствовала, что так было всегда: этот белый куль и я, а все остальное мне снилось: и театр, и кино, и Венеция, и весь мир. Только длиннющая река из белого материала и я.
А на проверке я обнаружила себя частью массы, с которой можно делать все, что хочешь. Одеты все одинаково, от этого создается впечатление, что вся эта масса — единое, зависимое существо, в которое можно, если угодно, стрелять, можно куда-то гнать, можно приказать, и оно будет повиноваться.
Знаю, что в библиотеке освобождается место библиотекаря. Не знаю, как и у кого просить об этой работе.
И вот — Бог вновь не оставил меня! Словно все сложилось само собой.
В библиотеку долго никого не брали, назначение зависело от весьма суровой дамы — майора. Я решила рискнуть: «Пойду сама к злющему майору Марии Михайловне». Стремительно вошла в кабинет. Майор сидела за столом и грустно смотрела в окно. Я извинилась и обратилась к ней со своей просьбой. Она внимательно слушала меня. Вдруг вбегает начальница из «заключенных» Лида и начинает хлопотать, что-то перекладывать с места на место, что-то уносить, что-то приносить. Чувствую, что эти зависимые хлопоты раздражают Марию Михайловну.
Она как заорет:
— Что вы, Михайлова, тут крутитесь?
Лида глупо улыбается.
— Гражданка начальница, я хочу, как лучше. А с Валей Малявиной я уже говорила и сказала ваше мнение, что Вале полезнее поработать на фабрике.
Совсем раздраженно гражданка начальница заорала:
— Малявина будет работать здесь, в библиотеке.
Лида обомлела. Покраснела и тихо удалилась.
— Завтра же после проверки приходите работать в библиотеку. Ключи возьмете у Михайловой. Утром разложите по отрядам газеты и журналы, корреспонденция большая, повесите на аллее свежую газету, там есть специальный стенд, вымоете полы в зале, уберете снег около библиотеки и приступите к основному: выдавать книги. Библиотека большая, книги хорошие. Ознакомьтесь с ними. Все. Можете идти.
— Спасибо вам огромное. До свидания.
И началась совсем другая жизнь.
Каждый день я убирала снег вокруг библиотеки, вывешивала на аллее свежую газету, обычно «Труд», и мыла полы в большом читальном зале, включала проигрыватель, слушала музыку и мыла полы. Потом выдавала книги. Все эти занятия мне были симпатичны.
Пришел Новый год. Девчонки нашего отряда очень красиво оформили культкомнату. Елку нарядили, по стенам развесили игрушки, серпантин вместе с елочными ветками, на которых красовались маленькие шишечки. Пластинки в отряде замечательные. Девочки нарядились в красивые платьица, которые шили специально для Нового года, из разноцветных перламутровых пуговиц сделали браслеты, кольца, серьги и даже роскошные пояса, накрасились, причесались с выдумкой и танцевали в культкомнате.
А в секции на каждой тумбочке — торт, приготовленный из печенья, сливочного масла и джема — вкусно! Крепкий-прекрепкий чай готовили потихоньку. Я тоже привела себя в порядок и пошла в культкомнату. Девчонки танцевали с девчонками. Одни из них выполняла роль мальчика. Они не были в вечерних платьях. У них подол сарафана высоко подвернут, темные колготки поддерживались яркими и широкими резинками или подтяжками, на голове — белая косыночка, завязанная так, что кажется пилоткой.
Все в хорошем настроении, все внимательны друг к другу, каждый приглашает отведать свой торт.
Вечером — концерт. Сколько же здесь талантливых, красивых преступниц! Иные очень хорошо поют, иные танцуют, иные читают стихи, непременно свои. Концерт большой, около двух часов. После концерта — снова танцы. Каждый отряд сам по себе. Не поощрялось ходить в гости друг к другу из одного отряда в другой. Мне нравится, что везде очень чисто, начиная с белых простыней и кончая туалетом. На душе покой. На свободе никто не догадывается, что за колючей проволокой и заборами есть покой и умиротворение. Именно умиротворение. Суеты нет. Нет суеты. Хорошо.
Вспомнила нашу с Павликом Арсеновым квартиру, себя в длинной батистовой рубашке, на голубых в цветочек простынях. Босые ноги чувствуют толстый, пушистый шерстяной ковер, пью бутылку холодного белого хорошего вина из тяжелого хрустального бокала, слушаю Баха и гляжу на дождь. Дождь летний, теплый, сильный. Дверь в лоджию открыта, умытые деревья и сирень как бы вошли в комнату. Очень красиво — крупная сирень на влажном темно-зеленом.
Все говорит: и дождь, и сирень, и листья взрослых деревьев.
Но отчего тяжесть на душе? Отчего мне мрачно было? От предчувствий? То неизбежное, что ожидало меня впереди, так мучило меня в тот летний дождливый день. Моя душа была как бы «в заключении». А теперь, когда свершилось неизбежное, на душе у меня покой.
Отчего на этой узенькой постельке, на этих деревянных досках под байковым одеяльцем и вечно скручивавшейся простыней душа моя свободна? Я ведь в тюрьме. Каждое утро я выхожу на проверку, выкрикивают мою фамилию, я свое имя-отчество, ем из старых алюминиевых мисок, за мной наблюдают все сразу: и те, кто обязан, и просто все остальные. Я за проволокой, за забором. Я среди арестованных березок, среди преступниц, тем не менее — душа моя свободна.
…Наступила первая весна на зоне. К нам сюда каждый день приходят работать заключенные-мужчины: их зона, очень маленькая, рядом с нами.
И вот однажды за обедом вижу за столом, где их кормили, молодого парня с удивительно синими глазами и длиннющими черными ресницами. Сам брюнет, а глаза синющие… С ума сойти! Вижу — и он на меня смотрит, улыбается. Спрашиваю у поварихи Тани:
— Кто этот мальчик?
— Володя Кукушкин. Он недавно приехал.;. У нас с ним любовь! Так что извини, Валюта…
А вскоре меня перевели работать из библиотеки в баню. Это даже лучше. Потому что у меня теперь очень чистенький кабинетик с белоснежным бельем и новыми матрасами, на которых я отдыхаю, когда устаю.
Ну, так вот… Солнечным весенним днем я пошла к Танюшке в столовую выпить молока. Конечно, идет обмен. Скажем, я ей — сыр, она мне кружку свежего молока. Иду в столовую через двор и вижу — сидят под солнышком Таня и Володя Кукушкин. Володина рука находится на загорелом Танюшкином колене. Таня успела красиво загореть. У Тани — зеленые глаза, у Володи — синие. Они были очень красивы рядом.
Но мне очень нравится Володя. Он тоже внимательно и значительно смотрит на меня. Что делать-то, а?
И вдруг снится мне сон: Стас, одетый как осужденный, идет мимо библиотеки. Я смотрю в окно, Стас поворачивает за библиотеку. Рядом со мной — Юля Петрова. Спрашиваю во сне Юлю:
— Куда это Стас направился?
— Как куда? К Володе Кукушкину в вагончик.
— Зачем?
— Значит, надо.
Я вышла из библиотеки и пошла в сторону вагончика, где нашла Стаса и Володю. Проснулась и больше не могла заснуть. За обедом в столовой мы с Водолей все больше и больше смотрели долгим взглядом друг на друга. Что-то будет…
Как-то пришел Володя в баню чинить стиральную машину. Дверь моей комнаты была открыта. Он позвал меня:
— Валюшка, у тебя ножницы есть?
— Да.
Он вошел в мой кабинетик.
— Как красиво у тебя!
Действительно, было очень уютно и букет шиповника красовался на столе. Вот только портрет Дюпонта был весь мокрый от большой влаги. Володя посмотрел на Дюпонта и серьезно спросил: «Заболел?» — «Нет, не очень, просто ему так захотелось». Рассмеялись. Володя подошел ко мне близко-близко, и я поцеловала его прекрасные синие глаза с огромными, черными, пушистыми ресницами. Он в свою очередь поцеловал меня и сказал: «Я влюбился в тебя». — «А я в тебя», — ответила я. «Вот и хорошо!» — сказал он. «Да! Очень хорошо! — согласилась я. — Володя, надо только, чтобы никто не знал. Так будет легче. Лучше». — «Да. Мы постараемся, чтобы никто не знал».
Но тут дверь хлопнула и вошел гражданин начальник в лице прапорщика.
— Кукушкин, что вы делаете в кабинете Малявиной?
— Прошу ножницы. Они мне нужны для работы с машиной.
— А где остальные женщины? — поинтересовался гражданин начальник.
— В ларек пошли.
— А-а, — протянул прапор. — Заканчивайте поскорее, Кукушкин, мне некогда.
— А вы идите по своим делам, гражданин начальник. Почему вы боитесь оставить нас?
— Не положено.
— Что не положено? Ему заниматься своим делом, а мне своим? Или вы боитесь, что у нас найдутся общие дела?
Володя улыбается. Прапор злится.
— Хватит, Малявина, издеваться.
— Да что вы, гражданин начальник, я к вам с большим уважением отношусь, несмотря на то что вы у меня тушь отшмонали и сухие духи.
— Малявина, у вас кофе надо отнимать. Пахнет.
— Да ну, гражданин начальник. У вас вкусовые глюки.
— Перестаньте дерзить.
— Я не держу… Господи! Что значит — не держу, а как сказать от слова «дерзить» — наверное, не дерзю.
— Сейчас же прекратите! Кукушкин, на выход.
— Но я еще не исправил машину.
— На выход!
Володя пожал плечами. Успел послать мне поцелуй, и они ушли.
Каждый день Володя выдумывал причину и приходил в баню. Он нравился нашим женщинам, которые работали прачками.
Мне нравится, что к Володе хорошо относится и начальство, и осужденные. Он умный, Володя, и красивый. Вернее сказать — с уважением относятся к Володе.
В дневниках, чтобы не писать Володину фамилию, я обозначала его так — В. О!!! В. и солнце с восклицательными знаками. Очень он мне нравится. По-моему, я влюблена в него. Володя говорит: «Самое главное — ты, Валентина, всегда! Хочу навсегда!» Как хорошо! Господи! Спасибо тебе!
Как-то Володя приходит и говорит: «Я уезжаю на волю!» — «Ах!» — «До обеда, Валюшка, до обеда». И показывает мне связку отмычек — что-то отмыкать будет, потому что никому не доступны эти двери от сейфа. Как в кино!
Кто-то в дверь мне сунул записку, спрашиваю Володю — не он ли? «Нет, — говорит, — зачем мне тебе записки писать. Я видеть тебя хочу и вижу, слава Богу».
Записка такого прекрасного содержания: «Безоглядная и беззащитная в любви, торжествующая, даже победоносная в поражениях, она подобна восстающей из пепла птице Феникс или морской волне, что разбивается о камни и неизменно возрождается, — бессмертна в этом нескончаемом стремлении от страдания к радости, и вновь к страданию, и снова — к радости!»
Очень интересное послание. Думаю, оно посвящено великой женщине, по крайней мере очень талантливой, и приятно, что кто-то решил эти строки, эту мысль подарить мне.
Буду готовиться к моему литературному уроку и ждать Володю. Заварила крепчайший чай, отрезала кусочек сыра, положила его на пресное печенье. Как хорошо! Скоро свидание с моими любимыми Мурзиками. Дай-то Бог свидеться!
Из дневника
«Очень давно Елизавета Григорьевна Волконская рекомендовала меня самому строгому педагогу Школы-студии при МХАТе Кареву Александру Михайловичу. Карев назначил мне день, чтобы я пришла почитать стихи, прозу и проконсультироваться — стоит ли мне поступать в театральный институт.
Была зима. Я подошла к Художественному театру, сердце мое от испуга и восторга выделывало кульбиты. Поднимаюсь по ступенькам в школу-студию, в коридоре меня встречает парень с красной повязкой на рукаве. Спрашиваю его:
— Как мне повидать Карева?
— Он на занятиях, — отвечает парень. — Подожди.
Сели рядышком. Молчим. Он посматривает на меня, а я вся раскраснелась от волнения перед встречей со знаменитым педагогом. Парень говорит:
— Не волнуйся. Артисткой хочешь быть?
— Да.
— Дело трудное. Артист не имеет права трусить. Успокойся.
Опять молчим. Волнение от молчания совсем захлестывает, и я спрашиваю парня:
— А ты дежурный?
— Дежурный.
— Постоянный? — нелепо продолжаю спрашивать.
Парень расхохотался.
— Может быть, и постоянный. Хочешь, я буду дежурным по твоей жизни? Постоянным.
— Как это?
— А так! Мало ли чего? А я тут как тут.
Я спросила:
— А как тебя зовут?
— Володя. Володя Высоцкий.
— Хорошая фамилия, — говорю.
Он спросил в свою очередь:
— А тебя как зовут?
— Валя Малявина.
— Тоже хорошо, — сказал Володя. — Малявина Валя. Нет, лучше, как ты сказала: Валя Малявина. Мягче.
Володя пошел к Кареву сказать, что я пришла. Вскоре он вернулся и шепнул:
— Ну, с Богом!
Я стала читать о Катюше Масловой. Читала ужасно. Горло пересохло. Кое-как добралась до конца отрывка. И тем не менее Карев сказал:
— Весною приходи. И, пожалуйста, так не волнуйся. Все совсем неплохо.
Вышла в коридор к Володе.
— Струсила, — говорю.
А Володя:
— Ну-ну, ну-ну, — коротко так. — Ну-ну, — и только.
— Все равно я буду актрисой и буду учиться здесь.
— Вот и молодец! И не забывай — я твой дежурный. У тебя есть собственный дежурный.
Проводил меня вниз и все напевал: «Я дежурный по апрелю…»
Весною стала поступать, и меня приняли в два института: в Шукинское и в Школу-студию МХАТ. Пошла во МХАТ, у меня там был свой дежурный.
Мы с Володей всегда были рады друг другу. Видела его разным, но во всех своих проявлениях Володя оставался и остается для меня родным человеком. Особенно ярко открылся он мне в своей любви к Марине Влади.
После премьеры фильма «Король-олень» Вадим Коростылев, Паша Арсенов и я беседуем в ресторане ВТО за изысканным ужином. Очень трудной, что называется, нетвердой походкой идет к нам Володя Высоцкий. Павел хотел поставить стул для Володи, но он сказал:
— Извини, Паша, — и присел ко мне на стул: я — на одной половинке, он — на другой.
Павел заказывает ему ужин, он отказывается и ест вместе со мною из моей тарелки. Еще раз извинился и попросил разрешения побеседовать со мной.
— Я люблю Марину до сумасшествия. Она уехала в Париж. Что мне делать?
— Жди.
Вот еще в чем дело: Володя знал, что мы с Мариной работали в Румынии в одно и то же время: я — в фильме «Туннель», Марина Влади — в фильме «Безымянная звезда». Ее партнером был известный и очень красивый румынский актер Кристи Авраам. Кристи тоже был до сумасшествия влюблен в Марину и после окончания съемок уехал с ней в Париж, бросив на произвол судьбы все свои знаменитые роли в Национальном театре. Володе очень хотелось услышать от меня об этом романе, но я не стала говорить на эту тему. Рядом с нашим столиком ужинал Боря Хмельницкий. Он все поглядывал на Володю, беспокоясь за него. Неожиданно Володя меня предупредил:
— Ты не бойся. Я выйду в окно. Тихо-тихо… Не хочу возвращаться через зал.
И вышел. Я не помешала. Окно узенькое, в одну раму. На первом этаже располагался наш удивительный ресторан. Боря Хмельницкий нырнул за Володей…
В Театре Вахтангова была премьера «Неоконченного диалога» — о чилийских событиях. Альенде играл Юрий Васильевич Яковлев, а роль его дочери Тати исполняли Катюша Райкина и я. Художником спектакля был Борис Мессерер.
Беллочка Ахмадулина смотрела спектакль. Потом был банкет. Я не могла скрыть своего удрученного состояния от того, что происходило на сцене. Беллочка меня не успокаивала, а просто сказала:
— Вам надо отвлечься. Сегодня юбилей Жени Евтушенко. Он теперь у Володи Высоцкого. Поехали к Володе.
И мы поехали на Малую Грузинскую.
Лифтер в доме Володи мерзким голосом спрашивает:
— Вы к кому? К этому? К Высоцкому?
Отвратительное лицо у лифтера. И почему он работает в этом замечательном доме? Стукач, наверное.
Володя открыл дверь. Обрадовался нам. Расцеловались.
— Наконец-то знакомые лица!
Народу — уйма!
— Боже, Володя, сколько гостей у тебя! — удивилась я.
— Все дороги ведут в Рим! — рассмеялся Володя и попросил: — Сядьте, пожалуйста! Ничего не вижу за вашими спинами.
А видеть он хотел Женю Евтушенко, который читал свою новую работу. Мы уселись. Я, по счастью, оказалась рядом с Володей. Мне было уютно на низком пуфике. Володя сидел на полу. Мы внимательно дослушали Женю и долго аплодировали ему. Огромная луна тоже слушала Женю. Она прямо-таки ввалилась в комнату и не оставляла Нас целый вечер. Я рассматривала дивные портреты Марины Влади, обернулась и увидела фотографию Валеры Золотухина. Володя сказал:
— Я люблю его, Валеру. И еще Ваню Бортника.
Женя Евтушенко попросил Володю спеть:
— Володя, прошу тебя! Что-нибудь из своей классики.
И Володя запел «Кони». Он пел стоя и глядел в окно на сумасшедшую луну. Меня трясло. Я не могу рассказать о своем впечатлении: нет таких слов. Благодарить было невозможно. Опять же — как? Какими словами? Нет их.
Володя сказал мне:
— Пойду позвоню Марине. Идем со мной.
Мы пришли в другую комнату. Большой письменный стол у окна, напротив — постель, телефон на полу.
Помолчали. Володя говорит мне:
— Только что заступился за тебя. Одна актриса… неважно кто… там, в комнате сказала, что ты пьешь. Я спросил ее, словно не знаю тебя: «А книжки она читает?»
— Да… и много, наверное, — ответила актриса.
— Говорят, что она рисует? — интересуюсь я.
— Да-да, я видела ее работы.
— Она что-то сочиняет-пишет? — продолжаю я.
— Говорят, — отвечает.
— Играет много в театре… и хорошо, — наступаю я.
— Да-да, много… и хорошо, — соглашается она.
И тогда я спросил ее:
— А когда же она пьет?
Мы расхохотались, и Володя стал звонить Марине в Париж. Я повернулась к столу. На столе лежали совсем новые стихи Высоцкого, записанные простым карандашом. Он предложил мне почитать их. Стихи о больном человеке, о срыве, который с ним приключился. Мне думается, они были написаны Володей после гастролей в Болгарии, где он себя плохо почувствовал.
Володя дозвонился Марине. Нежно, очень нежно говорил с ней. Потом спросил:
— Ну, что стихи?
— Страшно.
— Да. Это все страшно. Очень страшно. Лучше расскажи мне о Румынии.
— Что, Володя, рассказать? В Румынии было хорошо! Сару Монтьель любил Ион Дикисяну. Меня — Флорин Пиерсик.
— А Марину?
— Кристи Авраам.
— Действительно, здорово!
Мы вернулись к гостям. Пили красное французское вино. Беседовали. Постепенно гости расходились.
— Не уходи, — попросил меня Володя.
Я ушла под самое утро, чуть ли не последней. Когда прощались, он сказал: «Помни… мало ли что… Я тут как тут… Я твой дежурный».
…А потом наступил день, который вновь перевернул мою судьбу. Но я тогда до конца этого не понимала, хотя обрадовалась безмерно, узнав, что ко мне приехал долгожданный посетитель — адвокат Семен Львович Ария. Один из лучших в России.
Я так хотела, чтобы он был с самого начала моим адвокатом, но он был занят делом Аси Чачич, которая находилась здесь же, в Можайской зоне. Ее обвиняли, что она передавала за границу какие-то замечательные русские картины и прочее. Я читала защиту в пользу Чачич Ария Семена Львовича, это зашита на одном листочке. Он просто доказывает, что аэропорт Шереметьево не является «заграницей», а что это — Россия, поэтому обвинять Чачич невозможно. Здорово, не правда ли?
Семен Львович был в кабинете в оперативной части, не там, где работала всеми уважаемая Валентина Андреевна Савина, а рядом. Валентина Андреевна на сегодняшний день является начальником Можайской колонии. Она очень интересный, интеллигентный человек, с юмором и завидным умом. Она познакомила меня с Арием Семеном Львовичем. Мне очень понравилось лицо Семена Львовича. Он показался мне высоким. Взгляд его был таков, словно ему все известно и все понятно. Нет, это не самонадеянный взгляд, а взгляд очень талантливого, всепонимающего человека. Я обратила внимание на его пиджак цвета маренго в вишневую клетку; точно такой же был у Стаса. Даже голова закружилась от этого воспоминания. Он взял мою правую руку ладонью вверх и стал рассматривать мои порезанные два пальца. Рука моя отчего-то дрогнула. Я смущенно посмотрела на него. Он внимательно на меня. Стали разговаривать. Я обнаружила, что он знает очень хорошо наши отношения со Стасом и, как мне показалось, симпатизирует им. Говорили мы долго, и мне не хотелось, чтобы он уходил. Семен Львович обещал мне еще приехать и обещал помочь мне.
Так спокойно стало после нашего знакомства. Как я люблю талантливых, умных и красивых людей!.. И какое же это счастье, что моя судьба оказалась щедра на встречи с ними, какое счастье!
Из дневника
27 мая в воскресенье 84-го гола. «Солнечным днем начался в колонии спортивный праздник. Меня попросили посторожить стол с призами: баранками, конфетами, блокнотами, зубными щетками и т. д. Проходя мимо, девчонки просят: «Валюшка, дай сушечку, дай конфетку…» Я записываю в дневник прямо на площадке. Вся зона собралась около санчасти на волейбольной площадке. У каждого отряда есть свое место, оно обозначено яркими флажками. Столы покрыты красными скатертями. Там заседает жюри и граждане начальники. Много приглашенного люда.
На одной из граждан начальниц симпатичное белое трикотажное платье. Осужденная Маринка говорит мне: «Из двух мужских кальсон сшито платье. Полчаса — и платье готово, как бы от польской моды. За что и сижу по 147-й статье — мошенничество. В Малаховке купила, там мы «польскую моду» продаем. С удовольствием носят, суки. Зачем сажать за удовольствие? Меня в электричке взяли с этими платьями».
…Отряды выстраиваются поодаль. Первый отряд возглавляет Надюшка Асланова, попросту — Аслан, она — «мальчик». Ее окружают девочки в белых и черных коротеньких платьицах, спинки у них оголенные. Аслан гладит одну из девочек по спине, получает замечание от гражданки начальницы. «Это я от радости», — кричит Аслан. Она в белых брюках с голубыми лампасами и голубой курточке. Сшито все идеально.
Зрители сидят на телогрейках с воздушными шариками в руках и плакатами. На одном из них слова из песни фильма «Цена быстрых секунд», в котором я снималась: «Спорт — это жизнь, целая жизнь, и даже немного больше!»
…В воскресенье можно привести себя в абсолютный порядок — сделать маникюр, педикюр, массаж, красиво постричься. В зоне есть и врачи, и косметологи, и массажисты, и парикмахеры. Портнихи шьют очень аккуратно. Девочки мне сшили несколько ночных рубашек с рюшечками, бантиками и прочей красотой, но при ночной проверке ДПНК дежурная Инна по кличке почему-то Поль Робсон, подходя к моей постели, улыбалась: «Ну что Малявина, опять в новой рубашке?» — «Да, опять». Она сбрасывала мое одеяло и на груди у меня разрывала рубашку. Ей, наверное, тоже хотелось такую красоту надевать на ночь, ан — нет!!! Вот она и сердится. Девчонки меня успокаивают: «Ничего, Валюшка, новую сошьем. Поль завидует». Однажды она снова подходит ко мне с улыбкой и снова хочет творить жуткое — рвать рубашку. Я ей тихо говорю: «Инна, наклонись ко мне, я что-то скажу тебе». Она, как ни странно, наклонилась. Я ей говорю: «Ты больше не будешь рвать на мне рубашек, а то Володе Кукушкину пожалуюсь». Они все знали о нашем романе. Володя имел связь с вольными, и Инка испугалась — больше не стала рвать на мне одежду.
Ну, вот и наш третий отряд пошел! Ах, как хорошо наши спортсменки одеты: синие платьица с белыми воротничками и белыми поясками и наоборот — белые с синими. 7-й отряд — ведущая Дахновская в блестящем голубом комбинезоне с голубым флагом — на флаге земной шар улыбается…
Воздух сегодня удивительный: как будто море рядом! Морской воздух! Очень хочется к морю, вот и вспоминаю. Как хорошо отдыхалось в Солнечногорском, что в Крыму. Несколько лет подряд. В последний раз мой домик был у самого моря — впереди пляж и любимое мною Черное море; сзади — персиковый сад. Последнее лето я отдыхала с Хвостом, Настей Вертинской и Степаном Михалковым. Хвост — чудо как талантлив! Подарил мне две своих фотографии с песнями — «Рай» и «Под небом голубым есть город золотой…» — гениальная песня, написанная Хвостом; на другой фотографии стихи к песне «Люцифер», страшные, ироничные, мудрые стихи…»
12 июля 84-го года. «День рождения Стаса. Всю неделю шел дождь. Всю неделю хмурилось. И вдруг в день рождения Стаса — солнце!.. И совсем нет тяжести ни на душе, ни на сердце…
Сегодня Раиска (симпатичная пожилая осужденная, срок отбывает за мошенничество) спрашивает меня: «Ролан Быков приезжал?».
— Приезжал, — говорю, — в письмах.
— Зачем скрываешь? Он приезжал и сказал, что амнистия большая будет.
— Будет, Рая, обязательно будет, Раиска!
Не приезжал ко мне Ролан, но хотелось, чтобы Раиске было хорошо, вот и сказала, что большая амнистия будет».
9 августа 84-го года. «Пришла ко мне девочка, протягивает красивое большое яблоко.
— Валюшка, поздравляю с праздником! Сегодня Яблочный Спас!
Стас снился… В уголочке сидел за какой-то занавеской. Он не хотел никому показываться. Я случайно нашла его. Руку мне протянул ладошкой кверху и сказал: «Не уходи». Родной был до изнеможения.
Осень наступила. Я часто гуляю за забором в парке ДМР. Листва шуршит под ногами. Нежный колокольчик одиноко смотрит на меня. И небо низкое…
Вечером в бане стояла под душем с закрытыми глазами и напевала песенку. Открываю глаза, а передо мной начальник ДПНК. Караул! Совсем рядом со мной в шинели, в папахе, а я-то голая. Спрашиваю:
— Зачем вы здесь в папахе-то, гражданка начальница?..
— Смотрю на вас. И что, каждый день душ принимаете?
— Да. Два раза в день. Утром и вечером. А что?
— Ничего. Не положено. Один раз в неделю надо мыться.
Я все-таки очень смешливая. Хохотать хочется до невозможности, а начальница стоит. Я закрыла лицо руками и угодила струей воды прямо на нее.
— С ума сошли, Малявина?
— Кто сошел с ума?
— Вы.
— А-а-а… Значит, я. Ну да, ну да… Да-да…
— Немедленно выходите из-под душа.
— Но я в мыле.
— Меня не интересует, в чем вы.
— А меня интересует, что вы в форме.
О! Господи! Диалог был длинным. Взяла чистую простыню, вытираюсь, начальница не уходит:
— Ну надо же! Простынью вытирается… Прямо-таки барыня.
Я что-то сказала ей неприятное. Она мне отомстила. Около бани лежали толстые бревна. Мы с Володей спрятались за них и целовались, а ноги каким-то образом были видны. Уж не помню каким! Вдруг голос гражданки начальницы, что в папахе под душем стояла.
— Малявина! Кукушкин! Выходите!
— Не выйдем.
— Сейчас в ШИЗО пойдете. Немедленно выходите.
Вышли, и повели нас «гуськом», я — впереди, Володя — сзади в ДПНК через всю зону. Осужденные нас подбадривали:
— Ребятки! Вы извинения попросите! Отпустят!
Еле уговорили, чтобы нас отпустили, но Володя перестал работать на нашей зоне. Ох как плохо без него…
Только несколько раз виделись. Мне говорят:
— Володя Кукушкин в санчасть пошел.
— Что с ним?
— Палец чуть не отрубил. Наверное, нарочно, чтобы тебя повидать.
Я побежала в санчасть. Володину руку перевязали. Сели мы в уголочек под фикусами. Молчим. Пока прапор не пришел за Володей, мы, обнявшись, молча сидели под фикусами…
Ария Семен Львович приезжал!!! Говорили — интересно и долго.
Иду по аллее — навстречу соперница Марфа, просит:
— Валюшка, расскажи о втором собрании.
— О втором съезде КПСС?
— Во-во!
— Слушай, Марфа, на съезде были приняты две программы: «минимум» и «максимум».
Марфа слушала, будто я ей сказку рассказываю.
— Спасибо! — говорит — Все поняла!
А потом:
— Валюшка, зиму-то здесь побудем… На х…й мне печь топить, а тебе на каблуках шлендать по Москве. Здеся зимой-то лучше.
У нее тоже была 103-я статья. Деда, которого любила всем сердцем и душой, да и прожили они лет сорок — убила топором: довел. О! Господи!»
7 января 85-го года. Рождество Христово. «Снег пушистый, и много его. Темно. Костер разожгли. Цыганки у костра греются и поют, очень хорошо поют! Удивительно все! Удивительно!
Женечка, с которым мы прожили пять лет, разыскал меня и трогательное письмо прислал. Дай Бог ему силы и терпения. Он где-то в Кемерово. Сначала придумали историю, чтобы Женю посадить, вынудили на хулиганство, осудили и посадили. Боялись его. Боялись арестовать меня, пока он на свободе. Боялись, очень боялись, что он заступится за меня по-своему. Вот и упекли в тюрьму, потом в зону. Холодно там. Помоги ему Бог!
Летом 10 июня в дождливый понедельник получила письмо от мамульки. Она пишет: «Вчера вечером узнали о том, что тебе сняли срок до пяти лет, хотя Прокуратура СССР просила о снятии срока до трех лет. Мосгорсуд принял решение, что нужно оставить пять лет. Да это и понятно: они только что писали, что приговор по делу признан законным».
Событие произошло чрезвычайное, но поведение мое не изменилось, просто стала почему-то очень громко говорить. А вокруг — суета, оживление, недоумение. Вся зона меня поздравляет.
Вскоре приходит Надюшка Вохлакова, она тоже в бане работает, и говорит:
— Валюшка, иди к березке, что у оперативной части, и посмотри на второй этаж.
— Надюшка, расскажи подробней.
— Иди, Валюшка. Выглядишь ты хорошо, слава Богу. Иди.
Я пошла, встала у березки и посмотрела на второй этаж.
За окном красивый молодой мужчина смотрит на меня. Я посмотрела, кивнула и пошла к Валентине Андреевне Савиной.
— Валентина Андреевна, кто это там на втором этаже в окно на меня смотрел?
— Ты Максима Краснова знаешь?
— Еще бы! Даже очень близко. Он хотел и хочет, чтобы мы поженились.
— Это его отец.
— Лев Иванович?
— Да.
— Господи! Но он совсем молодой! И красивый какой!
— Да, он симпатичный. Ну, ладно… Иди. Да… сейчас прочитала, как Ольга Чайковская пишет о Стасе. Послушай: «…беззащитный и бешеный, утонченный и грубый…» Так это, Валентина?.
— Да. Так. Он с детства был очень одинок. Алексей Петрович, отец Стаса, ушел, когда Стасику было года два, а мать Шура имела семь мужей, а Стас мучился этим. Он мне рассказывал о своем детстве и плакал. Ну, я пошла, Валентина Андреевна.
Прихожу в баню. Все ушли на политзанятия. Я не хожу, потому что все это изучала и в театральном институте, и потом здесь — вот уже третий год. Таня Дудакова — прачка — тоже не ходит, притворяется, что глухая. Совсем не глухая наша баба Таня. Под полом у нас лягушка живет, о чем-то разговаривает наша лягушка. А Таня Дудакова говорит: «Ишь, курлыкает». Замолкла лягушка. Таня продолжает: «Если к добру, то закурлычет. Если ко злу, то тяфкнет».
— А как ты отличишь, когда курлыкает или когда тяфкает?
— Отличу. Слушай… Курлыкает. К добру — умница.
Ох, и смешные жители нашего государства, которое называется «Можайская зона»…
Вошла дежурная. Смотрит на портрет Дюпонта работы Гейсборо и спрашивает:
— Это Блок?
— Нет, — говорю, — Есенин.
— А-а-а… тянет начальник ДПНК.
— Да… — тяну я.
— Что это у вас лежит на столе? От кого записка?
Я спокойно отвечаю:
— От Володи Кукушкина. Вы разлучили нас. Вот и пишем друг другу письма.
— За письма есть наказание.
— Вам бы только наказывать. Мы и так наказаны.
Она промолчала и ушла.
В Володиной записке: «Я только и делаю, что о тебе думаю».
Взяла томик Достоевского, наугад открыла первый том «Дневники», оказалась стр. 266, и что же я читаю: «Ваше время не ушло, не беспокойтесь. При Вашей настойчивости непременно выйдет что-нибудь хорошее. Оставайтесь только добры и великодушны». Словно поговорила с Федором Михайловичем. Да! Я с бодростью смотрю вперед. Володя скоро уезжает на «химию» к себе в Брянск.
Сижу у себя в кабинетике, Володя подходит к окну и говорит:
— Валюшка, пожалуйста, закрой дверь на ключ. Я хочу к тебе. Я войду через окно.
— Но оно сеткой закрыто.
— Ничего.
Я закрыла дверь, а Володя каким-то инструментом отодвинул железную сетку и вошел ко мне в комнату.
— Господи! Что же сердце так колотится?
— У меня тоже, — говорит Володя.
Расстегивает мою кофточку, снимает колготки и сам раздевается догола. Матрасы новые, белье свежайшее. Целуемся… Позже лежим, взявшись за руки, и я спрашиваю:
— А какое сегодня число?
— 30 октября.
— Да? День рождения Достоевского.
Володя улыбается. Я тоже. Мы счастливы. Он потихоньку через окно уходит.
Открываю дверь и говорю:
— Что-то я заснула, — и пошла погулять.
Встречаю Толю Калачева, художника. Он симпатичный и талантливый мальчик. Говорю ему:
— Толенька! Напиши мне портрет Володи Кукушкина. Пожалуйста.
— Хорошо, — тут же согласился Толя. Мы с ним дружим, и день рождения у нас в один день — 18 июня, только он намного моложе меня.
Через несколько дней портрет Володи, довольно большой, написанный масляной краской, у меня. Я отправила его домой, через вольных, конечно…
…Скоро, очень скоро и мне предстоит покинуть Можайскую зону. Что-то ждет меня там, впереди? Новые радости или новые беды? Новые потери или новая любовь? Жизнь покажет».
Эпилог
Моя жизнь удивительна контрастами: если счастье — его много, если горе — такое, что его почти невозможно перенести.
Возвращение в Москву, изменившуюся, почти чужую, возвращение после случившегося к нормальной жизни было трудным. Но это — тема для другой книги. Скажу лишь, что и тогда я выжила благодаря моим друзьям.
Их звонки начались сразу по приезде из Ростова. Приглашения сниматься и играть следовали одно за другим.
С «Мосфильма» — сниматься в картине Ольги Наруцкой, потом — от Бориса Ермолаева, Толи Мережко…
Множество предложений из театров. Я приняла приглашение Наташи Фатеевой играть с ней в «Арт-Центре» Прудкиных и не пожалела об этом ни разу.
Но если бы не они, мои друзья, что было бы со мной? Была бы я вообще сегодня жива?..
За эти годы погиб один из самых близких — Сашенька. Умерла мама. Ушел из жизни Саша Кайдановский. Не стало совсем недавно Павлика Арсенова.
За всех за них — живых и мертвых — благодарю Бога, не устаю молиться за них каждый день.
Мое прошлое, его самые счастливые, преисполненные любви голы или самые трудные, наполненные тьмой и белой, всегда рядом.
Не только здесь и сейчас. Было так и во времена заключений тоже. Я никогда не забуду свое первое Рождество в Можайской колонии.
День был чудный: 7 января, Рождество Христово! На зоне — чистый снег, и снегири с розовыми грудками торжественно сидят на украшенных снегом серебристых веточках. Синички садятся на руки и заглядывают в глаза, весело чирикают воробышки, а наши любимицы — зоновские кошки с именами Амнистия, Прокурор, Святой Васька — лениво ходят по аллее.
Солнце! Кругом солнце!
Иду в библиотеку просмотреть газеты. Смотрю «Советскую культуру». Некролог. Вижу фамилию — Тарковский. Сразу же перед глазами — красивое аскетическое лицо Арсения Александровича. Сердце сжалось. Отложила газету. Опять взяла. Прочитываю, что из жизни ушел Андрей Тарковский. Как — Андрей?! Господи! Как — Андрей?! Мне стало плохо.
…Вечером, под луной, между сугробами присела я на корточки, чтобы никто не видел, как плачу. Под телогрей кой, словно утешая меня, мурлычет котенок. Я не могу успокоиться, все плачу и плачу, шепчу дорогое имя, прошу за что-то прошения, говорю, что люблю его… Он же хотел, он должен был вернуться, чтобы снимать главный фильм своей жизни — фильм о Федоре Михайловиче Достоевском. «Андрей, — зову я, — Андрей!..»
Нет больше зоны. Есть снег, я, и высокое Рождественское небо, и Господь, принявший его душу, выполнившую свой долг перед Богом и перед людьми…
С тех пор и навсегда для меня моя вера в Бога такой и останется: я и Небо, Небо и я… Небо…
Примечания
1
Речь идет о фильме «Ошибки юности», где С. Жданько сыграл главную роль. — Примеч. ред.
(обратно)2
С. Морозов — исполнитель главной роли в комедии «Семь нянек». Популярный комедийный актер 70-х годов. — Примеч. ред.
(обратно)3
Филатов — школьный друг Стаса Жданько.
(обратно)4
По этическим соображениям я не называю имени адвоката, который представлял мои интересы в судебном процессе. Но во избежание возможных кривотолков хочу сразу же отделить этого анонима от С. Ария — замечательного юриста, подключившегося к моему делу уже после вынесения приговора и сыгравшего большую роль в моей судьбе.
(обратно)5
«Наркошка» (тюремный жаргон) — наркоман.
(обратно)6
За годы жизни со Стасиком я так и не поняла этой истории. Он сам говорил о ней неохотно и сбивчиво. В итоге я знаю наверняка только фактическую сторону: на первом курсе Школы-студии МХАТ Коля Попков и Стас увлеклись национал-социалистической идеей. И повесили в своей комнате в общежитии на Трифоновке флаг со свастикой, похищенный, как я поняла, из реквизиторской. Думаю, что все это было от неприкаянности, от желания выделиться, обратить на себя внимание. Дело кончилось тем, что обоих исключили из Школы-студии — сначала Попкова, а потом Стаса. После чего они несколько лет вообще не общались.
(обратно)7
«Конь» — так на тюремном жаргоне именуется нелегальное почтовое сообщение между камерами. — Примеч. ред.
(обратно)8
Лебединый пруд находится на территории «Мосфильма» — Примеч. ред.
(обратно)9
См.: «Искусство кино», 1964, № 4–5. — Примеч. ред.
(обратно)10
Сиримаво Бандаранаике — премьер-министр Республики Шри-Ланка (до 1972 г. — Цейлон) в 1960–1965 и в 1970–1977 гг., вдова убитого реакционерами лидера цейлонской партии свободы Соломона Бандаранаике. — Примеч. ред.
(обратно)11
Подрезовская дача, потому что фамилия начальника тюрьмы Подрез. — Примеч. ред.
(обратно)







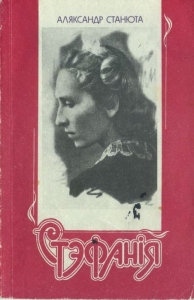
Комментарии к книге «Услышь меня, чистый сердцем», Валентина Александровна Малявина
Всего 0 комментариев